РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей - святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.
Аксаков И. С.
Аксаков С. Т.
Александр III
Александр Невский
Алексей Михайлович
Андрей Боголюбский
Антоний(Храповицкий)
Баженов В. И.
Белов В. И.
Бердяев Н. А.
Болотов А. Т.
Боровиковский В. Л.
Булгаков С. Н.
Бунин И. А.
Васнецов В. М.
Венецианов А. Г.
Верещагин В. В.
Гиляров-Платонов Н. П.
Глазунов И. С.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Григорьев А. А.
Данилевский Н. Я.
Державин Г. Р.
Дмитрий Донской
Достоевский Ф. М.
Екатерина II
Елизавета
Жуков Г К.
Жуковский В. А.
Иван Грозный
Иларион митрополит
Ильин И. А.
Иоанн (Снычев) митрополит
Иоанн Кронштадтский
Иосиф Волоцкий
Кавелин К. Д.
Казаков М. Ф.
Катков М. Н.
Киреевский И. В.
Клыков В. М.
Королев С. П.
Кутузов М. И.
Ламанский В. И.
Левицкий Д. Г.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Ломоносов М. В.
Менделеев Д. И.
Меньшиков М. О.
Мещерский В. П.
Мусоргский М. П.
Нестеров М. В.
Николай I
Николай II
Никон (Рождественский)
Нил Сорский
Нилус С. А.
Павел I
Петр I
Победоносцев К. П.
Погодин М. П.
Проханов А. А.
Пушкин А. С.
Рахманинов С. В.
Римский-Корсаков Н. А.
Рокоссовский К. К.
Самарин Ю. Ф.
Семенов Тян-Шанский П. П.
Серафим Саровский
Скобелев М. Д.
Собинов Л. В.
Соловьев В. С.
Солоневич И. Л.
Солоухин В. А.
Сталин И. В.
Суворин А. С.
Суворов А. В.
Суриков В. И.
Татищев В. Н.
Тихомиров Л. А.
Тютчев Ф. И.
Хомяков А. С.
Чехов А. П.
Чижевский А. Л.
Шаляпин Ф. И.
Шарапов С. Ф.
Шафаревич И. Р.
Шишков А. С.
Шолохов М. А.
Шубин Ф. И.
МОСКВА
Институт русской цивилизации 2014
УДК 94(47).073.3+081 ББК 63.3(2)5.2 В 77
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском // Составление, предисловие и комментарии: Лебедев С. В. / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. — 464 с.
В книге представлены воспоминания о жизни и борьбе выдающегося русского государственного деятеля графа Михаила Николаевича Муравьева-Виленского (1796-1866). Участник войн с Наполеоном, губернатор целого ряда губерний, человек, занимавший в одно время три министерских поста, и, наконец, твердый и решительный администратор, в 1863 году быстро подавивший сепаратистский мятеж на западных окраинах России, не допустив тем самым распространения крамолы в других частях империи и нейтрализовав возможную интервенцию западных стран в Россию под предлогом «помощи» мятежникам, - таков был Муравьев как человек государственный. Понятно, что ненависть русофобов всех времен и народов к графу Виленскому была и остается беспредельной. Его дела небезуспешно замазывались русофобами черной краской, к славному имени старательно приклеивался эпитет «Вешатель». Только теперь приходит определенное понимание той выдающейся роли, которую сыграл в истории России Михаил Муравьев. Кем же был он в реальной жизни, каков был его путь человека и государственного деятеля, его достижения и победы, его вклад в русское дело в западной части исторической России - обо всем этом пишут сподвижники и соратники Михаила Николаевича Муравьева.
ISBN 978-5-4261-0084-8
© Лебедев С. В., предисловие и комментарии, 2014 © Институт русской цивилизации, 2014
ПРЕДИСЛОВИЕ
Михаил Николаевич Муравьев (1.10.1796 - 28[29].08.1866), граф Виленский, вошел в историю как выдающийся военный и государственный деятель, борец за русское дело в Северо-Западном крае (Литве и Белоруссии). Представитель старинного, хотя и не титулованного рода, известного с XV века, Михаил Муравьев, подобно всем своим предкам, верой и правдой служил России на различных военных и гражданских должностях. Несмотря на то, что он отнюдь не пользовался расположением монархов, честность и принципиальность постоянно создавали ему множество врагов в петербургских властных сферах, русофобы же всех мастей открыто ненавидели этого деятеля. Невзирая на все преграды, не прогибаясь перед сильными мира сего, не гонясь за популярностью у светской публики и не стесняясь брать на себя всю ответственность, в том числе и за довольно жесткие инициативы, Муравьев честно выполнял свое дело. Не будем подробно пересказывать биографию графа Виленского, поскольку о ней подробно говорится в приводимых ниже воспоминаниях современников. Укажем лишь на отдельные этапы жизненного пути этого незаурядного человека.
Вундеркинд с математическими способностями, создавший в 14 лет общество математиков, читавший у себя на дому в Москве лекционные курсы по математике, имеющие прикладное военное значение, особенно для штабной и провиантской службы (причем эти лекционные курсы посещали вполне солидные офицеры и генералы), - такова юность Михаила Муравьева. Дальше следовала военная служба, участие в Отечественной войне, тяжелое ранение при Бородине. В заграничном походе русской армии в 1813-14 Муравьев занимал ряд штабных должностей. Его математические способности ярко проявились в идеально организованной штабной службе. Вернувшись после победы над Наполеоном в Россию, Муравьев с 1815 стал преподавать математику в школе колонновожатых, которой по-прежнему руководил его отец. Для школы Муравьев составил «Программу для испытания колонновожатых Московского учебного заведения под началом генерал-майора Муравьева состоящих» (1818) и «Учреждения учебного заведения колонновожатых» (1819). Женился на П. В. Шереметевой, породнившись с одним из самых влиятельных родов в России. Одновременно с преподавательской деятельностью Муравьев принимал участие в деятельности тайных обществ, составлял устав «Союза Благоденствия». Однако, видя все большую политизацию Союза, превращающегося в заговорщицкую организацию, ставящую своей целью ликвидацию традиционной России, Муравьев с 1820 прекратил участие в заседаниях общества, а вскоре вышел в отставку и стал вести жизнь обычного помещика.
После мятежа 14 декабря 1825 года, в котором активную роль играли многие его родственники, в т.ч. родной брат Александр и свояк (сестра жены Муравьева была замужем за И. Д. Якушкиным), Михаил Николаевич был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. Однако вскоре он был оправдан, поскольку на следствии выявилась полная непричастность его к заговору и мятежу. Муравьев возвратился на государственную службу и был назначен Витебским вице-губернатором. С 1828 он стал губернатором в Могилеве. На этом посту Муравьев прославился борьбой с «ополячиванием» белорусских земель. По его инициативе в губернии был отменен т.н. «Литовский Статут» (свод законов, принятых в Великом княжестве Литовском еще в XVI в.) и распространено общероссийское законодательство. В делопроизводство с 1 января 1831 года был введен русский язык вместо польского.
Деятельность Муравьева в Могилеве пришлась на время польского мятежа 1830-31. Благодаря энергичным мерам, Муравьев не допустил во вверенной ему губернии мятежа. В 1830, буквально накануне мятежа, Муравьев подал Императору Николаю I записку, где обращал внимание на то, что через полвека после воссоединения Белоруссии с Россией в крае мало что изменилось по сравнению со временами Речи Посполитой. Полными хозяевами края были польские помещики, угнетающие православное «быдло». Городскими жителями были в основном евреи, подчинившие себе всю хозяйственную жизнь Белоруссии. Духовная жизнь в крае была подчинена Католической церкви, ведущей активную пропаганду «полонизма» и русофобии. В то время как польско-католические учебные заведения были весьма многочисленны и любого уровня - до Виленского университета включительно, русских православных школ в крае практически не было. При этом до Муравьева губернаторы и другие администраторы Белоруссии, назначенные в С.-Петербурге, предпочитали из соображений сословной солидарности поддерживать польско-католическое господство. В этих условиях Муравьев наживал себе влиятельных врагов не только в польских кругах, но и в петербургском «высшем свете», предлагая поддерживать в бывших польских владениях русский элемент, составлявший 90% населения края. Для начала Муравьев советовал преобразовать просвещение в крае, закрыть иезуитские учебные заведения, в т.ч. и Виленский университет, контролируемый иезуитами.
Польский мятеж, подтвердивший все опасения Муравьева, способствовал его карьере - в 1831 он стал губернатором в Гродно, в 1832 - в Минске. Усмиряя мятеж, Муравьев без всяких колебаний конфисковывал владения мятежной шляхты и даже подвергал благородных панов телесным наказаниям. Шляхта затаила злобу, начались интриги. Результатом происков польских магнатов и их петербургских друзей стало перемещение Муравьева в 1835 году на должность военного губернатора в Курск. Из предложений, высказанных в «Записке», реализованы оказались немногие пункты: была упразднена униатская церковь и белорусы вернулись в Православие, Литовский Статут был отменен повсеместно и российские законы распространены во всем крае, русский язык стал языком администрации и канцелярии. Эти полумеры не намного усилили русское влияние в крае, и польская шляхта с католическим духовенством продолжали подрывную деятельность против России.
Муравьев после губернаторства в Курске медленно поднимался по административной лестнице, занимая должности директора Департамента податей и сборов, в 1842 году был назначен в Сенат, а с 1850-го -состоит членом Государственного Совета. В 1850-57 годах Муравьев был также вице-председателем Императорского Географического общества. С воцарением же Александра II карьера Муравьева пошла в гору уже стремительно. В 1856 году он был назначен председателем Департамента уделов, а год спустя - министром государственных имуществ. На этом посту Муравьев сыграл большую роль в деле освобождения крестьян. Однажды на заседании Главного комитета по крестьянскому вопросу Муравьев воскликнул: «Господа, через десять лет мы будем краснеть при мысли, что имели крепостных людей». В это время Муравьев занимал одновременно три министерских поста! Впрочем, и работал он даже не за троих, а за семерых.
Однако в конце 1861 года Муравьев был отправлен в отставку, став жертвой борьбы петербургских бюрократических группировок. Однако не у дел он оставался недолго.
9 (22) января 1863 г. началось восстание в Польше и Северо-Западном крае (так назывались Белоруссия и Литва). Этот мятеж поставил Российскую империю на грань распада. Дело заключалось вовсе не в мощи мятежа (ведь общее количество инсургентов не превышало 20 тыс, поляки не взяли ни одного города и не имели ни одной военной победы в прямом боевом столкновении). Главной особенностью польского восстания была почти всеобщая поддержка мятежников русским «передовым» обществом. Революционные радикалы оказывали полякам прямую помощь, в том числе личным участием в боях против соотечественников (как погибший в бою А. Потебня), пытались поднять восстание в Поволжье (казанский заговор).
А. И. Герцен на страницах «Колокола» открыто поддерживал польские требования. Собственно, Герцен поддерживал поляков еще до начала восстания. В сентябре 1862 года некие анонимные «русские офицеры» (скорее всего, редакцией же и придуманные) обратились к Наместнику через «Колокол». Адрес содержал заявления о том, что войска не хотят быть палачами, и это будет очевидно в случае восстания. Войско «не только не остановит поляков, но пристанет к ним, и может быть, никакая сила не удержит его. Офицеры удержать его не в силах и не захотят». Единственным спасением было дать Польше «свободно учредиться по понятиям и желаниям польского народа», «иначе грозит беда неминуемая»1. Когда же восстание разразилось, то со страниц «Колокола» загремели призывы убивать «гадких русских солдат». Впрочем, причина пропольских симпатий лондонского изгнанника Герцена была проста: деньги на издание своего «Колокола» он получил у польского эмигранта Ворцеля. А кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку.
М. А. Бакунин пытался отправить к берегам Курляндии корабль с оружием для мятежников. Уже 19 февраля в Москве и Петербурге появились прокламации с призывом к солдатам поддержать польских мятежников, повернув оружие против офицеров.
Фактически солидаризировались с поляками и русские либералы. В петербургских ресторанах поднимали тосты за успехи «польских братьев», либеральная пресса рассуждала об исторической несправедливости в отношении Польши и что вслед за освобождением крестьян надо бы освободить и польский народ.
Впрочем, и идейные антиподы революционеров, старые крепостники, сгруппировавшиеся вокруг газеты «Весть», любимого чтения «диких помещиков», также защищали польских мятежников. Тут была не только дворянская солидарность - русские крепостники сочувствовали мятежным польским крепостникам, - но и, как в случае с «Колоколом», финансовая зависимость от польской закулисы. Уже через несколько лет подавления мятежа, в 1869 году, официально были установлены факты субсидирования «Вести» польскими помещиками2.
Шатания, вызванные свойственной ему слабохарактерностью, испытывал и Наместник в Царстве Польском Великий князь Константин Николаевич, а также и генерал-губернатор Северо-Западного края В. И. Назимов. В Польше и западных губерниях уже шли бои, но все еще не было введено чрезвычайное положения, войска не были приведены в боевую готовность, националистические польские газеты выходили совершенно легально, полиция не имела права проводить обыски в костелах, хотя именно в них находились типографии, склады оружия и пр. Из соображений гуманности немедленно освобождались несовершеннолетние пленные повстанцы. Не подлежали аресту также представители католического духовенства, хотя они, выполняя повеления Ватикана, не только благословляли оружие мятежников, но и сами участвовали в боевых действиях.
Польские аристократы, вращавшиеся в высших кругах Российской империи, тайно надеялись вернуть себе вседозволенность времен Речи Посполитой, которой лишил их предков «московский деспотизм». Вообще польское политическое лобби в Петербурге было весьма могущественным, уступая по своему влиянию только еврейскому и немецкому. Стоит ли удивляться, что пленных мятежников из «хороших семей» просто отпускали по ходатайству влиятельных лиц. Не случайно один из главарей мятежников в Литве З. Сераковский, будучи уже арестованным и приговоренным к смертной казни, до последнего был уверен, что его помилуют по просьбе влиятельных родственников и знакомых. И в самом деле, из Петербурга прискакал гонец с требованием освободить Сераковского. Однако власть в крае уже взял в свои руки Муравьев...
Сами мятежники при этом не испытывали никаких сентиментальных чувств. Они нападали на спящих в казармах солдат и вероломно убивали приглашенных в гости к местным помещикам офицеров. Погибли многие гражданские русские, проживающие в охваченных мятежом территориях. Терпя постоянные поражения на поле боя (там, собственно, только и было, что незначительные стычки, в которых редко участвовало больше нескольких сотен человек с обеих сторон), мятежники широко развернули террор руками так называемых кинжальщиков, действовавших холодным оружием, и «жандармов-вешателей», устраивавших казни в контролируемых поляками районах. Среди кинжальщиков и вешателей преобладали откровенные уголовники, и не удивительно, что подавляющее число их жертв были не военные и сторонники режима, а простые обыватели, убитые по мотивам личной неприязни или при ограблении.
Наконец, польский мятеж вызвал международный кризис. Уже 17 апреля 1863 г. Англия, Франция, Австрия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания, Османская империя и папа Римский предъявили России дипломатическую ноту, более похожую на ультиматум, с требованием изменить политику в польском вопросе. Западные страны предлагали решить судьбу Польши (подразумевая ее в границах Речи Посполитой 1772 г) на международном конгрессе под своим руководством. В противном случае западные страны угрожали войной.
На поляков это, конечно, подействовало вдохновляюще. Не случайно польские мятежники в Литве под командованием дезертировавшего офицера русского Генерального штаба З. Сераковского двинулись в Курляндскую губернию, чтобы обеспечить место высадки французских войск на Балтийском побережье. Поскольку мятежники почему-то вообразили, что будущая Польша будет создана после успешной интервенции западных государств и распада России в тех границах, где действуют польские повстанцы, то неудивительно, что шайки мятежников пытались действовать под Киевом и даже в тех местах, где ничего польского не было со времен Хмельницкого. Планировалось распространение мятежа на Смоленщину и Лифляндию. В походной типографии одного из главарей мятежников, «диктатора восстания» М. Лянгевича, печатались выдуманные «сведения» о действиях поляков в глубине великорусских территорий, на Левобережной Украине и Бессарабии, а также измышления о многих сотнях убитых русских солдат. Эти лживые сообщения должны были убедить западные страны, что поляки контролируют уже пол-России, так что бояться русского медведя не надо.
Активизировалась подрывная деятельность и на других рубежах Российской империи. Летом на черноморском побережье Кавказа, где еще продолжалась война с черкесами, с парохода «Чезапик» под английским флагом высадился вооруженный отряд («легион») польских эмигрантов численностью в 59 человек под командованием французских офицеров во главе с полковником Клеменсом Пржевлоцким. Задачей легионеров было открыть «второй фронт» против России на Кавказе. При этом сами поляки были лишь пушечным мясом в руках западных организаторов высадки. Так, непосредственно организацией посылки «Чезапика» занимался капитан французской армии Маньян3. Одновременно отряд полковника З. Ф. Милковского, сформированный из польских эмигрантов в Турции, попытался пробиться из Румынии на юг России. Правда, румынские власти разоружили инсургентов, не дав пройти им к границам России.
Хотя легионеры Пржевлоцкого были быстро перебиты, высадки новых «легионов» продолжались. Это было весьма опасно, учитывая, что после Крымской войны Россия была лишена своего черноморского флота.
Одновременно британский флот начал крейсировать у российских берегов на Тихом океане. Начались набеги кокандцев и подданных других среднеазиатских ханств на российские владения на территории нынешнего Казахстана. Казалось, повторяется ситуация 1854 г., когда Россия в одиночку противостоит всей Европе на несравненно более худших, чем тогда, геополитических позициях.
Однако самая главная проблема, вызванная мятежом, заключалась в том, что инсургенты сражались не за свободу польского народа, а за восстановление Речи Посполитой с границами, далеко выходящими за этнические границы польской народности. На картах, отпечатанных по -ляками на западе, была изображена Польша «от моря до моря» с такими «польскими» городами, как Киев, Рига, Смоленск, Одесса, и пр. Требование «исторических границ» прежней Речи Посполитой было присуще совершенно всем польским повстанческим организациям. Еще до восстания, 11 сентября 1862 года, вскоре после покушения на Наместника в Польше Константина Николаевича, этот Великий князь обратился к населению Польши с Манифестом, начинавшимся со слов: «Поляки! Верьте мне, как я верю вам!». В ответ он получил послание графа А. Замойского, одного из влиятельнейших польских деятелей. Выразив дежурную радость по поводу спасения жизни Наместника, Замойский писал: «Мы можем поддерживать правительство только когда оно будет польским и когда все провинции, составляющие наше Отечество, будут соединены вместе, получат конституцию и либеральные учреждения. Если мы любим Отечество, то любим его в границах, начертанных Богом и освященных историей»4.
С этим были согласны многие русские либералы. Живший в добровольной эмиграции князь П. Долгоруков, сподвижник Герцена, уверял, что ничего страшного от отделения от России ряда губерний, пусть даже с непольским населением, не будет, зато это даст России моральный выигрыш: «Может быть, тогда губерния Ковенская и несколько уездов губерний Виленской и Гродненской отошли бы от России; но что за беда? Если из семисот уездов империи Всероссийской убавится дюжина или полторы дюжины уездов, сила России не уменьшится, а зато честь русская высоко вознесется тем, что никого не будут принуждать быть русским, принуждать мерами насильственными и кровавыми, мерами гнусными и позорными для тех, которые их употребляют, и что каждый из граждан России будет гордиться тем, что он русский!» 5 Как видим, задолго до Горбачева многие «передовые» русские были готовы пожертвовать дюжиной-другой уездов, чтобы выгоднее смотреться в глазах Запада.
Весной 1863 г., под влиянием первых успехов, не столько военных, сколько дипломатических, мятежники перестали стесняться. В апреле сначала последовал Универсал подпольного правительства Польши о свободе совести, в котором уверялось: «Свобода совести была искони свойственна польскому правительству и его законодательству... Ныне, когда восприсоединение Литвы и Руси к Царству Польскому неминуемо, накануне освобождения нашего отечества, народное правительство гарантирует всем исповеданиям равенство и свободу пред законом». Это правительство предупреждало, что внимательно следит за всеми, и, хотя оно прощает прошлые проступки перед Польшей, но за настоящие и будущие ее противников ждет «неизбежная казнь». Но уже две недели спустя последовала прокламация о восстановлении Униатской церкви и о том, что для православных «наступила минута расплаты за их преступления».
В такой накаленной атмосфере, когда к пропольским настроениям «передового» общества добавился паралич власти, вызванный неспособностью Великого князя Константина Николаевича управлять Польшей, и страхом официального Петербурга перед коалицией европейских государств (что и обусловило откровенную нерешительность применения в Польше военной силы), русские патриоты, у которых не было правительственных постов, а была всего-навсего поддержка подавляющего большинства народа, показали свою самостоятельность и способность к государственному мышлению.
Именно в этих условиях стал возможен феномен Каткова - журналиста, без которого бы Михаил Муравьев вряд ли бы смог снова оказать услугу Отечеству. Скажем в связи с этим несколько слов и о Михаиле Никифоровиче. Катков (1818-1887 гг.) - выходец из бедной разночинской семьи, сумел получить высшее образование, преподавал философию в Московском университете, перевел на русский язык с нескольких западноевропейских языков ряд философских и научных произведений. Но подлинным призванием Каткова стала журналистика. Решительная защита на страницах печати национальных интересов России сделала его голосом русского народа.
С 1-го января 1863 года Катков стал редактировать ежедневную газету «Московские ведомости», оставаясь редактором и «Русского вестника». С первых же дней мятежа, когда русские газеты ограничивались перепечаткой официальной хроники, Михаил Никифорович выступил с требованием решительного подавления мятежа. Он сразу нанес удар по самому главному и самому уязвимому лозунгу польской пропаганды -лозунгу борьбы за независимость Польши. «Польское восстание вовсе не народное восстание; восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за свободу, а борьба за власть» - писал он.
Польские претензии распространялись на Литву, Белоруссию и Правобережную Украину, которые поляки называли «забранным краем» и без владения которым польское государство не имело в тех условиях никаких шансов на существование. Но вместе с территорией «забранного края», хотя там поляки и составляли привилегированное меньшинство, Речь Посполитая могла претендовать на роль серьезной европейской державы.
И не случайно Катков отмечал: «Но кто же сказал, что польские притязания ограничиваются одним Царством Польским? Всякий здравомыслящий польский патриот, понимающий истинные интересы своей народности, знает, что для Царства Польского в его теперешних размерах несравненно лучше оставаться в связи с Россией, нежели оторваться от нее и быть особым государством, ничтожным по объему, окруженным со всех сторон могущественными державами и лишенным всякой возможности приобрести европейское значение. Отделение Польши никогда не значило для поляка только отделения нынешнего царства Польского. Нет, при одной мысли об отделении воскресают притязания переделать историю и поставить Польшу на место России. Вот источник всех страданий, понесенных польской народностью, вот корень всех ее зол!».
Силу претензиям поляков на западные губернии России придавало то обстоятельство, что значительная часть тогдашнего русского общества, вне зависимости от своих политических взглядов, совершенно не знала ни истории, ни этнографии этого края. Кроме того, что это были земли прежней Речи Посполитой и того, что здесь властвует богатое и влиятельное польское дворянство, петербургская и московская интеллигенция не знали практически ничего. И удивляться этому не приходится, ведь местное православное крестьянство было угнетено и забито как нигде в империи и голоса своего не имело.
Также до 1840 г. в Западном крае действовал местный свод законов (Литовский Статут), но и после его отмены и распространения на Белоруссию, Литву и Правобережную Украину общеимперского законодательства традиции местного управления сохранялись и к моменту мятежа. Не случайно многие путешественники из Петербурга или русской глубинки чувствовали себя в Белоруссии и на правом берегу Днепра как за рубежом.
И, наконец, особую силу польским претензиям придавало то обстоятельство, что чуть ли не все выдающиеся деятели польской политики и культуры родились именно в западном крае. Т. Костюшко, А. Мицкевич, Ц. К. Норвид, В. Сырокомля, С. Монюшко, М. Огинский и другие появились на свет далеко за пределами этнической Польши и были литвинами (ополяченными белорусами и литовцами). Именно в Западном крае находились земельные владения значительной части польской аристократии. Родовые «гнезда» Потоцких, Чарторыйских, Сангушко, Тышкевичей, Ржевусских, Радзивиллов и прочих магнатов, играющих огромную роль в польском движении, и при этом тесно связанных с российской и европейской аристократией, также находились восточнее Буга.
Следует заметить, что открыто полемизировать с поляками было сложно из-за проблем с собственной российской цензурой. Именно этим отчасти объясняется обилие материалов о прошлом русскопольских отношений, об истории, этнографии и преобладающем вероисповедании в Западном крае. Попытки прямой полемики с польскими претензиями решительно пресекались.
Однако решительно настроенные консервативные авторы не сдавались. Еще летом 1862 года, за полгода до восстания, в газете «День» ее редактор И. Аксаков сделал очень удачный ход, поместив на страницах газеты статью поляка Грабовского о праве Польши на Белоруссию и Украину. Надменный тон поляка произвел отрезвляющее впечатление на многих русских людей, первоначально сочувствующих мятежникам. Единственным, кто не оценил мастерства И. Аксакова, были официальные власти, и Аксакову пришлось долго и унизительно извиняться за статью Грабовского. После начала боевых действий в Польше и Северо-Западном крае цензура стала особенно беспощадна.
Жертвой цензуры и патриотического рвения пал и журнал братьев Достоевских «Время». В апрельском номере журнала Н. Н. Страхов поместил под псевдонимом «Русский» первую часть статьи «Роковой вопрос», в которой перечислили все требования польской стороны. Это вызвало гнев М. Н. Каткова. Сотрудник «Московских ведомостей» К. А. Петерсон опубликовал статью, в которой назвал «Время» «орудием польской интриги» и потребовал закрыть журнал.6 В результате «Время» действительно было закрыто. Напрасно Страхов доказывал, что он поместил польские требования в первой части своей статьи только для того, что бы опровергнуть их во второй (подобный полемический прием этот автор применял достаточно широко, что делало его непобедимым спорщиком). Цензура была неумолима. 1 июня «Время» было закрыто. Через два месяца в «Русском вестнике» была помещена статья самого Каткова, в которой разбиралась статья Страхова, фактически снявшая все обвинения К. А. Петерсона. Но это не воскресило журнал Достоевских.
Особое внимание уделяли русские национальные журналисты опровержению польской демагогии об освободительном характере своей борьбы. В Западном крае помещичий характер мятежа был наиболее очевиден. Еще перед отменой крепостного права именно польское дворянство Литвы и Белоруссии занимало наиболее непримиримые позиции в крестьянском вопросе. В условиях получения крестьянами, пусть даже и за выкуп, части шляхетских земель, а также при распространении на западный край всесословных учреждений, местное польское привилегированное меньшинство теряло экономическую власть в крае. Политической же власти оно не имело уже со времен падения Речи Посполитой. В этих условиях польское дворянство могло только силой оружия, воссоздав Польшу, сохранить свое прежнее господство в крае.
Об отношении польского дворянства к крестьянскому самоуправлению, что было одним из этапов крестьянской реформы, напомнил известный историк и этнограф, видный славянофил А. Ф. Гильфердинг. Он привел адрес польского дворянства западного края от 24 мар -та 1860 года на Высочайшее имя: «...Мы с трудом можем вообразить нынешнее крепостное народонаселение России, распределенное на десять тысяч каких-то республик, с избранным от сохи начальством (выд. А. Ф. Гильфердингом. - А. Л.), которое вступает в отправление должностей по воле народа, не нуждаясь ни в чьем утверждении... Мы опасаемся, что... устранение консервативного элемента частной собственности и соединенного с нею умственного развития введет в русскую жизнь такой крайний демократический принцип, который несовместим с сильной правительственною властью»7- Реформа 1861 г. в западных губерниях саботировалась польским дворянством. В Литве и Белоруссии сохранялся оброк и все другие повинности, все мировые посредники были из числа местных помещиков. Гильфердинг с полным основанием уподобил польский мятеж восстанию американского рабовладельческого юга, проходившего в это же время в США.
Однако все же главным для консервативной прессы были не исторические изыски, а актуальные проблемы. В частности, Катков обращал внимание на пассивность Великого князя Константина Николаевича в условиях восстания. Весной 1863 г. Михаил Никифорович прямо обвинил брата царя в измене! Это было неслыханной дерзостью - никто до этого не мог обвинять в чем-либо подобном особу императорской фамилии! Однако двусмысленная политика Наместника в Польше действительно только провоцировала мятеж, и в этих условиях Катков не побоялся выступить против брата императора, прекрасно осознавая, что сам в любой момент может угодить под арест. Всего лишь за несколько месяцев до того был арестован Н. Г. Чернышевский. Хотя его обвинили в изготовлении революционных прокламаций, поводом для ареста редактора «Современника» послужили пропущенные цензурой его статьи. Катков вполне мог отправиться в Сибирь вслед за Чернышевским. Однако Михаил Никифорович сумел свести свою кампанию против Великого князя в рамки кампании верноподданнейших адресов, посланий и воззваний. И в итоге ему удалось добиться успеха - Наместник уехал за границу «на лечение», командующим же в Северо - Западном крае с диктаторскими полномочиями Катков предложил назначить М. Н. Муравьева, учитывая, решимость, волю этого деятеля и знание им края.
Призыв Каткова был услышан - император Александр II, лично Муравьева недолюбливавший, вынужден был под напором общественного мнения назначить Михаила Николаевича Наместником Северо-Западного края, включающего в себя 7 губерний (Могилевскую, Витебскую, Минскую, Виленскую, Ковенскую, Августовскую, Гродненскую). В момент назначения Муравьева восстание было на подъеме, отношения с западными державами - обострены до предела. Не случайно императрица Мария Александровна сказала Михаилу Николаевичу при отъезде в Вильну: «Хотя бы Литву, по крайней мере, мы могли бы сохранить»8. Собственно Польшу в Петербурге считали уже потерянной. Однако Муравьев оказался на высоте положения.
Действовать он стал решительно и жестко. 1 мая 1863 г. Муравьев был назначен генерал-губернатором, 26 мая - прибыл в Вильну в качестве Наместника, а уже 8 августа - принимал депутацию виленского шляхетства с изъявлением покаяния и покорности. К весне 1864 г. восстание было окончательно подавлено. По приговорам военно-полевых судов 127 мятежников были публично повешены, сослано на каторжные работы - 972 человека, на поселение в Сибирь - 1427 человек, отдано в солдаты - 345, в арестантские роты - 864, выслано во внутренние губернии - 4096 и еще 1260 чел уволено с должности административным порядком. В боях было убито около 10 тысяч мятежников. Кроме того, причастных к мятежу, но помилованных и освобожденных было 9229 человек. Приводим эти документально зафиксированные цифры для опровержения до сих пор успешно существующего мифа о сотнях тысячах казненных и сосланных поляков. Усмирение мятежа стоило России относительно малой крови: погибло 826 солдат и 348 умерло от ран, болезней или пропали без вести. Больше - до нескольких тысяч -погибло полицейских, сельских стражников, чиновников и представителей гражданского населения.
Однако Муравьев не только воевал и вешал. Он прибыл в Литву и Белоруссию с определенной программой. Своей задачей генерал-губернатор видел полную интеграцию края в состав империи. Главным препятствием этому было польское помещичье землевладение. Учитывая, что городское население края состояло в основном из евреев и поляков, единственной опорой русской власти в крае могло быть белорусское крестьянство.
Следовательно, для полной русификации края требовались поистине революционные меры по искоренению влияния местного дворянства и предоставление политических и социальных прав только что освобожденному крестьянству.
В какой-то степени стремление к подрыву неблагонадежного польского землевладения было присуще и прежним российским монархам. Большие конфискации владений магнатов и шляхты проводила еще Екатерина II. При Николае I после подавления восстания 1830-31 гг. также были предприняты карательные меры против польского дворянства. В частности, в пяти белорусских губерний было конфисковано 217 шляхетских имений с 72 тыс крепостных9. Однако в качестве социальной опоры власти империи пытались тогда создать здесь русское помещичье хозяйство. Эти попытки оказались неэффективными из-за сопротивления сохраняющего и численное, и экономическое преобладание польского дворянства. Теперь же Катков требовал сделать ставку на крестьянство.
Муравьев обложил налогом в 10% доходов шляхетские имения и собственность Католической церкви. Помимо этого дворянство должно было оплачивать содержание сельской стражи. (Можно представить себе ярость панов, оплачивающих стражу, состоящую из их же бывших крепостных!)
Одновременно Муравьев ликвидировал в крае временнообязанное состояние. Мировыми посредниками назначались православные. Наделы для крестьян были увеличены. Крестьяне Гродненской губернии получили на 12% земли больше, чем было определено в уставных грамотах, в Виленской - на 16%, Ковенской - на 19%. Выкупные платежи были понижены: в Гродненской губернии - 2 р. 15 коп. до 67 коп. за десятину, в Виленской - 2р.11 коп. до 74 коп., в Ковенской - 2 р. 25 коп. до 1 р.49 коп.10. В целом в результате реформ Муравьева в Белоруссии наделы крестьян были увеличены на 24%, а подати - уменьшены на 64,5%. Для усиления русского элемента в крае Муравьев ассигновал 5 млн рублей на приобретение крестьянами секвестированных панских земель.
О характере реформ Муравьева можно судить уже по указам, которые выпускал генерал-губернатор. Так, 19 февраля 1864 г. появился указ «Об экономической независимости крестьян и юридическом равноправии их с помещиками», 10 декабря 1865 г. К. П. Кауфман, преемник Муравьева на посту генерал-губернатора, полностью поддержавший его курс, издал красноречивый указ «Об ограничении прав польских землевладельцев». Помимо этого Муравьев издал циркуляр для чиновников «О предоставлении губернским и уездным по крестьянским делам учреждениям принимать к разбирательству жалобы крестьян на отнятия у них помещиками инвентарных земель».
В результате такой политики Муравьева в Литве и Белоруссии действительно произошли серьезные социальные изменения. С весны 1863 по октябрь 1867 гг. в качестве новых землевладельцев в Северо - Западном крае было водворено 10 тыс семей отставных нижних чинов, землю получили около 20 тыс семей бывших арендаторов и бобылей, и только 37 семей дворян приобрели в губерниях края новые имения11. В последнем случае, видимо, сказалось недоверие Муравьева к возможности помещичьей колонизации, тем более что печальный пример подобной политики, проводившейся после 1831 года, был перед глазами.
Муравьев развернул также строительство русских школ. Уже к 1 января 1864 г. в крае были открыты 389 школ, а в Молодечно - учительская семинария 12. Эти шаги подорвали монополию Католической церкви и польского дворянства на просвещение в крае, делавшую его недоступным для белорусов.
Ликвидируя польское помещичье землевладение в Белоруссии, Муравьев всячески подчеркивал тот факт, что подавляющее большинство польских аристократов происходили из числа перешедших в католичество еще в XVI - XVIII русских князей прежнего Великого княжества Литовского. Сотрудник Муравьева, К. Говорский в «Вестнике Западного края» публиковал генеалогические таблицы, из которых можно было установить, что практически у каждого панского рода в Белоруссии предки были не только православными, но нередко и архиереями Православной церкви.
Исторически, со времен якобинских аграрных преобразований в период Великой французской революции и до преобразований в западных губерниях Российской империи в Европе не было более решительных социальных реформ в сельском хозяйстве.
Совершенно новым в российской политике была ставка на социальные низы в бунтующих губерниях. Правящие верхи империи всегда боялись «пугачевщины» во всех проявлениях. Не случайно в начале польского мятежа, когда начались крестьянские бунты против мятежных панов, царские власти начали было усмирять верноподданных бунтарей. Так, в Радомской губернии Польши крестьяне поднялись против мятежников, но их усмирили с помощью военной силы по приказу Наместника Константина Николаевича. Когда в Звенигородском уезде Киевской губернии крестьяне отказались работать на помещиков, примкнувших к мятежникам, против них (крестьян) были посланы войска.
Как видим, реакция официальных властей была сначала вполне традиционной. Однако под влиянием публицистов национального направления Муравьев не только не стал подвергать репрессиям «бунты против бунтовщиков», но и фактически одобрил их. В результате вместе с правительственными войсками против поляков стали действовать и крестьянские отряды. Во многих местах крестьяне «по-пугачевски» расправлялись с помещиками. Так, в Витебской губернии крестьяне разгромили имение помещиц Шумович, Водзяницкой, графа Молля, и др.13.
19 февраля у села Турова Мозырского уезда Минской губернии был задержан крестьянами один из руководителей повстанцев Р. Рогинский. Пытаясь освободиться, он предлагал крестьянам 5 тыс рублей серебром - сумму по тем временам колоссальную и тем более соблазнительную для нищих белорусских крестьян. Однако же крестьяне отказались, заявив, что служат своему Царю-Освободителю. Рогинский был передан военным.
Еще больший подъем народного энтузиазма последовал после Высочайшего утверждения 19 марта 1863 г. временных правил «о порядке взноса крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, денежных повинностей и о выдаче оных помещикам в губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, и в уездах: Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком Витебской губернии». Временнообязанные отношения ликвидировались. Та же самая мера вводилась и для юго-западных губерний.
В апреле 1863 г., в ответ на убийства русских солдат крестьяне Витебской губернии разгромили несколько отрядов повстанцев и около 20 имений14. В том же месяце крестьяне Слуцкого уезда Минской губернии собрали отряд до 1 тыс чел. для защиты местечка Тимковичи от поляков; в той же губернии крестьяне самостоятельно выбили мятежников из села Новоселки Игуменского уезда, потеряв при этом 3-х человек убитыми и 8 ранеными 15.
Уроженец Белоруссии М. О. Коялович оценивал происходившее следующим образом: в т.н. «литовских» губерниях «происходила и происходит с незапамятных времен неутомимая народная борьба туземного литовского, белорусского и малороссийского элемента с пришлым элементом польским»16.
Подобные меры вызывали ярость у русских крепостников, испытывающих чувство классовой солидарности с польским шляхетством. Поскольку, учитывая данные Муравьеву царем полномочия, критиковать его напрямую было сложно, основной удар недоброжелателей пришелся на приглашенных генерал-губернатором из коренной России чиновников. Сам Муравьев вынужден был в своем Всеподданнейшем отчете императору взять под защиту своих помощников. Он писал: «Но много претерпели гонений и сии деятели; много пущено было на них клеветы и неправды, которые доходят и до вашего императорского величества. Их обвиняли в идеях социализма, в разрушении общественного порядка, в уничтожении прав собственности, словом, во всем, что могло только опорочить их честь и ослабить энергическую их деятельность»17.
С полным на то основанием генерал-губернатор писал царю: «...С помощью русских деятелей присоединение края к России значительно продвинулось вперед; большая будет ошибка с нашей стороны, если мы подумаем, что можно одною только силою удержать его; может придти момент, чего Боже сохрани, что не поможет и сила, если не утвердится там Православие и наша русская народность»18.
Сохранение территориальной целостности империи для истинных патриотов-государственников, кумиром которых в тот момент стал Муравьев, было более важным, чем «пугачевщина» генерал-губернатора против польского дворянства. Поэт А. Фет посвятил Муравьеву стихотворение «Нетленностью божественной одеты...», А. Майков создал стихи «Каткову», «Западная Русь», «Что может миру дать Восток». Когда Муравьев приехал весной 1864 года в Петербург, восторженная толпа несла его на руках из железнодорожного вагона до экипажа.
Сильное поражение потерпел в 1863 году русский радикализм. От -кровенно антинациональная позиция в польском вопросе дорого обошлась Герцену. За 1863 год тираж «Колокола» упал с 2500 до 500 экземпляров. Больше никогда «Колокол» не имел такого влияния, как в начале 60-х гг.
Правительство, однако, хотя во время польского кризиса и действовало под влиянием охранителей, отнюдь не сделало взгляды национальных реформаторов своей официальной программой. Это особенно проявилось на примере дальнейшей судьбы социальных реформ в Северо-Западном крае и Польше.
Давление аристократов и сохранившееся влияние поляков при Дворе привели к тому, что программа реформ и в Северо-Западном крае, и в Польше не была полностью выполнена. Как только прошел страх перед общероссийской революцией и войной с европейскими странами, в официальном Петербурге сразу начали менять курс. Муравьев получил титул графа Виленского и был в мае 1865 г. уволен в отставку.
Михаил Николаевич уединился в своем имении под Лугой и принялся за работу над «Записками об управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа». Этот труд был закончен 4 апреля 1866 года. Именно в этот день Муравьев вновь стал нужен царю и Отечеству - нигилист Д. Каракозов выстрелил в Александра II возле Летнего сада в Петербурге. Муравьева немедленно вызвали в Петербург и назначили председателем следственной комиссии по делу Каракозова. Михаил Николаевич как всегда быстро и решительно провел следствие, полностью раскрыв замысел преступника.
Это стало последним делом графа Виленского. 29 августа 1866 года он скоропостижно скончался. Без его твердой руки русское дело в Литве и Белоруссии постепенно застопорилось.
Сменивший его на посту генерал-губернатора К. П. Кауфман продолжал политику своего предшественника, но и он через год был отправлен завоевывать Туркестан. Новый генерал-губернатор Северо-Западного края А. Л. Потапов ликвидировал почти всю «систему Муравьева». Пытавшийся проводить прежний курс виленский губернатор, знаменитый мореплаватель контр-адмирал Шестаков, был уволен в отставку. Сместили с должности и попечителя Виленского учебного округа Батюшкова, старавшегося продолжать русификацию Северо-Западного края. В июне 1867 г. последовала амнистия для большинства бывших повстанцев. Польские помещики даже стали получать назад конфискованные за участие в мятеже земли. Польское помещичье землевладение сохранилось в Белоруссии до 1917 г., а в западной Белоруссии - и до 1939 г.
Российские крепостники не скрывали ликования. Газета «Весть» после смерти Муравьева в посвященном ему некрологе не удержалась от бестактных и оскорбительных высказываний в адрес покойного графа Виленского. С протестом против новой политики в Белоруссии выступил И. С. Аксаков в газете «Москва». В результате газета была закрыта «за вредное направление».
С похожими трудностями пришлось столкнуться и М. Н. Каткову. В 1866 г. он вступил в конфликт с министром внутренних дел П. А. Валуевым. Поводом стал все тот же вопрос о земельных владениях польского дворянства. На Правобережной Украине, где польское восстание не имело большого размаха, не проводилась и политика конфискаций. Учитывая разорение польского дворянства, не умевшего заниматься ведением хозяйства, Михаил Никифорович пропагандировал идею предоставления украинскому крестьянству преимущественного права на приобретение шляхетских земель. Фактически это означало проведение муравьевского курса в более умеренных масштабах на Украине. Но министерство Валуева из соображений дворянской солидарности начало оказывать финансовую помощь промотавшейся шляхте. В довершение всего в Петербурге опять начали склоняться к мысли о восстановлении польской автономии, а также и о расширении полномочий немецкого рыцарства в Прибалтике.
В ответ Катков начал кампанию против министра, не стесняясь в выражениях своих статей. 31 марта 1866 г. он получил цензурное предостережение, что ничуть не отразилось на тоне «Московских ведомостей». Однако зарвавшийся Валуев продолжал борьбу с «Московскими ведомостями»и после выстрела Каракозова. 6 мая «Московские ведомости» получили второе предостережение, а на другой день - третье. После этого Катков оставил пост редактора. По воспоминанию сотрудника редакции Н. Мещерского, «ярость Валуева и его единомышленников была безгранична. С минуты на минуту можно было ожидать закрытия «Московских ведомостей»»19. Вполне реальной была угроза ареста строптивого журналиста.
Однако к тому времени Катков уже успел завоевать такую славу и влияние, что сместить его, особенно после каракозовского покушения, было непросто. Со всей России Александру II шли письма и телеграммы с просьбой проявить монаршую милость и вернуть Михаила Никифоровича на пост редактора ведущей национальной газеты. В результате царь, находясь в Москве, 20 июня 1866 г. принял Каткова на аудиенции и вернул его на пост редактора. Пять дней спустя «Московские ведомости» вновь стали выпускаться редакцией в прежнем составе.
Однако хотя лично для Каткова все закончилось благополучно, правительственный курс в отношении Польши и западных губерний оставался прежним. Катков также был непреклонен в этом вопросе и продолжал выступать за сохранение «муравьевского курса». Наказанием за допущенные в ходе этой борьбы выступления против генерал-губернатора А. Л. Потапова стало очередное цензурное предупреждение 8 января 1870 года.
Итак, революционные преобразования М. Н. Муравьева в Северо-Западном крае в 1863-67 гг. (до увольнения К. Кауфмана) были реализованы далеко не в полной мере. Тем не менее уже того, что было сделано, достаточно, чтобы считать реформы радикально изменившими жизнь этих регионов. Последствия политики Муравьева сказывались в жизни региона и десятилетия спустя. Вот что писал один из крупнейших мыслителей русского зарубежья, уроженец Белоруссии И. Л. Солоневич: «Край - сравнительно недавно присоединенный к Империи и населенный русским мужиком. Кроме мужика русского там не было ничего. Наше белорусское дворянство очень легко продало и веру своих отцов, и язык своего народа, и интересы России... Народ остался без правящего слоя. Без интеллигенции, без буржуазии, без аристократии - даже без пролетариата и ремесленников. Выход в культурные верхи был начисто заперт польским дворянством. Граф Муравьев не только вешал. Он раскрыл белорусскому мужику дорогу хотя бы в низшие слои интеллигенции»20. То же самое могли бы сказать и многие другие деятели литовской культуры.
Итак, в 1863 году уже немолодой Михаил Муравьев в считанные недели сокрушил крамолу и навсегда подорвал польское господство в Литве и Белоруссии, осуществив национальное, религиозное, культурное и в значительной степени социальное освобождение местного православного населения. Если учесть, что он принял начальство краем в разгар мятежа, экспедиций на балтийское и черноморское побережье, открытой подготовки западных стран к войне с Россией, измены в правительственном аппарате (многие чиновники которого уже примеряли на себя роль будущих правителей своих собственных маленьких, но гордых народов), не имея поддержки в высших петербургских сферах, при антинациональной позиции «передовой» интеллигенции, от социалиста Герцена до крепостников «Вести», наконец, при враждебном отношении Великого князя Константина и холодности самого Александра II, - если, повторимся, учесть все это, то становятся ясны масштабы осуществленного Муравьевым подвига. Когда Катков писал, что ситуация в начале 1863 года грозила России такой же опасностью, как в 1812 году, он не преувеличивал. Муравьеву, которого именно требование народа привело на пост наместника (совсем как Кутузова - к командованию армией в 1812 году), в определенном смысле было действовать сложнее. В открытой войне 1812 года было совершенно ясно, кто враг, а кто - друг. В условиях внутренней смуты все было гораздо менее очевидно.
Проиграв, антирусские силы постарались демонизировать облик Муравьева. Не случайно стараниями мировой и российской либеральной интеллигенции Михаил Николаевич вошел в историю под кличкой «Вешатель», петлю на виселице окрестили «муравьевским галстуком» (сорок лет спустя наши либералы в силу творческой бездарности и неспособности выдумать что-то новое на истоптанном поле русофобских мифов хором заговорили уже о «столыпинских галстуках»), а реформы в Польше и Северо-Западном крае считаются с некоторых пор актами «национального угнетения».
Многое из того, что применялось антирусскими силами в 1863 году, в дальнейшем совершенствовались и применялось в 1905, 1917, 1991 гг. Но Муравьева уже не было. И новые Муравьевы не появились...
Каков же человеческий портрет этого грозного усмирителя? Об этом расскажут в своих воспоминаниях те, кому пришлось лично знать Михаила Николаевича. Помогут в этом и некоторые статьи Каткова, по которым можно понять суть случившегося тогда кризиса и уловить «аромат эпохи».
Немало стихотворений было посвящено Муравьеву. Закончим же наше предисловие такими строками Афанасия Фета:
Утратя сон от божеского гласа, При помощи небес Убил и змей, и стойла Авгиаса Очистил Геркулес. И ты, поэт, мечей внимая звуку, Свой подвиг совершил: Ты протянул тому отважно руку, Кто гидру задушил.С. Лебедев
ПАМЯТИ ГРАФА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА (ко дню открытия ему памятника в г. Вильне 8 ноября 1898 г.)
Жизнь и деятельность графа М. Н. Муравьева до назначения виленским генерал-губернатором
По Царской воле и любви русского народа к незабвенному графу Михаилу Николаевичу Муравьеву город Вильна украсился великолепным памятником.
Художник, создавший памятник, изобразил графа Михаила Николаевича исполненным величавого спокойствия. Он смотрит вдаль, прямо в глаза беспристрастного потомства и как бы озирает всю свою многотрудную государственную деятельность.
За свою энергичную деятельность в Северо-Западном крае, за те коренные изменения, какие Михаил Николаевич Муравьев произвел в нем относительно упрочения православно-русских начал, он, бесспорно, может быть отнесен к числу величайших людей в русской истории.
Уже при жизни своей, как всем известно, Михаил Николаевич Муравьев приобрел среди русского народа такую популярность за эту деятельность, какой раньше никто не приобретал, за исключением разве царственных особ. И неудивительно, потому что Михаил Николаевич Муравьев своею деятельностью в Северо-Западном крае исполнил задушевные желания и осуществил политические взгляды всего истинно русского народа по отношению к этой окраине нашего государства.
Беспристрастная история уже давно разъяснила значение его великих заслуг и, вместе с народною к нему любовью, по словам нашего поэта Тютчева,
На гробовой его покров,
Вместо всех венков, положила слова простые:
Не много было б у него врагов,
Когда бы не твои, Россия!21
Хотя о Михаиле Николаевиче Муравьеве можно сказать, что он принадлежит к числу таких талантов, которые родятся, а не воспитываются, тем не менее окружавшая его с детства родная среда заронила в его душу те семена нравственного совершенства, которые высоко поставили его в потомстве и создали ему вековечную славу.
В среде своей талантливой семьи он воспринял глубокую православно-русскую религиозность, горячую, бескорыстную любовь к Престолу и Отечеству, неутомимую привычку к труду и высокие понятия
0 долге и чести.
Все это вызывает сердечное желание оживить в памяти дорогие черты из жизни и деятельности графа Михаила Николаевича Муравьева, как наиболее обрисовывающие его личность, так в особенности имеющие отношение к нашему русскому Северо-Западному краю.
Граф Михаил Николаевич Муравьев родился в Петербурге 1 октября 1796 года. Отец его, в то время отставной капитан-лейтенант флота, состоял предводителем дворянства Лужского уезда и жил большею частью в своем имении - Сырец, проводя иногда со своею семьею в Петербурге зимние месяцы. В одно из таких временных пребываний в столице у него родился третий сын, Михаил.
Детство Михаила Николаевича проходило сначала в имении родителей, среди сельской природы, а потом, с 1801 года, в Москве, куда переселился его отец по своим семейным обстоятельствам.
Первою руководительницею воспитания М. Н. и его братьев была мать, о которой он всегда вспоминал с благодарною памятью.
По смерти матери воспитание М. Н. и его братьев, по необходимости и господствовавшему тогда обычаю, было поручено гувернерам из французских эмигрантов, но главным руководителем воспитания и учителем все-таки был их отец. Под руководством его начались первые уроки истории, математических и военных наук. Сам хороший математик и талантливый преподаватель, отец М. Н. обращал особенное внимание на эту отрасль знания.
Михаил Николаевич проявил особую талантливость в изучении математики и, не довольствуясь домашним ее преподаванием, сблизился с несколькими студентами Московского университета, которые считались среди своих товарищей лучшими математиками.
Долгие зимние вечера М. Н. проводил со своими друзьями в занятиях математическими вычислениями. Такое увлечение еще в детском почти возрасте точными науками дало практическое направление складу его ума и от исследования чисел повело к исследованию людей и явлений общественной жизни.
В 1809 году М. Н., имея 13 лет от роду, поступил в студенты Московского университета по физико-математическому факультету, а к концу 1810 года относится первый опыт его общественной деятельности. В это время им составлено было из студентов университета и молодых кандидатов «общество математиков», в котором сам М. Н. был вице-президентом и преподавал аналитическую и начертательную геометрию.
Наступление Отечественной войны прекратило мирную деятельность общества математиков. Молодежь, составлявшая это общество, поступила в действующую армию, следуя примеру своего вице-президента, поступившего на службу в колонновожатые в декабре 1811 года. В этом звании М. Н. пробыл всего один месяц и был произведен по особому экзамену в прапорщики свиты Его Величества по квартирмейстерской части. М. Н. настолько выдавался своими познаниями, что, несмотря на свои юные годы, был назначен экзаменатором при Главном штабе.
Отечественная война застала М. Н. в составе 5 гвардейского корпуса в г. Свенцянах. Далее М. Н. участвовал в отступлении нашей армии и в знаменитой Бородинской битве. В самый разгар этой битвы он был тяжело ранен в ногу и спасся от неизбежной смерти благодаря счастливым случайностям. С большим трудом раненый М. Н. достиг Москвы. Несмотря на сильное истощение от тяжелого похода и на опасную рану, Михаил Николаевич и в этом положении проявил необыкновенную твердость духа и практическую находчивость: зная, что братья, находившиеся вместе с ним при армии, будут отыскивать его, он просил на пути надписывать свое имя на избах, в которых останавливался. Эти руководящие знаки помогли братьям отыскать его и принять меры для спасения его жизни. После произведенной в Москве операции М. Н. был отправлен братьями в сопровождении преданного ему врача и домашней прислуги в Нижний Новгород, куда ранее отправился его отец для формирования ополчения. Окруженный попечениями родной семьи, М. Н. быстро оправился и в начале 1813 г. был опять в действующей армии, а в августе того же года принимал участие в трехдневном сражении под Дрезденом. Вскоре затем М. Н. был командирован с донесениями в Россию и уже более не принимал участия в последовавших военных событиях, завершившихся взятием Парижа.
После этого М. Н. поселился по месту своей службы, в Петербурге, и вел уединенную жизнь, посвящая свободное время самообразованию и научным трудам. В период времени 1816-1817 гг. он составил руководство под названием: «Измерение высот посредством барометрических наблюдений», предназначавшееся им для преподавания в Московском учебном заведении для колонновожатых, которое образовалось по окончании Отечественной войны из основанного им общества математиков. В 1818 г. М. Н. был уже семьянином. 26 августа этого года состоялось бракосочетание его с дочерью гвардии капитан-поручика Пелагеею Васильевной Шереметьевой.
Желая заняться сельским хозяйством в имении своей жены, М. Н. просил уволить его в отставку; но начальство удержало его на службе.
Вместо отставки он получил временный отпуск и вскоре возвратился к своим занятиям в училище колонновожатых.
Хотя в 1820 году для удержания М. Н. на службе его произвели в чин капитана гвардейского Генерального штаба, а затем в подполковники свиты Его Величества по квартирмейстерской части, но все-таки М. Н. возобновил свою просьбу об отставке, на этот раз подкрепленную ходатайством его отца, и был уволен от службы в ноябре 1820 года.
По выходе в отставку М. Н. поселился со своей молодой женой в ее имении, селе Лазицах Смоленской губернии, в 50 верстах от г. Рославля, и ревностно занялся сельским хозяйством. Мирная деятельность его по улучшению своего благосостояния была прервана, когда Смоленскую губернию постиг сильный голод. В это время М. Н. пришлось заботиться не о своем хозяйстве, а о голодающих крестьянах. Прежде всего он занялся обеспечением продовольствия для крестьян своего имения: для этого при своем винокуренном заводе устроил мирскую столовую, в которой ежедневно получало горячую пищу по 150 человек и более; приходилось кормить крестьян и других имений, собиравшихся в Лазицах целыми толпами. Более двадцати тысяч рублей своих денег М. Н. истратил на продовольствие голодающего населения. Кроме того он обратил внимание и на другие местности губернии, также страдавшие от недостатка продовольствия; он собирал местных дворян, убедил их действовать в этом важном деле единодушно; по его примеру и убеждению дворяне не жалели своих средств для поддержки населения и испросили у правительства денежную помощь для той же цели в размере 50 000 рублей; на призыв Михаила Николаевича о помощи голодающему населению Смоленской губернии откликнулись дворяне Московской губернии и прислали щедрые пожертвования. Правительство также обратило особенное внимание на Смоленскую губернию и командировало сенатора Мертваго для принятия мер по обеспечению крестьян на дальнейшее время. Этот сановник приписывал успех своих действий главным образом помощи молодого помещика Муравьева и высказывал ему особенное уважение.
В июле месяце 1826 года М. Н. Муравьев вновь поступил на службу с прежним чином подполковника, но не получил особого назначения. Пользуясь свободным временем, М. Н. в течение этого года привел в порядок свои заметки о гражданском управлении губерниями, которые он составил во время пребывания в деревне. Это время было хорошею школою для М. Н.: ему тогда приходилось входить в сношение с различными правительственными учреждениями губернии и с лицами разных сословий; его в одинаковой степени интересовали и администрация, и суд, и учебное дело; от его проницательного ума не укрылось все то, что требовало исправления. Из этих заметок М. Н. составил записку и представил ее Государю Императору Николаю Павловичу. Привыкший к порядку и строгий к самому себе, М. Н. Муравьев признает необходимость строгого отношения ко всем и заканчивает свою записку такими словами: «никакие строгие, но справедливые меры не страшны для народа; они гибельны для законопреступников, но приятны массе людей, сохранивших добрые правила и желающих блага общего».
В этих словах и всей вообще записке, обнаруживающей глубокое знание многих потребностей государства, вырисовывается и сам будущий великий администратор. Записка М. Н. Муравьева удостоилась Высочайшего внимания и личной благодарности Государя Императора.
Достоверно известно, что многие недостатки в административных и судебных учреждениях были исправлены в царствование Императора Николая Павловича благодаря этой записке М. Н. Муравьева; насколько же М. Н. был дальновиден и сведущ даже в учебной части, можно, например, видеть из того, что в этой же записке он указывает на необходимость учреждения ремесленных училищ, а это дело и в настоящее время составляет предмет особой заботливости правительства.
Записка М. Н. доставила ему известность знатока в гражданском управлении.
Министр финансов поспешил привлечь его на службу в свое ведомство и в 1827 году назначил вице-губернатором в г. Витебск. В то время вице-губернаторы назначались министерством финансов, причем М. Н. по чинопроизводству был переименован в коллежские советники.
Отправляясь к месту своего нового назначения, в мало знакомый ему край, М. Н. Муравьев считал необходимым ознакомиться с его историею, разноплеменным населением, его бытом и религиею, для чего собрал все то, что написано было по этим вопросам. В особенности его заинтересовало сочинение Бантыш-Каменского «О возникшей в Польше унии». Оно выяснило ему всю жизнь русского народа в Северо-Западном крае, все бедствия и неправды, которые пришлось перенести ему под польским господством, всю его многострадальную судьбу.
Сам М. Н., уже будучи виленским генерал-губернатором, говорил, что, живя в Витебске, читал с любопытством эту дельную и полезную книгу, познакомившую его с минувшими судьбами Православной церкви в Западной России.
Спустя год с небольшим своей службы в Витебске, М. Н. Муравьев был назначен (в сентябре 1828 г.) могилевским гражданским губернатором и произведен в статские советники. В Могилевскую губернию М. Н. явился опытным знатоком края и не менее опытным администратором. Уже в Витебске, присмотревшись к гражданскому управлению, он видел, что все должности заняты не русскими людьми, а местными уроженцами из польской шляхты, для которых чем хуже шло управление, чем больше было неудовольствия от такого управления, тем было лучше, потому что большинство из них считали Россию и русское правительство своим врагом, и вредить такому врагу признавалось дозволенным всякими средствами и способами.
Странное и непонятное, как кажется, сопоставление: чиновник русского правительства и вместе с тем его враг? Эта несообразность разъяснится при чтении очерка истории Северо-Западного края и характера воспитания польской шляхты, в дальнейшем описании деятельности графа М. Н. Муравьева. Такой же и вообще подобный порядок нашел М. Н. и в Могилевской губернии, которая была вверена его управлению.
Для каждого честного человека ясно, что должен был испытывать М. Н. Муравьев, как горячий патриот, при виде этой печальной картины губернского управления.
Все, что мог исправить М. Н. Муравьев своею властью, как губернатор, было исправлено. Но таким временным исправлением не могло окончиться дело улучшения губернского управления: под его бдительным надзором все делали свое дело честнее и добросовестнее в интересах государства и народной массы; но кто мог поручиться, что и при другом губернаторе будет такой же порядок?
А между тем М. Н. Муравьев далеко смотрел в будущее и в своей деятельности для полного слияния вверенной ему губернии и вообще всего Северо-Западного края с коренной Россией находил препятствия, превышавшие его губернаторскую власть. Например, в Могилевской и других губерниях Северо-Западного края действовали не общие для всей Российской империи законы, а Литовский Статут. Этот сборник законов был составлен в Литве при существовании полного господства шляхты, или польских дворян. Все в нем только в пользу шляхты, а простой народ, значит русский народ, - это «хлоп»22, даже «быдло» 23 - рабочий скот.
Далее, мог ли быть терпим в Русском государстве такой сборник законов, как Литовский Статут, если он, напр., жителей внутренних губерний Империи называл «чужеземцами» и «заграничниками»?
Наконец, могло ли быть терпимым воспитание местного юношества в духе ненависти и вражды ко всему русскому? А Виленский университет, в котором проповедовалась самая ослепленная ненависть к русскому народу?
Это тем печальнее, что все школы и университет содержались на кровные русские деньги.
Все это не укрылось от М. Н. Муравьева, все он оценил, но не мог исправить и уничтожить своею властью.
Вот почему М. Н. Муравьев в своем всеподданнейшем отчете по управлению губернией с честностью и прямотою истинного слуги царского и преданного сына Отечества раскрыл все это зло и решительно настаивал на его уничтожении.
Занимая должность могилевского губернатора, М. Н. Муравьев оказал и другую важную услугу своему Отечеству.
В Варшаве в это время (1831 г.) произошло восстание поляков против России. Волнение стало охватывать и поляков Северо-Западного края, проникло и в Могилевскую губернию. В своей губернии М. Н. быстро уничтожил решительными мерами все попытки к восстанию, но другие губернии Северо-Западного края охвачены были восстанием. Михаил Николаевич Муравьев очутился таким образом в местности военных действий. И в своем гражданском звании и чине он сумел показать в это время, что в нем не угасли способности опытного офицера Генерального штаба. Он в самое короткое время устроил тайное наблюдение за всеми подозрительными лицами и учреждениями, напр. р.-католическими монастырями, в которых часто скрывали оружие. Его наблюдения простирались не на одну только Могилевскую губернию, а на весь Западный край. Отовсюду собирались к нему важные сведения, он знал, на кого можно положиться, кому пригрозить. Все это увеличивало знакомство его с краем, со многими лицами и, вместе с тем, помогло ему оказать важные услуги правительству при усмирении польского восстания. Все эти сведения М. Н. сообщал графу Толстому, который был послан для восстановления порядка в Северо-Западном крае. Граф Толстой увидел, какого важного помощника послала ему судьба в лице М. Н. Муравьева, вызвал его в Витебск, где тогда находился его штаб, и назначил его при штабе для особых поручений.
Чрез несколько времени на Михаила Николаевича возложено было заведование военно-полицейскою и квартирмейстерской частью и, вместе с этим, восстановление законного порядка и управления в Северо-Западном крае, уничтоженного поляками-повстанцами.
Михаил Николаевич Муравьев объездил почти весь Северо-Западный край, уничтожал временные правительства, устроенные повстанцами, и подвергал арестованию главных зачинщиков мятежа. Ответственность за сохранение порядка он возложил на помещиков, приказав объявить им, что они «отвечают своим лицом и благосостоянием за всякое неустройство и допущение злонамеренного беспорядка».
К участникам мятежа он отнесся милостиво и спокойно и этим облегчил участь многих; простых же людей-крестьян, помещичью дворню и мелкую шляхту, которые были увлечены в мятеж помещиками, он отпускал по домам без суда.
Такими мерами Михаил Николаевич Муравьев восстановил спокойствие на всем пространстве Северо-Западного края.
По окончании возложенных поручений при армии, М. Н. прибыл в Петербург и представился Государю Императору Николаю Павловичу.
Для полного ознакомления Государя с событиями, происходившими в Северо-Западном крае, М. Н. представил доклад под заглавием: «Записка о ходе мятежа в губерниях, от Польши возвращенных, и о причинах столь быстрого развития оного, извлеченных из сведений, почерпнутых на месте происшествия, и подлинных допросов». В этой записке М. Н. Муравьев прямо называет зачинщиками смуты польское дворянство и католическое духовенство и заканчивает ее убеждением в необходимости изменить порядок управления, «чтобы решительными мерами, при благоразумном применении, упрочить моральное и политическое присоединение края сего к России».
Дальнейшая служба графа М. Н. Муравьева в Северо-Западном крае продолжалась в г. Гродно в должности губернатора (с конца августа 1831 г. до начала января 1835 г.). С 1835 года он покинул Северо-Западный край и продолжал свою служебную деятельность сначала губернатором в г. Курске (1835-1839 гг.), а потом в Петербурге управляющим Межевым корпусом (назначен в 1842 г.), Департаментом уделов (назначен в 1856 г.) и, наконец, к этим должностям присоединилось назначение министром государственных имуществ (1857 г.). В 1861 году М. Н. Муравьев по болезни сложил с себя управление Министерством государственных имуществ, а в 1862 г. вышел на время в отставку.
Отставка графа М. Н. Муравьева недолго продолжалась: Провидению угодно было еще раз выдвинуть этого человека на поприще государственной деятельности и притом выдвинуть его в момент важных событий, совершавшихся в нашем Северо-Западном крае. Эти события имеют тесную связь с историческою судьбою Северо-Западного края.
Краткий обзор главных исторических событий Северо-Западного края
Наш Северо-Западный край - губернии Минская, Могилевская, Витебская, Гродненская, Виленская и Ковенская - край русский с древних времен и по своему населению, и по принадлежности к Русскому государству. Весь этот край, кроме небольшой части Виленской губернии и почти всей Ковенской, населяют белорусы. Со времен великого князя русского Владимира Святого он составлял достояние русских князей. Во время разделения Руси на уделы, или части, здесь образовалось много небольших княжеств. Междоусобные войны между удельными князьями, а потом нашествие татар ослабили эти княжества и облегчили литовцам их завоевание.
Литовские князья - Миндовг, Гедимин, Ольгерд и Витовт почти без войны овладели всем этим краем и образовали большое Русско-Литовское княжество.
Русским его можно называть не потому только, что русский народ почти в десять раз превосходил числом литовцев, но по всему складу его жизни. Сами литовцы, сначала князья и вельможи, а потом мало-помалу и простой народ становились русскими по вере, языку, законам, управлению и образу жизни. Мирное соединение литовского народа с русским прекратил князь Ягайло-Яков. Он женился (в 1386 г.) на польской королеве Ядвиге и соединил Литву с Польшею. Ягайло сам отрекся от своей православной веры, православного имени (в католичестве Владислав), крестил оставшихся в язычестве литовцев в католическую веру и стал теснить своих православных подданных.
С этого времени русскому православному народу стало жить тяжелее под литовским господством.
Но особенно положение православно-русского народа стало поистине тяжелым, когда последний король из потомства Ягайлы Сигизмунд II Август соединил Литву с Польшею в одно государство на сейме в городе Люблине (1569 г.). Часть русских земель совсем отошла к Польше, а в остальных поляки стали вводить свои порядки.
Польские паны и шляхта целыми потоками устремились в русские области. Русско-литовские крестьяне были обращены в крепостных и вскоре сделались полною собственностью панов, «хлопами», «быдлом». Они были обложены тяжелыми налогами, работою и всякими оброками. Законы польские отдавали крестьян в полную власть пана; даже за убийство «хлопа» пан почти совсем не подвергался наказанию.
Заодно с панами-шляхтой действовало и римско-католическое духовенство, в особенности католические монахи иезуиты.
Чтобы лишить православно-русский народ его защитников, иезуиты стали опутывать православных дворян и обращать их в католичество. Мало-помалу русские вельможи и дворяне становились настоящими поляками сначала по языку и образу жизни, а потом и по вере.
Для обращения в католичество простого западнорусского народа, свято хранившего отцовскую православную веру, иезуиты придумали церковную унию, или соединение Православной церкви с Католическою. Они убедили нескольких православных епископов и киевского митрополита признать главою церкви Римского папу. На соборе в городе Бресте (1596 г.) уния была торжественно объявлена иезуитами и изменниками епископами. После этого насилием и неправдами обращали православных в унию, отнимали у них церкви, закрывали русские школы, изгоняли священников. Таким путем укоренялась уния среди православно-русского народа. Часть этого народа не вынесла тяжелых и жестоких гонений и стала «униатами».
Несмотря на это, Литовское государство все-таки продолжало быть русским. Повсюду слышалась русская речь, повсюду совершалось церковно-православная служба; сами князья все законы и всякие распоряжения писали на русском языке.
И теперь еще красуются в Вильне памятники благочестивого усердия литовских православных князей, вельмож и простого народа к православной вере. Пречистенский собор, Троицкий и Святодуховский монастыри, Пятницкая и Николаевская церкви насчитывают многие сотни лет своего существования и красноречиво свидетельствуют о первоначальном господстве Православия в столице Литвы. А сколько православных храмов теперь уже не существует в нашем Северо-Западном крае? Около двадцати церквей уничтожено врагами русской народности и веры только в Вильне. Народ долго хранил в своей памяти те места, где они находились; напоминают о существовании их старинные названия виленских улиц: Покровская, Преображенская, Спасская, Пречистенская и др.
Кто хочет видеть своими глазами, на каком языке обращались к своему народу литовские князья, тот может пойти в виленский музей древностей и посмотреть на целый ряд их грамот. Все они лежат под стеклом, со старинными печатями и княжескими подписями. Немало там и печатных книг на славянском и русском языках. Печатали их в Вильне и в других местах нашего края. Там же, рядом с музеем, в архиве для разбора древних актов еще более всяких грамот, судебных приговоров, описей и т.п. И все это писано на русском языке.
Не задумается ли всякий при виде этих груд русского письма, почему это так было, и не скажет ли прямо: потому, что русский язык всем был понятен и все на нем говорили.
Войдите в музей и посмотрите на надгробный камень, который стоит при входе в него. На нем прочитаете имя и фамилию знатного русского православного человека, род которого стал теперь католическим. Обо всем этом пишет история: читайте ее и вы узнаете много такого, что раскроет вам глаза и научит узнавать, кто друг простого народа и кто враг. Любите русскую школу: она из слепого сделает зрячим и покажет всем прямую дорогу.
Послушайте и посмотрите, как и теперь говорит в своих семьях наш сельский народ. Давно навязывают ему всякими неправдами польский язык; но и теперь по всему нашему краю слышится белорусская речь, -родная сестра русской, московской. Трудно вырвать из сердца родное слово, и белорус-католик по вере - все же русский по своему языку!
Западнорусский народ в своей тяжкой доле находил постоянное заступничество у русских государей. Многие из них воевали с Литвой и Польшей и отнимали русские земли.
Наконец, великая Императрица Екатерина II освободила русский народ от польской неволи.
По трем разделам Польши все области бывшего Литовско-Русского государства - Белоруссия, Волынь, Подолия и Литва, коренные русские области, присоединены были к России. В ее царствование из них образовано было несколько губерний; введено русское управление, облегчена участь крестьян, воспрещено католическому духовенству оскорблять и обращать насильно униатов в католичество. Тогда же униаты целыми десятками тысяч стали возвращаться к Православию - вере своих предков.
Другие земли Польши по этим разделам получила отчасти Австрия, но большая часть коренных польских земель со столицею Варшавою достались Пруссии.
Со времени падения своего государства поляки не переставали думать, какими средствами его восстановить в тех пределах, которые занимала Польша до первого раздела, т.е. с Белоруссиею, Волынью, Подолиею, Литвою и даже Малороссиею, хотя эта последняя область перешла к России задолго до 1772 года. Вожди поляков вели свое дело очень ловко. Им удалось уверить Императора Павла I, что весь Западный край, т.е. возвращенные от Польши родовые русские области, имеет преобладающее польское население и привык к прежнему польскому управлению. В своем презрении к простому крестьянскому русскому населению польские паны не считали его народом, давая название народа только панам, шляхте, ксендзам.
Тогда этот край недавно еще был присоединен к России; правительство знало его не так, как теперь; поэтому Император согласился отменить в нем русское управление, введенное его матерью Императрицею Екатериною Великою, и распорядился ввести прежние польские порядки и законы.
Еще искуснее в этом же деле действовали поляки в царствование Императора Александра I. Все средства для этого они считали хорошими и законными; обманывали великодушное доверие русских государей и даже их высокую дружбу. Так, например, поступал польский вельможа князь Адам Чарторыйский. Свою молодость он провел в столице Русского государства, Петербурге; в это время он приобрел расположение и любовь Великого князя Александра Павловича, когда он еще был наследником Престола. Чарторыйский постоянно рассказывал Великому князю о бедствиях Польши, растрогал его чувствительную душу и достиг того, что Великий князь стал высказывать желание облегчить участь поляков по вступлении своем на Престол. Как же отблагодарил Чарторыйский великодушного Государя Александра I? Он обманул его высокое доверие и немало причинил зла Западнорусскому краю и народу. Дело вот в чем: Император Александр I, образовав в своей империи Министерство народного просвещения, назначил Чарторыйского попечителем Виленского учебного округа, т.е. поручил ему заботиться о просвещении всего Северо-Западного края. И вот каким образом он просвещал народ: на русские деньги открывал школы и велел учить в них на польском языке; Виленскую иезуитскую академию сделал университетом, в котором учили также по-польски. Но этого мало: в школах, основанных Чарторыйским во всем русском Северо-Западном крае, и в Виленском университете открыто учили ненавидеть Россию, считать ее утеснительницею польского народа. А кто кого теснил - русские поляков или наоборот? На это ответит здравый смысл каждого: почти все губернаторы в Северо-Западном крае, все чиновники в судах, канцеляриях, управлениях, учителя - все и везде были поляки. Только простой народ, русские крестьяне, были в неволе у помещиков, платили им деньги, телом и душою исполняли всякую «панщину»24, т.е. все то, что требовали паны-помещики. Работали на панов и в будни и в праздники, потому что для пана крестьянская вера была «хлопская» 25 вера, а крестьянский праздник - «хлопский праздник». Едва, бывало, урвет бедный человек какой-нибудь день для своей работы - смотришь панские экономы и войты26 гонят на панскую «толоку»27, на «шарварки»28; выгоняют подводы возить панский хлеб и всякое добро, запроданное в купеческие амбары и склады.
Недаром бедный народ, припоминая свою тяжелую работу и долю, пел с великого горя:
У недзельку спозаранку У все звоны звоняць, -Экономы з бизунами На панщину гоняцьи т.д.29
Несли крестьяне на панский двор свою живность - кур, гусей и другую птицу, несли холст, яйца; пряли по ночам бабы панскую пряжу; по праздникам собирали и сушили для пана грибы и ягоды. И кормил, и поил пана простой народ, а все-таки не был для него человеком. Для пана человеком был тот, кого он мог называть паном. А разве бедный мужик в ободранной сермяге, с одною коровою на три двора, мог называться паном и, значит, человеком? Он был панский «подданный» со своим телом, душою и добром, своею женою и детьми...
Еще лучше расскажут это старые люди. Они сами пробовали панскую ласку на своей горемычной спине.
Далее, почему внушалась такая нелюбовь к России и чем виновата была она пред Польшею? Даже польские историки говорят, что Польша погибла от своих внутренних беспорядков, от своеволия и буйства шляхты и панов.
«Ни границы, ни соседи, а наш внутренний разлад довел нас до падения государственного существования. Польша пала вследствие отсутствия крепкой монархической власти и развития буйного и неукротимого шляхетства в ущерб народа. Польша пала от анархии». Так говорит поляк - профессор Краковского университета Бобржинский, а его даже поляки не могут заподозрить в несправедливости.
Теперь вернемся к тому, как учили в школах смотреть на Польшу.
Как у опытного регента стройно поет хор, так под искусною рукою Чарторыйского пели, т.е. учили в школах его учителя. По их рассказам, поляки - это первый народ в мире по уму, храбрости, великодушию и другим душевным качествам; Польша для всего народа - райская страна; под мудрыми польскими законами народ блаженствовал и т.д. Все это слушала молодежь и верила, как Божьему слову.
Для чего же все это делалось? А для того, во-первых, чтобы подготовить молодых людей к давно задуманному делу, т.е. к восстановлению Польши; во-вторых, чтобы показать сначала русскому правительству, а потом и всему свету, что Северо-Западный край - польский край и все в нем польское.
Наиболее помогали Чарторыйскому в этом деле ксендзы и вообще р.-католическое духовенство. При каждом удобном случае, - а их тысячи - внушалось ксендзами польским матерям, что следует им говорить своим детям, чему учить и верить.
Тогда же католическое духовенство с особенным старанием и хитростью старалось совращать русский народ из унии и даже Православия в католическую веру.
В это время Чарторыйский и все его приспешники старались уничтожить следы всего старого русского в крае. Чарторыйский, например, ложно представил Императору Александру I, будто Пречистенская митрополитальная церковь в Вильне находится в таком состоянии, что ежеминутно может разрушиться, а потому выпросил разрешение употребить стены ее на постройку анатомического театра. Старались также уничтожать старинные памятники русского письма, и много их погибло ради польских целей.
Итак, все действия Чарторыйского и большей части польских панов клонились к тому, чтобы возбудить всех против России для восстановления «ойчизны»30 - Польши. Ждали только благоприятного случая, чтобы поднять восстание.
Победы французского императора Наполеона I показались самым удобным временем. Целыми толпами поляки стали поступать к нему на службу. Верно служили они Наполеону, умирали за него на полях битв и все ждали. Наполеон же манил поляков надеждами, чтобы угрозою польского восстания не допустить Россию помогать его врагам. Наконец, Наполеон исполнил отчасти свое обещание. Победив Пруссию, он отнял у нее польские провинции, которые достались ей после раздела Польши, и устроил из них Варшавское герцогство. Тогда поляки еще ревностнее стали помогать Наполеону и в 1812 году, когда он совершил нашествие на Россию, вместе с ним опустошали наше государство и истребляли священные предметы.
Но велика милость Божия к России! Полумиллионная армия Наполеона исчезла, как дым, а сам Наполеон, как простой беглец, поспешно ускакал во Францию. Русские войска победоносно прошли всю Европу и взяли Париж. Наполеон же, лишенный престола, печально окончил дни свои на пустынном острове далекого моря.
Как же поступил с поляками, забывшими свою присягу в верности, великодушный Государь Александр I? Он успокоил трепещущих поляков, ожидавших строгого возмездия, и простил все их вины. Мало этого: Император Александр I осыпал их новыми милостями. Получив (1815 г.) в свое владение большую часть тех земель, которые составляли Варшавское герцогство, он образовал из них Царство Польское. Этому новому своему владению Император Александр I дал такое устройство, какого ни один государь не давал завоеванной стране. Поляки в своем Царстве Польском получили свой сенат, сейм, войско и все вообще отдельное управление. Милости Императора Александра I к Царству Польскому были так необыкновенны, что тогда уже некоторые государи Европы говорили ему, что поляки не поймут его благодеяний и заплатят неблагодарностью.
И действительно, спустя три года поляки стали волноваться и требовать присоединения к Царству Польскому тех областей, которые достались России при разделе Польши, т.е. Белоруссии, Волыни, Подолии и Литвы. Понятно, что они постоянно получали отказ, потому что исполнение их желаний было бы восстановлением Польши. Тогда поляки стали составлять тайные общества, возбуждали всех против России и, таким образом, подготовляли восстание.
В 1831 году, уже в царствование Императора Николая I, восстание произошло во всем Царстве Польском и проникло в Северо-Западный край. Усмирив восстание, Император Николай I, как опасную игрушку, отнял у поляков те особые права, которыми они не умели пользоваться, и ввел такое же управление и законы, как в других частях России.
В манифесте своем Император Николай I даровал «полное и совершенное прощение тем подданным Царства Польского, кои возвратились к долгу повиновения», причем было объявлено, что «никто из них не будет, ни ныне, ни впредь подвергаем суду и преследуем за поступки за все время бывших в Царстве Польском смятений». Особенную же милость показал Император Николай I западнорусским крестьянам, которые во время восстания сохранили искреннюю верность правительству. За несколько лет до польского восстания, чтобы избавить крестьян-униатов от притеснений католического управления, Император учредил особое управление для униатов, - Униатскую духовную коллегию.
Сами униаты давно уже возвращались к вере своих предков, православной вере, тысячами и сотнями тысяч, а по усмирении польского восстания весь западнорусский народ торжественно соединился с Православною церковью (1839 г.).
Таким образом разорвались путы, которые держали русский народ во власти католического духовенства многие годы, и явилась единая вера с Царем и всем русским народом. Вслед за этим Император Николай I для защиты крестьян от помещиков издал «инвентарные положения». Этим законом определены были крестьянские повинности и работы на помещиков.
Император Николай I простил поляков и забыл их вину, но польские паны не забыли своей «справы»31. Самые важные зачинщики восстания 1831 года бежали за границу и там стали готовить новую смуту. В числе бежавших был и Адам Чарторыйский. Он поселился во французской столице, Париже, и оттуда стал заправлять этим безбожным делом. Несколько раз он посылал бунтовать поляков еще при Государе Николае I, но его посланцы попадались в руки правительства и получали достойное наказание. Особенно же Чарторыйский и его сообщники из поляков, как заграничные, так и жившие в России, усилили свою пропаганду к началу 60-х годов. В это время на престоле был кроткий и особенно великодушный Император Александр II. Он задумал великое дело - освободить крестьян от крепостной зависимости. Эту милость к народу Государь решил начать с нашего Северо-Западного края и предложил самим помещикам обдумать, как лучше все это устроить. Польские помещики увидели большую опасность для своих планов в этой царской милости к народу. Они увидели, что освобождение совсем вырвет крестьян из польских рук и еще более привяжет освобожденный народ к Царю и Отечеству. Вот поэтому паны-помещики старались помешать Царской воле и изменить ее по своему.
Государь выразил желание, чтобы крестьяне были наделены землею, а для своего управления избирали разных должностных лиц из своей же среды. Польские же помещики предлагали освободить крестьян без земли, начальниками волостей назначить помещиков, отдать в их руки суд над крестьянами; одним словом - они хотели держать русских и литовских крестьян по прежнему в своей власти.
Далее, великодушный Император Александр II, одинаково милостивый ко всем своим подданным, решил даровать новые права полякам, жившим в Царстве Польском, чтобы окончательно примирить их с Россией. Он учредил в Польше особый государственный совет и отдал вообще в руки самих поляков все управление, кроме военного.
Как же теперь ответили поляки на милость Царя? Любовью и преданностью? - Нет. Поляки никогда не умели ценить милостей русских государей! Надеясь на бесконечную доброту и уступчивость Императора Александра II, они дерзко стали требовать присоединения к Царству Польскому и коренных русских земель: Белоруссии, Волыни, Подолии, Литвы, Киева, т.е. восстановления Польши, которую сами же паны-шляхта безумно погубили. Начались в Польше, а потом и в Северо-Западном крае приготовления к мятежу: ксендзы в костелах призывали народ против русского правительства; по улицам ходили процессии с пением мятежных гимнов; производились покушения на жизнь высокопоставленных лиц, русских офицеров и чиновников; по всей Польше и западным губерниям разъезжали польские «пани» и собирали деньги на повстанье.
«Народный Жонд»32 - так называлось самозваное правительство, устроенное в Варшаве - рассылал своих кинжальщиков для убийства тех, кто не хотел помогать мятежу. А за этим начался открытый мятеж. Шайки поляков напали на спящих русских солдат ночью с 10 на 11 января 1863 г., думая перебить безоружных.
В Польше и Западном крае появились повстанческие шайки; они укрывались в лесах от царских войск, но свирепствовали против мирных жителей. Сотни верных царских слуг потерпели мученическую кончину от рук мятежников. В числе их были православные священники, чиновники, отставные солдаты и простые крестьяне. Вечная память добрым страдальцам за Русскую землю!
Не станем в подробности описывать эти печальные события: они всем более или менее известны, а правдивые о них рассказы каждый может найти во многих книгах.
В это тяжелое для нашего края время Император Александр II призвал М. Н. Муравьева для усмирения в нем мятежа и восстановления порядка.
Деятельность графа Михаила Николаевича Муравьева, как генерал-губернатора Северо-Западного края
По выходе в отставку Михаил Николаевич Муравьев жил в Петербурге частным человеком. О нем в это время как бы все забыли. А между тем в это время восстание в Северо-Западном крае все более и более разгоралось. В Литве в это время был генерал-губернатором Владимир Иванович Назимов, человек в высшей степени честный, благородный, но слишком добрый и мягкий, - а потому не предпринимал энергичных мер к подавлению восстания. Впрочем, он вследствие расстроенного здоровья скоро подал в отставку; отставка была принята, и место его занял Михаил Николаевич Муравьев.
Назначение Михаила Николаевича на пост виленского генерал-губернатора, по словам одного из ближайших его родственников, совершилось так: брат Михаила Николаевича Андрей Николаевич, служивший в Азиатском департаменте, 23-го апреля 1863 года отправился к директору этого департамента Николаю Павловичу Игнатьеву, чтобы взять отпуск в Киев. Будучи в весьма хороших отношениях с Николаем Павловичем Игнатьевым, они разговорились между собою о бедственном состоянии дел в Северо-Западном крае. Во время этого разговора Андрей Николаевич между прочим заметил, что если бы брата его Михаила Николаевича послать туда, то мятеж скоро был бы усмирен, так как Михаил Николаевич хорошо знает этот край по личному опыту. Игнатьев, зная ум, силу воли и энергию М. Н. Муравьева, вполне согласился с Андреем Николаевичем, но при этом спросил его: «Скажите, пожалуйста, как же сделать, чтобы вашему брату вручить управление Литвою, - ведь он, если ему предложить это, не согласится». Андрей Николаевич поспешил ответить на это так: «Правда, брат не согласится принять управление Литвою, если ему предложено будет каким-нибудь министром, но есть другой способ для этого, и он не откажется: пусть сам Государь пришлет к нему фельдъегеря и скажет ему: „Муравьев! Отечество в опасности, спасай его нам, как честный человек и верный сын Отечества! “«.
Между тем, как происходил этот разговор, к Н. П. Игнатьеву явился курьер с требованием его к канцлеру Горчакову с бумагами, которые немедленно нужно везти к Государю Императору. Николай Павлович стал собираться и укладывать нужные бумаги в портфель. Андрей Николаевич Муравьев начал прощаться с Игнатьевым и при этом сказал ему: «Вот ценная минута, воспользуйтесь ею и предложите брата канцлеру». Они расстались.
Николай Павлович Игнатьев, действительно, как теперь известно, воспользовался этою минутою: он сказал Горчакову о Михаиле Николаевиче Муравьеве, а тот Государю.
28-го апреля 1863 года Михаил Николаевич был приглашен к Государю Императору, где ему было объявлено, что он назначается генерал-губернатором в г. Вильну с неограниченною властью для прекращения восстания.
Поблагодарив Государя за оказанную честь и доверие, Михаил Николаевич по выходе из дворца стал немедленно собираться в путь.
1-го мая последовало официальное объявление о назначении Михаила Николаевича Муравьева на новую должность, а 12-го мая М. Н., помолившись в Казанском соборе и приложившись к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, находящейся в сем соборе, выехал по железной дороге в г. Вильну.
«Провожавших М. Н., - говорит очевидец, - было множество: сочувствие к нему было большое, на него были устремлены взоры всех, на него все надеялись».
14 мая в 7 часов пополудни Михаил Николаевич прибыл в Вильну и остановился во дворце. На следующий день утром съездил в Духовский монастырь поклониться святым виленским мученикам, а оттуда заехал к известному иерарху Православной русской церкви, митрополиту Иосифу Семашке, у которого пробыл около часу.
По возвращении от митрополита М. Н. сделал общий прием военным и гражданским чиновникам. Он весьма ласково приветствовал военных и благодарил их от имени Государя за труды и верность Престолу и Отечеству; но со строгою и сильною речью обратился к гражданским властям, из которых громадное большинство были поляки. Он напомнил им об их обязанностях, высказал свой взгляд на управление и требовал, чтобы все лица, несогласные с его взглядами на дело, немедленно выходили в отставку.
После приема военных и гражданских чинов М. Н. Муравьев принял православное духовенство; к нему он так же ласково отнесся, как и к военным, и обещал им полную поддержку как нравственную, так и материальную.
На третий день своего приезда, т.е. 16-го мая, М. Н. принял католическое духовенство. Оно явилось к нему вместе со своим епископом Красинским. Михаил Николаевич и католическому духовенству, как и к гражданским чиновникам, обратился со строгою и сильною речью, которую закончил следующими словами: «Я буду милостив и справедлив к честным людям, но строг и беспощаден к тому, кто будет уличен в крамоле. Ни знатность происхождения, ни сан, ни связи, ничто не спасет крамольника от заслуженного наказания».
«Общее впечатление, произведенное генерал-губернатором при приеме, - говорит очевидец, - было самое сильное. Все видели пред собою человека твердого и проницательного; тут уже не приходилось шутить и надо было переходить или в тот или в другой лагерь».
С прибытием М. Н. Муравьева в г. Вильну началась кипучая деятельность: все стали работать, начиная от мелкого чиновника и кончая самим генерал-губернатором. Михаил Николаевич вставал в 6 часов утра; в 7 часов садился за работу и продолжал заниматься без перерыва до 5 часов вечера; в 5 ч. обедал; три часа отдыхал, а затем в 8 часов вечера снова садился за работу и не отрывался от нее до часу ночи.
Первые дни своего пребывания в Вильне М. Н. Муравьев посвятил заботам об улучшении состояния войск, находившихся в пределах Северо-Западного края. Прежде всего он улучшил их материальное положение, потом постарался поднять их упавший дух и затем правильно распределил их по губерниям и уездам для скорейшего уничтожения бродивших мятежных шаек. По словам очевидцев, войска с первых же дней приезда Михаила Николаевича Муравьева в Вильну привязались к нему в высшей степени, особенно гвардейцы, и готовы были идти на все.
После этого М. Н. Муравьев с целью скорейшего подавления восстания издал так называемую полицейскую инструкцию. Суть ее в следующем: военное положение вводилось по всему Северо-Западному краю; устраивались сельские караулы по деревням и селам для надзора за проезжающими и для ограждения жителей от нападения мятежников;
приказывалось в три дня обезоружить всех помещиков, шляхтичей, ксендзов и католических монахов;
предписывалось войскам разыскивать и истреблять мятежные шайки; на имения помещиков, духовных лиц и монастырей, содействующих прямо или косвенно мятежу, налагается секвестр и самые хозяева предаются военному суду.
Обнародовав свою военно-полицейскую инструкцию, Михаил Николаевич занялся рассмотрением виновности тех лиц, которые арестованы были еще при Назимове и подвергались суду. Немедленно приказал постановить приговоры и привести в исполнение.
Во второй месяц своего пребывания в Вильне Михаил Николаевич Муравьев занялся рассмотрением просьб тех служащих лиц польского происхождения, которые еще при Назимове изъявили желание выйти в отставку.
Дело вот в чем: в начале мая 1863 года большая часть мировых посредников и предводителей дворянства из поляков, а также масса чиновников-поляков, служивших в разных ведомствах, подали прошения об отставке.
В этих просьбах было употреблено много дерзких выражений против русского правительства. Цель подачи прошения была, конечно, одна: усилить смуту.
Назимов был испуган этим общим заговором чиновников, оставлявших службу, а потому оставил эти просьбы без разрешения. Но Михаил Николаевич Муравьев, рассмотрев эти просьбы и зная настоящую цель этой манифестации, ответил на нее по-своему; он немедленно отрешил от должностей всех подавших прошения, а тех из них, которые употребили дерзкие выражения в своих просьбах или были замечены в тайных заговорах против правительства, приказал арестовать и предать военному суду.
Меры, принятые против чиновников, произвели всеобщий страх. Чиновники-поляки десятками стали являться к Михаилу Николаевичу Муравьеву и просить прощения. Многие из прощенных чиновников сделались очень преданными правительству и энергично содействовали усмирению восстания.
В то же время Михаил Николаевич Муравьев сделал воззвание ко всем мятежникам, призывая их смириться и просить прощения. Мера эта имела выдающийся успех: мятежники тысячами стали являться из лесов. Им все было прощено. С них брали только так называемую очистительную присягу и затем водворяли на прежних местах.
Благодаря такого рода энергичной деятельности М. Н. Муравьева, а также быстрому уничтожению шаек и поимки важных преступников, мятеж стал быстро утихать, а к ноябрю и совсем утих.
Между тем о действиях Михаила Николаевича Муравьева и его необыкновенной энергии сделалось известным всей России. Имя его, как великого человека, стало повторяться миллионами уст русского народа, и портреты его появились в сотнях тысяч домов и преимущественно простого народа. Посылались со всех концов России благодарственные адреса с приложением ценных подарков. Первый благодарственный адрес был прислан из Москвы, от знаменитого русского иерарха, митрополита Филарета, с приложением дорогой иконы Архистратига Михаила. Глубоко тронули Михаила Николаевича эти адресы, особенно первый. Относительно этого адреса он сам говорит в оставленных им записках: «Адрес митрополита Филарета был для меня небесным даром; он поддержал нравственные силы мои и укрепил в борьбе с крамолою».
В то же время о деятельности М. Н. Муравьева сделалось известным и за границею. Но там его деятельность представлена была в страшно искаженном виде: там он, благодаря польским выселенцам и польским газетам, очерчен был мрачными красками и изображен каким-то чудовищем, человеком с демоническою натурою, которая только и жаждет крови. По этому поводу из-за границы приехало много иностранных агентов, чтобы воочию убедиться в справедливости тех рассказов, которые распространены по Западной Европе о Михаиле Николаевиче Муравьеве. В числе прибывших, между прочим, особенно замечательны были два лица: корреспондент английского журнала «Daily News» Дей и член английского парламента О’Брейн. Последний приехал с своим секретарем. Г-ну О’Брейну дано было от английского парламента официальное поручение подробно исследовать, что делается в Северо-Западном крае России.
Иностранные агенты жили по несколько месяцев в Северо-Западном крае. Все видели и все изучали и по возвращении на родину поместили целый ряд статей, в которых восторженно отзывались о Михаиле Николаевиче Муравьеве и деятельность его представили одною из мудрых во внутренней политике государства.
Между тем приближался конец 1863 года. Край был совершенно усмирен, и по нем мог ездить всякий, не подвергаясь нападению, о чем Михаил Николаевич донес Государю, и при этом просил уволить его от должности по расстроенному здоровью.
На свое донесение Михаил Николаевич Муравьев удостоился получить Высочайший рескрипт, в котором Государь благодарил его за усмирение мятежа и просил его остаться еще на несколько времени генерал-губернатором Северо-Западного края. Исполняя волю Государя Императора, Михаил Николаевич согласился. С этого времени он занялся внутренним устройством Северо-Западного края в смысле упрочения в нем православно-русских начал.
Приступая к внутреннему переустройству Северо-Западного края, Михаил Николаевич Муравьев прежде всего обратил внимание на присутственные места, именно: на служащих. Так как в это время в присутственных местах много было свободных вакансий, то он вызвал из внутренней России множество опытных чиновников и вручил им разные должности.
Затем Михаил Николаевич Муравьев занялся обеспечением крестьян.
В начале 1863 года низший земледельческий класс в крае состоял, главным образом, из бывших помещичьих крестьян, освобожденных от крепостной зависимости манифестом 19 февраля 1861 года, и государственных крестьян.
Первые представляли собою бедную, темную, забитую и угнетенную народную массу, в большинстве случаев обездоленную польскими помещиками в отношении земельных наделов. Дело устройства помещичьих крестьян было поручено здесь, как и везде, мировым посредникам, которые избирались местным дворянством из своей среды.
Мировые посредники губерний Западного края, помимо того, что преследовали - главным образом - интересы помещиков, действовали еще как агенты подготовлявшегося мятежа (1863 г.), возбуждая крестьян против русского правительства. Впоследствии, напр., оказалось, что крестьянам отводились совсем не те земли, которыми они пользовались раньше, и в значительно меньшем количестве; было немало и таких случаев, что крестьян совсем лишали земли, назначали им непосильную барщину, а во многих местах, пользуясь темнотой народной массы, помещики сохранили крепостное право в течение двух лет и после 19 февраля 1861 года.
Все эти действия помещиков объяснялись крестьянам, как действия по распоряжению русского правительства. Когда же самоволие помещиков доходило до крайних пределов, и крестьяне, несмотря на свою забитость, поднимали голос, помещики, поддерживаемые мировыми посредниками, доносили кому следует, что крестьяне бунтуют, требуя немедленно для усмирения бунта войско, которое, конечно, высылалось и делало свое дело...
Мировые посредники и помещики до того запутали крестьянский вопрос, что виленский генерал-губернатор Назимов, при первом появлении в Гродненской губернии вооруженных мятежников, вошел к Государю с особой запиской, в которой указывал на необходимость немедленно прекратить обязательные отношения крестьян к помещикам чрез замену этих отношений определенным денежным оброком. На это ходатайство последовал Высочайший указ (1 марта 1863 г.), которым прекращались обязательные отношения между помещиками и поселенными на их землях временнообязанными крестьянами посредством выкупа сими последними земель их надела, с содействием правительства, по губерниям: Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской, а также в Динабургском (ныне Двинском), Дриссенском, Люцинском и Режицком уездах Витебской губернии.
Но положение дел неожиданно осложнилось в сильной степени тем обстоятельством, что большинство мировых посредников и уездных предводителей дворянства, подготовив дело восстания, просили генерал-губернатора уволить их от службы. В своих прошениях они говорили, что не могут больше служить русскому правительству, которое само возмущает крестьян против помещиков, что в результате нужно ожидать всеобщей резни и т.д.
Неизвестно, какой оборот это дело приняло бы, если бы не был назначен в Вильну генерал-губернатором Северо-Западного края М. Н. Муравьев, который, явившись к месту назначения, сумел быстро разобраться в запутанных делах вверенного ему края, и, в силу данной ему власти, повел дело умело и энергично. Он сразу увидел, что польский мятеж есть затея польских панов: если в польских мятежнических бандах попадались крестьяне, то они большею частью были принуждены к тому силою или склонены обещанием больших материальных выгод; но в общем народная масса относилась к мятежу безучастно, была предана русскому правительству, радовалась поражению русскими войсками мятежников и, по мере возможности, содействовала уничтожению мятежников. Он увидел также, что главная сила в крае заключается именно в этой народной массе, которая была забита, угнетена и крайне обижена помещиками на счет земельных наделов. Необходимо было поэтому пойти на помощь крестьянам и прежде всего устроить их на счет земли.
И Михаил Николаевич Муравьев взялся за это дело. Он распорядился всех мировых посредников и уездных предводителей дворянства, подавших прошения об увольнении, немедленно отрешить от должности; должности же мировых посредников он распорядился даже совсем на время закрыть. Спустя три месяца после своего назначения в Вильну М. Н. Муравьев учредил особые поверочные комиссии из чиновников русского происхождения, которым дано было право переделывать незаконно составленные уставные грамоты, возвращать несправедливо отнятые от крестьян земли, наделять безземельных крестьян, делать переоценку оброков согласно с действительною стоимостью участков и проч.
Такие действия М. Н. Муравьева по крестьянскому вопросу, в связи с другими его действиями и распоряжениями в крае, произвели сильный страх среди польских помещиков и вызвали открытые нападки на образ его действий по крестьянским делам, ввиду чего он счел нужным лично представить Государю записку, в которой разъяснялись некоторые вопросы, касавшиеся устройства вверенного ему края. Со взглядом М. Н. Муравьева по крестьянскому вопросу нельзя было по существу не согласиться, и Государь одобрил план его деятельности, так что и дальнейшие действия в области этого вопроса шли по пути, указанному графом Муравьевым.
Положение государственных крестьян ко времени прибытия графа М. Н. Муравьева в Вильну было несколько лучше по сравнению с бывшими помещичьими, хотя в общем положение это нужно признать неудовлетворительным: государственные крестьяне, разбросанные небольшими поселками среди помещичьих владений, мало чем отличались от бывших помещичьих крестьян по степени развития своего самосознания, и даже подчинялись польскому влиянию, так как управляющими их были обыкновенно поляки, равно как и ближайшие к ним административные лица были тоже польского происхождения.
Все государственные крестьяне с учреждением в России в 1837 году Министерства государственных имуществ были представлены в заведование этого Министерства, которое первым делом позаботилось дать начало самостоятельному развитию крестьянского хозяйства на казенных землях; с этою целью Министерство предприняло люстрацию казенных земель и перевод крестьян на оброчное положение, в ущерб даже казенным интересам.
Меры эти проводились Министерством настолько энергично, что к 1847 году все государственные крестьяне были переведены на оброк.
Со вступлением на престол Императора Александра II, после Севастопольской кампании, когда государственная казна была сильно истощена, Министерство государственных имуществ должно было изыскивать средства для увеличения государственных доходов, и с этою целью между прочим решило увеличить оброк государственных крестьян. Для этого в западных губерниях России оказалось нужным произвести поверочную люстрацию, которая была закончена только через пять лет (1863 г.) и поставила крестьян по сравнению с прежним временем в весьма невыгодные условия.
Дело в том, что самые люстрационные работы производились большею частью чиновниками из поляков, которые, подготовляя мятеж 1863 года, действовали пристрастно по отношению к крестьянам с целью подорвать в них уважение и преданность к России. Многие из этих чиновников, оказавшихся, по исследованию графа М. Н. Муравьева, деятельными участниками мятежа, были удалены от должностей, а многие и совсем удалены из края. Для исправления же их работ были составлены новые люстрационные комиссии из лиц русского происхождения, которые должны были исправить крестьянские наделы.
Рядом с устройством в западных губерниях помещичьих и государственных крестьян М. Н. Муравьев для усиления в крае русского землевладельческого класса положил начало водворению здесь русских поселенцев.
В записке, поданной Государю 14 мая 1864 года, он говорит, что в интересах усмирения мятежа и умиротворения края необходимо заселять его русскими, в том числе и старообрядцами, а также отводить землю отставным солдатам, которых помещики изгоняют из селений. Для русских поселенцев предполагалось отводить как казенные, так и особенно конфискованные и секвестрованные имения, а также земли, оставшиеся после выселения в центральные губернии России неблагонадежных в политическом отношении лиц с их семействами из непривилегированного сословия.
После Высочайшего одобрения и утверждения этой записки Михаил Николаевич Муравьев исходатайствовал для русских поселенцев некоторые льготы по отношению разных повинностей.
Так, русские поселенцы в Северо-Западном крае в течение трех лет освобождались от платежа оброка за земли и от всех других повинностей, даже от рекрутской. Русским переселенцам отводились преимущественно земли, оставшиеся после выселения неблагонадежных семейств, а из казенных и других свободных земель (конфискованные и секвестрованные) отводились только пограничные с Царством Польским да в лесах, где были гнезда мятежников.
Непродолжительность службы М. Н. Муравьева в Северо-Западном крае была причиною того, что вопрос о поселенцах не мог осуществиться в тех широких размерах, в каких он предполагал.
Далее, М. Н. Муравьев обратил внимание на состояние Православия в Северо-Западном крае.
Прежде всего он улучшил материальное состояние лиц православного духовенства, как главных проводников русских начал среди польско-католического населения. Для этой цели он исходатайствовал у правительства на содержание духовенства ежегодной прибавки четыреста тысяч рублей. Кроме того наделил их достаточным количеством земли и приказал построить для духовных лиц казенные помещения.
Затем для поднятия Православия М. Н. Муравьев исходатайствовал у правительства огромную сумму денег на приведение в более благолепный вид православных храмов в Северо-Западном крае, которые, как известно, до 1863 года находились в самом печальном положении, тогда как костелы блистали своею внешностью.
Приступая к обновлению православных храмов в Северо-Западном крае, Михаил Николаевич начал с города Вильны. В этом городе он поправил и обновил четыре храма, именно:
Пречистенский собор. Это, как известно, один из древнейших православных храмов в г. Вильне. Храм этот построен Ольгердом (в православии Алексеем) в 1346 году, где он и сам похоронен. В 1609 году храм этот был отнят у православных и отдан униатам. В 1800 году в нем прекращено было богослужение и самый храм обращен был в хлебный магазин, а потом - по ходатайству польского магната Адама Чарторыйского - в анатомический театр, и наконец - в еврейскую кузницу. В настоящее время этот храм, благодаря М. Н. Муравьеву, представляет один из величественных храмов в Северо-Западном крае.
Пятницкую церковь. Эта церковь основана первою супругою Ольгерда Мариею Васильевною в 1345 году. Она тоже была отнята у православных и находилась в развалинах.
Николаевскую церковь. Это самая древнейшая из православных церквей в Вильне: она уже была при Гедимине, т.е. в 1316 году.
Кафедральный Николаевский собор.
В других городах Северо-Западного края, а также в селах и деревнях Михаил Николаевич Муравьев много воздвигнул новых храмов и массу старых ремонтировал. К сему времени, между прочим, относится восстановление при церквах древних православных братств и попечительств.
После этого Михаил Николаевич Муравьев обратил внимание на народное образование, на школы. Зная хорошо, что школа после религии имеет громадное значение в деле упрочения православно-русских начал в Северо-Западном крае, М. Н. Муравьев совершенно преобразовал ее: из польской сделал русскую. Прежде всего вырвал учебные заведения из рук католического духовенства. Затем уволил (с пенсиями, впрочем) от службы в учебных заведениях всех преподавателей польской национальности и сделал распоряжение, чтобы во всех заведениях шло преподавание исключительно на русском языке, не исключая и Закона Божия, а также чтобы и вся переписка шла на русском языке. Особенно же душевное внимание он обращал на образование и воспитание крестьян; при его щедрой денежной поддержке и указаниях учебным начальством открыт целый ряд народных училищ даже в самых глухих углах Северо-Западного края. Таким образом положено было крепкое начало народного развития в духе православной веры и любви к Царю и Отечеству.
Вслед за этим М. Н. Муравьев обратил внимание на книги и брошюры и другие предметы, распространенные среди народа. Оказалось, что большинство их имело целью пропаганду в чисто польско-латинском духе. Поэтому Михаил Николаевич Муравьев распорядился выписать для распространения в народе Северо-Западного края десятки тысяч православных молитвенников для православных и учебников для школ, написанных в русском духе, картин духовного содержания, портретов Государя Императора и Государыни Императрицы и т.п.
Независимо от этого Михаил Николаевич Муравьев обратил внимание на самую внешность городов Северо-Западного края; так, между прочим, он приказал во всех городах Северо-Западного края уничтожить все вывески на польском языке, заменив их русскими надписями; запретил говорить по-польски в присутственных и общественных местах и в то же время распорядился, чтобы в магазинах счета велись на русском языке.
Все эти распоряжения, несмотря на свою, по-видимому, маловажность, имели громадное значение: они, по справедливому замечанию одного писателя, укрепили в сознании народа, в массе населения, православнорусские начала, силу русской власти и преобладание русских начал.
И действительно, благодаря вышеозначенным распоряжениям Михаила Николаевича Муравьева, Северо-Западный край менее чем в два года из польско-латинского сделался православно-русским.
Но непомерные труды и заботы сильно расстроили здоровье Михаила Николаевича Муравьева: он все чаще и чаще стал подвергаться болезненным припадкам (он страдал астмою), а потому снова решился просить об отставке. Государь согласился (это было в конце марта 1865 года), но просил указать достойного себе преемника. Михаил Николаевич Муравьев указал на К. П. Кауфмана, который и заступил его место.
После оставления должности генерал-губернатора Северо-Западного края Михаил Николаевич Муравьев не долго жил: в ночь на 29-ое августа 1866 г. он скончался.
О последних днях жизни Михаила Николаевича Муравьева передают следующее. 26-го августа 1866 года М. Н. Муравьев выехал из Петербурга в свою деревню Сырец для освящения храма, построенного им на собственные средства в память воинов, павших при усмирении польского восстания 1863 года. 28-го было торжественное освящение церкви; М. Н. Муравьев был в церкви, горячо молился и благодарил Бога за благополучное окончание возложенного на него Высочайшею властью дела в Северо-Западном крае. После обеда сам вместе с семейством посадил вокруг вновь освященного храма несколько деревьев в воспоминание освящения его. В 5 часов принимал служебные доклады, положил резолюции и распорядился, чтобы на другой день, т.е. 29 августа, ехать в Петербург. Проводя вечер в семействе до 12 часов ночи, М. Н. Муравьев чувствовал себя совершенно здоровым и лег спать; но ему уже не суждено было встать: он отошел в вечность.
Здесь представлена сотая доля того, что совершил Михаил Николаевич Муравьев в течение своей жизни на пользу Государства. Но уже из этого краткого очерка жизни и деятельности графа М. Н. Муравьева видно, что ему пришлось жить в тяжелое для нашего Северо-Западного края время.
Прежде всего немалым бедствием для края было нашествие Наполеона, внесшего в него беспорядок, смуту, разорение. Затем край волнует тайная латино-польская крамола и два открытые восстания, сопровождавшиеся дымом пожаров, потоками крови, жестокостью не щадившею даже братьев. Бедствия эти ближайшим образом обрушивались на простой народ: горели его села, деревни, истреблялись посевы, потоптанные мятежниками и правительственными войсками, гибло народное хозяйство, гибли молодые рабочие силы, увлекаемые в мятеж силою, обманом и угрозами.
Не лучше для народа было и в короткое мирное время под духовным гнетом ксендза, пугавшего страхом ада, и под крепостным игом пана, считавшего своего хлопа вещью, «быдлом».
Даже и после того, как его озарил луч свободы, он, освобожденный, не переставал быть рабом своего пана, не желавшего примириться с новым положением вещей. Весь этот злой вихрь бедствий и насилий, окутывавший в то время жизнь западнорусского крестьянина, вносил с собою непроглядную тьму невежества: без русской грамоты (за небольшим исключением), без опытных русских руководителей народ не имел ясного представления о своем племенном происхождении, и только что выведенный из унии, он не знал, как и где молиться, у кого искать защиты. Видя вокруг себя чиновников поляков, слыша всюду польскую речь, он в простоте души думал, что продолжается та же Польша, три века владычества которой оставили самый мрачный след в его памяти.
Но явился в этот многострадальный русский край Михаил Николаевич Муравьев, и стих вихрь, наступила тишина, началась новая жизнь для сельского населения. Михаил Николаевич любил народ и знал его, проведя в деревне первые, самые впечатлительные годы детства. Как мы видели, он не раз проявлял свою любовь, будучи смоленским помещиком, могилевским, гродненским губернатором и, наконец, начальником всего края. Грозный к мятежникам из панов и шляхты, он был снисходителен к увлеченным ими крестьянам: им посылались увещания, призывавшие к мирным занятиям; все, приносившие повинную, получали полное прощение, а помогавшие в открытии мятежных шаек - щедро награждались. Вместе с тем, восстанавливая в крае попранные русские начала, он устраивал быт крестьян согласно с новыми русскими законоположениями, освобождавшими народ от барщины и открывавшими права гражданства. Эти положения имели самое благотворное влияние на прежнего забитого «хлопа», сообщая ему сознание человеческого достоинства и чувство самостоятельной свободной жизни, как залог дальнейшего развития. Благодаря заботам начальника края, заблестели в нем восьмиконечные кресты на новых православных храмах, а русские чиновники, русская школа и книга разъяснили народу его русское происхождение и послужили ручательством, что здешний край будет таким же русским, каким он был до польского владычества.
Признательный за все эти благодеяния, западнорусский простой народ еще в бытность М. Н. Муравьева в Вильне начал по деревням и селам устраивать часовни и храмы в честь Архистратига Михаила, имя которого носил облагодетельствовавший их начальник края, а когда началась подписка на памятник ему, то в общую сумму постоянно текли крестьянские трудовые копейки, слагавшиеся в тысячи рублей.
Теперь памятник готов, и спадшее с него ныне покрывало делает его доступным для созерцания и поучения нам и последующим поколениям.
Простой русский человек, кто бы ты ни был, белорус или литвин, православный или католик! Тебе Господь Бог дал ум, способный ценить и понимать, что для тебя делается, вложил в тебя сердце, способное чувствовать благодеяния. И ты должен понимать, что во всем твоем печальном прошлом для тебя нет благодетелей выше русских венценосных Государей и поставленных ими высших начальников. Между ними первое место в твоей памяти должен занимать граф Михаил Николаевич Муравьев, со времени управления которого началась твоя новая жизнь. Поспеши же теперь к воздвигнутому ему памятнику! Смотря на него, ты припомнишь, что слыхал о графе М. Н. Муравьеве от старых людей и что вычитал из книжек, припомнишь и многому научишься. Он всю жизнь был верным слугою Царю и Отечеству, не щадя для них трудов, сил и здоровья. Выше всего для него была любовь к родине, закон, порядок, верность долгу и принятой присяге. О том же напоминает его памятник и западнорусскому народу, призывая всех русских подданных к верности Престолу, к свободному труду, основою которого служит разумная и трезвая жизнь...
Вспомнив все это, обратись сердцем к Богу и скажи: «Вечная память русским почившим Государям и незабвенному графу Михаилу Николаевичу Муравьеву!»
Теперь же, когда правительственною властью все образованные люди нашего края призываются содействовать народному благосостоянию путем развития просвещения и трезвости, когда явились чайные, читальни, ты, простой человек, особенно должен помнить сердечные заботы о тебе правительства, и, полный благодарного и радостного чувства, из глубины души воскликнуть:
Боже, Царя храни! Сильный, Державный, Царствуй на славу, на славу нам!А. Турцевич КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАФА М. Н. МУРАВЬЕВА.
Глава I
Время рождения графа М. Н. Муравьева. — Родители и братья его. — Первоначальное воспитание. — Поступление в университет и основание Общества математиков
Граф Михаил Николаевич Муравьев родился 1 октября 1796 г. в Петербурге. Родители его были люди, выдающиеся своими душевными качествами. Отец, Николай Николаевич Муравьев, благородная отрасль старинного дворянского рода Муравьевых, получил прекрасное по своему времени образование. Отчим его, князь Урусов, замечая в пасынке большие способности и прилежание, отправил его учиться во Францию, в знаменитый тогда Страсбургский университет. Здесь молодой Муравьев с особенным старанием занимался математикой и военными науками и приобрел в них основательные познания. Возвратившись в начале 1788 в Петербург, он блестяще выдержал экзамен, произведен был в мичманы и назначен на корабль «Саратов» под команду капитана Ханыкова, но через два года уже сам получил в командование галеру «Орел» и принял участие в морском сражении со шведами при Роченсальме. Здесь молодой Муравьев обнаружил пылкую отвагу и решительность. Пред самым началом боя уже в виду неприятеля он подъехал к адмиральскому кораблю и спросил, где его место. Контр-адмирал Литта отвечал: «Человек с честью найдет свое место». Тогда Муравьев пустился под всеми парусами в неприятельскую линию, стал между шведскими кораблями и открыл по ним огонь с обоих бортов. Весьма понятно, что не долго мог он противостоять превосходным силам неприятеля: галера его была разбита и стала тонуть. Он направил ее на мель и, спасши своих людей на лодках, сам бросился вплавь, но скоро был взят в плен, так как не мог плыть вследствие раны, нанесенной ему осколком гранаты.
По возвращении из плена Муравьев в 1791 г. женился и еще в течение пяти лет продолжал служить во флоте, но в 1796 г., когда вступил на престол Император Павел I, он был переведен подполковником в гусарский Дунина полк, стоявший в южной России. Прослужив в гусарах только один год, он вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Сырец Лужского уезда, где был выбран уездным предводителем дворянства.
В 1801 г. князь Урусов, удрученный летами, пригласил Н. Н. Муравьева переехать со всем семейством в Москву. Не имея хороших средств для воспитания детей, Николай Николаевич принял это предложение. Он переехал в Москву и с этого времени более 10 лет жил при своем отчиме, заведывая всеми его делами. Но вот наступил знаменательный двенадцатый год. Муравьев тотчас оставляет все свои частные дела и вновь поступает на службу начальником штаба ополчений 3 округа. Престарелый князь Урусов, раздраженный тем, что не мог удержать его при себе, угрожает ему лишением наследства, которое назначил ему по завещанию, но Николай Николаевич готов был пожертвовать всем. Так велика была его любовь к Отечеству.
В 1813 году Н. Н. Муравьев в звании начальника штаба корпуса, бывшего под командою графа Толстого, участвовал в многочисленных сражениях. Отличаясь превосходным знанием военного дела и распорядительностью, он за службу свою в этой кампании получил золотую саблю за храбрость и чин генерал-майора. В начале 1823 года расстройство здоровья заставило Н. Н. Муравьева выйти в отставку. Оставив службу, он со свойственными ему увлечением и страстью занялся сельским хозяйством, сначала в деревне, а потом в Москве, где у него была образцовая ферма у городской заставы на Бутырках. Кроме того Н. Н. Муравьев много содействовал распространению математических знаний в России и основал «Московское учебное заведение для колонновожатых», которое подготовляло молодых людей для службы в Генеральном штабе. Вообще Н. Н. Муравьев был человек всесторонне образованный и пользовался всеобщим уважением. «Почетные жители Москвы и посетители столицы, — говорит Кропотов, — искали его ученой беседы и утешались обществом почетного старца, который до конца сохранил всю умственную бодрость и теплоту сердца, всю веселость и живость характера. Он не переставал трудиться, учить других и учиться сам».( А. Кропотов. Жизнь графа Муравьева. Стр. 21.)
Н. Н. Муравьев умер в 1840 г. в Москве на 72 году от роду.
Мать Михаила Николаевича, Александра Михайловна, дочь инженер-генерала Мордвинова, была женщина в высшей степени развитая, религиозная и чадолюбивая.
У Михаила Николаевича была одна сестра София, умершая до замужества, и четыре брата: Александр, Николай, Андрей и Сергей. Из них наиболее известны Андрей и Николай. Андрей был весьма известным писателем в области духовной литературы. Николай Николаевич, начав свою службу участием в Отечественной войне 1812 г., служил на Кавказе, участвовал в усмирении польского восстания 1830-31 г., ездил послом в Хиву, Египет, Константинополь, командовал пятым корпусом и, наконец, в 1854 году занимал высокий пост Кавказского наместника и главнокомандующего действующей армией Малой Азии ( во время Крымской войны). Принадлежа к числу просвещеннейших людей своего времени, Николай Николаевич отличался необыкновенной честностью, непреклонной твердостью характера и замечательными военными способностями. Он особенно прославился своими победами над турками, и за взятие сильной турецкой крепости Карса известен под именем Карского, хотя на это прозвание и не получил официального права. Николай Николаевич имел обыкновение записывать все замечательные случаи из своей жизни и оставил нам весьма интересный дневник, который сообщает много любопытных подробностей и о жизни брата М. Н. Муравьева.
Сам Михаил Николаевич был третьим сыном Николая Николаевича Муравьева. Воспитанием его сначала занималась сама мать Александра Михайловна, имевшая самое благотворное влияние на своих детей. «Если мы вышли порядочными людьми, а не сорванцами, - говорил впоследствии Михаил Николаевич, - то всем этим обязаны покойной матушке». Затем, по обычаю того времени, приглашены были в дом Муравьевых гувернеры - иностранцы, из числа которых в особенности надо упомянуть о Гатто, уроженце Лотарингии. Это был человек честный, добросердечный и, что важнее всего, он умел поселить в отроческой душе своих питомцев жажду знаний и любовь к труду. Он оставил по себе в семействе Муравьевых самую хорошую память. Истории, алгебре, геодезии и военным наукам обучал Михаила Николаевича его отец. Сначала Михаил Николаевич несколько отставал от своих братьев в учении, но благодаря своим способностям и настойчивости, не отступавшей ни перед какими трудами, он скоро сравнялся с ними, и старший его брат Николай Николаевич часто говаривал: «Из всех нас брат Михаил вышел самый способный».
В 1810 г. Михаил Николаевич поступил в университет на физикоматематическое отделение. Здесь он необыкновенно быстро выдвинулся из среды товарищей своими способностями и, несмотря на свой юный возраст (ему было 14 лет), успел основать «Московское общество математиков», к которому сначала примкнули его товарищи студенты, а потом и некоторые профессора. Целью этого общества было распространение в России математических знаний посредством бесплатных публичных лекций по математике и военным наукам. Президентом общества был избран Н. Н. Муравьев, а вице-президентом, или директором, сын его, студент Михаил Николаевич. Такое влиятельное положение в ученом обществе совсем еще юного Михаила Николаевича несомненно свидетельствует как о чрезвычайно раннем развитии его душевных способностей, так и о неутомимой настойчивости в достижении раз избранной им цели.
Глава II
Поступление графа Муравьева в свиту Его Величества по квартирмейстерской части. — пребывание его в Вильне. — Служба его при штабе 5-го гвардейского корпуса. — Участие графа Муравьева в Бородинском сражении. — Возвращение его в армию и служба в Генеральном штабе. — Женитьба графа Муравьева и выход в отставку
В конце 1811 года Россия деятельно стала готовиться к войне с Наполеоном I. В это время М. Н. Муравьев, подобно другим молодым дворянам, вышел из университета и отправился в Петербург для поступления в военную службу, где в декабре того же года и записался в колонновожатые. Так как для производства в офицеры обычай требовал от всех колонновожатых удостоверения в приобретении ими основательных познаний в математике, то Михаил Николаевич подвергся экзамену у академика Гурьева и выдержал его блистательно. «Чинил испытание —, говорит в своем отзыве строгий и скупой на похвалы академик, - поступившему ныне в корпус колонновожатых дворянину Михаилу Муравьеву в чистой и прикладной математике, и по испытании оказалось, что он имеет весьма хорошие способности и особенную склонность к сим наукам. Судя по летам его, совсем ожидать было не можно, чтобы познания его в оных так далеко простирались, и паче всего то достопримечательно, что ему, юноше еще, известны лучшие по сим предметам писатели, которых сочинения он удобно понимает и разбирает. Посему без сомнения надеяться можно, что со временем, когда достигнет до совершеннолетия, он ознаменует себя отличными успехами».
По поступлении на службу Михаил Николаевич назначен был дежурным смотрителем над колонновожатыми и преподавателем математики, а затем экзаменатором при главном штабе. Но учебные занятия Михаила Николаевича вскоре должны были прекратиться. В начале марта 1812 года военный министр Барклай-де-Толли выехал в Вильну для принятия начальства над Первой западной армией, а 30 марта того же года отправился туда и молодой Муравьев, прикомандированный к штабу армии вместе с своими старшими братьями Александром и Николаем.
По прибытии в Вильну братья Муравьевы поселились в доме Стаховского на Рудницкой улице; к сожалению, место это теперь неизвестно33.
Средства у них в это время были весьма ограниченные, и они перебивались, по словам Н. Н. Муравьева, пополам с нуждой. «Скоро начались увеселения в Вильне, балы, театры; но мы не могли в них участвовать по нашему малому достатку, а когда купили себе лошадей, то перестали даже в одно время чай пить».
В мае месяце, М. Н. Муравьев вместе с братом своим Николаем командированы были в 5-й гвардейский корпус, который стоял тогда в городке Видзах. Со времени выступления этого корпуса вовнутрь России началась чрезвычайно тяжелая служба обоих Муравьевых, исполненная всевозможных лишений. «С выездом нашего из Видз, — говорит в своих записках Н. Н. Муравьев, — мы почти все время были на коне и очень мало спали: питались кое-чем и ни одного разу не раздевались... Денег мы не имели, и потому положение наше было незавидное; но мы друг другу не жаловались, не воображая себе, чтобы в походе могло быть лучше. Лошадей своих мы часто сами убирали и ложились подле них в сараях, на открытом же воздухе, около коновязи» ( Записки Н. Н. Муравьева // Русск. арх. Кн. 3. Стр. 79.)
По мере дальнейшего движения нашей армии в глубь России труды и лишения братьев Муравьевых все более и более увеличивались, и часто они едва держались на ногах. Наконец, в Бородинском сражении Михаил Николаевич был тяжело ранен и едва не лишился жизни. Вот как рассказывает об этом брат его Николай: «Во время Бородинского сражения Михайла находился при начальнике главного штаба Бенигсене, на Раевского батарее, в самом сильном огне. Неприятельское ядро ударило лошадь его в грудь и, пронзив ее насквозь, задело брата по левой ляжке, так что сорвало все мясо с повреждением мышц и оголило кость; судя по обширности раны, ядро, казалось, было 12-ти фунтовое. Брату был тогда 16-ый год от роду. Михайлу отнесли сажени на две в сторону, где он неизвестно сколько времени пролежал в беспамятстве. Он не помнил, как его ядром ударило, но, пришедши в память, увидел себя лежащим среди убитых. Не подозревая себя раненым, он сначала не мог сообразить, что случилось с ним и с его лошадью, лежавшею в нескольких шагах от него. Михайла хотел встать, но едва он приподнялся, как упал и, почувствовав тогда сильную боль, увидел свою рану, кровь и разлетевшуюся вдребезги шпагу свою. Хотя он очень был слаб, но имел еще довольно силы, чтобы приподняться и просить стоявшего подле него Бенигсена, чтобы его вынесли с поля сражения. Бенигсен приказал вынести раненого, что было исполнено четырьмя рядовыми, положившими его на свои шинели; когда же они вынесли его из огня, то положили на землю. Брат дал им червонец и просил их не оставлять его; но трое из них ушли, оставя ружья, а четвертый, отыскав подводу без лошади, взвалил его на телегу, сам взявшись за оглобли, вывез его на большую дорогу и ушел, оставя ружье свое на телеге. Михайла просил мимо ехавшего лекаря, чтобы он его перевязал, но лекарь сначала не обращал на него внимания; когда же брат сказал, что он адъютант Бенигсена, то лекарь взял тряпку и завязал ему ногу просто узлом. Такое положение на большой дороге было очень неприятно. Мимо брата провезли другую телегу с ранеными солдатами; кто-то из сострадания привязал оглобли братниной телеги к первой, и она потащилась потихоньку в Можайск. Брат был так слаб, что его провезли мимо людей наших, и он не имел силы сказать слова, чтобы остановили телегу. Таким образом привезли его в Можайск, где сняли с телеги, положили на улице и бросили одного среди умирающих. Сколько раз ожидал он быть раздавленным артиллерией или повозками. Ввечеру московский ратник перенес его в избу и, подложив ему пук соломы в изголовье, также ушел. Тут уверился Михайла, что смерть его неизбежна. В избу его заглядывали многие, но, видя раненого, уходили и запирали дверь, дабы не слышать просьбу о помощи. Участь многих раненых! Нечаянным образом зашел в эту избу л.-г. казачьего полка урядник Андрианов, который служил при штабе Великого князя. Он узнал брата и принес несколько яиц всмятку, которые Михайла съел. Андрианов, уходя, написал мелом, по просьбе брата, на воротах: Муравьев 5-й. Ночь была холодная; платье же на нем изодрано от ядра. 27 поутру войска наши уже отступали через Можайск, и надежды на спасение, казалось, никакой более не оставалось, как неожиданный случай вывел брата из сего положения. Когда до Бородинского сражения брат Александр состоял в арьергарде при Коновницыне, товарищем с ним находился по квартирмейстерской части подпоручик Юнг, который перед сражением заболел и поехал в Можайск. Увидя надпись на воротах, он вошел в избу и нашел Михайлу, которого он прежде не знал; не менее того долг сослуживца вызвал его на помощь. Юнг отыскал подводу с проводником и, положив брата на телегу, отправил его в Москву. К счастью случилось, что проводник был из деревни Лукино князя Урусова. Крестьянин приложил все старание свое, чтобы облегчить положение знакомого ему барина и довез его до 30-й версты, не доезжая Москвы. Михайла просил везде подписывать его имя на избах, в которых он останавливался, дабы мы могли его найти. Александр его и нашел по этой надписи. Он тотчас поехал в Москву, достал там коляску, которую привез к Михайле и, уложив его, продолжал путь. Приехав в Москву, он послал известить Пусторослаева, который разыскал известного оператора Лемера; но когда сняли с него повязку, то увидели, что антонов огонь уже показался. Лемер тотчас вырезал рану... [...] ...затем больного уложили в коляску и отправили в Нижний Новгород, где находился его отец.
Спустя несколько лет после сего, - рассказывает далее Николай Николаевич Муравьев, - Михайла приезжал в отпуск к отцу в деревню и отыскивал лукинского крестьянина, чтобы его наградить; но его не было в деревне: он с того времени не возвращался, и никакого слуха о нем не было; вероятно, что он погиб во время войны в числе многих ратников, не возвратившихся в дом свой»34.
В Нижнем Новгороде Михаил Николаевич, благодаря попечениям
0 нем отца его Николая Николаевича и доктора Мудрова, стал быстро оправляться. В это время юный герой был обрадован известием о пожаловании ему за раны, полученные при Бородине, ордена Св. Владимира четвертой степени. Но недолго Михаил Николаевич находился под родительским кровом. В начале следующего года, как только рана закрылась, он отправился к войскам, находившимся тогда за границей, но по состоянию здоровья не мог долго участвовать в войне. В 1814 году он возвратился в Петербург и был назначен поручиком в гвардейский Генеральный штаб. Служба в штабе оставляла тогда офицерам очень много досуга, особенно зимой, поэтому Михаил Николаевич, не любивший вообще развлечений, большую часть времени проводил в чтении и за любимыми своими математическими выкладками. Между прочим, он составил тогда руководство под заглавием: «Измерение высот посредством барометрических наблюдений».
В 1818 году 26 августа М. Н. Муравьев вступил в брак со старшей дочерью отставного капитан-поручика гвардии Василия Петровича Шереметьева, семнадцатилетней девицей Пелагеею Васильевною. Сделавшись семьянином, он решился оставить военную службу, к чему главным образом побуждала его постоянно открывавшаяся рана на ноге, и заняться сельским хозяйством в имении своей жены. Князь Волконский возвратил, однако, Муравьеву прошение об отставке, ссылаясь на необходимость удержать его на службе, как весьма полезного офицера, и дал ему бессрочный отпуск для поправления расстроенного здоровья. Польщенный таким лестным вниманием своего начальника, Михаил Николаевич пробыл в деревне только одно лето и опять возвратился к своим служебным занятиям. В 1820 году он произведен был в капитаны, а через месяц переведен подполковником в свиту Его Величества по квартирмейстерской части. Но в конце того же года Михаил Николаевич опять подал прошение об увольнении его от службы. Это прошение сопровождалось еще письмом отца Муравьева к князю Волконскому, в котором он просил не удерживать его сына на службе. Волконский должен был уступить таким настоятельным просьбам Муравьевых, хотя с большим сожалением. «Имея много опытов, - писал он Николаю Николаевичу, - сколько отличного усердия к службе сына вашего, подполковника Муравьева, столько и редких его способностей, я с большим сожалением решился войти с представлением к Государю Императору об увольнении его от службы, которая лишается в нем одного из достойнейших офицеров»35.
Глава III
Жизнь графа Муравьева в деревне. — Арест его. — Записка об улучшении административных и судебных учреждений. — Назначение гр. Муравьева вице-губернатором в Витебске. — Северо-Западный края в первой четверти текущего столетия. — Воззрение гр. Муравьева на прошлые судьбы Северо-Западного края. — Назначение гр. Муравьева губернатором Могилевской губернии. — Участие его в усмирении польского восстания 1831 года. — Управление Гродненской губернией. — Служба графа Муравьева в Петербурге
20 ноября 1820 года М. Н. Муравьев вышел в отставку и поселился со своей молодою супругою в ее имении Лазицах Смоленской губернии. 1820 и 1821 годы были крайне тяжелыми годами для Смоленской и соседних губерний. Двухлетний неурожай решительно подорвал благосостояние не только крестьян, но и многих помещиков. В это тяжелое время М. Н. Муравьев явился истинным благодетелем крестьян - как своих, так и соседних помещиков. На прокормление крестьян и на корм их скота он издержал до 20 тысяч рублей. Этим он заслужил горячую к себе любовь не только со стороны своих крестьян, быстро оправившихся от последствий неурожая, но и со стороны соседних дворян.
В 1826 году Бог судил Михаилу Николаевичу пережить тяжкое время. Заподозренный в том, что принимал участие в заговоре «декабристов», которые задумывали преобразовать государственное устройство России, он был арестован и некоторое время содержался в заключении, но как только дело было разобрано, он немедленно получил свободу и снова зачислен был в военную службу, хотя без назначения к какой-либо должности.
В январе 1827 года М. Н. Муравьев имел счастье представить Государю Императору Николаю Павловичу замечательную записку об улучшении местных административных и судебных учреждений и истреблении в них взяточничества. Записку эту Муравьев представил при следующем всеподданнейшем письме: «Был вынужден лет семь тому назад, вследствие своей раны, оставить военное поприще и поселиться в отдаленной от столицы провинции, я старался употребить с пользою свободное время, подготовляя себя к ознакомлению с гражданскою службою, - единственной, в которой я мог бы еще надеяться служить моему Государю. Уединение доставило мне необходимый досуг для изучения существующего у нас устройства внутреннего административного управления, печальных злоупотреблений, всюду совершаемых, уничтожения или искажения самых полезных установлений и, наконец, гибельного влияния такого порядка вещей на общественную нравственность. При виде этого печального зрелища, у меня всегда надрывалось сердце от невозможности быть полезным своим существованием на гражданском поприще, почему и должен был ограничиться наблюдением и записыванием своих замечаний об этом источнике зла, подтачивающего наши нравы и породившего почти всеобщую страсть к лихоимству и продажности. Может быть, Государь, я и ошибаюсь в замечаниях своих о предмете столь великой важности, но осмеливаюсь представить Вашему Величеству свои размышления, будучи убежден в великодушии и снисходительности, с которыми Вы примете всякое чувство честное и искреннее, внушенное верноподданному естественною привязанностью к своему Государю и желанием споспешествовать своими слабыми силами всеобщему благу».
Кроме верного изображения недостатков нашей гражданственности записка Муравьева представляет еще любопытные черты для характеристики ее составителя. «В авторе ее видна, - говорит биограф Муравьева, - спокойная наблюдательность, практический ум и замечательная зрелость взглядов на самые важные вопросы внутренней политики и управления» (Кропотов. Жизнь гр. Муравьева. стр. 243.)
12 июня того же 1827 года было знаменательным днем в жизни М. Н. Муравьева. В этот день он назначен был вице-губернатором в Витебск. Целых восемь лет он провел с этого момента в Северо-Западном крае России, стоя во главе гражданского управления сначала в качестве витебского вице-губернатора, а потом могилевского и гродненского губернатора.
В описываемое время Северо-Западный край имел решительно польскую окраску. Православных церквей в крае вообще было мало. В самой Вильне православные в одно время могли молиться лишь в тесной трапезной церкви Свято-Духовского монастыря. Да если где и существовали церкви, то это были здания маленькие, тесные и очень часто неприглядные, - скорее лачуги, чем церкви. Церквей униатских было довольно много, но большинство их было так же невзрачно, как и церкви православные. Зато гордо поднимались к небу верхушки костелов и монастырей римско-католических, число которых было очень велико. Тогдашняя школа Северо-Западного края была школой польской и по языку, и по направлению; даже в белорусских губерниях школа оставалась такой же. В Белоруссии были два рода школ: правительственные и содержимые монашескими орденами. По заявлению князя Хованского, бывшего витебского и могилевского генерал-губернатора, в школах, содержимых монахами, науки преподавались на польском или латинском языках; словесность заключалась в обучении польскому, латинскому и некоторым иностранным языкам, а русский оставлен в совершенном небрежении. Существенная же система наставников в сих училищах, говорит князь, состоит в том, чтобы в учащихся поселять дух чистого полонизма, в чем они и достигли своей цели. Что касается гимназий правительственных, то и они были не лучше в русском смысле. Гимназии белорусских губерний, заявляет князь, нисколько не соответствуют ожиданию правительства. Науки и словесность преподаются в них на польском языке, русскому же учат весьма мало: для него назначен только один день в неделю, и учащиеся так же, как и в духовных школах, наклоняются к полонизму. Администрация, суд всецело находились в руках поляков-католиков. Языком общежития для всех слоев общества, кроме крестьянского, был язык польский.
При таком положении дел в крае все, что стояло повыше крестьянства, естественно мало тяготело к России. Князь Хованский положительно заявляет, что природные белорусы не только пожилых лет, но и молодые, несмотря на давность присоединения края, питают какое-то равнодушие и неприязнь к коренным русским и ко всему русскому. Преосвященный Иосиф в первой своей записке по униатскому делу говорит: «Юношество, в публичных заведениях обучающееся, отзывается о России с презрением; не зная россиян, не зная их истории, их обычаев, не зная их языка и литературных произведений, оно считает их народом варварским, и слово “москаль” осталось обыкновенным изъявлением презрения. Духовенство, со своей стороны, - продолжает он, - хотя осторожнее, не щадит столь же презрительных сарказмов. Даже простой народ, по словам и поступкам господ и пастырей своих обыкновенно рассуждающий, угнетенный более прежнего самими же помещиками, отзывается ежечасно: “не бывало этого за Польши, не бывало этого за унии”«.
Русскому обществу, русской власти, конечно, было известно, что говорится и делается в крае; но это не мешало делам идти по данному им направлению. Продолжительный политический гнет Польши и религиозный гнет католичества настолько успел ослабить русский элемент края, некогда столь сильный здесь, что этот элемент стал как-то совершенно незаметен в крае. Этот элемент остался лишь в селе и не мог дать знать о себе русскому обществу. О нем действительно почти и не знали в Задвинской России. Между тем разработка русской истории тогда еще только начиналась. И что же удивительного, если даже образованные русские люди смотрели на Северо-Западный край глазами поляков, если они далеки были от мысли, что коренное население даже Виленской и Гродненской губерний решительно не польское, что значительная часть представителей полонизма в этих губерниях происходит от предков русских православных и что даже после политического соединения Литвы и Польши в Литве на поляков смотрели, как на иностранцев.
Естественно было бы, по-видимому, смотреть на Западный край с указанной точки зрения и М. Н. Муравьеву: ведь он был коренной великорус, живший до тех пор в центральных губерниях России. Но в том-то и сказывается величие духа этого человека, что он усвоил себе совершенно самостоятельное суждение как о правах поляков на господство в Северо-Западном крае, так и на значение в нем русской народности.
Отправляясь в Витебск, М. Н. Муравьев счел своим долгом обстоятельно познакомиться с историей Северо-Западного края и захватил с собою десятка полтора книг, относящихся к этому отделу русской истории. Чтение этих книг имело громадное влияние на весь склад суждений Михаила Николаевича о задачах управления Северо-Западным краем. Прочитанные им книжки сказали ему, что до самой Люблинской унии поляк был иноземцем в Литовском княжестве, что княжество жило русскою жизнию, что громадное большинство населения принадлежало Православной церкви. Узнал Михаил Николаевич из прочитанных книжек и то, что когда области, входившие в состав Литовского княжества, присоединены были к России, Императрица Екатерина II приобщила их к общей русской жизни и всячески старалась противодействовать полонизации их, и что если к началу второй четверти настоящего столетия области эти в сильной степени были ополячены, то потому, что система управления краем, выработанная Императрицей Екатериной II, уступила впоследствии место другой противоположной системе, давшей возможность Чарторыйскому и его сотрудникам сильно ослабить в жизни края русские начала. Особенно сильное впечатление произвело на нового вице-губернатора чтение сочинения Бантыш-Каменского: «О возникшей в Польше унии». Оно в особенности ознакомило его с минувшими судьбами Православной церкви в Западной России. Впоследствии, став виленским генерал-губернатором, он приказал перепечатать эту книгу в громадном количестве экземпляров и сильно распространил ее в крае.
Вот с какими воззрениями на прошлые судьбы края прибыл в Витебск новый вице-губернатор. В Витебске он, впрочем, не мог проявить резко этих воззрений; он оставался там недолго. В сентябре 1828 г.
М. Н. Муравьев был переведен в Могилев на должность губернатора. С большим вниманием наблюдая за ходом производства дел и духом обитателей, как он сам говорит о себе, везде старался он, где только закон и порядок дозволял, вводить российское производство. Поэтому во всеподданнейшем отчете за 1830 год он мог уже смело свидетельствовать пред Государем, что «край сей без малейшего затруднения или неудовольствия может быть приведен к единообразному с Россией положению, и что ежели до сих пор оный еще не совершенно, так сказать, слился с оною, то сему более причиною, что не было предпринято должных мер; ибо еще в 1773 г. права русские были здесь совершенно введены и теперь, если б на то была воля Вашего Императорского Величества, не предстояло бы к водворению оных никаких особенных затруднений. Я, - продолжает Муравьев в своем всеподданнейшем отчете, - достаточно на опыте удостоверился, что с весьма малым усилием правительства можно достигнуть до сего необходимого преобразования края, собственно для него полезного; ибо даже многим здесь коренным обывателям польское производство, особенно по кредитным делам, совершенно отяготительно, и ежели со введением русских прав Вашему Императорскому Величеству благоугодно будет повелеть ввести и преподавание предметов в училищах на русском языке, то весьма скоро край сей сблизится с Россиею, которого мнимое отдаление от оной существует более во мнении, нежели на самом деле. Я воздерживаюсь подробным рассмотрением сего весьма необходимого преобразования края сего, осмеливаясь ныне вкратце всеподданнейше донести Вашему Императорскому Величеству, что для совершения сего достаточно иметь изъявление священной воли Вашего Императорского Величества и благоразумного местного исполнения, ибо Могилевская губерния, по существу своему, не есть край столь чуждый, чтобы неудобно было оный совершенно слить с Россиею».(Кропотов. Жизнь гр. Муравьева. Стр. 256-257.)
В другой записке, представленной Михаилом Николаевичем Государю, он указывал как на необходимость преподавания всех предметов
на русском языке, так и на устранение римско-католического духовенства, в особенности монахов разных орденов, от участия в образовании и воспитании юношества в Западных губерниях.
В конце 1830 года мирная деятельность Муравьева по улучшению административных порядков в Могилевской губернии должна была приостановиться. В это время в Царстве Польском вспыхнуло восстание, которое потом распространилось на Литву, Волынь и другие области Западной Руси. Для усмирения восстания в Царстве немедленно сформирована была действующая армия под начальством Дибича-Забалканского, а войска, находившиеся в Западном крае, поступили в состав резервной армии, над которой главнокомандующим был назначен граф Толстой. По прибытии в Витебск Толстой увидел в числе представляющихся ему лиц М. Н. Муравьева и тотчас предложил ему состоять в его распоряжении при штабе армии для исполнения особых поручений. С этого времени начинается разнообразная и усиленная деятельность Михаила Николаевича, которая доставила ему превосходный случай ознакомиться на практике не только с общественным строем Западного края, но с духом его населения и, главное, с особенностями польского характера. Благодаря необыкновенной наблюдательности Муравьев не оставил без внимания ни одной особенности края и приобрел обширный запас опытности, доставившей ему впоследствии возможность оказать весьма важные услуги государству. Этот период деятельности Муравьева важен еще в том отношении, что он теперь уже наметил все те мероприятия, к которым прибегал потом при умиротворении Западного края в 1863 году.
Состоя при графе Толстом для особых поручений, Муравьев был завален множеством дел самого разнообразного свойства. Он должен был организовать при штабе армии дело собирания сведений о неприятеле и о занятой им стране, лично руководить в некоторых местах рассеянием мятежных скопищ, производить дознания об участниках тогдашних смут и, наконец, ему вверены были распоряжения по гражданской части. Все эти поручения графа Толстого Муравьев выполнил необыкновенно быстро и с полным успехом. Вот как характеризует тогдашнюю деятельность Михаила Николаевича его биограф: «Муравьев принадлежал к числу тех практических администраторов, которые стремятся к достижению цели самыми простыми, уже испытанными и для всех ясными средствами. Обдумывая свои мероприятия, Муравьев более всего заботился об устранении всех недоумений и случайностей, заботился о том, чтобы осуществление было для всех удобно и легко, неисполнение невыгодно. Он никогда не был человеком злосердым или жестоким, каким его выставляла заграничная печать, хотя в действиях своих и был настойчив и тверд. Превосходно знакомый со слабостями человеческой природы, Муравьев во время шляхетских возмущений 1831 и 1863 годов наводил страх на неисполнителей своих распоряжений не насилием или жестокостью, которыми всегда гнушался, но действуя нравственно, внушением опасения за свое благосостояние и поражая штрафами и денежными в пользу казны взысканиями».(Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева. Стр. 361.)
Эта характеристика вполне приложима и к последующей деятельности М. Н. Муравьева.
В 1831 году Михаил Николаевич переведен был губернатором в Гродну, где прослужил до 1835 года.
Ознакомившись вполне основательно со стремлениями польского дворянства и римско-католического духовенства во время восстания, он еще с большей настойчивостью стал заботиться о поддержании Православия и русской народности во вверенной ему губернии. Между прочим, Муравьев оказывал содействие епископу Иосифу Семашко, который тогда занят был подготовлением воссоединения униатов с Православною церковью. Кроме того, Муравьеву в это время пришлось деятельно противодействовать попыткам поляков возбудить новое восстание. Так, «в 1833 году», рассказывает граф Михаил Николаевич в своих записках, «явились в Западном крае польские эмиссары, отправленные из Парижа: они проникли в Виленскую и Гродненскую губернии, независимо от находившихся немалого числа в Царстве Польском. Принятыми тогда мною энергическими мерами они были скоро схвачены, а вместе с ними и более 200 человек разных сословий, принимавших их и содействовавших им распространять повсюду мятежные покушения»36.
Такой горячий поборник русских интересов в крае, такой неутомимый противник полонизации края, каким был М. Н. Муравьев, естественно был не по душе полякам; в особенности им были крайне неприятны видимые успехи в восстановлении Православия. Однако же М. Н.Муравьеву пришлось оставить Гродненскую губернию лишь в 1855 г., когда он по воле Государя Николая Павловича переведен был в Курск военным губернатором для приведения в порядок губернии, которою Государь был недоволен по случаю беспорядков, происшедших на дворянских выборах.
Время с 1855 по 1862 год граф М. Н. Муравьев пробыл вне Северо-Западного края. В этот период своей деятельности он был сначала курским губернатором, а потом директором департамента податей и сборов, главноуправляющим межевым корпусом, председателем департамента уделов и, наконец, с 1856 года - министром государственных имуществ. Последние три должности он занимал одновременно.
Благодаря своему необыкновенному уму, трудолюбию и настойчивости М. Н. Муравьев с большим успехом выполнял возложенные на него обязанности: он лично руководил всеми делами, вникал во все подробности и повсюду вносил жизнь и одушевление. Император Александр Николаевич вполне оценил неутомимую деятельность Муравьева и, помимо разных наград, возвел его сначала в звание сенатора, а потом назначил членом самого высшего правительственного учреждения - Государственного совета.
В 1862 году М. Н. Муравьев вышел в отставку. Достигнув уже преклонного возраста (ему было тогда 66 лет) и сильно расстроив здоровье, он намерен был провести последние годы своей жизни в тишине и спокойствии, но скоро оказалось, что вся его предыдущая деятельность была лишь предуготовлением к подвигу, который он должен был совершить на склоне дней своих. 1-го мая 1863 года Император Александр II назначил М. Н. Муравьева главным начальником шести губерний Северо-Западного края, где тогда вспыхнуло польское восстание.
Глава IV
Меры правительства к охранению русской народности от польского влияния. — Отношения Александра II к полякам. — Отношение польского дворянства к крестьянской реформе. — Виновники польского восстания 1863 года. — Начало вооруженного восстания. — Амнистия
После усмирения польского восстания в 1831 году Царство Польское получило новое устройство, сближающее его с остальной Россией, а в западнорусских областях принят был в царствование Императора Николая I целый ряд мер к охранению русской народности от польско-католического влияния. Так, закрыт Виленский университет и Кременецкий лицей; упразднен Литовский Статут. Униаты, долго находившиеся под властью католичества, воссоединились в 1839 году с Православною церковью.
При жизни Императора Николая I-го поляки держали себя вообще тихо и скромно. Ему наследовал старший сын его, Александр II, отличавшийся особенною добротою и великодушием. Новый Государь вскоре по вступлении на престол простил многих поляков, принимавших участие в прежних восстаниях, возвратил сосланных их Сибири и дозволил возвратиться на родину эмигрантам или бежавшим за границу. Вместе с тем Александр II предоставил Царству Польскому целый ряд прав и привилегий и поставил во главе гражданского управления природного поляка, маркиза Велепольского. Наместником Царства был тогда князь Горчаков, а виленским генерал-губернатором - Назимов. Оба эти правителя, исполняя волю своего Государя, действовали в строго примирительном духе и отличались большой предупредительностью по отношению к полякам.
Но такой образ действия русских властей принят был поляками за слабость русского правительства и способствовал еще большему возбуждению их против России. Особенно возбудил помещиков-поляков нежелательный для них поворот в крестьянской реформе. Польские помещики Западных губерний охотно изъявили свое согласие на освобождение крестьян, но без надела землею, рассчитывая навсегда удержать их в экономической зависимости от себя. Они желали, чтобы за помещиками оставлено было право суда над крестьянами, чтобы помещики были назначаемы начальниками волостей с предоставлением им, между прочим, надзора за всеми учебными и благотворительными заведениями в пределах волости; чтобы не было дано крестьянам самоуправления. Одним словом, они хотели удержать крестьянское население (т.е. русских и литвинов) в полной административной и политической зависимости от помещиков.
К счастью, желания польского дворянства не были услышаны русским правительством, и крестьяне были освобождены от крепостной зависимости с наделом их землею и самоуправлением. Поляки надеялись тогда, что с освобождением крестьян у них исчезает почва под ногами, что освобожденный русский народ окончательно и бесповоротно сольется с остальной Россиею, а потому, сделав от себя все возможное, чтобы ослабить и уничтожить благодетельные последствия манифеста 19 февраля 1861 года, произвели новую попытку восстановить Польское королевство.
Обстоятельства, по-видимому, благоприятствовали осуществлению стремлений поляков. Тогда французский император Наполеон III открыто стал высказывать, что поляки, по примеру итальянцев, имеют право требовать объединения в одно государство37, а его приближенные, в особенности министр иностранных дел граф Валевский (побочный сын Наполеона I и одной польки), прямо побуждали поляков к восстанию. Австрия тоже была расположена к полякам и питала даже надежду, что польский престол, по его восстановлении, должен будет перейти к австрийскому дому. Не менее Франции и Австрии сочувствовала полякам и Англия, и ее министры не раз в своих речах резко осуждали несправедливое, по их мнению, поведение России относительно Польши. Все эти речи тотчас же в искаженном и преувеличенном виде делались известными полякам и побуждали их готовиться к восстанию.
Подготовительные работы в целях возбуждения восстания шли почти одновременно в разных местах. В Париже существовал так называемый отель «Ламбер», во главе которого сначала стоял известный сотрудник Императора Александра I - Адам Чарторыйский, а после его смерти (в 1861 г.) сын его Владислав. Отель «Ламбер» был главным двигателем восстания. Здесь преимущественно сосредоточивались польские эмигранты, которые более всего содействовали возбуждению поляков против России, внушая им надежды на помощь иностранных государств. Затем в Кракове и Львове подготовляли восстание особые комитеты, в Варшаве - так называемое земледельческое общество, с графом Андреем Замойским во главе, а в Вильне, Ковне и других городах Западного края - несколько магнатов.
Первые враждебные выходки поляков против русского правительства начались еще в 1861 году. Эти выходки продолжались в течение всего 1862 года и становились тем более резкими и возмутительными, чем благодушнее и мягче относилась к ним власть. Наконец, в январе 1863 года началось открытое восстание. Многочисленные банды появились в лесах Польши, Литвы, Белоруссии, даже в Киевской и Волынской губерниях. Католическое духовенство в огромном большинстве не осталось верно присяге и не стеснялось в самых костелах призывать всех к оружию: особенно оно фанатизировало женщин, а те в свою очередь, посылали в леса своих сыновей, мужей и братьев. Всеми действиями восстания руководили разные тайные комитеты, которые появились не только в Варшаве и Царстве Польском, но и во многих городах Северо-Западного края.
Для усмирения восстания посланы были войска, которые деятельно начали преследовать польские банды; но как только были разбиты главнейшие из них, великодушный Император Александр II пожелал остановить кровопролитие и 12 апреля объявил амнистию, или прощение, всем тем, кто сложит оружие до 1-го мая. Казалось, полякам ничего более не оставалось, как немедленно покориться, но вышло не то, чего можно было ожидать. В надежде на помощь извне поляки не хотели следовать призыву Государя. Лишь весьма немногие из повстанцев сложили оружие, а большинство решило продолжать восстание как можно долее, чтобы дождаться вмешательства в польские дела западноевропейских государств. Вмешательство это действительно скоро последовало, но оно дало совсем не те результаты, каких ждали от него. Лишь только узнала Русь об этом вмешательстве, она единодушно встала вокруг трона своего Государя и решилась до последней капли крови отстаивать целость государства. Вмешавшиеся державы поняли тогда неуместность сделанного шага и в конце концов должны были замолчать, а Император Александр II решил принять самые энергические меры для подавления восстания.
Глава V
Назначение графа Муравьева Виленским генерал-губернатором. — Состояние Северо-Западного края до прибытия графа Муравьева. — Приезд графа Муравьева в Вильну. — Первые распоряжения графа Муравьева. — Уничтожение вооруженных банд военною силою. — Введение военно-полицейского управления. — Меры для умиротворения края. — Меры по отношению к римско-католическому духовенству
Назначение Михаила Николаевича Муравьева главным начальником всего Северо-Западного края состоялось при следующих обстоятельствах. 17 апреля 1863 года, в день рождения Государя, Муравьев прибыл в Зимний дворец; там только и говорили о разграблении графом Плятером транспорта с оружием под Двинском. Государь подошел к Муравьеву и спросил его: «Слышали ли вы, что случилось в Двинске»? Муравьев ответил, что слышал и что этого ожидать надо было не только в Двинске, но и везде в западных губерниях; при этом обратил внимание Государя на то обстоятельство, что в двинском деле замешаны те же фамилии, которые участвовали и в восстании 1831 года. Спустя несколько времени брат Михаила Николаевича Муравьева, Андрей Николаевич, отправился к директору Азиатского департамента, генералу Игнатьеву, чтобы взять себе отпуск в Киев, и вступил с ним в разговор. Игнатьев откровенно стал высказывать свое мнение о бедственном положении дел в Западной России и, между прочим, сказал: «Покамест мой родич (Назимов) будет в Вильне, нечего нам ожидать там доброго». Андрей Николаевич ему возразил: «Покамест не будет послан туда брат мой Михаил, знающий на опыте тот край, не будет спасенья Литве; ибо уже шла речь о том, что если будет высадка французов в Курляндии, то дело уже пропало». «Как же это может статься? - сказал Игнатьев. - Брат твой ни за что не согласится, а особенно после последних неудовольствий по министерству». «Знаю, что не согласен, - отвечал Муравьев, - ибо я испытывал уже его мысль; но на все есть своя манера. Если только Государь без всякого предварения пошлет за ним фельдъегера и скажет ему: “Муравьев, Отечество в опасности, спасай его!”, то как конь ретивый и верный сын Отечества он не может отказаться». Так все и случилось. Когда Игнатьев высказал эту мысль канцлеру Горчакову, а последний Государю, Государь тотчас призвал к себе Муравьева и предложил ему пост главного начальника Северо-Западного края. «На предложение Государя, - рассказывал Муравьев в своих записках, - я отвечал, что как русскому было бы бесчестно мне отказываться от исполнения возлагаемой ныне на меня Его Величеством обязанности: всякий русский должен жертвовать собою для пользы Отечества, и потому я беспрекословно принимаю на себя эту трудную обязанность генерал-губернатора в том крае; что от Его Величества будет зависеть приказать мне оставаться там столько времени, сколько он найдет это нужным, но что вместе с тем прошу полного со стороны Его Величества доверия, ибо в противном случае не может быть никакого успеха. Я с удовольствием готов собою жертвовать для пользы и блага России; но с тем вместе желаю, чтобы мне были даны все средства к выполнению возлагаемой на меня обязанности. При этом я выразил Его Величеству мое убеждение, что опыт 1831 г. нам не послужил в пользу и что теперь надо решительно подавить мятеж, уничтожить крамолу и восстановить русскую народность и Православие в крае. Говоря о политическом и нравственном положении края, я ссылался Его Величеству на приобретенный мною опыт в распознании польского характера и враждебном его против России направлении; что в бытность мою в том крае, т.е. в Витебске - вицегубернатором, в Могилеве и в Гродно - губернатором, и находившись во время всего похода 1831 года в Литве при главнокомандующем графе Толстом, который вверил мне все распоряжения по гражданской части во время мятежа, я мог узнать как тот край, так и революционные замыслы и польские крамолы.
На все это Государь мне ответствовал, что он меня благодарит за самоотвержение и готовность принять эту трудную обузу, что он вполне разделяет мой образ мыслей, предлагаемую систему и от оной не отступит»38.
1 мая 1863 года подписан был Государем приказ о назначении М. Н. Муравьева генерал-губернатором шести губерний Северо-Западного края. Русское общество отнеслось к этому назначению вполне сочувственно. «Общественное мнение, - по свидетельству одного современника, - пришло тогда к убеждению, что для тушения польского пожара недостаточно мер кротости, поэтому имя Муравьева невольно сказалось повсюду. Все говорило, что дело усмирения будет им поведено энергично, репутация его в этом отношении была упрочена, и всякий вместе с тем был уверен, что под его управлением значение русского имени будет поднято. Деятельность этого человека была изумительна, да он умел и подчиненным прибавить энергии»39.
После назначения своего виленским генерал-губернатором Муравьев оставался в Петербурге более недели. Он формировал новый состав служащих при генерал-губернаторе, входил в сношения на счет различных мероприятий с министрами и был несколько раз с докладами у Государя в Царском Селе, а перед отъездом представился Государыне, которая благодарила его за решимость и самоотвержение. Наконец 12 мая, помолившись в Казанском соборе, М. Н. Муравьев отправился в Вильну.
До приезда Муравьева в Северо-Западном крае польское восстание было в полном разгаре. «Несмотря на постоянные битвы и стычки наших войск с мятежниками, - говорит один современник, - в марте и апреле месяцах 1863 года весь край был уже объят мятежом. В Ковенской и Гродненской губерниях мятежники распоряжались, как у себя дома, шайки их бродили под стенами Вильны»40.
Еще обстоятельнее знакомит нас с положением Северо-Западного края сам М. Н. Муравьев. «Все шесть губерний, - рассказывает он в своих записках, - были охвачены пламенем мятежа; правительственной власти нигде уже не существовало; войска наши сосредоточивались только в городах, откуда делались экспедиции, как на Кавказе в горы; все же деревни, села и леса были в руках мятежников. Русских людей почти нигде не было, ибо все гражданские должности были заняты поляками. Везде кипел мятеж, ненависть и презрение к нам, к русской власти и правительству; над распоряжениями генерал-губернатора смеялись и никто их не исполнял. У мятежников были везде и даже в самой Вильне революционные начальники: в уездных городах окружные и парафиальные; в губернских целые полные гражданские управления, министры, военные революционные трибуналы, полиция и жандармы, словом, целая организация, которая беспрепятственно, но везде действовала, собирала шайки, образовывала в некоторых местах даже регулярное войско, вооружала, продовольствовала, собирала подати на мятеж, и все это делалось гласно для всего польского населения и оставалось тайною только для одного нашего правительства. Надо было со всем этим бороться, а с тем вместе и уничтожать вооруженный мятеж, который более всего занимал правительство. Генерал-губернатор ничего этого не видал; русские власти чувствовали только свое бессилие и вообще презрение к ним поляков, ознаменовавшееся всевозможными дерзостями и неуважением даже к самому войску, которому приказано было все терпеть и переносить с самоотвержением; так все это переносили русские, и даже само семейство генерал-губернатора было почти оплевано поляками...»
«В Вильну были вызваны все почти помещики и мировые посредники в феврале 1863 г., будто бы для обсуждений по крестьянскому делу; но на этом и на подобном же съезде в Ковне были положены начала для действий по мятежу и соединились обе партии, так называемых белых и красных, причем избраны для губернских и уездных городов по два делегата, которые бы наблюдали за действиями предводителей дворянства и самого правительства - и все это делалось явно на глазах того же правительства»41.
В этом описании польского восстания в Западных губерниях нет ни малейшего преувеличения. Правда, самые большие банды, как Сераковского и Колышки, были уже рассеяны, но поляки быстро собирали новые скопища повстанцев и упорно продолжали борьбу. Из официальных данных видно, что в течение 1863 года в Северо-Западном крае у русских войск с польскими бандами было около 70 «дел», из которых только 25 произошли во время управления краем Назимова, а все остальные при Муравьеве 42.
В таком безвыходном положении находился Северо-Западный край, когда Муравьев отправился в Вильну. Дорогою он останавливался для отдыха в Двинске, и здесь в присутствии дворян, а также военных и гражданских чинов, впервые высказал свой взгляд на ту систему, которою намерен был руководствоваться в своих будущих действиях по умиротворению края. 14 мая в 3 часа пополудни Муравьев прибыл в Вильну, а на следующий день, помолившись в Николаевском соборе и посетивши литовского митрополита Иосифа, сделал общий прием чиновников, духовенства и вообще всех городских сословий. «Военные встретили меня, - рассказывает Муравьев, - с большим радушием и радостью, особенно гвардейцы 2-й пехотной дивизии, ибо они уверены были, что с моим прибытием изменится система управления, и поляки, дотоле горделивые и дозволявшие себе всевозможные грубости и невежливость при встрече с русскими, скоро смирятся. Гражданские чины, кроме русских, бывших в небольшом числе, встретили меня с видным неудовольствием, а особенно предводители дворянства и городское общество, преимущественно католическое. Евреи же играли двусмысленную роль и выказывали будто бы радость, но это было притворно, ибо они везде тайно содействовали мятежу и даже помогали оному деньгами. Римско-католическое духовенство было принято мною в особой зале, и на лицах, и из разговоров их, в особенности же епископа Красинского, заметна была полная уверенность, что я не успею подавить мятеж. Я всем представлявшимся высказал предназначенную себе систему действий, т.е. строгое и справедливое преследование мятежа и крамолы, невзирая ни на какие лица, и потому выражал надежду найти в них самых усердных помощников, причем советовал тем, которые не разделяют этих убеждений, оставить службу, ибо в противном случае я сам немедленно их от оной уволю и предам законной ответственности. Все они более молчали, вероятно, желая убедиться на опыте в твердости моих намерений и не буду ли я вынужден уступить и подчиниться другой системе»43.
«Общее впечатление, - говорит один очевидец, - произведенное генерал-губернатором, было самое сильное; все увидели пред собою человека твердого и проницательного; тут уже не приходилось шутить и надо было переходить в тот или другой лагерь, но все ждали за словами действий, и они не заставили себя долго ждать44.
Уже первые распоряжения М. Н. Муравьева ясно показали всем, что в крае явилась крепкая русская власть, которая не боится никаких повстанцев и которая не может терпеть нарушения мира с оружием в руках.
До приезда М. Н. Муравьева много было взято под стражу лиц, принимавших участие в мятежах. «Ими наполнены были, - рассказывает граф Муравьев, - все тюрьмы, но, к сожалению, по большей части их дела не были окончены, даже начаты. О тех же личностях, кои были приговорены военными судами, не было постановлено конфирмаций, ибо опасались строгостью раздражить мятежников. Желая, напротив того, показать полякам, что правительство наше их не страшится, я, - продолжает далее граф, - немедленно занялся рассмотрением приговоров о более важных преступниках, конфирмовал их и немедленно приказал исполнить приговоры в Вильне на торговой площади, в самый полдень и с оглашением по всему городу с барабанным боем»45. Прежде всего казнены были два ксендза, потом несколько видных предводителей банд, как, например, Сераковский, бывший офицер Генерального штаба. Подвергались казням и дезертировавшие в леса русские офицеры, жандармы, вешатели и вообще все участники в политических убийствах. «Поляки не верили, что я решусь на это, - говорит Муравьев, - но когда увидели исполнение сего на деле, а не на словах, всех их обуял страх»46. Действительно, многие из руководителей восстания под влиянием страха или бежали, или отказались от своей преступной деятельности.
В первые же дни пребывания М. Н. Муравьева в Вильне приняты были вполне целесообразные меры для очищения края от повстанческих шаек. На первом плане, конечно, стояли военные меры. М. Н. Муравьев позаботился о более правильном распределении войск на огромном пространстве вверенного ему края, снабдил военных начальников
обстоятельными инструкциями и потребовал от них самых быстрых и решительных действий. Так, в одном приказе Муравьев предписывает военным начальникам губерний, «чтобы войска не оставались безвыходно в городах или других пунктах уездов, но беспрестанно производили движения по их району, ограждая жителей от насилий, производимых мятежниками, и водворяя везде спокойствие»47; в другом внушает начальникам отрядов, «что они должны решительно действовать для разбития шаек и преследовать их по пятам, неотступно и настойчиво, до совершенного рассеяния и уничтожения» 48; в третьем приказывает сформировать «мелкие летучие отряды» и т.д. Особенно Муравьев настаивал на быстроте действий.
Решительными своими действиями М. Н. Муравьев много ободрил войска, и не только офицеры, но и солдаты с особенным рвением стали разыскивать и преследовать вооруженные скопища повстанцев. Особенно отличались гвардейцы. «Я в них нашел, - говорил Муравьев, - самых деятельных и благоразумных сотрудников. Они с радушием принимали все возложенные на них обязанности как военные, так и гражданские и исполняли их отлично». Но одних военных мер было недостаточно для полного умиротворения края. И до приезда Михаила Николаевича Муравьева в Вильну войска не бездействовали и разбивали повстанцев, но эти поражения не уничтожали мятежа, так как мятеж беспрепятственно находил себе поддержку среди помещиков и ксендзов, и вследствие этого вместо одной разбитой шайки легко формировалась другая. Для усмирения края нужно было достигнуть того, чтобы присутствие в крае сильной русской власти чувствовалось в каждой деревне, каждой околице, чтобы население, верное Государю, всегда могло найти себе защиту от повстанцев, чтобы злоумышленники чувствовали, что за ними зорко следит власть. Этой цели М. Н. Муравьев и достиг посредством учреждения строгого военно-полицейского управления. Во главе каждого уезда поставлен был «военный уездный начальник», известный своею деятельностью и распорядительностью. Военным уездным начальникам подчинялись все войска, в их уездах находящиеся, и все гражданские власти: исправники, становые пристава, городничие и все вообще чины полиции. Спустя три месяца уезды разделены были еще на особые участки, во главе которых постановлены «военные становые начальники», а еще через три месяца, т.е. в конце ноября 1863 года, учреждены «уездные жандармские команды». Вместе с тем введены были во многих уездах «военно-следственные комиссии», независимо от таковых во всех губернских городах.
Военно-полицейское управление устроено было на основании «инструкции от 24 мая», данной военным уездным начальникам. Этой инструкцией и тремя к ней дополнениями принят был для умиротворения края целый ряд мер, из которых наиболее важны следующие:
1) Повсюду сформированы были из крестьян сельские караулы; они располагались в селениях, в корчмах, на дорогах и обязаны были наблюдать за всеми проходящими и проезжающими и не давать никому пропуска без вида и билета, а также оказывать содействие войскам в преследовании вооруженных банд.
2) Воспрещалось всем местным жителям, кроме крестьян, отлучаться из места жительства на расстоянии более 30 верст без особых видов.
3) Заведены были по уездам обывательские книги, в которые вносились все помещики, ксендзы, шляхта и вообще все служащие в дворовых управлениях, а также арендаторы имений и ферм; такие же книги заведены были и по городам для городских жителей.
4) Отнято было оружие у всех помещиков, у шляхты, однодворцев, ксендзов и городских жителей, исключая из поименованных выше званий и сословий русских и тех лиц, за благонадежность которых ручалось местное начальство.
5) Воспрещены всякие противоправительственные манифестации и, между прочим, ношение траура и разных революционных знаков (металлические пряжки с соединенным гербом Польши и Литвы, переломленный крест в терновом венке и пр.).
6) Вменено было всем начальникам учебных заведений неупустительно следить за порученными их надзору воспитанниками и о каждом случае своеволия доносить немедленно в губернских городах начальникам губерний, а в уездных и других - местным военным начальникам для принятия надлежащих мер к обузданию виновных.
7) Установлен был строгий надзор за типографиями, литографиями, фотографическими заведениями, за резчиками печатей, за лесной стражей, за евреями, выезжающими за границу, так как «они принимали на себя передачу разных поручений от здешних к заграничным революционерам» и т.д.
Наблюдая за исполнением этих требований всеми обывателями данной местности, чины военно-полицейского управления в особенности должны были смотреть за шляхтою и ксендзами, которые больше всего поддерживали мятеж. Они должны были зорко смотреть, чтобы помещики отнюдь не формировали банд, не оказывали бандам помощи и содействия доставлением им съестных припасов, сообщением сведений о движении войск и т.п. За каждое нарушение полицейских правил помещики не только подвергались штрафам, но во многих случаях и уголовной ответственности. Независимо от этого Муравьев признал вполне справедливым возложить на помещиков поляков возмещение всех убытков, причиненных восстанием казне и сельским обществам, поэтому он обязал их давать в казну десять процентов с получаемого ими дохода от удобных земель и один процент с капитальной стоимости принадлежащих им в городах домов, снабжать войска продовольствием и подводами, пополнять разграбленные сельские магазины и крестьянские мирские капиталы, а в случае личного участия помещиков поляков в восстании имения их подвергать секвестру, или временному отнятию в казну, и конфискации, или полному обращению в казенную собственность.
Римско-католическое духовенство в глазах М. Н. Муравьева было первым элементом мятежа. Поэтому вскоре по приезде в Вильну он счел нужным написать римско-католическому епископу следующее: «Из дел, представленных ко мне следственными комиссиями, я усматриваю, что по донесениям начальников отрядов, а также по показаниям пленных, самое живое и деятельное участие в возбуждении народа к мятежу принимает здешнее католическое духовенство, объявляя в костелах революционные манифесты, приводя к присяге вербуемых мятежниками сообщников, присоединяясь к шайкам, в которых не раз встречались они с нашими войсками при перестрелках, и, наконец, предводительствуя некоторыми из шаек»49.
Такое деятельное участие в восстании римско-католического духовенства заставило решительного начальника края прибегнуть к самым строгим мерам и подвергнуть, по приговору военного суда, смертной казни двух ксендзов. Но Муравьев «желал искренно», как он сам выражается, «иметь возможность не прибегать к подобным мерам», поэтому просил епископа Красинского употребить свое архипастырское содействие к внушению подведомственному ему духовенству, «чтобы оно, помня призвание свое, возложенное на него духовным саном, и святость верноподданнической присяге оставило свои преступные действия, и чтобы служители алтаря, которые обязаны, не страшась угроз, ни самой смерти, пребывать верными своему долгу, старались проповедью и примером своим вместо возбуждения народа к преступным действиям вразумлять тех, которые, забыв долг чести, совести и присягу, увлечены в мятеж или сделались его руководителями» 50. Но епископ Красинский, «отличавшийся», по словам одного современника, «особенным нерасположением к правительству и полным сочувствием к мятежу»51, сказался больным и уклонился от всякого ответа. Тогда Муравьев выслал его в Вятку и издал целый ряд распоряжений, которыми все действия римско-католического духовенства подчинил строжайшему контролю правительства. Так, для приема в римско-католическую семинарию каждого нового воспитанника требовалось разрешение не только губернатора, но и генерал-губернатора52; наблюдение за учением и вообще за порядком в семинарии поручалось двум прелатам местного капитула, которые прежде выпуска предназначенных к рукоположению клириков, должны были сообщать губернатору подробные сведения о их благонадежности 53; назначения ксендзов на должность деканов, настоятелей приходов, викариев и капелланов не могли состояться без предварительного согласия губернатора54; разъезды духовенства вне пределов приходов и деканатов допускались только в случае признанной необходимости по официальным ходатайствам и по билетам уездных исправников на срок не более семи дней55; проповеди разрешалось произносить только те, которые будут напечатаны с одобрения духовного начальства, а в случае желания кого-либо из ксендзов говорить проповедь своего сочинения, дозволялось это не иначе, как по предварительном рассмотрении этого сочинения особыми цензорами, назначенными, с разрешения генерал-губернатора, из членов капитула консистории и деканов56. Последнее распоряжение вскоре однако было отменено. Оказалось, что ксендзы во многих местах произносили проповеди двусмысленного содержания, поэтому для предупреждения подобных злоупотреблений предложено было ксендзам читать проповеди только по книгам Бялобржецкого и Филипецкого, изданным в Вильне в 1838 году и одобренным епископом Клонгевичем57]. Наконец, для ослабления влияния римско-католического духовенства на население края упразднены были благотворительные общества (трезвости, винцентинок и др.), которые под видом благотворительности и улучшения народной нравственности имели целию содействовать восстанию, а также закрыто было до 30 католических монастырей и значительное число филий (приписных костелов) и каплиц.
Глава VI
Восстановление спокойствия в крае. — Празднование дня тезоименитства Государыни Императрицы. — Всеподданнейший адрес Виленского дворянства. Всеподданнейшие адресы дворян других губерний. — Депутация крестьян Августовской губернии. — Покушение на жизнь вилен. предв. дворянства Домейко. — Статья «Виленского вестника» в день 1 января 1864 г. — Начало нового периода в управлении краем гр. Муравьева. — Значение мер строгости гр. Муравьева
Неумолимая строгость, решительные военные действия и, самое главное, целесообразные административные распоряжения М. Н. Муравьева быстро ослабили силу мятежа, и уже в конце июля русские люди, по выражению современника, «могли вздохнуть свободно». Особенно сильно проявилось торжество русской власти в Вильне в день тезоименитства Государыни Императрицы Марии Александровны, 22 июля. «Это был первый официально торжественный день, - рассказывает один очевидец, - наступивший после долго продолжавшейся упорной борьбы законного правительства с мятежом, а потому отличался особенным характером. К 10-и часам утра все местные власти и представители всех сословий наполнили залы дворца, и перед началом обедни генерал-губернатор обошел присутствующих. Большая малиновая гостиная, где обыкновенно делались приемы, была наполнена гвардейцами: тут был весь Преображенский полк, незадолго прибывший, лейб-уланы и лейб-драгуны, собранные в Вильну для возвращения в скором времени в столицу. День был чудесный, и окна дворца были открыты. Генерал-губернатор был очень ласков с гвардейцами и предупредил их, что скоро пошлет в экспедицию. Дворянам он сказал несколько простых, но сильных и внушительных слов... Евреям генерал-губернатор не доверял, но всегда обращался к ним с несколькими словами, напоминая о неусыпном исполнении верноподданнических обязанностей; римско-католическое духовенство было еще очень смущено недавними казнями ксендзов и высылкою своего главы. После приема генерал-губернатор пригласил всех представлявшихся последовать за ним в соборную церковь для слушания литургии и молебствия. Давно уже наш православный собор не представлял такого блистательного зрелища. Богослужение совершали: епископы ковенский - Александр и брестский - Игнатий (викарии Литовской епархии), 2 архимандрита и 4 протоиерея. Когда же началось молебствие, и духовенство направилось к амвону - впереди всех показался знаменитый литовский митрополит Иосиф. Весь собор был наполнен служащими и даже несколькими дворянами; все были в мундирах; в левом углу помещалась небольшая группа русских дам; перед собором на площадке были построены: Преображенского и Семеновского полков роты Его Величества и смешанные эскадроны лейб-улан и драгун. Толпа народа вокруг была необозримая, и все это было залито сиянием июльского солнца. После молебна загудели колокола, в цитадели загремели пушки и по выходе начальника края из собора пронеслось по площади и в толпе народа несмолкаемое “ура”«. «Это не был обыкновенный праздник, - замечает тот же очевидец, - всякий чувствовал, что тут совершаются исторические события и, хотя все это представляло лишь внешнее торжество русской силы, но в нем видимо было и чувствовалось то новое направление, которому должны будут следовать в крае грядущие поколения»1. Так же торжественно прошел и день рождения Государыни Императрицы, 27 июля, но он ознаменовался еще весьма важным событием. В этот день, во время приема в генерал-губернаторском дворце, виленское дворянство через депутацию из 15 человек, имевшую во главе губернского предводителя дворянства Домейко, представило М. Н. Муравьеву всеподданнейшее на имя Государя Императора письмо с выражением раскаяния и с заявлением верноподданнических чувств. Минута была торжественная. Генерал- губернатор принял адрес, подписанный уже 230 почетнейшими дворянами, и согласился представить его Государю, но вместе с тем напомнил дворянам, какую важность должно иметь это заявление: теперь они должны доказать своими действиями, что навсегда отрекаются от революционной партии и что во всем намерены содействовать правительству для восстановления спокойствия в крае.
По примеру виленского дворянства и от других губерний стали прибывать депутации с представлением всеподданнейших адресов. 26 августа представило адрес ковенское дворянство за 500 подписями, в половине сентября гродненское, а в конце сентября и минское. Несколько запоздали адресы от губерний Витебской и Могилевской, особенно от последней. Принимая могилевское дворянство, Муравьев выразил сожаление, что губерния эта так поздно приступила к настоящему заявлению и, между прочим, заметил: «для меня отрицательное положение дворянства во время мятежа равняется положительному в нем участию».(Виленские очерки // Русск. стар. Т. 40. Стр. 585)
Деятельно заботясь о прекращении смут во всем Северо-Западном крае, граф Муравьев должен был принять в свое ведение и одну из губерний Царства Польского. 6 августа к нему явилась многочисленная крестьянская депутация из Мариампольского уезда Августовской губернии и представила прошение от пяти тысяч крестьян о принятии их под свою защиту. Вот это замечательное прошение:
«Генерал! Мы крестьяне общества Зыпле, Царства Польского, Августовской губернии, Мариампольского уезда прибегаем со всепокорнейшей просьбой к тебе, генерал, спаси нас! Плачевное положение наше достойно сожаления. Настоящий мятеж и волнения в крае приписывают полякам; это клевета: мы, поляки, всегда были и будем верными подданными нашего Всемилостивейшего Государя; нарушителями же спокойствия суть низкие люди, которых можно найти в каждом народе. Крайность заставляет нас обратиться к тебе, генерал; знаем, что наша губерния принадлежит к другому управлению, но что же нам остается делать, несчастным, когда край наш вместо того, чтобы смириться, еще более волнуется; слыша, что край, вверенный тебе, генерал, твоею заботою успокоен и в нем водворен порядок, мы еще раз повторяем нашу покорнейшую просьбу, прими нас под свое покровительство. Пусть дадут нам войско, и мы пойдем вместе с ним, будем сражаться до последней капли крови и докажем на деле нашу любовь и приверженность ко Всемилостивейшему нашему Монарху и ненависть нашу к мятежникам. Мятежники, зная нашу привязанность к Государю, будут стараться отомстить нам, а потому просим тебя, генерал, удостой принять нас под свое покровительство и пришли войска для нашей обороны. Еще раз умоляем тебя, генерал, возьми нас к себе, тогда и наш край успокоится, как Литва. Мы верны нашему Государю и не желаем беспорядков. Уполномоченные от имени целого общества Зыпле Августовской губернии». (Следуют подписи 25 депутатов)58.
Граф Муравьев согласился принять их под свою защиту и послал к ним войско, а скоро последовало Высочайшее повеление о подчинении ему в административном отношении Августовской губернии на время существования военного положения.
Такой быстрый и решительный успех мероприятий графа Муравьева побудил «Народовый Жонд» прибегнуть к самым отчаянным средствам, чтобы как-нибудь приостановить начавшееся движение в пользу законной власти. «Варшавское революционное правление, - рассказывает в своих записках М. Н. Муравьев, - видевши ослабление мятежа в Литве, еще с июля месяца 1863 г. начало присылать своих агентов в Вильну для поддержания упадающего революционного движения, но все эти агенты, при довольно порядочно уже устроенной полиции, были захвачены в Вильне; они успели однако же в половине июля месяца сформировать команду тайных кинжальщиков, которым вменено было в обязанность убить генерал-губернатора, губернского предводителя дворянства и тех, которые наиболее противодействовали мятежу; но кинжальщики эти, страха ради, ни на что не решились; между тем начальство уже получило о них некоторые сведения и приняло меры к их обнаружению».
«Для решительного действия был, наконец, прислан из Варшавы известный полициант-вешатель Беньковский, с обязанностью убить Домейко и меня».
«21-то июля (в день рождения Императрицы) Беньковский пробирался на паперть собора, чтобы меня убить, но не мог близко подойти по огромному стечению служащих и вообще народа».
«29-го июля (через два дня после представления адреса) он в 9 часов утра вошел в квартиру Домейки и нанес ему семь ран кинжалом, равным образом изранил и человека, пришедшего на помощь, а сам скрылся. Раны Домейки были сильны, но не опасны. Жонд публиковал по городу, что Домейко убит и наказан за измену польскому делу; а в особенности за составление адреса. Надо заметить, что адрес по поднесении был послан мною Государю при всеподданнейшем рапорте с испрошением награды Домейке, а 29-го я телеграфировал Государю о сказанном событии. Между тем приняты были всевозможные меры к отысканию убийцы: сделаны были повсеместно обыски, опубликованы приметы убийцы, поставлены в сомнительных местах караулы, а в особенности усилен надзор на железной дороге и на всех путях, ведущих к ней»59. И благодаря этим мерам преступник Беньковский был пойман на вокзале железной дороги 6 августа и понес заслуженную кару.
Видя, что восстание утихает, М. Н. Муравьев пожелал дать возможность оставшимся в лесах повстанцам возвратиться к своим мирным занятиям; 26 августа он велел распубликовать повсюду Всемилостивейшее прощение всем тем, которые явятся добровольно к начальству и положат оружие. Начальники банд первое время удерживали нерешительных страхом, но за удвоением строгих мер энергия их пропала, и повстанцы стали сотнями являться к начальству. От этих повстанцев отбирались показания и оружие, и если на них не падало никаких подозрений в совершении особо важных преступлений, они водворялись на прежнем месте жительства, с согласия общества и по приведении к присяге, которая обставлялась с возможною торжественностью. Добровольно возвратившихся из восстания было водворено в крае свыше трех тысяч человек; сверх того, до 300 человек не были приняты обществами своими на поручительство и отправлены поэтому административным порядком на водворение в сибирские губернии.
С возвращением из леса такого значительного числа повстанцев, вооруженных банд почти не было, за исключением Ковенской губернии, где довольно долго держался еще ксендз Мацкевич, один из самых предприимчивых предводителей. Отличаясь замечательным умением вести партизанскую войну, он ловко ускользал от преследований, быстро появляясь там, где его вовсе не ожидали и до ноября 1863 года держал в напряженном состоянии всю Жмудь. С наступлением холодного времени фанатик Мацкевич бросился к Неману, чтобы переправиться в Пруссию, но был схвачен штабс-капитаном Озерским, производившим обыск леса.
После казни ксендза Мацкевича, совершенной в декабре 1863 года, и удачной поимки всех главарей восстания, вооруженных банд не появлялось более и в Ковенской губернии. Повсюду восстановилось правильное течение жизни, и местное население могло с облегченным сердцем встретить наступающий Новый год. Вот как «Виленский вестник» выразил общее настроение в день 1 января 1864 года. Указав на бедственное состояние Северо-Западного края в первые четыре месяца 1863 года, газета говорит: «В таком положении были дела, когда наступил май месяц. Тогда наступила новая эпоха. С этого времени принятыми мерами, мерами постоянными, энергическими, мудрыми, умиротворение края, как бы какой-то волшебной силой, подвигалось с неимоверной быстротой. Издан был целый ряд инструкций и циркуляров; порядок, издавна потрясенный в крае, не только ныне восстановлен, но еще упрочен и на будущее время. История оценит распоряжения этого времени, современники же их уже оценили. Результаты этих распоряжений поразительны: в такое непродолжительное время все шайки дотла уничтожены, крамола попрана, коноводов восстания постигло достойное наказание. Новый 1864 год застал наш край уже умиротворенным; воспоминание о прошлом кажется теперь жителям страшным сновидением»...
Так успокоен был Северо-Западный край. Чтобы добиться этого, М. Н. Муравьеву, конечно, нельзя было обойтись без строгости; но меры эти употреблялись лишь против коноводов восстания и лиц, наиболее содействовавших успехам мятежа. К лицам же, случайно или невольно попавшим в банды, Михаил Николаевич, как мы и видели, относился вполне снисходительно. Нельзя также забывать и того, что если бы граф Муравьев не принял быстрых и решительных мер к подавлению восстания, а держался прежней нерешительной политики, сколько лишних людей попали бы в банды, следовательно сколько лишних людей погибло бы.
Сам Михаил Николаевич однажды высказал мысль, что казнью нескольких десятков повстанцев он спас от разорения и смерти сотни тысяч народов60, а один современник свидетельствует, что даже и некоторые из поляков разделяли этот взгляд. Указав на то, что поляки вообще не любили Муравьева, названный современник говорит: «С моей же точки зрения он заслуживает еще при жизни памятник на счет самих поляков за то добро, которое он им сделал, энергично и быстро подавивши мятеж. Это я высказывал при случае полякам и полькам и, конечно, пока мятеж еще дышал, мои слова встречались с негодованием; но потом находились и между поляками люди, соглашавшиеся со мною» 61.
Граф М. Н. Муравьев не располагал долго оставаться в Вильне; он ехал туда только для усмирения восстания, поэтому, исполнив возложенное на него поручение, стал просить Государя уволить его от управления краем. На эту просьбу Государь Император отвечал Муравьеву рескриптом от 9 ноября, в котором в самых лестных для подданного выражениях отдавал справедливость его заслугам и просил для пользы Отечества продолжать управление, доколе силы его это позволят. «Ободренный Высочайшим рескриптом, - говорит один современник, - граф Муравьев приступил с этой минуты к новой деятельности по устройству края; с этого времени меры, им принимаемые, носят на себе отпечаток прочности и вытесняют меры временные; с этого времени поднято и частью разрешено множество вопросов по отраслям гражданского управления и политического устройства края; с этого времени самая деятельность его получала значение не просто усмирения мятежа, а русского народного дела»1. Таким образом, с ноября 1863 года начался новый период в управлении краем Муравьева, т.е. эпоха его внутреннего преобразования.
Около полугода граф Муравьев неутомимо трудился в Вильне и успел уже ввести целый ряд весьма важных мер, но затем в апреле 1864 г. он возобновил свое ходатайство пред Государем об освобождении его от дел дальнейшего управления Западными губерниями. Когда же Государь снова указал ему на необходимость остаться в крае и продолжать управление, Муравьев решился заявить, что он не может принять на себя дальнейшего управления Западным краем, пока не будет утвержден правительством ряд предположенных им мер к водворению в нем русской народности. Государь вполне согласился с Муравьевым и поручил ему составить особую записку. Записка была немедленно составлена, в семидневный срок рассмотрена в комитете министров и затем утверждена Государем. Достигнув таких важных результатов, гр. Муравьев 25 мая 1864 года возвратился в Вильну и деятельно принялся приводить в исполнение все предложенные им меры, причем особенное внимание обратил на улучшение положения крестьян, на сооружение православных храмов, на улучшение быта православного духовенства, на устройство школ и т.д.
Глава VII
Временнообязанные крестьяне. — Прекращение обязательных отношений крестьян к помещикам в западных губерниях. — Выкупная операция. — Меры графа Муравьева к обеспечению безземельных крестьян. — Общественное крестьянское управление
19 февраля 1861 года Император Александр II подписал манифест об уничтожении крепостного права. Вместе с манифестом изданы были «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», т.е. закон о новом устройстве быта крестьян и наделении их землею. Земля однако признана была собственностью помещиков, каковою она и была;
поэтому крестьяне за отведенные им наделы обязаны были отбывать в пользу помещиков определенные повинности работою или деньгами и назывались временно обязанными. В таком положении великорусские крестьяне находились более двадцати лет. Но в девяти западных губерниях (Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Киевской, Подольской и Волынской) обязательные поземельные отношения крестьян к помещикам прекращены были еще в 1863 году. Такое внимание правительства к западнорусским крестьянам объясняется чисто местными условиями. Дело в том, что положение 19 февраля было истолковано здесь превратно, а «уставные» грамоты, в которых точно определялось количество земли, отходящей к крестьянам, и размер повинностей, причитающихся за эту землю помещику, составлены были в высшей степени неправильно. «Манифест 19 февраля 1861 года
0 прекращении крепостного права, - говорит в своих записках граф Муравьев, - по слабости и беспечности начальства не был даже введен в действие. Крестьяне еще в начале 1863 года во многих местах отправляли барщинную повинность или платили неимоверные оброки там, где была прекращена барщина. Мировые посредники были все избраны из местных польских помещиков и большею частью были агентами мятежа и даже главными тайными распорядителями оного... При составлении же “уставных грамот” отняты у крестьян лучшие земли и обложены высокими оброками, далеко превосходящими их средства; крестьянам объявили, что в этом заключается дарованная Государем милость и свобода, и что ежели они пойдут в мятеж и будут помогать польскому правительству, то отдастся им вся земля даром, и они не будут платить никаких податей; между тем тех крестьян, которые не платили возвышенных оброков, подвергали строгим наказаниям, заключали в тюрьмы, и местное главное начальство, по ходатайству тех мировых посредников и помещиков, посылало войско для усмирения мнимых крестьянских бунтов»62.
Так польские помещики извращали крестьянскую реформу во всех западных губерниях, что вполне подтверждается как официальными документами, так и свидетельством многих современников. «По Положению 19 февраля, - рассказывает один бывший мировой посредник, - крестьяне Могилевской губернии должны были быть наделены землею в количестве 41/2 десятин на душу удобной земли. Но польские мировые посредники при введении уставных грамот отводили иногда крестьянам, во-первых, вместо указанной в законе десятины (2400 кв. саж.), местный морг, который был много меньше десятины; а во-вторых, под видом удобной земли у крестьян в наделе при поверке оказывалась всяческая земля - и удобная, состоящая из пашни и лугов, и совершенно никуда негодная и ничего не стоящая земля - из оврагов, дорог, болот и песчаных или каменистых участков и клочков, которые немыслимо было удобрять, а следовательно, и что-либо сеять на них. Между тем крестьяне по уставной грамоте обязывались платить полный 9-рублевый оброк за эти свои, наполовину неудобные, наделы. Предстояло разобраться во всей этой путанице, лжи и документальных обманах и подлогах... Самое количество душ в селениях показано было по уставным грамотам в преувеличенном числе, с тем, конечно, расчетом, чтобы получать больший оброк, а впоследствии - большую выкупную ссуду. От этого недоимки на крестьянах успели уже образоваться весьма значительные, - и Бог весть, чем бы окончилось это систематическое ограбление крестьян в Белоруссии, если бы не “сдурели паны” и не учинили мятежа»63.
Ввиду такого бедственного положения западнорусских крестьян еще генерал-губернатор Назимов хлопотал о прекращении обязательных отношений между ними и помещиками, но до польского восстания 1863 г. ходатайства его оставались без всяких результатов. Когда же в Северо-Западном крае появились первые вооруженные банды, Император Александр II указом 1 марта 1863 года повелел немедленно прекратить обязательные отношения крестьян к помещикам и учредить поверочные комиссии для рассмотрения состоявших между помещиками и крестьянами сделок.
К счастью и для крестьянства С.-З. края, и для всей России приведение в исполнение этого благодетельнейшего для крестьянства указа попало в руки М. Н. Муравьева.
Своим острым и ясным умом М. Н. Муравьев скоро постиг величайшую важность того дела, которое пришлось ему совершить. Он пре -красно видел, что для умиротворения края и для поддержания в нем спокойствия в будущем необходимо поставить крестьян в возможно лучшие экономические условия и возможно больше ограничить влияние на них помещиков. Факты жизни ясно указывали ему, что крестьяне, не имеющие прочной оседлости и не наделенные землей в более или менее достаточных размерах, часто увлекаются ложными обещаниями злонамеренных подстрекателей к участию в беспорядках, тогда как крестьяне, пользующиеся земельными участками, постоянно оставались верными своему долгу, не поддаваясь влиянию возмущавших их против законного правительства мятежников. Проникнутый такими убеждениями, он естественно придавал величайшее значение работам по имевшей совершиться под его руководством выкупной операции.
«Обнимая собою все поземельные отношения владельцев к бывшим их крестьянам, - говорит Муравьев в одном из своих предложений губернаторам, - выкупная операция имеет своим последствием обеспечение быта крестьян, определяет повинность, соответствующую их средствам, помогает через это народному образованию и вообще способствует устройству края на обновленных началах». Придавая такое важное значение выкупной операции, Муравьев ни в каком случае не мог оставить этого дела в руках прежних мировых посредников - поляков. Для выполнения такой важной меры он пригласил на должности мировых посредников людей русских, которым крестьянство края в значительной степени обязано устройством своего быта. Затем граф Михаил Николаевич с особенным вниманием следил за действиями поверочных комиссий и в течение своего двухлетнего управления краем издал для руководства их множество (более 60) всевозможных инструкций, разъяснений, а нередко и весьма существенных дополнений к общим положениям, что вызывалось особенными местными условиями. Так, при самом начале работ поверочных комиссий крестьяне часто начали подавать заявления, касающиеся преимущественно следующих предметов: 1) неверного обозначения в составленных при прежних посредниках выкупных актах общего в селении количества земли, 2) совершенного непоказания неудобных земель, 3) отобрания покосов и стеснения в выгонах, 4) невключения в надел земель, бывших в их пользовании, до обнародования Положений 19 февраля 1861 года, и 5) неправильного исчисления повинностей. Поверочные комиссии не имели разрешения разбирать эти жалобы и нередко должны были прекращать свои работы. Убедившись в справедливости жалоб крестьян, Муравьев нашел возможным и необходимым «для более успешного хода дела пре -доставить Комиссиям право входить в разбирательство жалоб на неправильное составление уставных грамот, постановлять по такого рода делам свои решения и немедленно исправлять все замеченные неточности, предоставляя крестьянам в собственность посредством выкупа все следующие им по местному Положению земли»64.
Таким способом графу М. Н. Муравьеву удалось сделать чрезвычайно много для блага крестьян и в значительной степени поднять благосостояние огромной массы их.
Во время работ поверочных комиссий выяснилось, что многим из бывших помещичьих крестьян грозит опасность остаться безземельными. Так, у некоторых из крестьян отобраны были помещиками находившиеся в их пользовании земельные участки уже после обнародования Положения 19 февраля 1861 г. Еще более оказалось таких крестьян, у которых отобраны были помещиками земельные их участки после составления инвентарей и особенно в период времени между 19 февраля 1861 г. и 20 ноября 1857 г., когда дворянство края всеподданнейше заявило о благих намерениях своих устроить быт поселенных на их землях крестьян на лучших, чем прежде, основаниях. К этим же оставшимся без земельных наделов следовало отнести и довольно многочисленный класс вольных людей, в состав которых входили бывшие крепостные, освободившиеся от крепостной зависимости как до 20 ноября 1857 года, так и после этого срока до 19 февраля 1861 г. Наконец, сюда же относились обезземеленные крестьяне, бывшие лесными сторожами.
М. Н. Муравьев сделал все возможное, чтобы дать им хоть небольшие наделы. «Водворение крестьян, лишенных своих участков и ничем ровно не обеспеченных, я признаю, - говорит он в циркуляре 17 августа 1863 г., - совершенно необходимым для умиротворения края и отнятия на будущее время у крамольников возможности, пользуясь стесненным положением безземельных крестьян, привлекать их на свою сторону». Соответственно этому в тех случаях, когда земля, неправильно отобранная у крестьян помещиками, оставалась незанятой, она поступала в надел обездоленных в размерах, определенных Положением; когда же этого сделать было нельзя, им отводимы были наделы в размерах 3 десятин. Получили обратно свои наделы в значительных размерах и те крестьяне, которые были лесными сторожами. Что касается вольных людей, то те из них, которые переведены в это сословие из бывших крепостных после 20 ноября 1857 г., сравнены были с крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, во всех правах как личных - по имуществу, по состоянию, так и по поземельному устройству и общественному управлению, если только сами они не хотели причисляться в другое звание; причисленным же в это сословие прежде 20 ноября 1857 г. облегчена возможность выкупа тех участков, которыми они владели по договорам с владельцами, и обеспечено спокойное пользование этими участками впредь до окончания срока установленных между ними и владельцами договоров.
Изложенными мерами графу М. Н. Муравьеву удалось в значительной степени уменьшить число безземельных крестьян. Но за всем тем оказалось немалое число таких безземельных крестьян, на которых установленные законом правила не могли быть распространены. Это были так называемые батраки и кутники. М. Н. Муравьев, желая хоть сколько-нибудь обеспечить и этих бедняков, предложил губернаторам «обратить внимание гг. мировых посредников и членов поверочных комиссий на положение батраков и кутников, и просить их при всяком удобном случае разъяснять крестьянам и склонять их к облегчению положения сих людей предоставлением им, на праве выкупа, земли для устройства усадьбы с огородом, отнюдь не допуская каких-либо понудительных к сему мер»65.
Вместе с освобождением от крепостной зависимости крестьяне получили свое особое общественное управление: каждое сельское общество, или мир, решает свои домашние дела на сельском сходе; исполнителем этих решений является выбранный миром (на 3 года) староста; из нескольких сельских обществ составляется волость, делами которой заведует волостное правление с волостным старшиной и волостным писарем во главе; при волостном правлении находится волостной суд. Это общественное крестьянское управление введено было своевременно и в западной России, но оно получило здесь совершенно особый характер. «Из замечаний членов поверочных комиссий, - свидетельствует один официальный документ, - сделанных ими во время объезда волостей... оказывается, что под влиянием бывших мировых учреждений общественное крестьянское управление находилось в самых неблагоприятных условиях: права крестьян, дарованные им Положениями 19 февраля 1861 года, оставались им почти неизвестны; вследствие сего волостные старшины, назначенные по большей части по настоянию помещиков и бывших мировых посредников, в видах ограждения их личных интересов и стеснения самостоятельности крестьян распоряжались самоуправно, под руководством их или поставленных от них писарей общественными делами, а волостные и сельские сходы не имели надлежащего значения; сельские старосты были по преимуществу нарядчиками на господские работы и ограничивались надзором за их исправностью; крестьяне по распоряжению своих должностных лиц, поддерживаемых помещиками, подвергались телесным наказаниям в совершенно произвольном размере; о волостном суде крестьяне не имели и понятия; дела спорные между крестьянами решались старшинами или волостными писарями, а судьи прикладывали только свои печати к решению, записываемому в книгу приговоров волостного схода; часто также крестьяне теряли время и несли напрасные издержки, обращаясь в своих спорах в общие присутственные места»66. Против такого нарушения помещиками прав крестьян, дарованных Положениями, Муравьев принял самые решительные меры и издал по этому поводу целый ряд распоряжений. Так, он неоднократно предлагает мировым посредникам разъяснять крестьянам их права и значение крестьянского самоуправления 67, предписывает устранять неблагонадежных волостных писарей68, торопить губернаторов «без всякого замедления» произвести в сельских обществах новые выборы волостных старшин и сельских старост69и т.д., причем особенно настаивает, чтобы выборы произведены были без всякого влияния помещиков и дворовых управлений.
Такая благотворная деятельность Муравьева по устройству быта крестьян «на прочных и незыблемых началах» естественно возбуждала в крестьянах чувства глубочайшей верноподданнической преданности к Государю Благодетелю и глубочайшей благодарности к графу Муравьеву, исполнителю воли Государевой. Михаил Николаевич не раз имел возможность убедиться в этом. «Отовсюду, - говорит он в своих записках, - я получал от крестьян депутации с благодарственными адресами; везде крестьяне молились торжественно за Государя, даровавшего им свободу, присылали адресы и устраивали часовни и образа во имя Александра Невского, словом, всеобщее было торжество крестьян, которые вполне передались на сторону правительства и нелицемерно благодарили Государя за все оказанные милости». Император Александр II, в свою очередь, вполне оценил верность западнорусских крестьян. Так, в Двинске он «очень благодарил» казаков сельской стражи и сказал им: «Когда вы возвратитесь в свои дома, то скажите вашим отцам, что я и их благодарю за вашу верную и усердную службу», а в Вильне 8 июля 1864 года обратился к крестьянской депутации со следующими знаменательными словами: «Я для вас сделал все, что мог; благодарю вас за вашу верность. Повинуйтесь поставленным над вами властям и исполняйте повинности, установленные для вас Положением. Этим вы докажете мне вашу благодарность за все дарованные вам права и льготы»70.
Глава VIII
Заботы графа Муравьева о построении православных церквей. — Судьба древних виленских церквей. — Восстановление Пречистенского собора. — Восстановление Пятницкой церкви. — Возобновление Николаевской церкви. — Виленские часовни. — Пожертвования. — Православное духовенство во время польского восстания 1863 г. — Заботы графа Муравьева об улучшении быта православного духовенства. — Заботы графа Муравьева о народном образовании
До приезда графа Муравьева в Вильну в 1863 г. православные храмы в Северо-Западном крае находились в самом бедственном состоянии, а во многих селах для православных крестьян и совсем не было храмов. На последнее обстоятельство обратил внимание еще Император Николай I и в 1852 году повелел обязать помещиков выстроить для своих крестьян новые храмы, где таковых не имелось, и исправить старые 71. Желая побудить помещиков в точности выполнить это Высочайшее повеление, Муравьев обратился с предложением ко всем губернаторам Северо-Западного края доставить ему «в самом непродолжительном времени подробные сведения о том, в какой степени была исполнена Высочайшая воля, по каждой церкви особо, и представить ему свои заключения с изложением самых причин замедления, буде таковые оказались при исполнении Высочайшего повеления, и кто в том виновен»72. В то же время деятельный начальник края с необыкновенным усердием и сам принялся за сооружение православных храмов. Ассигновав на этот предмет весьма значительные суммы, он разослал губернаторам более 70 предложений о сооружении новых и об исправлении старых церквей и следить за выполнением этих предложений с особенным вниманием. Повсюду закипела работа: в губернских городах, в уездных, в местечках, в селах; в одном месте строили новую церковь, в другом исправляли старую, в третьем переделывали в церковь закрытый костел и т.д. «Архитекторы Резанов и Чагин, - говорит один современник, - не успевали рассматривать проектов, поступающих из уездов». Трудно теперь перечислить все построенные тогда храмы, но можно с полной справедливостью сказать, что после двухлетнего пребывания графа Муравьева в Северо-Западном крае там не осталось уголка, где бы более или менее значительное число православных не имели своей церкви.
Наибольшее внимание граф Муравьев обратил на Вильну. Этот город, служивший некогда столицей обширного Литовско-Русского государства, еще в начале XVI века жил чисто русскою жизнью. Русские составляли здесь большинство населения и занимали большую и лучшую часть города. Неудивительно поэтому, что Вильна славилась тогда как великолепием, так и многочисленностью своих православных церквей. Тут был знаменитый Пречистенский собор, при котором долго жили митрополиты, Николаевская церковь, Пятницкая, Троицкий монастырь и много других. По свидетельству вполне достоверных источников, в Вильне в начале XVI века было 14 православных церквей73, но с течением времени церкви эти под давлением католичества пришли в полное запустение, а от многих из них не осталось и следа. Вот что, например, пришлось пережить Пречистенскому собору. Основанный по преданию в XIV в. Великим князем Литовским Ольгердом, он тогда же был освящен святителем Алексием во имя Успения Пречистой Девы Марии и усвоил два названия: Успенский и Пречистенский. С 1416 г. при нем жили западнорусские православные митрополиты, и он считался кафедральным собором для всего государства. В 1609 году его забрали униаты. С тех пор бывшая кафедра православных митрополитов стала клониться к постепенному запустению, а огромный пожар в 1748 г., уничтоживший палаты митрополита, сильно повредил собор внутри и снаружи. В 1785 году униатский митрополит Юноша-Смогорневский возобновил Пречистенский собор, но уже с латино-униатской архитектурой, без купола и башен. В 1795 г., с упразднением униатской митрополии в России, закрылась и митрополичья кафедра, а в начале настоящего столетия, по ходатайству князя Адама Чарторыйского, бывшего тогда попечителем Виленского учебного округа, собор отдан был Виленскому университету, который обратил его в анатомический театр и ветеринарную клинику. В таком постыдном унижении Пречистенский собор находился до 1863 года. Граф Муравьев, заботившийся вообще о поднятии православия в крае, особенное внимание обратил на эту древнюю православную святыню и решил ее восстановить. 22 октября 1864 года он издал распоряжение о возобновлении Пречистенского собора и на первые расходы ассигновал 25 тысяч рублей, а затем открыл, с Высочайшего разрешения, по всей России подписку. Закончено было возобновление древнего храма в 1868 г., уже по смерти Муравьева.
С такой же заботливостью отнесся М. Н. Муравьев к возобновлению другой виленской церкви - св. Параскевы, или Пятницкой, судьба которой вполне напоминает судьбу Пречистенского собора. Основанная в XIV в., она сначала была придворной церковью, потом попала в руки униатов, несколько раз подвергалась пожарам и к 1863 году представляла развалины, которые служили местом склада нечистот. Между прочим, в этой церкви, по преданию, Петр Великий слушал литургию и совершал благодарственное молебствие по случаю одержания победы над шведами; здесь же Петр крестил Аннибала, деда поэта Пушкина. Возобновление Пятницкой церкви закончено было в 1865 году.
Третья древняя виленская церковь в честь перенесения мощей св. Николая Чудотворца была возобновлена при следующих обстоятельствах. В конце 1863 года русское население Вильны предположило в благодарность графу М. Н. Муравьеву за умиротворение края и водворения в нем русских начал соорудить храм во имя св. Михаила Архангела, но Муравьев отклонил это и выразил желание, чтобы жертвуемые на сооружение храма суммы были обращены на восстановление и обновление церкви св. Николая. Открытая затем подписка доставила сбор в 82 431 руб., но при этом жертвователи пожелали одновременно с реставрированием церкви устроить при ней часовню во имя Архистратига Михаила. После расчистки места и сломки выкупленных домов, заслонявших церковь, древнейшая русская святыня восстановлена по проекту известного архитектора А. И. Резанова и освящена в 1865 г. Тому же зодчему принадлежит и проект при церкви часовни, которая была освящена 8 ноября 1869 года.
Кроме восстановления древних виленских святынь граф М. Н. Муравьев устроил еще новый иконостас в Николаевском кафедральном соборе, на что исходатайствовал 80 тысяч руб., а потом переделал и наружный вид этого храма. «Много памятников, живо возглашающих его имя, оставил граф Муравьев в Вильне и по всему Северо-Западному краю, - сказал Виленский архиепископ Иероним при освящении закладки памятника графу Муравьеву в Вильне. - Пойдем в кафедральный собор, кто пересоздал этот храм? - граф Муравьев; посетим Пречистенский собор и храмы Пятницкий и Николаевский, кто воссоздал их? -граф Муравьев; зайдем в Свято-Духов и Троицкий монастыри, какие и от кого у них средства к существованию? - от графа Муравьева; кому обязаны своим вполне приличным помещением рассадники духовного просвещения - семинария, духовные мужское и женское училища и все учебные заведения Министерства народного образования? - ему же, графу Муравьеву; кто положил начала обители женской и дал средства к ее существованию? - он же, граф Муравьев. Вне Вильны, в пределах епархии Литовской, сколько есть живых памятников - сельских церквей, возобновленных и устроенных графом Муравьевым».
К числу таких памятников, оставленных графом Муравьевым, относятся еще две виленские часовни - Александровская и Георгиевская.
Первая из них - Александровская, находится на Георгиевской площади в Вильне. Она сооружена в 1865 году на добровольные пожертвования городских обществ Северо-Западного края в воспоминание доблестных подвигов русских воинов и для поминовения тех из них, которые пали на поле брани, защищая права России и законного правительства против мятежа и крамолы. Часовня представляет собою выдающееся архитектурное произведение русско-византийского стиля.
Вторая часовня - Георгиевская - находится на Виленском православном кладбище. При погребении русских воинов, павших в окрестностях Вильны в битвах с польскими мятежниками, возникла мысль увековечить память погибших устройством на их могилах часовни-памятника. На суммы, пожертвованные Государыней Императрицей Марией Александровной и ее Августейшими детьми, а также собранные по подписке и была устроена Георгиевская часовня. Подобно Александровской, и эта часовня представляет вполне художественное произведение византийского стиля. Она поставлена на гранитном пьедестале; на трех наружных сторонах ее среди колонн вделаны большие мраморные доски, на которых увековечены имена павших и здесь погребенных воинов. Внутри часовни помещена икона св. Георгия, писанная академиком Тихобразовым. Георгиевская часовня была освящена 25 августа 1865 г.
Одновременно с сооружением в Северо-Западном крае церквей, сюда стали присылать со всех концов России пожертвования церковной утварью, иконами и богослужебными книгами. Пожертвования эти были весьма значительны. По свидетельству «Литовских епархиальных ведомостей», в 1863 году в одну только Литовскую епархию прислано было разных церковных вещей на 60 тысяч рублей74. В то же время сам граф Муравьев позаботился о высылке во все приходы Северо-Западных губерний крестиков для новокрещеных младенцев. «Желая содействовать, - писал он Литовскому митрополиту Иосифу, - восстановлению между здешним православным сельским населением общепринятого издревле во всей России обычая носить на груди и возлагать при крещении на младенцев наперсные кресты, я уже сделал распоряжение о приобретении для сей цели нескольких сот тысяч простых крестиков из меди и латуни, а также о доставлении мне из С.-Петербурга и Москвы 25 тысяч мельхиоровых крестиков»75. В этом деле приняла участие и Государыня Императрица Мария Александровна. Она, со своей стороны, пожаловала в каждый из приходов четырех западных епархий по одному наперсному серебряному кресту, а Великая княгиня Александра Петровна пожертвовала 1000 вызолоченных крестиков. Литовский митрополит Иосиф, тронутый таким сочувствием русского общества к бедному населению Северо-Западного края, предписал духовенству разъяснить прихожанам важное значение этих жертв, как выражающих сочувствие к ним со стороны единоверных и единокровных православных братьев, в том числе самого Государя Императора и всего Царствуюшего дома.
Заботясь о построении православных церквей, граф М. Н. Муравьев всеми средствами старался улучшить и быт православного духовенства, которое всегда стояло на страже православия и русской народности.
Еще до начала открытого восстания в 1861 году поляки начали распространять мятежные воззвания между православными людьми, желая склонить их на свою сторону. Тогда Литовский митрополит Иосиф обратился к духовенству со следующим замечательным наставлением: «Эти воззвания и внушения сколько дерзки, столько же и невежественны. Нам указывают на Польшу, но какое нам дело до Польши? Мы русские, дети бесчисленной русской семьи, потомки Св. Владимира, мы родились в России, присягали на верность Русскому Царю. Нас стращают поляками! Не потому ли, чтобы напомнить нам вековые страдания наших отцов, присоединившихся было доверчиво вместе с Литвой к Польше? Нам указывают на униатскую веру! Как будто была или даже могла быть униатская вера? Не была ли уния лишь коварной приманкой для отклонения отцов наших от России и от искони православной церкви? Не была ли эта несчастная уния орудием тяжких терзаний и гонений в течение трехсот лет, пока мы, потомки гонимых, не обрели, наконец, тихого пристанища на лоне России и своей матери православной церкви». В заключение знаменитый архипастырь внушает православному духовенству блюсти в настоящее время с особенным старанием вверенные ему паствы. И надо отдать справедливость, духовенство с честью исполнило долг пастырей русского православного народа. В «Литовских епархиальных ведомостях» за 1863 год существовал особый отдел: «Страдания православного духовенства Литовской епархии от польских мятежников», из которого видно, что повстанцы разными средствами принуждали священников к присяге своему мнимому правительству, грабили их, подвергали всевозможным унижениям и оскорблениям, а трех достойных пастырей, Прокоповича, Ропацкого и Конопасевича даже повесили, но ни один православный священник во все время восстания не изменил своему долгу.
Граф М. Н. Муравьев вполне оценил самоотверженную деятельность православного духовенства и принял все меры к улучшению его быта. С этою целию он исходатайствовал для духовенства северо-западных губерний 400 тысяч рублей ежегодной прибавки к его жалованию, что весьма значительно увеличило содержание священников, как городских, так и сельских. Первые стали получать до 400 руб. в год, а вторые не менее 220 рубл., между тем как прежде некоторые из них получали по 80 рубл. в год. Затем граф Муравьев обратил внимание на церковные земли, имеющие такое важное значение в жизни сельского духовенства. «До сведения моего дошло, - пишет он в одном циркуляре, - что церковные земли православных причтов, а нередко и самые усадьбы, находятся далеко от церквей, так что священно- и церковнослужители вынуждены бывают ездить туда за несколько верст. Имея в виду, что, кроме неудобства, подобные отводы земель делались с умыслом польскими помещиками во вред Православию, и обращая на это внимание В<ашего>. П<ревосходительства>., покорно прошу немедленно распорядиться по приведении всего вышеизложенного в известность, если по каким-либо причинам не может вся земля быть прирезана близ церквей, то во всяком случае усадьба с некоторым количеством огородов для священно- и церковнослужителей должна быть непременно отведена близ самых храмов»76. Вследствие этого распоряжения земельные угодия православного духовенства значительно улучшились. Наконец граф Муравьев охотно давал средства на улучшение духовных учебных заведений, как мужских, так и женских. Все эти меры не только улучшили материальное положение православного духовенства, но и способствовали подъему его духа.
Заслуги графа М. Н. Муравьева пред Россией по распространению образования в Северо-Западном крае в русском духе поистине громадны.
Никто не будет отрицать, что и до 1863-1865 гг. не было сделано усилий к тому, чтобы дать школе Северо-Западного края русский характер. Об этом думали многие и кое-что было сделано в этом направлении. Но до Муравьева в распоряжении школы не было наиболее сильного средства воздействовать на учащихся в русском смысле. Литовский святитель Иосиф еще в 30 году указывал на это средство. Непременно, писал он, нужно наполнить светские училища одно за другим русскими учителями, а между тем распорядиться, дабы обучающиеся в ведомстве Виленского университета не могли быть учителями, разве продолжая некоторое время учение в русских университетах. Но это глубоко верное замечание по разным причинам осталось в свое время без исполнения, и школа Северо-Западного края, по преобладанию в преподавательском ее составе поляков, оставалась польскою. При М. Н. Муравьеве личный состав преподавателей во всех ученых заведениях края радикально изменился: место поляков заняли в училищах русские. Мера эта, имевшая огромное значение в деле воспитания здешнего юношества, требовала, само собой понятно, притока в школы весьма значительного числа способных, знающих, деятельных и вполне благонадежных кандидатов. И таких кандидатов М. Н. Муравьев нашел достаточное количество. Назначением 50% дополнительного жалованья к получаемым учителями окладам, назначением двойных прогонов и полугодовых окладов для русских преподавателей, вызванных из русских губерний, устранены были затруднения к приисканию новых учителей, и учебный 1864-1865 г. мог начаться при возобновленном чисто русском составе. Вместе с этой капитальной мерой приняты были и другие, направленные к той же цели. Как известно, в первой половине года масса учащихся р<имско>.-католического исповедания с учителями и законоучителями-ксендзами в некоторых местах оставили учебные заведения, чтобы примкнуть к мятежным шайкам. Большинство их не вернулось в учебные заведения, и ряды обучающихся римско-католического исповедания сильно поредели. Ряды эти стали пополняться преимущественно православными, детьми лиц православного исповедания, как прибывших в край на службу, так и местных уроженцев. М. Н. Муравьев со своей стороны горячо желал увеличения количества православных в учебных заведениях и, имея в виду, что многие родители нуждаются в средствах дать воспитание своим детям, в 1864 г. передал в распоряжение попечителя округа 5000 р. для раздачи беднейшим ученикам православного исповедания, обучающимся в гимназиях и уездных училищах округа. С началом 1863-1864 уч. года не только было прекращено преподавание польского языка в русских учебных заведениях, но и Закон Божий р.-кат. исповедания ксендзы обязаны были начать преподавать по-русски. Место исчезнувшего из заведения польского языка занял язык русский, который и стал обыкновенным разговорным языком всех учащихся без различия вероисповеданий. Благодаря этим и другим такого же рода мерам учебные заведения вышли из прежнего фальшивого положения и стали на твердую русскую почву, а православные ученики, усилившиеся теперь в числе, вышли из прежнего страдальческого положения и поднялись нравственно.
В ряду учебных заведений обращали на себя особенное внимание М. Н. Муравьева низшие училища, стоящие в ближайших отношениях к народу. Города Северо-Западного края всегда служили центрами, из которых распространялась по уездам польская пропаганда. Поэтому распространение в городах русской грамотности и образования в русском духе было делом первой необходимости и, по мысли М. Н. Муравьева, приходские училища в городах в 1864 г. были преобразованы, причем в губерниях Виленской, Гродненской и Минской значительно увеличены штаты училищ и оклады содержания наставников, и на эти должности определены нарочно вызванные из внутренних губерний воспитанники православных семинарий.
В Вильне вместо бывших трех приходских училищ с весьма малым числом учеников (52 в конце 1863 г.) открыто шесть приходских училищ, на ежегодное содержание которых к прежде отпускавшимся 4059 руб. добавлено 6411 руб. На подобные же училища в губернских городах Минске, Гродне и Ковне и в уездных городах и местечках Виленской, Минской и Гродненской губерний добавлено на годовое содержание 15 516 р. В 1864 году добавочные суммы на содержание училищ отпущены из денег, имевшихся в распоряжении М. Н. Муравьева; обязанность содержать эти училища возложена на городское управление.
Количество народных школ увеличивалось очень быстро. К 1 января 1863 г. их считалось 101; к 1 января 1865 г. в ведении Управления округа в губерниях Виленской, Гродненской и Минской было 329 народных с 14 384 учащихся. Чтобы облегчить крестьянам устройство помещений для этих училищ, М. Н. Муравьев по соглашению с министром государственных имуществ разрешил 16 октября 1863 г. даровой отпуск строевого леса из казенных дач по 360 корней и 62 жерди на каждое училище. Чтобы облегчить крестьянам тяжесть расходов по устройству училищ, заботливый генерал-губернатор 2 декабря 1863 г. отпустил в распоряжение попечителя округа 25 000 р. В 1864 г. М. Н. Муравьев разослал более миллиона крестиков для безмездной раздачи православным крестьянам и более 70 000 икон и картин священного содержания для раздачи народу и учащимся. А чтобы упрочить положение училищ в денежном отношении без обременения крестьян и на будущее время, он в конце 1864 г. предложил начальникам губерний распорядиться, чтобы мировые посредники, каждый в своем участке, внушали крестьянам-собственникам постановлять приговоры об ежегодном взносе на содержание училищ по РУ - 2 коп. с каждой десятины удобной земли.
Для новых училищ нужны были добросовестные, благонадежные в русском смысле наставники. Таких наставников новых школ дал в возможном числе приснопамятный митрополит Иосиф в лице членов церковных причтов, а остальные места заняли приглашенные из внутренней России воспитанники духовных семинарий. А чтобы училища на будущее время не чувствовали недостатка в хорошо подготовленных учителях, 3 ноября 1864 года открыта в м. Молодечне учительская семинария.
Всячески содействуя умножению народных училищ, М. Н. Муравьев с особенной энергией добивался того, чтобы народ получал образование непременно в русском духе. В этом отношении особенно замечателен его циркуляр 1 января 1864 года. Он поручает начальникам шести губерний края «предписать немедленно всем уездным начальникам, а также уездным и городским полициям и в особенности мировым посредникам зорко наблюдать, дабы, кроме православного духовенства, никто не занимался обучением крестьян без предварительного получения на то дозволения от училищного начальства; равным образом, чтобы ни под каким видом и ни в каких сельских училищах не был преподаваем польский язык, а в тех местностях, где находятся православные крестьяне, отнюдь они не были бы обучаемы польскому катехизису. Всем поименованным выше властям поставить в непременную обязанность, чтобы они не допускали распространения между сельским населением польских букварей и иных учебных книг на польском языке, издаваемых большею частию в духе и с целию возбудить народ против правительства, и если окажется, что помещик, его уполномоченный или его дворовое управление снабжают крестьян польскими учебниками и распространяют между православными польские катехизисы, то таковых помещиков облагать штрафом от 200 до 600 р., смотря по величине имения; учителей же подвергать штрафу в 100 рублей и затем брать их под арест для дальнейших распоряжений. Равным образом, если окажется, что католические ксендзы будут заниматься распространением польской грамотности между крестьянами, то таких ксендзов облагать удвоенным штрафом против установленного для учителей, а с тех ксендзов, которые будут обучать православных крестьян польскому катехизису, взыскивать штраф в 300 р. и, подвергая их аресту, доносить мне о них для дальнейшего распоряжения».
Одновременно с улучшением положения христианских приходских училищ приняты были меры и к открытию училищ для евреев. Вместо бывших в Ковне и Вильне двух перворазрядных училищ в январе 1864 г. открыты были в Ковне три, а в Вильне 8 двухклассных училищ. На содержание этих училищ в дополнение к отпускавшимся на этот предмет суммам главным начальником края прибавлено 9664 р. Через год М. Н. Муравьев счел нужным предложить виленскому губернатору:
1) строго наблюдать, чтобы все еврейские мальчики непременно обучались в устроенных для того школах и с тех, которые не будут посылать своих детей учиться, взимать штраф;
2) возложить на депутатов еврейского общества и раввинов, чтобы они наблюдали за исполнением родителями обязанности обучать своих детей русскому языку.
Сказанным далеко не исчерпывается все, что сделано графом М. Н. Муравьевым, но и сказанного достаточно, чтобы показать, как много сделал доброго в этой области М. Н. Муравьев в течение двух лет пребывания в крае.
Нужно, впрочем, прибавить, что сотрудниками М. Н. Муравьева были такие лица, как князь А. П. Ширинский-Шихматов и И. П. Корнилов. Без их содействия и усиленных трудов и М. Н. Муравьеву не удалось бы сделать многого из того, что он сделал в области народного образования.
Глава IX
Значение деятельности графа Муравьева. — Отношение к графу Муравьеву Императора Александра II. — Отношение к графу Муравьеву русского общества. — Отставка и смерть графа Муравьева
Граф Михаил Николаевич Муравьев в свое двухлетнее управление Северо-Западным краем сослужил великую службу Царю и Отечеству. Он усмирил польский мятеж, обессилил польский элемент в крае, на который поляки предъявляли свои неосновательные притязания, водворил в нем русские начала и поддержал там Православие. По своей дальновидности и опытности этот истинно русский государственный человек не оставил ни одной отрасли управления в Белоруссии и Литве без преобразования в духе, отвечающем интересам Русского государства и Православной церкви. И все, что им сделано, начиная с проведения крестьянской реформы, этого краеугольного камня по водворению в крае русской народности, сделано прочно, и прочно настолько, что последовавшие затем некоторые изменения в управлении Северо-Западным краем не могли поколебать ни общего направления дел, ни частностей его. «В короткое, только двухлетнее, управление краем, - говорит один из бывших мировых посредников, - граф Муравьев сослужил великую службу России и местному угнетенному народу, сослужил потому, что, сверх качеств своего характера и ума, сверх жизненной и государственной опытности, обладал высоким сознанием своего долга по отношению к Отечеству и, смело скажу, даже по отношению к упомянутому народу»77.
Император Александр II, назначив графа Муравьева главным начальником шести северо-западных губерний, всегда утверждал предлагаемые им меры и выражал полное одобрение его системе управления. «Мне приятно объявить вам, - пишет Государь Муравьеву с своем рескрипте от 3 августа 1863 г., - Мою особую искреннюю признательность за вашу добрую и полезную службу Мне и России в нынешнее многотрудное время. Отдаю полную справедливость вашему самоотвержению и вашему умению вести дело, за которое вы взялись. Желаю вам здоровья и надеюсь, что Бог поможет вам скоро довершить умиротворение вверенного вам края» 78. «Из письма вашего от 3 числа сего августа, -пишет Государь в другом рескрипте от 9 ноября 1863 г., - Я усматриваю, что дело умиротворения вверенного управлению вашему края быстро приближается к окончанию. Благодаря вашему верному взгляду, вашей распорядительности, настойчивости и неутомимой деятельности при исполнении предначертанного вами себе плана это дело с самого вступления вашего на то трудное поприще, на которое вас призвало Мое к вам доверие, ни на одно мгновение не останавливалось на пути к цели и не уклонилось от этого пути». Выразив далее сожаление по поводу просьбы Муравьева об освобождении его вследствие расстроенного здоровья от лежащих на нем обязанностей, Государь говорит: «Соболезную вам, но вместе с тем полагаюсь на самоотвержение ваше и на испытанную преданность Мне и России. Надеюсь, что эти чувства поддержат ваши силы и позволят вам хотя бы еще на некоторое время удержать за собою управление вверенным вам краем. Чем долее вы это будете признавать возможным, тем более принесете вы прочной пользы России и тем более приобретете право на Мою искреннюю и неизменную к вам признательность»79. Кроме того Император Александр II 30 августа 1863 года, в день своего тезоименитства, пожаловал Муравьеву орден Андрея Первозванного, а 8 июля 1864 г., во время посещения Вильны, выразил ему особое благоволение. Подъехав на смотру к Пермскому пехотному полку, Государь стал перед ним, скомандовал «на караул» и, отдавая честь графу Муравьеву, поздравил его шефом этого полка. Наконец, 17 апреля 1865 г., при увольнении Муравьева от должности главного начальника Северо-Западного края, Государь возвел его в графское достоинство. При этом Михаил Николаевич Муравьев получил следующий милостивый рескрипт, который прекрасно характеризует его многотрудную и в высшей степени полезную деятельность в Северо-Западном крае: «Граф Михаил Николаевич! Я призвал вас к управлению северо-западными губерниями в то трудное время, когда вероломный мятеж, вспыхнувший в Царстве Польском, распространялся в их пределах и уже успел поколебать в них основные начала правительственного и гражданского порядка. Несмотря на расстройство вашего здоровья, вследствие которого, незадолго пред тем, Я должен был снизойти на просьбу вашу об увольнении вас от одновременного управления Министерством государственных имуществ, Департаментом уделов и Межевым корпусом, вы с примерным самоотвержением приняли на себя вверяемые Мною вам новые обязанности, и при исполнении их оправдали в полной мере Мои ожидания. Мятеж подавлен; сила правительственной власти восстановлена; общественное спокойствие водворено и обеспечено рядом мер, принятых с свойственными вам неутомимою деятельностью, распорядительностью, знанием местных условий и непоколебимою твердостью. Вы обратили внимание на все отрасли управления во вверенном вам крае. Вы осуществили и упрочили предначертанное Мною преобразование быта крестьянского населения, в огромном большинстве верного своему долгу и ныне снова ознаменовавшего глубокое сознание древнего и неразрывного единства Западного края с Россией. Вы озаботились улучшением быта православного духовенства, восстановили в народной памяти вековые святыни православия, содействовали устройству и украшению православных храмов и, вместе с умножением числа народных училищ, положили начала преобразования их в духе Православия и русской народности. Подвиги ваши вполне Мною оценены и приобрели вам то всеобщее сочувствие, которое столько раз и с разных сторон вам было засвидетельствовано. К крайнему Моему прискорбию, ваши непрерывные и усиленные занятия еще более расстроили здоровье ваше, и вы снова заявили Мне о невозможности долее исполнять лежащие на вас многотрудные обязанности. Снисходя к желанию вашему и с сожалением увольняя вас от занимаемых вами должностей и званий, кроме звания члена Государственного совета, Я вместе с тем, в ознаменование Моей к вам признательности и в увековечение памяти о заслугах ваших пред Престолом и Отечеством, указом, сего числа Правительствующему Сенату данным, возвел вас, с нисходящим потомством, в графское Российской империи достоинство».
У графа М. Н. Муравьева, как и у всех выдающихся государственных мужей, поставленных стечением обстоятельств в условия широкой деятельности, было немало врагов. Обвиняли его главным образом в том, что он был жесток и без всякой пощады расстреливал и вешал мятежников. Но справедливо ли это обвинение? На этот вопрос мы ответим словами известного писателя В. В. Комарова, сказанными им в прошлом году. Мнение этого почтенного деятеля особенно важно ввиду того обстоятельства, что он во время польского восстания сам служил в Западном крае, был свидетелем и очевидцем происходивших там событий и, конечно, лучше других может разъяснить их, в особенности по истечении такого продолжительного времени, когда можно было совершенно спокойно все взвесить, обдумать и обсудить. «Теперь, - говорит г. Комаров, - когда этот край вследствие двухлетнего пребывания тут М. Н. Муравьева уже 35 лет наслаждается спокойствием, мирно и спокойно живет и богатеет, трудно даже представить, что было в 1863 году. С началом 1863 г. на всем пространстве Западного края, от Варты и до Днепра, появились вооруженные банды мятежников. С чего они начали? Они начали с того, что вырезали несколько десятков безмятежно спавших русских солдат! Они продолжали невероятными по дерзости и нахальству предприятиями. Они бросились под Семятичами на спокойно стоявшее русское войско. Они думали, что могут взять крепость Динабург и готовились напасть на нее! Они появились в глубине Могилевской губернии и напали на Горки! При этом на всем пространстве края они водворили невыносимый террор, угрожая смертью и повешением русских и православных людей. По официальным, точно зарегистрированным данным, в 1863 году, истязав, замучили и повесили в одном Северо-Западном крае свыше 850 русских жителей и солдат! Что же было делать власти? Должна ли она обороняться? Что значит при таком состоянии края 200 или 300 казненных решениями военных судов мятежников, поднявших оружие против Государя и против русского народа? Или нельзя было расстрелять магната-графа, который забылся до того, что с вооруженною бандою шел в Динабург? Или нельзя было расстрелять ксендза-фанатика, взятого во главе банды с оружием в руках? Или во имя правды можно было мятежникам истязать, жечь живыми на огне и потом вешать православных священников - мучеников за русское дело и правду, а во имя той же правды нельзя казнить мятежного ксендза?
Дело не в том, что расстреливали и вешали, но в том, при каких обстоятельствах расстреливали и вешали. Как свидетель и очевидец этих событий, как сознательный деятель этого времени, скажу вам, что русская власть в 1863 г. в руках Михаила Николаевича Муравьева была только на высоте своей задачи, это была власть строгая, но глубоко справедливая; она не уронила себя жестокостью, она имела в виду одно благо, она дала жизнь, счастие и спокойствие миллионам русского народа и ни на одну минуту не переступала границ самообороны»80.
Эти слова В. В. Комарова несомненно выражают собою взгляд огромного большинства русского общества на деятельность Михаила Николаевича Муравьева в Северо-Западном крае. Уже с первых дней пребывания в Вильне граф Муравьев имел утешение видеть, что его система управления краем возбуждает в русских людях сочувствие. В конце мая 1863 г. Московский митрополит Филарет прислал графу Муравьеву в благословение икону Архистратига Михаила при следующем замечательном письме: «Было слышно и видно, что многодеятельная государственная служба вашего высокопревосходительства потребовала наконец облегчения, дабы часть должного труда была заменена долею покоя. Но как скоро царское слово вас вызвало на защиту и умиротворение Отечества, вы забыли потребность облегчения и покоя, не колеблясь приняли на себя бремя, требующее крепких сил и неутомимой деятельности, нашли новую силу в любви к Царю и Отечеству. Верные сыны Царя и Отечества узнали о сем с радостью и надеждою: ваше назначение есть уже поражение врагов Отечества, ваше имя - победа. Господь сил да совершит вами дело правды и дело мира. Да пошлет тезоименного вам небесного Архистратига, да идет пред вами с мечом огненным и да покрывает вас щитом небесным. С сими мыслями и желаниями препровождаю вам вместе с сим в благословение икону святого Архистратига Михаила». Вслед за тем редактор «Московских ведомостей», М. Н. Катков начал помещать в своей газете статьи, сочувственные деятельности графа Муравьева в Северо-Западном крае, а за «Московскими ведомостями» скоро последовали и другие газеты. «Все печатное, - говорит г. Берг, - загудело и залилось на разные тоны, кто громче, кто тише, вторя центральному звону Белокаменной, подобно тому, как откликается Замоскворечье и все другие отдаленные церкви, когда ударит в Кремле большой Успенский колокол...» Статьи газет, и в особенности «Московских ведомостей», прочитывались не только в Вильне, но во всей России с огромным интересом и производили самое сильное впечатление на русское общество. «Едва ли я ошибусь, - пишет один современник, -если скажу, что с ними народ переживал душою и умом каждый день и час смутного времени»81. Сочувствие к графу Муравьеву в русском обществе стало пробуждаться все сильнее. 8 июля 1863 года Московский английский клуб на обеде провозгласил здоровье Муравьева и постановил послать в Вильну телеграмму с выражением сочувствия к славной его деятельности. Событие это было описано в газетах, и пример был подан: вслед за этим со всех концов России от всевозможных обществ и сословий, часто даже от отдельных лиц, при всяких торжествах, стали отправляться в Вильну начальнику края сочувственные телеграммы, а иногда и весьма знаменательные адресы. Особенно много приветствий получил граф Муравьев 8 ноября 1863 года, в день своего ангела. Между прочим, высшее петербургское общество прислало ему следующее письмо: «Глубоко сочувствуя подвигам вашим на сохранение спокойствия, чести и единства любезного Отечества, мы просим вас принять ко дню вашего Ангела изображение Архистратига Михаила с надписью на образе слов из напутственного вам письма преосвященного Филарета, митрополита Московского: “Твое имя - победа”. Искренно желаем вам утешения увидеть, что успокоенный вами край возвратил себе, еще под управлением вашим, свойственный ему исконный русский склад, безвозвратно отбросив пришлые начала, вредящие естественному строю его народной жизни». Много также получил приветствий граф Муравьев при возведении его в графское достоинство и при всех других случаях. В бумагах покойного графа хранятся все эти телеграммы и адресы, составляя несколько переплетенных книг.
Государственная заслуга графа М. Н. Муравьева была так важна, общественное сочувствие к нему было так велико, что даже люди, по направлению своей деятельности ему враждебные, считали долгом восхвалять его. Так, поэт Некрасов во время торжественного обеда в петербургском английском клубе в честь графа Муравьева обратился к нему со следующим стихотворением:
Бокал заздравный поднимая, Еще раз выпить нам пора Здоровье миротворца края... Так много ж лет ему... Ура! Пускай клеймят тебя позором Надменный Запад и враги; Ты мощен Руси приговором, Ея ты славу береги! Мятеж прошел, крамола ляжет, В Литве и Жмуди мир взойдет; Тогда и самый враг твой скажет: Велик твой подвиг... и вздохнет. Вздохнет, что, ставши сумасбродом, Забыв присягу, свой позор, Затеял с доблестным народом Поднять давно решенный спор. Нет, не помогут им усилья Подземных их крамольных сил. Зри! Над тобой, простерши крылья, Парит архангел Михаил!Более всего, конечно, было признательно графу Муравьеву русское население Западного края. Оно воздвигало в память его часовни, ставило образа, открывало учебные заведения и т.п., а крестьяне просто боготворили его. «Если мы обязаны свободой Царю-Освободителю, -сказано в одном их адресе, - то спокойствием нашим обязаны тебе, батюшка, Михаил Николаевич! Вот почему с радостью и усердием приносим мы тебе початок от плодов родной земли, нашу хлеб-соль, и молим Господа, чтобы он сохранил тебя не только для нас, но и для блага всего нашего издревле Западнорусского края»82.
Все эти многочисленные выражения сочувствия, не прекратившиеся до самой смерти графа Муравьева, имели для него огромное значение. Они доказывали, что действия его оцениваются в их истинном свете, и поддерживали его силы в столь продолжительной и упорной борьбе. «Заявления благодарности России, - говорит граф Муравьев в своих записках, - удостоившей меня многочисленными адресами во время борьбы с мятежом и крамолою в Северо-Западном крае, и присылка святых икон из разных мест России во время управления краем и даже после того, также радушные и сердечные заявления благодарности русскими людьми, коими я был удостоен значительно после оставления мною управления, т.е. когда я уже не имел никакого непосредственного влияния на дела службы, составляют такие награды, которые превосходят все, что может получить человек, который посвятил себя на служение Отечеству! Бог благословил меня этим счастьем, которое, еще раз скажу, превыше всех правительственных наград; его никто не может ни дать, ни взять».
Несмотря, однако, на полное признание заслуг графа М. Н. Муравьева как со стороны самого Государя, так и со стороны всего русского общества, он в марте 1865 года отправился в Петербург, чтобы уже более не возвращаться в Вильну. 24 марта Муравьев испросил аудиенцию у Государя и, ссылаясь на свое крайне расстроенное здоровье, стал просить об освобождении его от управления Северо-Западным краем. Государь милостиво поблагодарил Муравьева за все сделанное им и изъявил свое согласие. 17 апреля 1865 года последовал указ об увольнении графа М. Н. Муравьева от должности Виленского генерал-губернатора и о назначении на его место генерал-адъютанта Кауфмана.
Граф Муравьев завершил свое служение государству председательством в следственной комиссии по Каракозовскому делу, а потом уехал в свое имение Сырец, где воздвиг себе памятник постройкою церкви. Церковь была освящена 26 августа 1866 г., а через три дня граф Михаил Николаевич Муравьев скончался.
Вот как поэт выразил тогда общее настроение русского общества:
По ком в соборе перезвон? Кого хороним со слезами?.. Не верьте им! Не умер он! Всегда он будет жить меж нами. Лишь умер смертный человек, Лишь смертного теперь не стало. Бессмертный же останется вовек Здесь, на Литве, как русское начало.Рафаил Сорокин МУРАВЬЕВ В ЛИТВЕ В 1831 ГОДУ
По усмирении мятежа 1831 года в Царстве Польском и Литве мне привелось в начале тридцатых годов квартировать в разных местностях западных губерний. Тамошние помещики в то время страшно негодовали на М. Н. Муравьева, производившего следствия во многих местах после бывшего повстанья в Литве и Белоруссии, ибо многие из панов, шляхтичей или лиц других сословий привлекались к допросам и несколько времени были содержимы под арестом. Между помещиками носилась молва, что Муравьев - человек жестокосердый, ненавидит поляков и все польское, что многие от него потерпели и тому подобное.
Все это приходилось слышать офицерам почти во всех помещичьих домах, не только во время зимнего квартирования, но и походом, на дневках и ночлегах. Надобно при этом прибавить, что, невзирая на свежую память еще тогда только что прекращенного восстания в тех местах, помещики, жившие в своих имениях, принимали офицеров очень хорошо; рассказывали разные эпизоды из бывшего недавно мятежа, спорили, шутили, как будто бы между нами никогда не было ничего неприязненного. Эти жалобы на Муравьева, признаюсь, породили во мне тогда любопытство узнать, не производились ли пытки над арестованными? От подвергавшихся аресту и допросам моих тогдашних знакомых, бывших уже свободными, обыкновенно я слышал, что с ними собственно ничего особенного не было во время их содержания под арестом; но что касается других, то они наверно знают, что при допросах секли розгами.
При подобных рассказах, конечно, трудно было отличить выдумку от истины; молва об одном и том же предмете обыкновенно приобретает сильное развитие. Вскоре, однако ж, случай доставил мне возможность узнать причину, вовлекшую многих других из арестованных предполагать, что других сотоварищей их по аресту секли, а они отделались просто только одними допросами.
В местечке Глубоком Минской губернии зимою в то время были расположены на квартирах: батальонный штаб и одна рота Либавского пехотного полка. Квартируя в одной деревне, в девяти верстах от помянутого местечка, я иногда по службе, а наиболее для развлечения от скуки, почти каждую неделю приезжал в Глубокое и проживал там по нескольку дней сряду.
В Глубоком существовал тогда огромный католический монастырь ордена кармелитов, очень богатый, ибо за монастырем, говорили, числилось 3 т. душ крестьян. Наполеон I, идя со своими полчищами в Россию, провел в нем дня три; пред отъездом его, как рассказывали нам монахи этого монастыря, в благодарность за гостеприимство один из придворных вынес целое блюдо наполеондоров в подарок от императора гвардиану (настоятелю монастыря). Последний в память пребывания Наполеона в монастыре комнату, в которой спал император, тщательно содержал в том виде, как он ее оставил, - и так как она принадлежала к числу покоев, занимаемых самим гвардианом, то он ее запер и никого туда не пускал. Когда наш полк квартировал в местечке Глубоком, гвардианом был еще тот самый ксендз, который принимал Наполеона; но, по болезненности и старости его, заведовал монастырем уже несколько лет суперьер (второе лицо в монастыре после гвардиана), ксендз Панкраций, человек умный, общительный, любезный, который усердно хлопотал о всевозможных удобствах квартировавших в местечке и деревнях, принадлежавших монастырю, воинских чинов.
Я очень сблизился с суперьером. Видя мою любознательность и спокойное отношение к тогдашним обстоятельствам вообще, он часто беседовал со мною о Польше, о политике и при этом о М. Н. Муравьеве, который незадолго до прибытия нашего полка в местечко Глубокое жил в этом местечке несколько времени и производил следствие и суд после мятежа 1831 года. Я часто заводил речь с ксендзом Панкрацием об этом следствии и расспрашивал, не знает ли он чего по интересовавшему меня обстоятельству, относительно сечения розгами арестованных, тем более, что мне известно было, что в местечке Глубоком судилось очень много замешанных по делу мятежа, очень богатых и знатных панов края. И вот однажды, в минуту откровенности суперьер повел меня и показал кельи, где содержались арестованные, где было заседание суда и прочее.
Длинный коридор с кельями по обеим сторонам заканчивался просторными покоями, в которых обыкновенно заседала ежедневно следственная комиссия, а в кельях содержались арестованные и из оных приводились в комиссии для допросов; все кельи были с железными решетками в окнах. После этого осмотра, когда мы вернулись в келью суперьера, на убедительный мой вопрос о пытке ксендз Панкраций рассказал мне следующее, - он говорил по-польски:
«Скажу вам откровенно и по совести, что арестованных не только ничем не пытали, но даже и не секли, хотя об этом тогда и толковали в нашем местечке и теперь везде говорят; но я наверно знаю, что это неправда. Муравьев меня беспрестанно требовал к себе по разным делам, касающимся содержания и продовольствия арестованных в кельях нашего монастыря, и всегда сурово и строго подтверждал мне не размазывать ничего, что я могу увидеть или узнать, чтобы это не могло быть передано арестованным. Но вот что делал хитрый Муравьев (как выразился ксендз). Во время производства следствия и суда в местечке Глубоком приводили, привозили из окрестных местечек, мыз и деревень очень много разной панской челяди, экономов, слуг, лесничих, арендаторов и даже евреев, причастных почему-либо к повстанию. Суд разбирал их, оправдавшихся отпускал по домам, а виновных приговаривал к наказанию розгами, смотря по степени вины, несколькими ударами; подвергавшихся этому наказанию было очень много, почти каждый день стегали по нескольку человека. Исправнику, бывшему тогда безотлучно в Глубоком, Муравьев приказал эти приговоры суда производить непременно в одной из келий при входе в коридор, так что крик наказываемых, при мертвой тишине в кельях арестованных панов, доходил до них с ударами розог. Когда это стегание оканчивалось, исправник докладывал Муравьеву, и тот с членами следственной комиссии приходил в покои, где помещалось заседание и начинались допросы и очные ставки, к которым приводились арестованные из кельи. Естественно, что арестованные после слышанных ими воплей и ударов трепетали пред судьями, и на очных ставках думали, что сосед его сечен, а он еще счастлив, что его пощадили, - и эта коварная хитрость, конечно, помогала расследованию. Но, - прибавил ксендз, - я могу вас заверить по совести, что никто, даже самый бедный, незначительный шляхтич, не был телесно наказываем. Муравьев, как сам дворянин, обращал на это строгое внимание, и подобные люди подвергались другим наказаниям за свои вины, но не телесным. Об этом говорил мне исправник. Со мною Муравьев был хорош (прибавил ксендз), но как-то его обращение было строго и сурово. Сначала он меня называл “ксендз Краций», думая, что первый слог моего имени, “пан», придается как у вас по-русски “господин”; и бывало, когда посылаемый им за мною, ослышавшись, спрашивал: “Ксендза Панкрация прикажете позвать?», то он всегда возражал: “Что за пан, позвать старшего ксендза Крация”».
В неправдивости этого рассказа нельзя заподозрить ксендза Панкрация. Он мне сознавался, что, несмотря на хорошее к нему отношение Муравьева, он все-таки его ненавидел.
Долго спустя после, в 1860 году, я рассказал об этом генерал-лейтенанту А. И. К... Он, посмеявшись, сказал: «Я вам расскажу тоже подобное про М. Н. Муравьева, ибо, служа в тридцатых годах в жандармах в Литве, я в то время очень часто сходился с ним по службе на подобных же следствиях. Знаете что? Он возил всегда с собою какого-то инвалидного солдата, который имел способность удивительно подделываться под голоса и крик мужчин и женщин. Вот этот инвалид бывало и бьет розгами по кожаной подушке и кричит разными голосами; а делалось так, чтобы крик доходил до арестованных, разумеется, где надобно было попугать упорных для сознания. Муравьев бывало очень смеялся этой шутке; но серьезно просил меня тогда не рассказывать об этом никому, чтобы не дошло до арестуемых, и сознавался, что эта комическая, по его мнению, проделка много иногда помогала при допросах».
В прежнее время подобные устрашения были допускаемы при допросах; поэтому рассказ ксендза, а равно и инвалид с подушкой, может быть, выведут многих панов, бывших тогда под следствием, живущих еще и ныне, из недоумения относительно слышанных ими воплей во время содержания их под арестом после повстания 1831 года.
М. Н. Катков ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС
В политическом мире нет ничего обманчивее общих правил и отвлеченных формул. Сами по себе они мертвы и двусмысленны; в своей отвлеченности они могут безразлично относиться к случаям противоположным, и две враждебные стороны могут весьма часто, с одинаковым правом, ставить один и тот же девиз на своем знамени. А потому-то и нельзя судить о явлениях жизни на основании каких-нибудь отвлеченных сентенций. В действительности все до бесконечности определенно и индивидуально; все в ней требует особой точки зрения и особой оценки, и наши понятия будут годны для такой оценки лишь по мере своей способности приблизиться к факту и освоиться со всеми его особенностями. Без этой способности наши понятия будут все то же, что открытые, но не зрячие глаза.
В Европе за последнее время особенно часто и громко говорилось о правах народности и принципе невмешательства. И права народности, и принцип невмешательства - очень хорошие понятия, заслуживающие почетного места в мире идей. Ничего нельзя возразить против них, и остается только пожелать, чтоб они приобретали все большую силу и ясность в умах. Но иное дело признавать какое-либо правило, и иное дело употреблять его для оценки данных явлений. Иное дело понятие, и иное дело суждение. Понятия у нас могут быть прекрасные, но суждения у нас могут выходить никуда не годные; а чтобы наши суждения были годны, для этого мало иметь прекрасные понятия, для этого необходимо, чтобы наши прекрасные понятия соответствовали факту. Дважды два, без всякого сомнения, дают четыре; но если в том счете, который подают нам события, окажутся другие цифры, то сколько бы мы ни твердили несомненную истину: дважды два четыре, никакого толку не выйдет, а чтобы вышел толк, надобно исчислить данные цифры и в них что сложить, а что вычесть.
Вопрос о правах народности был возбужден и поднят в последнее время преимущественно итальянским делом. Кому не известны обстоятельства, среди которых разыгрывалось это дело? Кому не известно что способствовало его успеху и чему оно было обязано всеобщим сочувствием? По поводу этого дела с особой энергией повторялось еще учение о невмешательстве во внутренние дела независимого государства.
Так как эти учения сами по себе очень основательны и так как общественное мнение везде симпатически относилось к итальянскому делу, то все заявления этих принципов по поводу итальянского дела были встречаемы живейшим одобрением. Император ли Наполеон III или министр ее британского величества ссылался по этому делу на права народностей или на теорию невмешательства, эффект всегда был очень хороший, хотя весьма нередко одно и то же мудрое правило провозглашалось с противоположных сторон и в противоположном смысле.
Но теория невмешательства не препятствовала западным державам вмешиваться очень деятельно в ход итальянского дела; принцип народности не помешал Франции присоединить к себе Ниццу, которая, по этому принципу, точно так же принадлежит Италии, как принадлежит ей Венеция. Права народностей и принцип невмешательства напрасно стучатся теперь в ворота Рима: французские войска не очищают вечного города. Теория невмешательства не препятствует Англии управлять турецкими делами и забирать в свои руки греческую революцию; права народностей не помешали ей пристукнуть турецких славян, когда они подняли было голову - не только во имя народности, но с жалобами на всевозможные угнетения. Черногорцы не были ни подданными, ни даже данниками султана, а тот же самый британский министр, который накануне торжественно провозглашал принцип народностей, трактовал черногорцев как мятежников. Корабли с волонтерами и боевыми припасами отправлялись из английских портов в Италию, когда там кипела борьба, и никто не придавал этому важности; а вот теперь идут горячие толки о том, по какому праву попали в Сербию ружья с тульским клеймом. Значит, сила не в общих учениях, а в их применении. Значит, сила заключается в индивидуальности каждого факта, в его обстоятельствах, в его особенностях. Английское правительство находило уместным припомнить теорию невмешательства и права народностей по отношению к итальянскому делу; оно находит неуместным припоминать эти теории в турецком вопросе, точно так же, как и Франция считает это неуместным по отношению к римскому делу. В какой мере уместно одно, а неуместно другое, об этом можно судить так или иначе; очевидно только то, что сила состоит не в общих аксиомах, а в оценке факта и в интересах и побуждениях, руководящих этой оценкой. Уважительны или неуважительны эти интересы и побуждения, но их непременно нужно принять к сведению, с ними непременно нужно счесться, потому что в них заключается жизненная сила оценки; а общие сентенции ничего не значат и пленяют только глупцов, которые смотрят на вещи выпученными, но не зрячими глазами.
Не говорите англичанину о правах народностей в Индии: он сочтет вас сумасшедшим, точно так же как француз сочтет вас таковым же, если вы заговорите ему о правах народностей в Алжире. Они не станут и возражать вам. Но вы немного выиграете, если вздумаете повести с англичанином речь о восстановлении кельтической народности в Ирландии, или с французом о возможности независимого политического существования того же племени в Бретани. Напрасно стали бы вы развивать теорию прав, принадлежащих каждой народности на самостоятельное существование: никто не стал бы вас слушать и вам бы заметили, что вы говорите вещи совершенно невозможные. Вам скажут, что вы применяете свою теорию бестолково, что теория эта хороша сама по себе, но никак не может быть применяема к случаям, вами взятым, что не всякая народность может претендовать на самостоятельное политическое существование и что произошел бы самый бессмысленный хаос, если бы вдруг заявились на деле такие притязания. Вам скажут, что права имеет только та народность, которая доказала их своей историей и умеет хранить и поддерживать их; вам скажут, что права заключаются не в букве, не в слове, не в фразе, а в действительности, в существующих условиях и отношениях, в данном сочетании жизненных сил. Вам скажут, что действительность служит не только самой лучшей, но и единственной поверкой действительных прав; что же касается до посторонних сочувствий и приговоров, то они ничего не решают, пока эта проверка не состоялась. Общественное мнение будет принимать ту или другую сторону по разным побуждениям и интересам, нередко не имеющим никакого отношения к вопросу о правах народностей. Если у человека, которого мы не любим, возникнет спор с другим, и если основания спора нам еще мало известны, то мы невольно будем принимать сторону его противника. Как отдельные люди, так народы и государства могут быть предметом симпатий и антипатий, и точно так же в случае спора между двумя народностями общественное мнение может принимать сторону той или другой, смотря по своему настроению, независимо от сущности возникающего спора. Иногда причиной предубеждения бывает самое могущество торжествующей народности, и общественное мнение склонится своим сочувствием к стороне слабейшей, даже к самому несбыточному и отчаянному делу. В то время, как Англия боролась с кровавым возмущением сипаев в Индии, разве европейская журналистика не вопияла о правах народностей, не оглашалась криками сочувствия к этим жертвам коварного и могущественного Альбиона? Разве общественное мнение, например во Франции, не готово было рукоплескать всякому успеху индийских мятежников, даже неистовству их возмездий? Если бы можно было вообразить себе какую-нибудь серьезную попытку в Ирландии отделиться от Великобритании, разве во Франции не стали бы радоваться всякому, хотя бы мнимому успеху такого отчаянного дела, не стали бы оглашать землю и небо воплями негодования при несомненном торжестве Великобритании, не стали бы барабанить на все лады учение о правах народностей? Но этот шум не произвел бы никакого впечатления в самой Англии; дело шло бы своим ходом, и ни один англичанин не дал бы никакого значения всем этим крикам и воплям, точно так же как теперь янки в Северной Америке нимало не смущается мнениями англичан о его кровопролитной распре с отделившимися штатами; он не конфузится, слыша из-за моря неблагоприятные суждения; он огрызается на своих порицателей и на каждое жесткое слово шлет десять, двадцать еще более жестких, а между тем продолжает свое дело и бьется до истощения сил, чтобы возвратить отпавшие части своего государства.
Всякий знает, что на всякое дело можно смотреть с разных точек зрения и что противоположные интересы будут относиться противоположным образом к одному и тому же делу. Англичанин и не рассчитывает на сочувствие француза, и француз, в свою очередь, не рассчитывает на сочувствие англичанина в своих успехах или неудачах. И тот, и другой сумеют вычесть из посторонних сочувствий или несочувствий именно то, что есть в них постороннего; и тот, и другой постараются прежде понять свое дело собственным умом, оценить и взвесить его собственным чувством; ни тот, ни другой не станет конфузливо прислушиваться к чужим мнениям, для того чтоб определить по ним образ своих действий; и тот, и другой будут действовать из полноты собственных сил, интересов и побуждений. Возможное ли дело, чтобы в случае борьбы или кризиса тот или другой стал мерить себя чужим аршином или, помилуй Бог, аршином своего противника?
В этой беспрерывной борьбе за существование, которую мы называем жизнью, называем также историей, всякое дело имеет и защитников, и противников. Если бы не было защитников, то не было бы и дела; если бы не было противников, то оно не могло бы заявить себя и показать свою силу, свои права на существование и развитие. Посреди этой борьбы, называемой жизнью и историей, все права относимы и все интересы односторонни. Если есть защитники, то есть и противники; если есть противники, то должны быть и защитники. И у противников, и у защитников есть свои более или менее уважительные интересы, свои более или менее уважительные права; жизнь и история покажут, чья сила сильнее, чьи права правее. Но среди борьбы никто не может стоять за обе стороны или не стоять ни за одну. Кто не хочет участвовать в борьбе, тот уходи с поля, - а на поле битвы всякий должен быть или защитником, или противником.
Какая надобность англичанину или французу доискиваться истины в споре между русскими и поляками? Посторонний наблюдатель будет судить дело, руководимый не мотивами дела, а своими личными сочувствиями или своими интересами, если они как-нибудь замешаны в чужом споре. Очень естественно, что ни англичанин, ни француз не пламенеют усердием к интересам России и не были бы огорчены, если бы русское дело в чем-нибудь потерпело ущерб. Еще недавно Европа с недоверием и страхом оглядывалась на северный колосс; еще недавно опасалась она его военного деспотизма. Теперь эти опасения приутихли, Россия перестала быть пугалом; но пока никому еще особенно не нужно ее могущество, никто особенно не стал бы скорбеть от невзгод, которые приключились бы ей извне или внутри. Никто со стороны не задает себе серьезного вопроса: эта сила, так тяжко и так медленно слагавшаяся в северо-восточных пустынях Европы, - истинная ли это сила, или метеор, возникший случайно, призрак, который должен исчезнуть? Никто не обязан и никто не может принимать к сердцу русское дело, страдать за него, надеяться за него, умирать за него, - никто, кроме русского человека. Нигде наше историческое призвание, наша народность, наши судьбы, наши страдания и торжества не могут быть почувствованы со всей энергией жизни, как здесь, в самой России, в нас самих. У всякого дела два конца, всякое дело имеет и защитников, и противников, и ни в ком русское дело не может иметь себе защитников, как в самих русских, хотя противников оно может иметь в изобилии повсюду.
Вопрос о Польше есть столько же русское, как и польское дело. Вопрос о Польше был всегда и вопросом о России. Между этими двумя соплеменными народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти. Оба государства были не просто соперниками, но врагами, которые не могли существовать рядом, врагами до конца. Между ними вопрос был уже не о том, кому первенствовать или кому быть могущественнее: вопрос между ними был о том, кому из них существовать. Независимая Польша не могла ужиться рядом с самостоятельной Россией. Сделки были невозможны: или та, или другая должна была отказаться от политической самостоятельности, от притязания на могущество самостоятельной державы. И не Россия, а прежде Польша почувствовала силу этого рокового вопроса; она первая начала эту историческую борьбу, и было время, когда исчезала Россия, и наступило другое, когда исчезла Польша. Навсегда ли удержит силу этот роковой вопрос, или наступит время, когда при могущественной и крепкой России может жить и процветать самостоятельная Польша? Об этом можно размышлять на досуге, но в минуту кризиса, посреди борьбы, поляку естественно отстаивать польское дело, а русскому естественно отстаивать русское дело. Польша утратила свою самостоятельность, но она не примирилась со своей судьбой; польское чувство протестует против этого решения, чувство своей народности еще живо и крепко в Польше; оно всасывается с молоком; оно ревниво охраняется и поддерживается; оно питается и усиливается страданиями. Утратив политическую самостоятельность, поляк не отказался от своей народности, и он рвется из своего плена и не хочет мириться ни с какой будущностью, если она не обещает ему восстановления старой Польши со всеми ее притязаниями. Ему недостаточно простой независимости, он хочет преобладания; ему недостаточно освободиться от чужого господства, он хочет уничтожения своего восторжествовавшего противника. Ему недостаточно быть поляком; он хочет, чтоб и русский стал поляком, или убрался за Уральский хребет. Он отрекается от соплеменности с нами, превращает в призрак историю и на месте нынешней России не хочет видеть никого, кроме поляков и выродков чуди или татар. Что не Польша, то татарство, то должно быть сослано в Сибирь, и на месте нынешней могущественной России должна стать могущественная Польша по Киев, по Смоленск, от Балтийского до Черного моря. Винить ли, осуждать ли польского патриота за такие притязания? Что толку винить и осуждать! Логические аргументы ни к чему не ведут в подобном споре; никакое красноречие не может помочь его разрешению; в подобном споре могут говорить только события, только они обладают убедительным красноречием и неотразимой логикой. В подобном споре решают не слова, а факты, и факты решили. Но как бы то ни было, разумны или неразумны польские притязания, они понятны и естественны в поляке. Осуждайте и оспаривайте их, оспаривайте и словом и делом; но согласитесь, что даже в крайностях, даже в безумии своем польский патриотизм все-таки есть дело естественное в поляке. События решили, но поляк подает на апелляцию, он не теряет надежды и утешает себя сочувствиями посторонних, не разбирая, много ли толку в этих сочувствиях и точно ли в них есть сочувствие к нему или только неприязнь к его противнику. Ему рукоплещут, о нем скорбят, но в самом-то деле только он один в целом мире может чувствовать призыв своей народности. Ему нечего прибегать к разным теориям, ему нечего толковать о правах народностей и о разных других истинах: ему достаточно назваться поляком, чтобы всякий мог понять, чего он хочет или чего бы должен хотеть. Благоразумие и опыт могут научить его лучше и вернее понимать интерес своей народности и действовать с большим смыслом и с большей для нее пользой. Но на истинных или ложных путях поляк - естественный защитник своего дела. За отсутствием поляка, кто же возьмется быть поляком.
Так бы казалось. Но рок не до конца прогневался на Польшу. Он поразил ее, но он же и судил ей редкое счастье: на противной стороне в самом разгаре битвы поляк находит себе союзников, которые готовы подписать, не разбирая, все его условия. На русской стороне находит он людей, которые с трогательным великодушием готовы принести ему в жертву интерес своей родины, целость и политическое значение своего народа, находит людей, готовых из чести послужить ему послушными орудиями, - людей готовых с энтузиазмом повторить все, что скажут недруги русского имени, все, что может обесславить и опозорить русское дело, все что может возвеличить и украсить противную сторону, - людей, готовых быть поляками не менее, если не более, чем сами поляки.
19 февраля, в самый день восшествия на престол ныне царствующего Императора и вместе в годовщину освобождения стольких миллионов народа от крепостной зависимости, разбрасывалось в Москве новое изделие нашей подземной печати. Мы было думали, что эта забава уже надоела нашим прогрессистам, но вот перед вами новая прокламация со штемпелем «Земля и Воля». Авторы этого подметного листка, говоря от лица русского народа, взывают к нашим офицерам и солдатам в Польше, убеждая их покинуть свои знамена и обратить свое оружие против своего Отечества. Такого поступка нельзя было бы ожидать даже от наших прогрессистов. Это еще хуже пожаров. Но надобно думать, что прокламация эта, как и многое другое, есть дело эмиссаров польской революции, хотя нашему народному чувству оскорбительно и больно, что наши враги так низко думают о нас, рассчитывая на успех подобной проделки. Неужели в самом деле русский народ подал повод к такому презрительному мнению о себе? Как бы то ни было, факт перед глазами: значит есть что-нибудь у нас оправдывающее такую тактику наших врагов; есть, стало быть, к стыду нашему, такие элементы у нас, на которые могут они рассчитывать и которые своим существованием клевещут на свою родину. Польские агитаторы образовали у нас домашних революционеров и, презирая их в душе, умеют ими пользоваться, а эти пророки и герои русской земли (как польские агитаторы чествуют их, льстя их глупостям) сами не подозревают, чьих рук они создание. В самом деле, подумайте, откуда бы они могли выйти у нас, к чему могли бы они примкнуть, в чем бы они могли держаться? Что глупости у нас довольно, в том, конечно, нет сомнения. Но одного этого качества было бы недостаточно, чтобы сгруппировать людей, возбудить их к действию, поселить в них убеждение, будто они ни с того ни с сего действуют во благо своего народа и от его имени, в том, как они позорят его и посягают на все основы его исторического существования. Почему все эти нелепости высказывались у нас тоном некоторого убеждения и энтузиазма в то самое время, когда русский народ возрождался к новой жизни, когда каждый русский должен был стоять на своем посту, честно исполняя свой долг? Нет, для этого одной глупости мало! Нужно было, чтобы к туземной глупости присоединилось какое-нибудь чужое влияние, чтобы какая-нибудь ловкая рука поддержала это обольщение, дала этим нелепостям опору, гальванизировала эту гниль. Рука эта нашлась; она действовала искусно, она действует и теперь; но результаты обманули ее. Наши враги перехитрили; они слишком увлеклись своим презрением к русскому народу. Они действовали обманом на слабые головы, но за то и сами жестоко обманулись. Считая Россию не только “больным, расслабленным колоссом», но разлагающимся трупом, они затеяли свою кровавую шутку. Они в самом деле вообразили, что наши войска разбегутся, или станут под их знамена, как им сказали их друзья. Они понадеялись на разные прокламации и адресы, будто бы от русской армии, и, понадеявшись, подали сигнал к восстанию. Кто же виной этих прискорбных событий, которых театром стала теперь Польша?
Авторы упомянутого выше подметного листка упрекают правительство той кровью, которая там теперь льется. Но кто бы они ни были, поляки или русские, пусть они подумают: ближайшей виной этой крови были они сами. Если, к стыду нашему, они действительно русские, то своим презрительным ничтожеством они вовлекли польских агитаторов в гибельное для них заблуждение относительно истинных сил и чувств русского народа. Если они поляки, то сами же они поставили это ничтожество на ноги и сами обманули себя своим собственным произведением. Авторы этой прокламации не соглашаются на то, чтобы Польша оставалась в соединении с Россией. Какое право имеем мы, восклицают они, хозяйничать в Польше, когда она сама этого не желает? Какое право! Вот до какой метафизики восходят наши патриоты! Все зло мира сего хотят они взыскать со своего народа. Они не спрашивают, по какому праву делается что-нибудь в других местах. Они не спрашивают, по какому праву поляки владели и теперь хотят владеть областями, исконно заселенными русским народом, не спрашивают, в каком уложении написано это право или какой потентат даровал его полякам. Этого они не спрашивают, но зато они спрашивают с великодушным негодованием: зачем русские владеют Польшей?
Они требуют, чтобы Россия возвратила Польше ее независимость? Возвратить независимость Польше! Но что такое Польша, где она начинается, где оканчивается? Знают ли это сами поляки? Спросили ли у них об этом наши патриоты? Сообразили ли эти жалкие жертвы своей глупости и чужого обмана, что обладание Царством Польским совсем не радость для России, что оно была злой необходимостью, такой же, как и все те пожертвования, которые налагал на себя русский народ для совершения своего исторического дела. Но кто же сказал, что польские притязания ограничиваются нынешним Царством Польским? Всякий здравомыслящий польский патриот, понимающий истинные интересы своей народности, знает, что для Царства Польского в его теперешних размерах несравненно лучше оставаться в связи с Россией, нежели оторваться от нее и быть особым государством, ничтожным по объему, окруженным со всех сторон могущественными державами и лишенным всякой возможности приобрести европейское значение. Отделение Польши никогда не значило для поляка только отделения нынешнего Царства Польского. Нет, при одной мысли об отделении воскресают притязания переделать историю и поставить Польшу на место России. Вот источник всех страданий, понесенных польской народностью, вот корень всех ее зол! Если б она могла освободиться от этих притязаний, судьбы ее были бы совсем иные, и Россия не имела бы надобности держать Польшу вооруженной рукой. Но в том-то и беда, что польский патриотизм не отказывается от своих притязаний: он считает Польшей все те исконно-русские области, где в прежнее время огнем и мечом и католической пропагандой распространялось польское владычество.
Если бы вопрос состоял в том, чтобы дать Польше лучшие учреждения, чтобы предоставить ей полное самоуправление и национальную администрацию, тогда объясняться было бы легко; тогда всякому русскому можно было бы от души сочувствовать полякам, не становясь изменником своему Отечеству. Но вопрос не в этом. Нам известны желания лучших из польских патриотов; мы знаем, какой адрес подан был от имени польских землевладельцев графом Замойским; нам известно также, о чем просили польские дворяне в одной из русских губерний, смежных с Польшей. Пусть иностранные политики изъявляют громкое сочувствие к польскому делу и осыпают укоризнами Россию. Мы без них знаем свои недуги и чего не достает нам; но мы знаем также, что с каждым годом и с каждым днем наше положение уясняется, что на нашем горизонте показались несомненные признаки лучшего будущего. Нет, борьба наша с Польшей не есть борьба за политические начала, это борьба двух народностей, и уступить польскому патриотизму в его притязаниях значит подписать смертный приговор русскому народу.
Пусть же наши недруги изрекают этот приговор: русский народ еще жив и сумеет постоять за себя. Если борьба примет те размеры, какие желал бы придать ей польский патриотизм и наши заграничные порицатели, то не найдется ни одного русского, который бы не поспешил отдать свою жизнь в этой борьбе. Пусть же наши недруги не обольщают себя призраками и не расшевеливают дремлющих народных сил: им не послужит это к лучшему, а для нас эта борьба будет последним испытанием истории, последним освящением наших народных судеб. Легко понять, что, собственно, значат неприязненные нам манифестации вожаков общественного мнения в Европе, что значит это единогласное осуждение России и единогласные приветствия полякам, раздающиеся теперь в Британской палате общин. Как не понять этого? Как Англии не сочувствовать теперь польскому делу, когда есть надежда, что оно может запутать нас своими затруднениями и отдать ей в руки весь Восточный вопрос, в котором мы с ней сталкиваемся? Что же касается до искренних желаний лучшей участи польскому народу, то мы разделяем их с не меньшей искренностью. Мы от всей души желаем лучшей участи польскому народу. Но чтобы эти желания сбылись, должно не распалять притязаний поляков, а, напротив, успокаивать и умирять их. От самих поляков зависит выбор между благотворным для обоих народов согласием и беспощадной борьбой, в которой они встретятся уже не с одним правительством, но с целым великим народом.
Помещаем здесь статью, которая назначалась нами в «Московские ведомости» (в № от 21 февраля), но ее появлению неожиданно встретились препятствия. Теперь эти препятствия устранились, и мы получаем возможность напечатать ее по крайней мере в «Русском вестнике». Мы оставляем ее без перемены как выражение минуты, которая не должна была остаться без отзыва. В этом виде она послужит дополнением к сказанному выше.
Москва, 20 февраля 1863
Недавно в заседании прусской палаты депутатов по польскому вопросу министр-президент заметил, между прочим, следующее: «Наклонность воодушевляться в пользу чуждых народностей, хотя бы и в ущерб собственному своему отечеству, есть особый вид политической болезни, географическое распространение которой ограничивается одною Германией».
Министр-президент, к сожалению, немного ошибся: географическое распространение той болезни, о которой он говорит, не ограничивается пределами Германии. Эта зараза коснулась и некоторых русских, конечно, весьма немногих и, как мы надеемся, на короткое время. После того как русские солдаты во многих местах Царства Польского подверглись изменническому нападению, когда еще продолжает литься русская кровь, в тот самый день, когда Россия празднует вступление на престол Императора Александра II и вместе с тем торжествует годовщину освобождения крестьян от крепостной зависимости, в тот день, когда для всей массы бывших дворовых людей наступает прекращение обязательных отношений, какие-то безвестные лица, именуя себя русскими, рассылают свои подметные письма, в которых выражают сочувствие к полякам и ненависть к русскому правительству, в которых они от имени целой либеральной России предоставляют независимость Польше и взывают к русской армии, чтоб она изменнически прекратила борьбу с поляками и шла против правительства. Если эту прокламацию писали польские эмиссары, то образ действий их более или менее понятен; но что если эти честные люди в самом деле русские? Ведь это была бы прямая измена, измена уже не правительству, чем они хвалятся, но своему народу, своему Отечеству, чем хвалиться нельзя даже и русскому мятежнику и за что не похвалили бы его, а стали бы презирать сами поляки.
В тот же самый день прочли мы очень куриозный документ, напечатанный во французской газете «La Presse» за подписью г. Эмиля де Жирардена. Это ни более ни менее как письмо французского публициста к русскому монарху в пользу полного отделения Царства Польского. «В последнее столетие, - говорит автор письма, - величие народа почти исключительно еще измерялось пространством завоеванных им земель; но уже теперь оно измеряется тою деятельностью, какую он обнаруживает, теми богатствами, которые он производит, теми сбережениями, которые он накопляет, тою свободой, какою он обладает, тем превосходством, какое он усвоил себе в деле разумения науки, искусства, промышленности, торговли. Вчера еще величие народов измерялось разрушительною и завоевательною силой; завтра мерилом его станет только сила в производстве и в обмене произведений; нынешний же день принадлежит делу перерождения, которое еще не совершилось: всякое перерождение медленно, но оно несомненно совершается. Если это так, - продолжает медоточивый публицист, - какая нужда вам, государь, иметь шестью миллионами подданных и полутора тысячами квадратных миль земли больше или меньше, вам - властителю самого обширного государства, какое когда-либо существовало, государства, распростирающегося в Европе, в Америке и в Азии, равного по пространству почти седьмой части земного шара, государства, едва еще населенного и уже насчитывающего 70 миллионов подданных? И в настоящем, и в будущем Ваше Величество бесконечно возвеличите себя, обратившись к полякам с такою речью: “Хорошо; я даю вам, чем вы желаете; управляйтесь сами собою, и, если сумеете, управляйтесь хорошо. Изберите для управления собою кого пожелаете. Я не навязываю вам в короли ни кого-либо из моих братьев, ни кого-либо из моих сыновей. Между вашим королевством и моею империей я не воздвигну никаких преград, ни военных, ни таможенных. С обеих сторон торговля будет совершенно свободная: ни преград, ни связей, кроме связи благодарности, которая будет тем сильнее, чем шире отмерил я вам дар независимости, которую вы цените так высоко”. Государь! в тот самый день, когда обратитесь вы с такою речью к полякам, благодарность их не будет иметь себе подобной и поравняется только с удивлением целого мира. Вам будет принадлежать слава большая, чем слава побед и завоеваний; вам будет принадлежать слава указания державною рукой нового пути, на котором Австрия, вынужденная вашим примером к освобождению Венецианской области, явит лишь ту заслугу, что последовала за вами. Освобождение народов путем цивилизации, таким образом, сменило бы собою порабощение их путем войны».
Нужна немалая доля легкомыслия, от которого несвободны многие из французских публицистов, для того, чтобы в настоящую минуту давать подобные советы, не справившись, одобрят ли их сами поляки, которые совсем не того хотят, о чем просит за них г. Эмиль Жирарден. Но как могут попадать на подобные же мысли русские люди, те самые, которые выдают себя за поборников русского народа, которые фантазируют, будто бы они составляют какой-то центральный народный русский комитет?
Недавно еще сообщали мы в «Московских ведомостях» нашим читателям полновесное свидетельство венского корреспондента газеты «Times» о том, какое впечатление производит на жителей Вены самый легкий намек на то, что Австрия принуждена будет уступить Венецию Италии. Такой намек приводит в ярость мирных жителей и чуть не сводит с ума военных. Приказание очистить Венецию, говорят они, повело бы к военной революции, так как ни один монарх не имеет права отказываться от областей, добытых потом и кровью народа. Жители Вены, как видно, не причастны той болезни, которая состоит в наклонности воодушевляться в пользу чуждых народностей и в ущерб своей собственной. И между тем потеря Австрии в случае уступки Венеции была бы незначительна в политическом отношении, а для уступленной страны была бы действительным благодеянием. Австрия, отказавшись от Венеции, теряет только одну область, но зато вполне вознаграждается тем, что одним неугомонным врагом у ней становится меньше, что этот враг на другой же день может стать вернейшим другом, что ей возможно будет сберечь много людей и денег, употребляемых теперь на удержание в покорности Венецианской области и на отражение нападений со стороны Италии. Совсем другое дело - вопрос между Россией и Польшей. Правда, Польша не приносит России никаких материяльных выгод и поглощает несравненно больше, чем в состоянии дать сама. Правда, обладание Польшей много вредит нам и в нравственном отношении. Но дело не в обладании самою Польшей, а в том, чтобы так или иначе было обеспечено спокойствие в значительной части исконно русских областей, лежащих на западе и юго-западе нашего Отечества; чтобы была обеспечена целость состава Русского государства. Какое русское сердце не содрогнется и не сожмется болезненно при одной мысли, не говорим - о разрушении, а только о серьезной опасности, которая стала бы грозить делу тысячелетней, исполненной тяжких трудов, лишений и испытаний исторической жизни русского народа? До сих пор почти все, чем может дорожить живой народ, приносилось в жертву одному великому делу - делу собирания Русской земли в одно целое, делу созидания этого громадного государственного тела: проливались для этой цели потоки крови, гибли целые поколения; для укрепления единой государственной власти народ отказывался от всех своих прав и вольностей, одушевляемый инстинктивною верой, что за собиранием земли Русской не замедлит последовать созидание ее внутреннего благосостояния путем развития свободы, столь свойственной нашему народному быту. И вдруг все это великое многотрудное дело должно поколебаться, должно подвергнуться опасности, и водворение внутреннего благосостояния и законной свободы должно снова отодвинуться, и снова должны заговорить инстинкты самосохранения. Вольно французскому публицисту мечтать об узах вечной благодарности, которые соединят теперешнюю Польшу с Россией; но те, которые действительно знают партию, теперь управляющую польским восстанием, те, которые хотя бы из статей г. Лебедева, помещенных в «Московских ведомостях», познакомились с замыслами вождей польской революции, те знают очень хорошо, что, предав Польшу в руки фанатиков-якобинцев, Россия нажила бы себе не друга, а врага, такого врага, который ежечасно возмущал бы ее спокойствие, с которым пришлось бы вести борьбу не на живот, а на смерть за обладание исконно русскими областями, на некоторое время входившими в состав Польского королевства, но ненавидевшими и ненавидящими польское владычество. Если бы польский патриотизм и в состоянии был обуздать якобинцев, то и тогда не миновала бы опасность: явились бы попытки другого рода завоеваний, знаменем которых было бы латинство, вождями - отцы-иезуиты. Им ли должно мирволить русское правительство? Не зависит ли, напротив, все дело от самой Польши, от того, как скоро протрезвятся ее политические стремления? Если вы уважаете свободу народов, если вы дорожите возможностью для каждого из них развиваться самостоятельно, согласно с собственною своею природою и с исторически выработавшимся характером, то почему желаете вы отдать все Царство Польское во власть бессмысленнейшей политической партии, ищущей для себя опоры во лжи и терроризме, и тем паче какое вы имеете право приносить наших белорусов и малорусов на жертву национально-польским и римско-католическим притязаниям надменных панов и фанатических ксендзов? Знаете ли, что могло бы быть результатом такого образа действий? О Царстве Польском мы говорить не станем; мы даже согласимся, что загнанное и забитое поляками белорусское племя могло бы действительно поддаться, в ущерб для самого себя, национально-польской и религиозно-католической пропаганде; но в пределах населения малорусов - в Подолии, в Волыни, в Киевской губернии - конечно, не уцелело бы ни одного поляка, если бы только русское правительство не имело возможности охранять безопасность всех классов тамошнего населения. И, наконец, что выиграл бы от предполагаемого усиления польско-католических элементов многочисленный, к сожалению, слишком еще пренебрегаемый нами, все еще загнанный класс евреев, проживающих на западе и юго-западе России, класс, заслуживающий со стороны России большего внимания? Спросите у любого сведущего еврея, где лучше живется ему, где меньше подвергается он оскорблениям, в Новороссии ли и Малороссии, среди русского населения, или же в Виленской и Ковенской губерниях, среди поляков и успевших ополячиться белорусов?
Чем же, кроме бессмыслия, объяснить явления вроде прокламации, вчера полученной в нескольких московских домах? Не скроем от себя, что в этих явлениях сказывается общественная язва, воспитанная нашим ближайшим прошедшим: привычка смотреть на всякое общее дело, касающееся существенных интересов целой России, всего русского народа, как на дело, в котором заинтересовано будто бы одно правительство.
В заключение не можем не сказать, что г. фон Бисмарк совершенно не прав в своих нападках на немецкое равнодушие к национальным интересам Германии. Прусские прогрессисты себе на уме в своем великодушии к Польше: оппозиционные члены очень ясно говорили в прусской палате депутатов, что Пруссия ни за что не уступит полякам ни Данцига, ни Эльбинга и ни одной пяди земли, обработанной немецкою предприимчивостью. За такое великодушие немецкие прогрессисты утешают себя надеждой, что поляки откажутся, разумеется в их пользу, от притязаний на наши Остзейские губернии. Порицания г. фон Бисмарка заслужили бы только мы, русские, если б остались безответными перед подобными претензиями. Но мы не посрамим себя такою безответностью. Мы чувствует себя народом великим и сильным. Мы еще постоим за себя и в то же время, с Божиею помощию, не забудем о долге справедливости к родственному нам народу польскому, как только польский патриотизм успокоится, отрезвится и войдет в должные пределы.
М. Н. Катков ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ПОЛЬШЕЙ?
Итак, что же нам делать с Польшей? Обидный вопрос! Совестно задавать себе этот вопрос в нынешнюю торжественную минуту, когда так высоко поднялся строй патриотического чувства на Руси. Что нам делать с Польшей? Посмотрим, однако ж, что нам делать с Польшей. Можно представить себе в виде предположения три случая, которыми исчерпывается весь этот вопрос без остатка. Можно дать Польше нечто вроде того, чем она пользовалась с 1815 по 1830 год, - особенное политическое устройство, только при династическом соединении с Россией. Можно вообразить себе отторжение Польши, с тем ли, чтоб она существовала как особое государство, или чтоб она вошла в состав других государств.
Наконец, представляется возможность полного политического соединения Польского края с Россией.
Первое предположение было уже испытано историей. Это факт, доказывающий совершенную невозможность дать когда-либо польскому вопросу такое решение. Этот прискорбный факт нашей истории является грозным изобличителем всякой мысли о возможности дать соединенному с Россией владению особую политическую и тем паче привилегированную организацию. Что еще было возможно в прежнее время, когда русское народное чувство, при всей силе и энергии, было темно в своих заявлениях, о том невозможно думать в настоящую пору, когда русский народ вышел из темной области одного инстинктивного чувства, из сферы бессознательного исторического творчества, когда он уже сознает свое достоинство и требует себе чести посреди других народов, и когда всякое оскорбление этого достоинства, всякое нарушение этой чести отзывается в нем с возрастающею энергией сверху донизу, до последней глубины. Всякая попытка решить дело с Польшей в этом смысле омрачила бы наше будущее, была бы виною глубокого внутреннего упадка и не только не примирила бы Польши с Россией, но подвергла бы народ наш тяжким испытаниям и бедствиям.
Если бы нам удалось как-нибудь уладить в этом смысле наши затруднения с Польшей при опасности подорвать чувство нашего народного достоинства и отравить все источники нашей обновляющейся и входящей в силу народной жизни, то мы только отсрочили бы эти затруднения, которые встали бы с новою силой и нашли бы в нас несравненно меньшую силу отпора; мы только с непростительным малодушием променяли бы меньшее зло на большее. Кто не будет согласен, что лучше расплатиться с меньшим долгом, когда у нас больше денег в руках, чем потом расплачиваться с увеличившимся долгом при уменьшившихся средствах к расплате? Кто не скажет, что поступить так значило бы готовить себе или ближайшим потомкам своим неизбежное банкротство?
Несчастная комбинация, которую выманили у нас в 1815 году, осуждена историей, и возвращаться к ней невозможно. Мы не имеем права переделывать историю, мы не можем идти вспять. Кровь, пролитая в 1830-31 годах, есть нечто посильнее простого логического опровержения ошибочной мысли. Ею поплатились мы за наш промах. Кто осмелится сказать, что эти многие тысячи русских людей, павших за восстановление расторгнутой связи между Россией и Польшей, не тяготеют над нами всею силой неискупимого обязательства? Мы не можем, мы не смеем считать эти тысячи жертв бесплодною жертвой несчастной ошибки и не можем повторить ту же ошибку, как будто этих жертв вовсе не было и как будто русская кровь не имеет в себе никакой обязательной силы даже для русских. Мы не можем перешагнуть через нее; мы не можем сделать того, против чего вопиет она и что она нам запрещает...
Да, наконец, что же значат эти последние события, которые заставляют нас задавать вопрос о Польше? Не служат ли они для нас указанием, что и малейшая попытка решить этот вопрос в смысле особого государственного положения Польши, хотя бы и под русскою державой, есть вопрос жизни и смерти для России? Едва сделали мы несколько шагов в этом направлении, как разразилась катастрофа, повергшая нас на крайнюю степень унижения. Неужели недостаточно для нас и этого предостережения? Неужели и теперь, при ясном свете политического сознания, можем мы еще думать о возможности многих раздельных и разнокачественных государств под одною державой? Неужели и доселе не научились мы, что история поставила русскую и польскую народность в такое отношение, что либо та, либо другая непременно должна отказаться от самостоятельного политического существования и что русская народность не может отказаться от своего тысячелетия? Все, что удержало бы за Польшей хоть тень государственной отдельности, было бы новым тяжким грехом, непростительным после всех уроков истории.
Малейшее уклонение в эту сторону, малейший неосторожный шаг, малейшая уступка в этом смысле, как бы по-видимому ни облегчала она для нас теперешнее затруднение и как бы ни казалась нам благоприятною, будет иметь роковые последствия, и настолько же обессилит нас, насколько усилит будущие неизбежные и очень близкие опасности.
Должны ли мы серьезно рассуждать о неудобоисполнимости второго по очереди предположения, - предположения о полном отделении Польши от Русской державы? Не всякий, может быть, отдает себе отчет, в чем, собственно, состоит невозможность этого предположения. Отделить Польшу? Но как это сделать? Так ли легко это сделать, как отрезать лишнюю десятину от своего поля, особенно если она ничего, кроме волчцов и терниев, не производит, и отдать ее соседу, который удобрит ее своим трудом и промыслом? И как совершить это отделение? И как приступить к нему? Из какого побуждения, из какого источника вызвать это решение, и какое дать ему имя, и какими средствами совершить это дело?
Будет ли это делом нашего бескорыстия, великодушия, милосердия и иных весьма похвальных движений человеческого сердца? Но кто эти «мы»? Кто эти особы со столь прекрасными свойствами сердца? Мы, -сколько бы нас ни было и кто бы мы ни были, - мы можем чувствовать так или иначе, желать того или другого, подвергаться, каждый по свойству своего темперамента, разнообразным впечатлениям, но никакие чувствования, ни возвышенные, ни низкие, никакие мотивы, управляющие нравственною жизнью человека и определяющие его образ действий, не могут решать вопрос о государственной области, никакие личные побуждения не имеют силы действовать на то крепкое стигийское заклятие, которым держится и запечатлевается государственная область. Сказать можно все обо всем; говорить можете что хотите и о государственной территории; в воображении вашем можете раздвигать и сдвигать ее пределы сколько угодно, можете сколько угодно переделывать географическую карту на бумаге: но на деле изменить пределы государственной области можно только одною силою - силою меча. Циркуль чертит географическую карту на бумаге, а на земле чертит ее меч, и только его черта обязательна, только его черта есть граница. Государственная область есть создание войны, и только военная сила государства определяет, хранит и держит ее; только сила войны может нарушить и изменить ее. Нашими чувствованиями, как бы они ни были похвальны, ничего нельзя тут сделать, точно так же, как самыми лучшими нравственными движениями нашей души не можем мы ни укоротить, ни удлинить нашего носа. Война предшествует гражданской жизни, и на военной силе покоится все здание государства. Чем сила эта несомненнее, тем спокойнее государство, тем обеспеченнее, богаче и независимее развивается гражданская жизнь внутри государства, тем резче, явственнее и обязательнее пограничная черта государственной области.
В недавнее время благодаря так называемым наполеоновским идеям развилось учение о поголовном решении политических вопросов, о так называемом suffrage universel83. He одни ловкие люди, но и люди наивные проповедывают это учение и готовы видеть в нем ключ к решению всех политических вопросов. Мы не будем указывать на грубые обманы, которые сопровождают совершение этого таинства на практике; мы укажем только на грубость того механического воззрения, которое полагается в основание этому учению. Народ - не стадо голов и не сумма голосов; он также не в одних только ныне живущих людях. В народе живет его прошедшее, в народе живет его будущее. Не в случайном настроении хотя бы миллионов людей, живущих на территории государства, не в сумме праздных «да» или «нет», как бы ни была она громадна, заключается судьба государственной области, а в той действительной силе, которая определяет и держит ее. Государство или народ уступает часть своей территории не потому, что его жителям заблагорассудилось принести такую жертву, а потому, что недостало силы удержать границы своей области. Крепка эта сила, и она держит всю свою область; ослабеет она, и это сейчас окажется разложением ее области, отторжением ее частей и нападениями соседей. В чем бы ни ослабела сила народа и крепость государства, это ослабление сейчас же обнаружится в колебании государственного состава. И наоборот, коль скоро подвергаются опасности границы государства, коль скоро возникает вопрос о той или другой части его территории, коль скоро в различных частях его возникает стремление к отложению, значит, произошло общее ослабление государственного организма, значит, есть какие-нибудь причины, угрожающие его здоровью или даже самой жизни, значит, есть в нем какое-нибудь зло, от которого нужно скорее освободиться, значит, есть в нем какие-нибудь недостатки, о которых нужно скорее позаботиться. Если народная жизнь течет нормально, если в государственном организме не случилось ничего вредоносного, то ни одна частица его государственной области не шевельнется, и никому не придет в голову поднимать вопрос о его границах.
Но, скажут иные ревностные патриоты, мы будем крепко стоять за русскую землю и в то же время можем допустить вопрос о возможности отделения польской земли. Однако что такое польская земля и что такое русская земля? Неужели государственная область определяется этнографическими признаками? Неужели судьба государственной области может колебаться и решаться вследствие этнографических или лингвистических исследований и споров? Неужели словарь и грамматика пойдут когда-нибудь распределять государственные территории? Государство не совпадает с племенем, и государственная область не есть только то пространство земли, которое заселено людьми одного языка. В области государства могут жить разнообразные народности, но сила государства равно простирается на каждую часть его территории. Все, что раз вошло в государственную область, становится такою же существенною частью ее, как и все остальное, и за каждую часть государственной территории равно ручается вся сила государства. Честь и достоинство государства, его сила и право одинаково связаны со всеми частями его территории, а не с теми только, которые заселены людьми того или другого племени. Когда возникает вопрос о государственной области, то имеется в виду не язык, не племя ее обитателей, а самое государство, та общая сила, которая равно простирается на все части своих владений. Нарушение границ оскорбляет честь всего государства, а не исключительно того или другого племени, живущего в его границах. Нет разницы, с востока или с запада, с юга или с севера, в польском краю, или в Крыму, или на Кавказе понесет оскорбление и ущерб государственная сила, равно отвечающая за все свои границы; в каждой части своей территории, какого бы она ни была свойства и объема, оскорбляется целое государство, нарушается вся его сила, и это оскорбление и это нарушение отзываются в целом его составе. Значит, оно слабо в своем центре, когда не обеспечивает равномерно своих границ, и это чувство внутренней слабости служит укором государству и подвергает сомнению самую крепость его существования.
Итак, с государственною областью связан вопрос не о народности ее обитателей, а о самом существовании государства. Когда венгерцы уперлись против Австрии на начале народности, то Австрия охотно приняла это начало и тотчас же обратила его против Венгрии. В силу этого начала вся Венгрия мгновенно должна была распасться на множество особых народностей, более или менее враждебных между собою. Поляки теперь жалуются, и за поляков жалуются другие, на угнетения и притеснения, которым подвергается польская народность; в самом же деле поляки хотят не восстановления своей народности, а восстановления своего прежнего государства вопреки началу народности; ибо власть старого польского государства простиралась не на одних только людей польского языка, но и на многочисленные народонаселения другого языка и другой веры. Да и теперь, если бы следовать в строгости принципу народности, пришлось бы и из нынешнего Царства Польского выделить некоторую долю, заселенную не польским, а русским людом, как, например, Холмская область. Если бы дело шло только о неприкосновенности языка и национального обычая поляков, если бы весь вопрос состоял только в том, чтобы на все том протяжении земли, где живет чисто польское народонаселение, в школах учили по-польски, в судах судили по-польски, в церквах молились по-польски или по-латыни, чтоб обычаи, нравы и все, в чем выражается народная особенность, имело право на существование, пользовалось честью и отнюдь не оскорблялось, то и не могло бы быть никакого спора между русскою и польскою народностями, и дело, по всему вероятию, давно бы уладилось очень выгодным для польской народности образом. Но вопрос между Польшей и Россией есть вопрос о государстве: польскому ли государству существовать или государству русскому? А так как польское государство погибло, а русское существует, то весь вопрос заключается в том, следует ли уничтожить ныне существующее государство русское, с тем чтобы восстановить существовавшее некогда государство польское. Вот весь вопрос, - и в решении этого вопроса весь интерес заключается в том, следует ли поставить польскую народность так, чтоб она постоянно имела виды на уничтожение русского государства, или же, напротив, так, чтоб эти виды стали совершенно невозможны. Виды на восстановление старого польского государства и на уничтожение нынешнего русского государства могут соединяться с надеждами или на немедленное осуществление, или на осуществление постепенное. Можно надеяться разом низвергнуть нынешнее русское государство и на место его поставить польское: это надежда революционеров и вооруженных врагов России, желающих войны с ней. Можно также рассчитывать на такое устройство польского края, которое мало-помалу, путем постепенного усиления польских государственных притязаний и соответственного ослабления русской государственной силы привело бы дела без всякого риска к тому же самому результату: это политика благоразумных польских сепаратистов, а также задача иностранных недругов России, пока они действуют не оружием, а дипломатическими средствами.
Итак, вопрос ставится не о правах польской или другой какой народности в пределах русской государственной области, а о правах и силе самой этой области. Борьба идет не между двумя племенами или двумя народностями за язык, за обычай, за веру; борьба имеет своим предметом существование Русского государства.
Впрочем, добровольно отказаться от Царства Польского не так-то легко. Польское Царство присоединено к России в силу трактата, которым определено и закреплено ныне существующее положение Европы. Присоединение Царства Польского или известной части герцогства
Варшавского к России было делом европейской необходимости и есть одно из существенных условий политического равновесия. Россия была бы не властна самовольно оторвать от себя эту часть своих владений. Вот тут она действительно связана международным актом. И в самом деле, несмотря на желания, изъявляемые иностранною печатью и государственными людьми в парламентах относительно отделения Польши, едва ли бы Россия могла легко исполнить это желание, если б она, поверив его искренности, серьезно возымела намерение исполнить его. Отделение Царства Польского от России произвело бы сильнейшее замешательство в целой международной системе, и чтоб отделить от себя Царство Польское, Россия должна одним и тем же актом гарантировать его самостоятельность и требовать, чтобы все другие державы приняли его в свою систему как самостоятельное государство. В противном случае с удалением наших войск из польского края он неминуемо будет занят войсками соседних держав. Возникнет вопрос, может ли Европа допустить это нарушение установившегося в ней порядка, могут ли другие державы допустить самостоятельное существование Польши в каких бы то ни было размерах, - и по всему вероятию, этот вопрос был бы решен отрицательно, и нынешнее Польское Царство должно было бы увеличить собою территорию другого государства или подвергнуться разделу. Результатом было бы только то, что русская государственная область уменьшилась бы настолько, насколько увеличилась бы территория соседних с нею государств, а тем вместе была бы заявлена внутренняя слабость государственной силы России. Из слабости родится не крепость, а слабость; из ослабления следует дальнейшее ослабление. Нет причины остановиться на отделении какой-либо одной части государственной области, если государство само отказывается от какой-либо части своих владений в пользу других государств.
Государство может еще добровольно соглашаться на уступку части своих владений в том случае, когда эта уступка не сопряжена с ущербом его силы, то есть когда она сопровождается соответственною уступкой со стороны других заинтересованных государств. Во всяком другом случае уступка территории будет явным ущербом и достоинства, и силы государства, который поведет за собою целый ряд новых ущербов. Государство останется без закрепы, и для того чтобы закрепить себя снова, ему придется рано или поздно напрягать все усилия своего народа и каким-нибудь чрезвычайным заявлением силы восстановлять свое утраченное значение. Из спокойного самодовольного организма оно по необходимости должно превратиться в болезненно-раздражительную, недовольную силу и стать беспокойным членом международного союза. А такое положение по необходимости сопряжено с непрерывными опасностями, как внутренними, так и внешними. Вот почему человек, любящий свое Отечество, не может не принимать к сердцу уничижения его достоинства, нарушения его границ, оскорбления его чести и всякой ослабляющей его уступки.
Но, скажут, отделение собственно польского края от России было бы, может быть, не столько ослаблением, сколько укреплением нашего Отечества, ибо обладание Царством Польским всегда было для нас не столько элементом силы, сколько элементом слабости. В Царстве Польском, присоединенном к России, многие патриоты склонны видеть нечто вроде чужеядного тела в организме, нечто вроде рака, который надобно не оставлять в организме, а скорее выделить из него. Может быть, в этом сознании есть некоторая доля правды или, лучше сказать, может быть, это сознание не лишено основания. Есть обстоятельства, которые могут действительно расположить и здравомыслящих, и патриотических людей к такому взгляду. Во-первых, Россия допустила европейское вмешательство в свои отношения к польскому краю; отделяя от себя Польшу, Россия освободилась бы от всякого повода к этому вмешательству. Во-вторых, польская национальность с своими неугомонными притязаниями, клонящимися ни больше ни меньше как к уничтожению России, будет всегда в ее составе внутренним врагом; стало быть, чем скорее Россия выведет из себя этого врага, тем спокойнее, безопаснее, тем, стало быть, сильнее, а не слабее будет Русское государство. В-третьих, польская национальность, по мнению одних, цивилизованнее русской, а потому и не может довольствоваться одинаковым с нею государственным устройством и управлением, или, по мнению других, польская национальность хоть и не выше русской, но прониклась началами, до такой степени чуждыми русскому духу, что им невозможно ужиться в системе одного государственного целого.
Но вмешательство европейских держав в польские дела происходит именно оттого, что нас считают слабыми, и мы только подтвердим это мнение, если поспешим отдать кому-нибудь с рук на руки ту часть наших владений, которая служит поводом к вмешательству. В наши дела не вступались, пока нас считали сильными, и мы не избавимся от вмешательства, если дадим новое доказательство нашей слабости или неуверенности в своей силе: европейское вмешательство не замедлит найти себе новый предлог, и мы встретимся с ним неожиданно в других пунктах. (Ездили же в прошлом году какие-то черкесы в Лондон с прошением к королеве Виктории о защите от России! И в самом деле, с некоторых пор англичане что-то с особенным участием и нежностью поговаривают о кавказских горцах.) Ионические острова, находясь под протекторатом Англии, постоянно были недовольны и желали отложиться. Европа, однако, не вмешивалась в отношения Англии к Ионическим островам и не давала ей советов, не угрожала ей войною. С отношениями Англии к Ионическим островам было несравненно менее сопряжено ее государственное достоинство, нежели с отношениями России к Польше. Ионические острова не были приобретены Англией такою дорогою ценой, какою герцогство Варшавское приобретено было Россией. Ионические острова никогда не злоумышляли против Англии и никогда не были завоеваны ею. Они не были присоединены к Англии, а только даны ей на сохранение. Они предоставлены ей трактатом не как неразрывная часть ее владений, а только как depositum84. Англия легко может отделить их от себя без ущерба для своего достоинства и силы; этого мало: при тех условиях, которые побуждают ее присоединить их к Греческому королевству, она руководится верным расчетом, который сохранит за нею все выгоды, соединявшиеся с обладанием Ионическими островами, без тех пожертвований и усилий, которых ей стоило это обладание. Может быть, и Россия, не без основательного рас -чета, могла бы отделить от себя собственно польский край своих владений для присоединения, например, к Австрии, если б этим актом были окончательно замирены польские притязания, и Австрия очутилась бы через то в таком точно отношении к нам, в каком должна находиться к Англии создаваемая ею теперь Греция. Может быть, и выгодно было бы нам удовлетворить внутреннему влечению польской национальности, если б она тяготела к другому политическому целому, как Ионические острова тяготеют к Греции. Эльзас не тянет к Германии, хотя он и оторван от нее, и Франция остается спокойна в обладании этим краем. Но Голштинское герцогство, принадлежа Дании, тянет к Германии, и, может быть, для Дании было бы выгодно отделаться от Голштейна, с тем чтобы через это навсегда обеспечить себя от германских притязаний на Шлезвиг. Но относительно польского края, находящегося в обладании России, до сих пор, как известно, подобных расчетов даже и гадательно не представлялось, тем более что польская национальность ни к какому другому государству так не тяготеет, как к самой России, хотя до сих пор это тяготение было враждебного свойства.
Польская народность действительно находилась и находится во враждебных отношениях к России. Мы знаем, почему эти отношения враждебны; мы знаем, к чему клонятся польские притязания; мы знаем, что они клонятся к восстановлению старого и умершего Польского государства на развалинах нынешней России. Но мы знаем также, и это знает вся Европа, что польские притязания клонятся к невозможному, что умершие организмы не воскресают, особенно если они и при жизни своей походили более на живых мертвецов. Мы знаем, что бывшее нельзя сделать не бывшим и что историю переделать невозможно. Следовательно, враждебные нам притязания польской национальности не могли бы быть очень опасны для нас, если бы мы сами не содействовали так или иначе их развитию. Если польская национальность в составе нашего государства кажется зловредным чужеядным телом, то причины тому надобно искать не в одном лишь свойстве этой национальности, а может быть, еще более в нас самих. Если б оказалось, что сама Россия поддерживает в польской национальности вражеское свойство, то прежде чем думать об операции, которая отделила бы от нас Польшу, было бы несравненно разумнее поискать истинной причины зла и постараться удалить ее. Этим, и только этим мы помогли бы себе и вышли бы из состояния слабости, грозящей разложением нашего государственного организма. Те же самые причины, которые отравляют отношения к нам Польши, могут точно так же испортить наши отношения и к другим частям нашего государственного состава. Если бы нам и удалось механическою операцией отделить от себя Польшу, то, во-первых, мы не избавились бы от ее притязаний, а, во-вторых, мы этим возбудили бы дух сепаратизма и разложения повсюду в остальной нашей государственной области. Мы стали бы не сильнее, а слабее, и очень может быть, что в самых здоровых и крепких частях нашей территории стали бы развиваться притязания, аналогичные польским. Мы не хотим распространяться об этом предмете и пускаться в предположения, тягостные для всякого русского, но всякий легко может взвесить брошенный нами намек и согласиться, что предусматриваемые нами последствия - дело не совсем несбыточное.
Что же касается до того, что польская народность имеет свои особен -ности, то в них не может быть повода к отторжению польского края от России. Могущественные государства всегда слагались из разнородных элементов, и только благодаря этой разнородности развивается сильная и богатая государственная жизнь. Никогда и нигде историческое государство не состояло из одного сплошного элемента, и чем сильнее, чем резче обозначались особенности вступавших в состав его разнородных элементов, тем крепче оно организовалось, тем плодотворнее было его развитие. Но мысль, что польская национальность не может входить в состав Русского государства потому будто бы, что она выше народности русской вследствие своей цивилизации и культуры, не заслуживала бы опровержения как слишком очевидная нелепость. На подобную мысль, которая свидетельствовала бы только о нашем крайнем благодушии, может отчасти служить ответом статья иностранца, помещенная выше в этой самой книжке нашего журнала. Иностранец, не имевший надобности простирать слишком далеко свое благодушие, ограничился строгою правдой в характеристике взаимных отношений, определивших судьбу обеих народностей, русской и польской. И всякий правдивый поляк в душе своей согласится, что нет никаких оснований превозносить польскую цивилизацию и искать в ней решительных прав на предпочтение польской народности перед русскою. В Европе от начала до сих пор ничего не было слышно о какой-либо польской цивилизации. Хвалили и хвалят польскую отвагу в битвах - и только. Ни одного имени, ни одного воспоминания, ни одного памятника в польской цивилизации, с которыми соединялось бы какое-нибудь общее значение, - по крайней мере, ничего, с чем не могла бы более или менее соперничать русская народность, несмотря на то, что она позднее вступила в систему европейской цивилизации, несмотря даже на то, что все силы русского народа главным образом шли до сих пор на утверждение единства Русского государства, уже давно получившего всемирное значение. В деле образования, в деле наук, искусств, литературы и общественного развития наша цивилизация, конечно, не может выдерживать никакого сравнения со старыми европейскими нациями. Но ей нечего опасаться сравнения с польскою. Если бы дело шло о сравнительной оценке между умственною культурой Германии и России, то русскому человеку, конечно, не оставалось бы ничего иного, как только сослаться в этом отношении на свои надежды в будущем и согласиться, что в деле полного и всестороннего человеческого образования можно обойтись без знания русской языка или русской литературы, а не так легко обойтись без знакомства с литературою немецкою; но и поляк точно так же должен согласиться, что без знакомства с плодами польской цивилизации Европа обходится очень удобно, и никто не считает себя человеком недостаточно образованным, не зная сокровищ польской науки, польского искусства, польской литературы. Самая промышленность в Царстве Польском, тоже очень мало способствующая всемирному благосостоянию, впервые получила некоторое развитие и стала способствовать по крайней мере польскому благосостоянию только под русским владычеством. Но если б и в самом деле поляки имели перед нами какое-либо преимущество в своей цивилизации, то это никак не могло бы послужить препятствием к дружному соединению их под одним скипетром. Какова бы ни была польская цивилизация, она ограничивается лишь самыми верхними слоями общества и отнюдь не может быть названа достоянием целого польского народа, самобытною, народною цивилизацией; она есть принадлежность касты, которая везде, куда только простиралось польское владычество, находилась во враждебном разобщении с остальным народом, и народ был еще более чужд ей, чем иноплеменный народ в наших Остзейских губерниях по отношению к высшим немецким классам, которые там господствуют. Если германская цивилизация могла и может существовать под русскою державою в полном политическом соединении с ее другими владениями, то не нелепо ли ссылаться на какие-то особые преимущества польской цивилизации, будто бы препятствующие ей находиться в таком же соединении с Россией? Не очевидно ли из одного этого, что вовсе не степень, а также не особенности цивилизации служат истинным препятствием в этом отношении? Не очевидно ли, что препятствием является нечто другое, - именно, те притязания польского патриотизма, не имеющие ничего общего с особенностями какой бы то ни было цивилизации, те притязания, которые клонятся к тому, чтоб уничтожить ныне существующее Русское государство и на место его поставить некогда существовавшее и оказавшееся неспособным к жизни Польское государство?
Итак, все затруднения польского вопроса заключаются единственно в тех притязаниях, которые не может допустить Россия, с которыми не может вступать в сделку ни один русский человек. Этих притязаний нельзя допустить ни в каком виде, ни в какой степени. Все, что может питать и поддерживать их, есть, очевидно, большая или меньшая степень одного и того же зла. Таких притязаний Россия не может допустить ни внутри, ни вне своих пределов. На такие притязания извне она должна отвечать развитием всей своей оборонительной силы; на такие притязания внутри она должна отвечать энергическим развитием своих внутренних сил. Но если бы мы почему-либо оказались неспособными подавить это зло, то, конечно, лучше желать, чтоб оно действовало на нас извне, чем внутри нашего государственного состава. Зло извне, действительно, менее опасно, чем зло внутри. Если мы положительно считаем себя неспособными уладить дело с Польшею так, чтоб она не могла иметь враждебных против Русского государства притязаний, то русским людям, конечно, не остается желать ничего иного, как полного отделения ее, хотя бы то было сопряжено с ущербом государственному достоинству и силе России. Из двух зол надобно выбирать меньшее. Но не грустно ли подумать, что Россия должна торжественно заявить свою неспособность уладить правильным образом возникшее внутри ее затруднение именно в ту пору, когда она чувствует себя обновленною и когда она более чем когда-либо становится достойною своего всемирного положения? Россия держала Польшу в ту пору, когда ее общественные силы были бездейственны; должна ли Россия признать себя несостоятельною в ту пору, когда ее общественные силы призываются к деятельности, должна ли Россия признать себя несостоятельною именно теперь, когда она вступает в новый период своего существования, - теперь, когда, наконец, должно постепенно раскрыться все разнообразие элементов, содержимых и ограждаемых Русским государством, и этот таинственный незнакомец, народ русский, доселе безмолвный и невидимый, должен заговорить и явить себя миру? Почему же Россия не в состоянии держать Польшу именно теперь, когда падают и последние основания для укоров, которые со всех сторон на нас сыплются и которыми мы сами так беспощадно бичуем себя?
Европа вступается за Польшу. Право Европы на вмешательство во внутренние отношения России к польскому краю очень сомнительно; но, к сожалению, мы допустили его. Чего же Европа может если не требовать, то желать относительно соединения Польши с Россией? Европа может желать, чтобы Польша была управляема хорошо; но она ни в каком случае не может требовать, чтобы Россия давала этой части своих владений такое положение, которое обратилось бы в ущерб целому. Европа ни в каком случае не может требовать от России, чтоб она воспитывала и поддерживала, укрепляла и развивала те притязания польских магнатов или польской шляхты, которые явно клонятся к гибели России. За отсечением этих притязаний, которых Россия не может допустить ни под каким видом, ни в какой степени, остаются лишь такие желания и потребности, которые могут только вести к полному политическому слиянию Польши с Россией, как того требует точный смысл Венского трактата, постановившего, чтобы Польша была неразрывно связана с Россией своим государственным устройством. Все те общественные интересы и нужды, которые обеспечиваются и удовлетворяются государством, все собственно политическое должно быть для Польши и России совершенно одинаково. Только при этом условии исчезает напряженность отношений между двумя народностями, только при этом условии Польша может оставаться в соединении с Россией; только таким образом исполняется требование Венского трактата и окончательно упраздняется вмешательство Европы в польские дела, потому что при этом условии польские дела становятся окончательно внутренними делами Русского государства.
Но, возразят нам державы, неохотно расставаясь с предлогом к вмешательству, - Польша отдана России на некоторых условиях, обеспечивающих благоуправление этого края; Европа не желала бы, чтобы страна, которую она укрепила за Россией, была управляема дурно, чтобы личность и собственность не были ограждены в ней надлежащим образом и чтоб общественные интересы в ней не могли заявлять себя правильным образом. Наконец, в трактате упомянуто о народном представительстве.
В трактате действительно упомянуто о народном представительстве, но характер его не предопределяется; трактат предоставляет политическое устройство Польши в полное распоряжение России и, напротив, требует только того, чтоб этот край был неразрывно соединен с нею этим устройством. Хороши или дурны условия управления России, во всяком случае Польша должна довольствоваться ими или желать их улучшения наравне с остальными владениями, принадлежащими скипетру России, совокупно и солидарно со всеми прочими ее подданными. Часть ни в каком случае не может предписывать законы целому. Хорошо целому, хорошо и частям; дурно целому, дурно и частям. Основательны или неосновательны желания поляков, они только тогда могут быть допущены, когда будут иметь своим предметом благо целого, а не клониться в ущерб ему. Но не всякое желание может быть исполнено, ибо не всякое желание основательно и разумно. У всякого барона может быть своя фантазия; у всякого может быть свой план в голове, как лучше устроить то или другое во благо целого государства и на счастье целого миpa. Польша из своего прошедшего не может почерпнуть ничего, что могло бы годиться для благоустроенного общества; в истории ее старого погибшего государства нет образцов, годных для подражания, и гораздо лучше вовсе забыть эту несчастную историю. В каком бы положении ни находилась Польша под скипетром России, оно все-таки лучше того, в каком была эта страна до присоединения своего к России. Польше, стало быть, остается в своих политических желаниях примкнуть к России согласить свои виды на благоуправление с видами России и усвоить себе те начала, которые выработались и вырабатываются политическим развитием русского народа. Если дать волю своему воображению и пуститься в отвлеченные комбинации, в праздные сочетания понятий, то можно придумать бесчисленное множество всякого рода планов; но хороши только те планы, которые соответствуют действительным условиям. Таких планов никогда не бывает много, или, лучше сказать, на каждый предмет может быть только один такого рода план. Все добросовестные стремления должны быть направлены к тому, чтобы найти этот единственный путь улучшения, а не к тому, чтобы во что бы то ни стало придумывать свое и разбегаться по всем тропинкам, которые открываются для отвлеченной мысли или для разыгравшегося воображения.
Россия не может допустить никакой комбинации относительно своего политического устройства, составленной на основании чуждых ей условий или не вытекающей прямо из практических условий ее быта, -никакой комбинации, которая не будет прямым ответом на ее действительные потребности или которая может повести к ослаблению ее государственного состава. Ни Польша, ни вся Европа не могут вынудить Россию принять чуждую ей формулу политического устройства. Да и какая польза была бы от того, если бы Россия дала навязать себе какую-нибудь комбинацию, которая не могла бы привести ее ни к чему, кроме замешательства и бессмысленного брожения? Страна, призванная к великой исторической жизни, Россия имеет свой оригинальный тип и свойственный ей ритм развития. Не одни племенные особенности чисто русского народонаселения России определили этот тип; он есть результат многих условий исторических и географических, и всякая отдельная часть Русского государства может подчиниться этому типу без унижения и оскорбления для своей особой национальности. Этот общий тип, выработанный долгою, трудовою, до сих пор исключительно ему посвященною историей, способен ко всевозможному усовершенствованию и может в своем дальнейшем развитии удовлетворить всем потребностям человеческой жизни и человеческого общества. Только на твердой основе этого типа народонаселения входящие в состав Русского государства могут заботиться о своем политическом благосостоянии. Одни и те же результаты достигаются разными путями и разными способами. Мы не можем повторять для себя историю других народов; мы имеем свою историю, которая до сих пор еще ни разу не спотыкалась. Мы пережили времена мрака, неурядиц, иноплеменного варварского ига; мы потерпели всевозможные пленения и бедствия, перенесли все невзгоды и все тягости, сопряженные с развитием единого и крепкого государства, вытерпели всякого рода диктатуры. Мы прошли тяжелую и долгую школу. Нам незачем идти снова в школу или переделывать у себя то, что было у других народов. Со времен Вольтера и Монтескье внимание Европы постоянно было обращено на политическое устройство Англии. Об английских учреждениях писалось и пишется вкривь и вкось на всех европейских языках; они копировались на практике в разнообразных видах, и вот выработалась общая схема политического устройства, которая под именем конституции считается обязательною для всякого государства, желающего стать с веком наравне. Все европейские государства нарядились в конституции. Франция уже несколько раз, как известно, меняла этот наряд. Кто из людей здравомыслящих не согласится, что все эти наряды, все эти сочиняемые конституции не имеют никакого существенного значения, никакой действительной силы? Вся история Франции начиная с 1789 года по сие время служит тому доказательством. Происходящие теперь перед нами печальные и вместе забавные явления в прусской конституции служат также очень интересною характеристикой духа и значения всех этих сочиняемых и делаемых государственных устройств. Все эти новейшие государственные устройства, все эти конституционные наряды, несмотря на высокую цивилизацию тех стран, которые в них облекаются, не представляют ничего поистине серьезного, ничего твердого и служат только выражением переходного состояния европейских обществ; никого не удовлетворяя, они производят только брожение и смуту, ведут к вредным столкновениям и подвергают опасности все основы государственного и общественного порядка. Ничья мысль не может успокоиться на этих сочиненных конституциях; они сами лишены всякой веры в свое существование. В самом деле, кто решится сказать, что европейские государства находятся теперь в состоянии сколько-нибудь утвердившемся и прочном? И вот все снова обращаются к Англии; все спрашивают, почему только ее государственное устройство в целой западной Европе твердо и незыблемо в своих основаниях. Разница между английским устройством и всеми этими фальшивыми конституциями, которые покрыли теперь всю Европу, состоит в том, что первое органически выросло, а эти последние сочинены и сделаны. Первое во всех своих подробностях есть плод долгой и трудной истории, и все в нем вышло из жизни, все выработано практикой и опытом; а новейшие конституции, которые сочиняются в других европейских государствах, -фальшивая копия, лишенная всякого духа жизни и не имеющая никаких корней в действительных условиях страны. Каковы бы ни были результаты английских учреждений, учреждения эти хороши прежде всего тем, что они не теория, а практика, что в них понятие не предшествовало делу, а напротив, само вырабатывалось из дела. Подражать английским учреждениям, копируя их формы, значит не понимать ни смысла, ни силы их. В самом деле, ничто так не далеко от оригинала, как копия, ничто так не разнородно с живою действительностью, как снимок с нее, как бы он ни был тщательно сделан. Как бы ни был точен и верен портрет, но надобно быть сумасшедшим, чтобы видеть в нем одно и то же явление с живым человеком, которого он изображает. Зато как бы ни были несходны между собою живые люди, все они сходствуют между собою именно в том, что они живые существа, а не призраки.
Какое же положение должна принять Россия, занимающая столь важное место в системе европейских государств и имеющая на руках своих Польшу, о благоустройстве которой так попечительно хлопочет теперь Европа? Посоветуют ли ей из живого существа превратиться в призрак? Посоветуют ли ей прервать течение своей собственной государственной жизни и приняться за сочинение конституционного наряда по образцам, представляемым теперь Европой? Должна ли Россия в видах благоустройства брать чужие формы и прилаживать их к себе, забывая и свою историю, и действительные условия своего настоящего быта, и вместо естественного развития элементов, действительно в ней существующих, начать изнурительную игру в теоретические комбинации и тем подвергнуть крайней опасности свое существование? Должна ли она погнаться за словами и формулами и оставить в небрежении существенное дело?
Польша, соединяясь с Россией в общем государственном устройстве, не имеет надобности желать, чтоб это устройство было лживою формулой. Основная черта того государственного типа, который выработан Россией и от которого Россия не может отречься, есть доверие между верховною властью и народом. Россия не может допустить ничего похожего на договор, или контракт, между монархом и его подданными. Всякий волен сочинять про себя какой угодно проект политического устройства, но всякий, не лишенный здравого смысла, должен понять, что, во-первых, монархическое начало не только есть коренное начало для России, но есть сама Россия, и, во-вторых, никакое разделение невозможно в России между верховным представителем этого начала и народом. Вот основания, которые должны быть неизбежно приняты и вне которых невозможна никакая политическая комбинация в России.
Слово «конституция», очень невинное по своей этимологии и по своему первоначальному смыслу, стало в наше время одним из самых дурных политических терминов благодаря тем фальшивым и безобразным сочетаниям представлений, которые оно возбуждает в умах. Оно потеряло всякое серьезное значение, опозорилось, опошлилось и запачкалось; им украшает себя глупость, им прикрывает свои виды сумасбродство; оно по большей мере служит геральдическим символом педантического доктринерства. Никто, слыша или произнося это слово, не может освободиться от всякого рода смутных ассоциаций, непременно им вызываемых; редкого обращает оно к чему-нибудь положительному, практическому, годному для жизни; всякого, напротив, увлекает оно невольно в миp идей, не имеющих ничего общего с окружающею действительностию, с ее истинными потребностями, с ее практикой, с ее опытом; у иного развертываются в голове чужеземные воспоминания, вычитанные из разных историй, сцены бесплодных агитаций, интриг и честолюбия, недостойной ораторской игры народным благосостоянием и существенными интересами общества, сцены ужаса или смеха; иной замыкается в отвлеченную, бессильную, педантскую формулу, в которой напрасно кружится ум, не находя никакого выхода к жизни. Откидывая в сторону все смутные представления, всю ту внешнюю обстановку, которая соединяется со значением этого слова, мы получим в остатке понятие, на котором более или менее сходятся разные люди как на самом существенном смысле его. Это понятие есть договор, или контракт, между верховною властью страны и народом. В таком договоре, или контракте, и поклонники, и порицатели так называемого конституционного устройства готовы видеть главное значение конституционного порядка, хотя до сих пор не находится нотариуса, который мог бы скрепить этот акт, и не оказывается судилища, которое могло бы гарантировать его силу. Мы видели и видим жалкую участь, постигающую эти сделки, - как рвались и рвутся эти хартии, как бессильны эти торжественные обязательства и как мало зависит от них ход событий и сила вещей. Но, скажут, есть, однако, страна, где конституционное устройство - истина, а не пустое слово. Оставляя в стороне достоинства или недостатки английских учреждений, особенный тип их, нельзя не согласиться, что государственная организация Англии отличается прочностью и твердостью. Есть же, стало быть, возможность основать твердый порядок вещей на договорном начале, и, стало быть, Magna Charta85, которую в давние времена вытребовали английские бароны и от которой ведет свое начало английская конституция, - эта хартия оказалась же, стало быть, не простым клочком бумаги, а действительною силой, гранитным основанием общественной свободы и прочного государственного порядка. Увы, какое заблуждение! Эта пресловутая Великая Хартия английских баронов была такой же тленный материал, как и всякая хартия; она так же, как и всякая бумага, рвалась в клочки и разносилась всеми ветрами. В этой Великой Хартии выговорено было право вооруженного сопротивления короне, как будто для вооруженного сопротивления очень нужна юридическая санкция. Будучи порождением темных веков кулачного права, в сущности, это узаконенное право восстания было то же самое, что и право польских дворян составлять конфедерации, которое погубило Польшу и которого пагубное значение так хорошо объяснено в помещенной выше статье из «Quarterly Review» 86; только английские бароны были умнее польских панов: они старались не отделять себя от остального народа. Но главное дело в том, что между этою хартией и нынешним положением Англии лежит вся история этой страны. Эту хартию отделяют от нынешней Англии с лишком шесть веков, и в течение такого долгого времени страна эта подвергалась всевозможным бедствиям, посреди которых Magna Charta оказывалась такою же бумагой, как и всякая бумага. Между это. хартией и нынешнею свободою Англии прошли целые века всевозможных насилий и бедствий. Между этою хартией и нынешнею английскою свободой прошли в этой стране целые династии деспотов, были свои Иваны Грозные и своего рода Петры Великие, пред которыми все безмолвно трепетало и склонялось или все падало под рукою палача. Стало быть, и для этого старого контракта не нашлось ни нотариуса, ни компетентного судилища. Стало быть, напрасно думают, будто твердость и сила нынешнего порядка Англии основываются на каком-нибудь контракте или договоре. Теория общественного контакта и договорного начала в организации государств есть одна из фикций, которыми так обильно было прошлое столетие. На Англию тогда ссылались как на живое доказательство организующей силы этого начала; но Англия стала крепка и тверда не в силу этого начала, а почти, можно сказать, вопреки ему; она стала тверда и сильна не прежде как после многих и долгих веков самой трудной и тяжкой истории, не прежде как заросло и позабылось в ней всякое договорное начало. Англия сильна не силою невозможного контракта, а напротив, тем, что она не знает писаной конституции. Никакая сторона не ссылается там ни на древнюю «великую хартию», ни даже на «декларацию прав» более поздней, смутной эпохи. Англия сильна силою установившегося обычая. Как ее суды судят не по кодексу, а в силу установившейся практики, в силу бывших случаев, так точно ее политические власти управляются и действуют в силу установившейся практики, которая растет от времени, приумножаясь каждым новым случаем и слагаясь из всех бывших случаев, опираясь на них и ища в них, а не в какой-нибудь бумажной конституции, разрешения для возникающих затруднений. Вот в этом-то и состоит огромная разница между английским государственным устройством и теми конституциями, которые плодятся и исчезают в остальной Европе, производя только смуты и колебания и не ограждая, а напротив, стесняя и затрудняя и общественную свободу, и народную жизнь, искажая и извращая самые коренные условия порядка и свободы.
И в самом деле, не явное ли бессилие в этих попытках основать отношения между верховною властью и народом на договоре или контракте? Не явная ли ложь в этом искусственном разъединении двух сил, которые в действительности неразрывно соединены между собою? Не явное ли зло в этом организованном недоверии между верховною властью, которая ничего не значит без народа, и народом, который ничего не значит без верховной власти? Какое странное зрелище представляют эти два лагеря, часто ничего другого не делающие, как только злобно следящие друг за другом и ищущие, как бы обмануть и перехитрить друг друга! Какая страшная трата времени и сил, какое бесплодное для народной жизни занятие - это беспрерывное и подозрительное наблюдение друг за другом двух сторон, которые заботятся пуще всего о соблюдении формальностей бессильного контракта! Какая польза от контракта, исполнение которого ничем не может быть обеспечено? Польза во всяком случае очень сомнительная, а вред очевидный. Бессильный предупредить зло, он достаточно силен, чтобы коренным образом испортить отношения между верховною властью и народным представительством и сообщить как той, так и другому несвойственный им характер, развить в них отдельные интересы и себялюбивые инстинкты и поставить их в ложное отношение, вредное как для государства, так и для общества, опасное как для порядка, так и для свободы.
Всеобщие законы природы и истории одни и те же для всех стран и народов, и Россия, нет сомнения, не изъята от них. В России точно так же, как и везде, огонь жжется и реки текут не снизу вверх, а сверху вниз. Экономические, нравственные, политические законы как везде, так и в России одни и те же. Русские ассигнации имеют совершенно такие же свойства, как и ассигнации австрийские или турецкие; одинаковые нравственные причины как везде, так и в России производят одинаковые последствия. Но точно так же, как и все в мире, Россия имеет свои особенности, свои индивидуальные черты, которые не противоречат общим законам, а напротив, из них же объясняются. Россия имела свою историю и вышла из нее с характеристическими особенностями, которые предопределяют дальнейший ход ее истории. И друзья и враги России привыкли считать ее младенцем или, по крайней мере, очень незрелым юным существом. Напрасно! Хороша она или дурна, но она представляет собою очень зрелое существо с глубоко укоренившимися, ничем не истребимыми инстинктами и историческими навыками, ставшими ее натурой. С нею нельзя шутить, и только малодушие и ребячество могут замышлять самовольные радикальные переделки в ее организации. Россия есть зрелая, крепкая, глубоко укоренившаяся сила, а незрелы, шатки и смутны те понятия, которыми мы, люди, судящие о России, судим о ней. В наших понятиях мы живем постоянно вне России, и эта двойственная жизнь производит страшный хаос и в наших понятиях, и в нашей действительности. Что ни скажите, все переведется в нашей голове на французский, немецкий или английский язык, и мы от нашего русского быта, от наших дворян, купцов, мещан и мужичков мгновенно унесемся за тридевять земель. Скажите: «Миссисипи», а мы подумаем: «готтентот». Скажите: «народное представительство», и в нашей голове сейчас же засуетятся все начитанные нами понятия о разных конституциях, и мы невольными ассоциациями представлений перенесемся на берега Сены. Незрелость наша состоит не в том, чтоб историческая жизнь нашего народа содержала в себе мало прошедшего и вследствие того была скудна, слаба и молода, а в том, что мы невольно и бессознательно смотрит на нашу жизнь чужими, не соответствующими ей понятиями. Корова нам кажется лошадью, а лошадь коровою; в глазах у нас все перепутывается, и мы сплошь и рядом делаем то, чего не хотим сделать, и не делаем того, что хотим. В этом наше современное бедствие, в этом органический порок нашего теперешнего состояния. Вот поэтому-то мы кажемся себе и другим малыми детьми, а не потому, что мы не превзошли многих наук и уступаем немцам в учености; вот поэтому-то старый дьяк Московского государства, не знавший ни по-французски, ни по-немецки, не слушавший университетских лекций, не походил, как мы, на ребенка, но был настоящим человеком, зрелым мужем, судил о вещах здравомысленно и как следует зрелому мужу. Почитайте только наши старые юридические акты и посравните их с лепетаньем наших нынешних ученых юристов, и вы поймете всю разницу между зрелостью действительной жизни и младенчеством новорожденных понятий, которые с ней не ладят и не имеют ничего общего.
Мы никогда не могли хладнокровно слышать суждений о политической незрелости русского народа. Отрицайте у него все что хотите, отнимайте у него что угодно, сомневайтесь в его зрелости во всех других отношениях, но только оставьте за ним его несомненную государственную зрелость. В этом заключается вся его история, а история его не призрак. Позднее других исторических народов началась его история; но зато она шла неизменно в одном направлении, и вся сумма этой истории, без всякого вычета, составляет государственную зрелость русского народа. Скорее можно назвать его перезрелым, нежели недозрелым в этом отношении; а при политической зрелости все другие недостатки маловажны в деле политического устройства.
Те признаки младенчества и несостоятельности, которые мы видим на поверхности нашего общества, ограничиваются нашими суждениями, сбившимися с толку вследствие того неорганического смешения чужих понятий со своеземными условиями, которое в наших канцеляриях господствует, может быть, еще более, чем в самом обществе.
Правда, между нами нет преизбытка ученых профессоров или говорунов-адвокатов; но разве желательно, чтобы в России явился когда-нибудь такой спектакль, как блаженной памяти французская трибуна, или такое посмешище, как собрание ученых (действительно ученых) немецких профессоров и теоретиков в церкви Св. Павла во Франкфурте? Да упасет Бог Россию от подобного сюрприза в наши дни, потому что за дни отдаленных наших потомков можем мы оставаться совершенно спокойны! Но мы смеем сказать, что в России не может явиться что-либо подобное не вследствие незрелости ее, а напротив, благодаря ее совершенной зрелости в государственном отношении.
Ученые и теоретики, профессоры и адвокат - люди очень хорошие, но на своем месте, у своего дела. Мысль, привыкшая обращаться в кругу отвлеченных занятий, теряет более или менее восприимчивость и гибкость, необходимые для практического дела, и очень нередко глубокомысленный мыслитель и основательный ученый окажется совершенным глупцом в деле, требующем такта и сметливости, ребенком в живом политическом вопросе. Что же касается до преимуществ здравого смысла и практической сметливости, то едва ли русский народ, при всей скудости своего ученого образования и общественного быта, может уступить в них какому-либо другому народу. Это его естественные дары, которые признают за ним и самые враги: если же эти дары до сих пор приносили мало пользы в его внутреннем благоустройстве, так это лишь потому, что мы слишком таращим глаза на чужие преимущества, а не хотим видеть своих и пользоваться ими как должно.
Россия никому в угоду не примет никакой из тех бумажных конституций, которые так часто и так быстро возникают и падают в остальной Европе и представляют собою контракт, или договор, между верховною властью и подданными. Ни в какой бумажной конституции Россия не будет искать благоустройства и целения от своих недугов и зол, - не потому, чтоб она была слишком молода и незрела, а потому, что в силу своей исторической зрелости она ничего подобного не хочет. Мы говорим о зрелости ее истории, но не можем ручаться за младенческую мудрость наших понятий, которые постоянно вносили и вносят грустное замешательство и смуту в нашу общественную жизнь и в условия нашего народного быта. От этой мудрости станется все; она, пожалуй, захочет искусственно произвести у нас то, чего и тени нет в действительных условиях нашего народного быта.
Россия не допустит договора между народом и верховною властью точно так же, как не допустит договорного начала между своими частями или чего-нибудь похожего на федерацию. Но система доверия, исключающая всякую мысль о договоре между верховною властью и народом, - система, полагающая в основание полное и неразрывное единство между ними, способна к великому и благотворному развитию. Русь запечатлела всею своею историей верность этому началу; она выдержала самые суровые испытания; она вытерпела Ивана Грозного с его опричниной и любыми казнями; она принесла всевозможные жертвы, для того чтобы сохранить нерушимо и утвердить это начало. После таких великих жертв нельзя и думать, чтоб она могла отказаться от результата всей своей истории. Отказаться от него значило бы отказаться от себя самой. Пусть не думают, что начало полного единовластия, которого держится русский народ, есть начало даровое и первобытное. Нет, вся наша история показывает, с каким трудом и как продолжительно вырабатывалось это начало. Только истинно исторические народы вырабатывали его, и везде покупалось оно ценою великих жертв, долгим рядом веков, полных событиями.
Россия начала с того, на чем остановилась Польша. Общественное состояние, которое было для России начатком ее исторической жизни, в Польше оцепенело, не подвергшись процессу, чрез который проходили все исторические народы, и только испортилось и загнило вследствие наносной цивилизации. Точно так же, как польская шляхта сходилась, дралась и продавала свое Отечество на сеймах и сеймиках, сходился люд наших старых вечевых городов; там так же царствовало своего рода liberum veto87, такая же стояла усобица, предававшая их всякому в руки, и точно так же наш вечевой люд и призывал, и прогонял своих князей. Разница только в том, что мы подверглись суровой и жестокой школе истории, как и все другие государственные народы, и вот у нас наше первобытное состояние сократилось и упало в скромные размеры незаметной ячейки общественного организма, сельской общины с ее миром, громадой и сходками; а у поляков это самое состояние в уродливом, неорганическом наросте шляхетской касты осталось до конца единственным типом их целого государственного быта.
Но неизбежное зло нашей истории состояло в том, что доверие, соединявшее народ с верховною властью в неразрывное целое и создавшее
Русскую землю, не было совершенно обоюдным и взаимным. Дальнейший ход русской истории должен состоять в укреплении этого единства, сообщением полной взаимности тому доверию, которое соединяет у нас власть с народом. В развитии взаимного доверия между верховною властью и народом должно заключаться все наше политическое развитие, все наше будущее благоустройство. Если разного рода конституции, основанные на контракте и представляющие собою организованное недоверие между двумя в действительности свято и неразрывно соединенными силами, представляют собою фикцию бесплодную, бессильную и часто пагубную, то России может быть свойственно только такое политическое устройство, которое представляло бы в своем основании полное взаимное доверие между властию и народом.
Если Польша должна соединиться с Россией в одном государственном устройстве, если она, поддерживаемая Европой, желает пользоваться выгодами представительства, то она должна знать, что это представительство не может иметь значение власти, ограничивающей верховную власть, или порождать призрак двоевластия. Народное представительство, которого Польша может ожидать от России, никогда не должно иметь такого направления, которое клонилось бы к разрыву или даже разобщению между верховною властью и народом. Источник всякой власти должен безусловно принадлежать главе государства. Принцип власти должен быть один, как бы ни была сложна ее организация. Пусть всякий сам сделает над собою опыт, для того чтоб удостовериться, согласно ли сказанное с действительностью, и такой опыт сделать очень легко. Пусть всякий русский человек попробует собрать свои мысли с серьезною практическою целью, пусть он поставит себя посреди действительных условий русской государственной жизни, - он разом почувствует всю невозможность договорного начала в русских владениях. Ему сам собою уяснится единственно возможный характер народного представительства, возможного под скипетром Русского Царя. Оно не может быть ничем иным, как подтверждением, раскрытием и оживлением связи между верховною властью и народною жизнью. С одной стороны, оно не может быть ничем иным, как правильным заявлением действительных потребностей, интересов и чувствований страны перед престолом; с другой - ничем иным, как лучшим, вернейшим и надежнейшим проводником закона в народную жизнь, лучшим, вернейшим и надежнейшим блюстителем всех его отправлений. Представительство в этом смысле не может быть ничем иным, как правильно организованною силой общественного мнения.
Общественное мнение есть великая сила нашего времени. Но сила эта может хорошо действовать только тогда, когда она группируется вокруг какой-нибудь правильной и законной организации. Бывают времена в народной жизни, когда правительство принимает характер диктатуры. При правильном ходе такой системы совершенно последовательно принимаются меры к тому, чтобы никакого общественного мнения не было. Политическая печать при диктаторском управлении существовать не может. Никакое мнение о действиях власти, о началах, которыми она руководствуется, об учреждениях, которые она создает, о законах, которые она обнародывает, не только порицательное, но и одобрительное, не должно высказываться. Никому при этой системе не дозволяется принимать участие в деле общего интереса, и общего дела между людьми не допускается. Люди разрознены, общественных сил нет, и нет общественного мнения. Обо всех предметах общего интереса должны исключительно заботиться официальные люди, взятые как рекруты из общества и отделенные от него особою, совершенно замкнутою правительственною организацией, как опричниной. Но коль скоро наступает другое время, когда признается значение общественного мнения, когда обществу дается голос в делах общего интереса, когда каждому дозволяется заявлять участие в интересах своего отечества, когда допускается свобода в выражении мнений о предметах политического, нравственного и религиозного свойства, когда печать получает и может иметь влияние, когда пробуждаются и даже призываются к деятельности общественные силы, то ближайшею серьезною задачей должна быть какая-нибудь правильная организация общественных сил, призываемых к деятельности.
Без правильной организации образуется фальшивое и зловредное общественное мнение, или, лучше сказать, фальшивое подобие его. Все, что только есть дурного, бессмысленного и сумасбродного в обществе, всплывет наверх и будет действовать, и действовать небезуспешно, не встречая себе никакого отпора, отравляя и развращая беззащитную среду. Всякое громко сказанное мнение может вызвать последствия, совершенно не соответствующие истинному настроению умов и расположению интересов в данных обстоятельствах. Что такое общественное мнение? Конечно, результат множества отдельных мнений. Но если нет такой организации, в которой люди, представляющие собою общественные интересы, могли бы чувствовать себя серьезно призванными к заявлению этих интересов, то каждый высказывает только то, что приходит ему в голову, без всякого чувства нравственной ответственности за высказываемое мнение. Ничье мнение при этом условии не сопровождается сознанием долга и серьезного дела; каждый думает и говорит спустя рукава, не придавая практического значения своему мнению. И вот из этих-то мнений, зарождаемых в праздномыслии, без всякой серьезной цели, не сопровождаемых нравственною ответственностью и высказываемых случайно, в салонах, в трактирах, на улицах, наконец, в самой печати, из этих-то беспорядочных, необдуманных, распущенных мнений слагается тот призрак общественного мнения, который может давать самое фальшивое понятие о действительном состоянии общества и не освещать страну для правительства, а напротив, облекать ее в туман и фантасмагорию. И сколько из этой фантасмагории может происходить роковых недоразумений! Без крайней опасности для государства и общества отнюдь не должно, отнюдь не может быть ничего среднего между тою политическою системой, которая отвергает всякое содействие живых общественных сил, и тою системой, которая принимает в свой состав правильно организованное содействие общества.
Правильная организация живых общественных сил, призываемых к участию в делах общего интереса, правильная организация общественного мнения, - вот единственно возможное значение политического представительства, которого Польша может ожидать под Русскою державой. Вот все, - но этого немало. Значение это велико и благотворно. В своем правильном развитии оно может удовлетворить всем потребностям и власти, и свободы, упрочивая и за тем, и за другим началом свойственную ему сферу действия и усиливая то и другое ко взаимной пользе. Представительство, в таком смысле понятое и мудро устроенное, даст должную и спасительную силу всем основным началам общественной жизни, даст должное влияние и на умы, и на дела всем уважительным интересам и через это образует великую нравственную силу. Собирая людей, пользующихся доверием общества и представляющих собою положительные интересы его, и ставя их не где-нибудь в углу, а у самого центра государственных дел, ставя их перед лицо верховной власти и в то же время не скрывая их от взоров целой страны, оно должно удесятерить силы каждого, возвысить в каждом чувство нравственной ответственности и долга, сосредоточить человека, оно заставит его думать о делах общего интереса серьезно и дельно, заставит его тщательно проверять свои понятия, осторожно и заботливо прилагать их к делу, потому что каждый будет мыслить и судить не от нечего делать, не вдали от дела, а под непосредственным его впечатлением, под его гнетом. Возьмите человека в праздную минуту: смотря по расположению духа или по случайно обстановке, он может предаваться крайнему легкомыслию не только о каких-нибудь отдаленных и очень общих предметах, но даже о своем ближайшем, кровном деле. Но возьмите этого самого человека в ту минуту, когда это кровное дело его явится перед ним со всею настоятельностью, когда оно серьезно озаботит его, когда его хозяйство, его дом, его поле потребуют от него безотлагательных распоряжений: вы увидите, как он изменится, как изменятся и склад его мысли, и тон его речи. Люди, наиболее заинтересованные таким или другим оборотом общественного вопроса, судят о нем бестолково и часто даже вопреки собственному образу мыслей, пока они не одушевлены уверенностью, что их суждения имеют какое-либо практическое значение, пока они не чувствуют себя призванными подумать о деле серьезно. Совсем иное, когда человек обсуждает дело с чувством серьезного призвания: он становится чуток и внимателен; он соображает все условия; и то, что при обычной распущенности мысли казалось ему удобоисполнимым или полезным, сейчас же окажется совершенно невозможным, и наоборот.
Общество и правительство никак не должны находиться между собою в положении двух противоположных лагерей. Этого не должно быть, это противно всем требованиям и общественной свободы, и общественного порядка. И, однако ж, к сожалению, так есть и так бывает. В этом именно и состоит один из главных недостатков современных обществ и правительств. Искусственная конституция возводит эту рознь в принцип и усиливает болезнь. Правительство и общество одной и той же страны образуют - странное дело! - как бы две чуждые области, как бы два соседние государства, находящиеся между собою в мире потому только, что оба готовы к войне. Это, без сомнения, болезнь. Но найдутся люди, которые, пожалуй, готовы будут видеть в этом явлении нормальное состояние и разрозненность правительства с обществом будут считать за характеристический признак свободы; такого сорта люди готовы будут полагать всю силу общественной свободы именно в антагонизме между обществом и правительством. Но, указывая на Англию как на образец общественной свободы, эти глубокомысленные политики забывают, что из всех государств Западной Европы одна Англия составляет исключение в этом отношении. В самом деле, именно в Англии не только нет никакого антагонизма между правительством и обществом, но нет почти никакого явственного раздела между ними, так что трудно указать, где начинаются действия правительства и где оканчиваются действия общества. Именно в Англии при той общественной свободе, которая так нравится этим господам, видим мы полнейшую солидарность между правительством и обществом, начиная от самых важных государственных интересов до самых мелких ежедневных явлений. Не говоря уже о предметах общей и международной политики Англии, где все партии как бы составляют заговор и действуют сообща, нет такой полицейской обязанности, в которой англичанин видел бы исключи-
тельное дело правительственных агентов и не считал, напротив, своим долгом всячески способствовать ее отправлению. Если чем особенно может похвалиться Англия, так именно тем, что там нет и понятия о таких интересах, которые исключительно принадлежали бы одному правительству и которых частные люди должны были бы чуждаться или стыдиться. В том-то и состоит характеристическая черта свободного общества, что оно не знает никакого антагонизма между собою и правительством, и в том же, с другой стороны, заключается главное условие силы правительства и успешности его действий. В Англии есть борьба партий, есть антагонизм между лицами; но бессмысленно было бы искать там антагонизма между правительством и обществом.
Но неужели полная солидарность между правительством и обществом есть нечто, исключительно принадлежащее Англии, ее учреждениям и форме ее политического быта? Неужели ни при каких иных условиях невозможен такой же результат, и не нелепо ли думать, что одна Англия может иметь эту привилегию и что только история этого острова могла выработать такое нормальное состояние общества и уберечь его от эпидемической язвы, свирепствующей в новейшее время в прочих европейских странах? Было бы странно так думать. Нет, причина этой язвы заключается не в естественных условиях той или другой страны, подверженной этому злу, а напротив, в уклонении от этих условий. Зло это главным образом является последствием перерыва в естественном ходе исторического развития; оно является последствием той смуты, которая возникает и в учреждениях страны, и в умах людей, в ней живущих, от искусственных комбинаций, от заимствованных понятий и воззрений.
Мы заметили, что искусственные конституции везде усиливали это зло; и если Европа не желает Польше зла, то она не должна навязывать ей никакой подобной комбинации. Европа должна удовольствоваться для Польши представительством, основанным без всякого фальшивого притязания на власть и с единственною целью служить ей пособием. Такое представительство может принести власти действительно незаменимое пособие, приводя ее в непосредственное соприкосновение с обществом и раскрывая перед ней мнения и настроения его в верном и серьезном их выражении, а не в случайных отзывах, не в праздномысленной распущенности. С другой стороны, общество, призванное в лице своих представителей для пособия и поддержки власти и посвящаемое правильным образом в дела, проникнется здравым политическим духом и станет бдительно на страже всех интересов, с которыми неразрывно связаны интересы всех и каждого. Не в том ли состоит вся задача политического благоустройства, чтобы правительство и общество были согласны между собою в побуждениях и целях, чтобы между ними не было никаких недоразумений, чтоб они знали друг друга в лицо и чтобы на всех путях могли они действовать совокупно и солидарно?
Характер представительства определяется при его основании. Если оно в своем начале будет ложно понято, то эта ложь испортит все его значение и ляжет проклятием на его судьбу. Оно отнюдь не должно быть замышляемо с характером власти, ограничивающей или уравновешивающей верховную власть. Оно не должно иметь ни тени подобного притязания. Малейшая капля яда отравит все смешение. Малейший намек на возможность подобного притязания с самого начала поставит представителей в фальшивые отношения и к верховной власти, и ко всему народу, и, наконец, к тем интересам, которым оно должно послужить. Фальшивый намек не останется без последствий; он скажется во всем; он бессознательно примешается к каждой мысли, к каждому слову, к каждому действию; он будет тайным источником всяких недоразумений; он расплодится во множестве сорных и зловредных трав и будет все более и более плодиться, пока не будет вырван и последний корешок фальши, затаившийся в основании дела.
Дело благоустройства будет испорчено, если при основании его будет присутствовать та мысль, что верховная власть делает в нем какую-либо уступку из полноты своих прав. Ничего не может быть неразумнее и бедственнее такого представления дела, что верховная власть скупо и крепко держит в своей руке разные льготы и выпускает их неохотно, в виде уступки, так что народ как бы выигрывает именно настолько, насколько проигрывает власть. Такой взгляд на отношения власти к народу столько же нелеп, сколько и пагубен; он ставит власть и народ в от -ношения невозможные, противные природе вещей. А между тем именно такой взгляд присутствует при сочинении фальшивых конституционных комбинаций. И власть, и народ должны понимать, что никакая общественная льгота, никакое улучшение в правительственном аппарате не должны быть понимаемы как какая-либо уступка в ущерб власти и на пользу народа. Улучшение в правительственной системе не только не должно умалять, унижать или ослаблять верховную власть, но, напротив, должно укреплять и возвеличивать ее. Так должна быть понимаема всякая льгота, всякое расширение прав, даруемое обществу. Тем более при основании представительства не должно быть и тени мысли, что оно является в ущерб верховной власти или в качестве однородной силы, ее ограничивающей. Оно отнюдь не должно быть понимаемо как уступка верховной власти, отрывающей часть своих прав и своей силы, чтоб отдать ее жадному до власти обществу. Всякий подобный взгляд есть верх неразумия в теоретическом отношении; а в практическом он может повести только к пагубному и невозможному многовластию в одном и том же государстве. Везде главная сила исторического развития состояла в том, чтоб искоренять многовластие, в каком бы виде оно ни являлось, и величайшие жертвы приносились народами для утверждения единой власти. Возможно ли же при свете ясного политического сознания совершать такое антиисторическое, самоубийственное дело введением начала многовластия в видах политического благоустройства? Возможное ли дело - возобновлять под видом улучшения и прогресса старое зло, с которым в многообразных формах так тяжко боролась история? А коль скоро о многовластии не может и не должно быть речи, то и народное представительство в видах лучшего политического устройства отнюдь не должно иметь характер власти в собственном и теснейшем смысле этого слова. Как бы ни было организовано представительство, в нем не должно быть и тени мысли, что оно имеет власть издавать законы или что согласие его необходимо верховной власти для издания закона.
Всякий проект, как бы он ни был годен стать законом, может стать им единственно и вполне в силу акта верховной власти. Мнение представителей, хотя бы оно соединило в себе все голоса, должно оставаться не более как простым мнением, и сколько бы оно ни переходило испытаний, оно не должно приобретать ни малейшей юридической обязательности, не должно становиться ни полузаконом, ни четвертью закона, ни сотою долей его до решения верховной власти.
Что же отсюда выходит? Коль скоро представительство при своем основании будет совершенно чисто от всякой фальшивой примеси, коль скоро в нем не будет и тени притязания на власть, коль скоро его мнение ни в каком случае не может считаться обязательным, то каков бы ни вышел состав его, оно, во всяком случае, будет совершенно безвредно. Разом исчезают все опасения с какой бы то ни было стороны и не остается места для мнительной заботливости о том, чтобы придумать сколь можно более рациональные или безвредные формы для его устройства и деятельности. Коль скоро дело при своем основании будет чисто от всякого лживого притязания, то оно будет точно так же чисто и от чувства страха, а страх - плохой восприемник новорождаемого дела. Падают всякие поводы к спорам между разными системами избирательных прав или избирательного ценза, и дело, таким образом, обходится без всякого сочинительства, без сложных теоретических хитросплетений; оно начинается без всякой ломки, без всяких сборов и примкнет к простым и очевидным условиям, непосредственно данным. Улучшения в его организации будут впоследствии вырабатываться практикой, а не предпишутся бойким пером теоретика. Пока дело будет идти хорошо, никаких улучшений и не потребуется, потому что от добра добра не ищут; если же в нем окажется недостаток, то существенного вреда от этого не будет; к тому же вместе с недостатком окажется и способ к его устранению.
Коль скоро общественное мнение в этой организации будет оставаться только мнением, то нет причины стеснять сферу предметов, которых оно может касаться. Все, что доступно общественному мнению при известной свободе суждения, еще в большей мере может быть доступно для призванных представителей его, которые должны послужить надежною и верною подмогой для верховной власти и которые в то же время должны предстательствовать за самые существенные, самые положительные и самые основные элементы общественного порядка и народного благосостояния. Коль скоро основания целого института свободны от фальшивой примеси, то нечего опасаться ни размеров его состава, ни размеров его занятий. Чем многочисленнее будет его состав, чем шире будет круг его занятий, тем несомненнее польза, которую он может принести, тем значительнее и важнее его услуга для верховной власти, тем уважительнее, тем почтеннее будет он в глазах целой страны, а это необходимо для того, чтоб он мог оказывать влияние на умы и регулировать общественное мнение за дверьми своих заседаний. Напрасно стали бы мы думать, что люди будут судить о деле лучше и полезнее, когда мы ограничим сферу их занятий и дадим им лишь то, что менее значительно. Люди способны заинтересовываться делами лишь в той мере, в какой будет раскрываться им связь между ними и существенные стороны их. Только при этих условиях можно ожидать от людей и дельного совета, и полезного влияния; только при этих условиях целое учреждение может внушать к себе уважение.
Чистое в своих началах, не имея за собой никакой роковой ошибки, которая могла бы исказить его развитие и испортить его будущность, оно будет иметь свою судьбу в своих руках. Будет ли оно дурно действовать, оно ничему не повредит своею несостоятельностию; будет ли оно действовать хорошо, оно обеспечит свое значение. Каждое полезное действие, каждая услуга, оказанная им государству, будет незабываемым прецедентом.
Итак, польский вопрос может быть решен удовлетворительным образом для России и для Польши, если Польша откажется от тех притязаний, которых ни в какой мере, ни под каким видом Россия допустить не может. Польский вопрос может быть решен удовлетворительным образом только посредством полного соединения Польши с Россией в государственном отношении. Россия может дать Польше более или менее близкие виды на такое управление, которое вполне удовлетворит всем законным требованиям ее народонаселения и далее которых не могут простираться виды европейских держав, которым угодно заниматься теперь судьбою Польши. Польский край может иметь свое местное самоуправление, быть обеспеченным во всех гражданских и религиозных интересах своих, сохранять свой язык и свои обычаи. Но децентрализированная сколько возможно в административном отношении Польша должна быть крепкою частью России в политическом отношении. Что же касается до политического представительства, то в соединении с Россией Польша может иметь его не иначе как в том духе и смысле, которые выработались историей России, а не по какому-нибудь искусственному типу, равно чуждому и польской, и русской истории.
М. Н. Катков ИСТИННЫМ ЛИБЕРАЛИЗМ, МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВЛАСТЯМИ В Ц ИСТИННЫМ ЛИБЕРАЛИЗМ, МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВЛАСТЯМИ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ, И СТАРООБРЯДЦЫ В ЗАПАДНОМ КРАЕ
Критические минуты государственной жизни, неся с собой опасности и грозя пагубой, имеют, несомненно, подобно всякому испытанию, ту полезную сторону, что выставляют с поразительной ясностью все слабости, заблуждения и ошибки прежних действий и прежних взглядов. Народ, имеющий будущность, должен выйти сильнее прежнего из посетившего его испытания. Общественная и государственная жизнь его должны очиститься. Самосознание его должно стать глубже. Если мы находимся теперь в затруднении, значит, мы должны исправить свои дела и понятия, значит, мы думали неверно и действовали не так, как велел нам долг. Все эти погрешности теперь обнаруживаются и свидетельствуют против нас; их последствия стоят перед нами во всей наготе своей, и мы должны благодарить судьбу, что она дает нам теперь случай проверить себя, увидеть свои ошибки, уразуметь их серьезность и освободиться от них, если можно, в самом их корне.
Нас упрекают в жестокости; мы скорее должны упрекать себя в том, что мы слишком уступчивы, слишком расположены к угодливости, слишком мало наклонны ценить свое по достоинству. Имея за себя несомненное право, мы как бы конфузимся своего права и, будучи чисты совестью, нередко действуем так, как действуют люди, у которых нечиста совесть. Вместо того чтобы открыто и твердо исполнить то, что велит долг, мы стараемся в ущерб делу, на нас возложенному, показаться любезными и гуманными, и когда возвращаемся к исполнению своего долга, то, естественно, подпадаем упреку в двуличности и иезуитизме. Мы не говорим о Царстве Польском, где все чиновники - поляки, но и наши дела в Западном крае не дошли бы до теперешнего положения, если бы между тамошними русскими было меньше людей, уверявших себя, что, действуя по закону и совести, они навлекут на себя такие неудовольствия и даже оскорбления, которые принудят их отказаться от всякой мысли о самостоятельности в законном исполнении долга. Сохраняя верность России и доброжелательство краю, эти люди полагали, что единственное средство быть полезным не только России, но и самому краю заключается в двуличности. Таким образом, из правых они сами делали себя неправыми. Имея перед собой энергического врага и компрометируя себя перед ним, русская распущенность довела дело до того, что всякое поползновение русского человека не обнаруживать бездействия власти, не допускать отступлений от закона и не потворствовать нарушителям его считалось если не преступлением, то поступком очень предосудительным и признаком придирчивости, не соответствующей тому порядку управления, который должен быть основан на доверии и снисходительности. Словом, русских совсем запугали; и они уже не того совестились, что не исполняют своего долга, а того, что исполняют его. Как ни мало похож этот образ действий на приписываемую русским варварскую жестокость и грубость, однако же нельзя не видеть, что он вовсе не служит к нашей чести. Он имеет свой корень вовсе не в либерализме или гуманности, а в недостатке уважения к закону - в том недостатке, которым страдаем все мы, русские, от Немана до Камчатки. Мы нападаем на взяточников, которые нарушают закон, имея в виду разные материальные выгоды; но чем лучше взяточников те, кто нарушает закон для снискания популярности? Одному платят деньгами за поблажки; другому платят за них похвалами и величаньями. Средства подкупа различны, но подкуп все равно подкуп, и, что бы ни совратило человека с пути долга, результат один и тот же: попрание закона и принесение его в жертву личному произволу. Истинный либерализм должен состоять не в поблажках, которые всегда бывают уступкой не тем, кто прав, а тем, кто притязателен; истинный либерализм должен состоять в умении подчинить свою волю закону и этим уважить свободу других. Мы можем уважить чужую свободу только тем, что поставляем закон выше своего произвола. Строгая, нелицеприятная законность, не подчиняющаяся ничьему произволу, ничьим притязаниям, - вот первое условие либерализма. Несокрушимая твердость воли - главный признак его. Угодливость притязаниям есть слабость, никогда ничего не излечивающая, а, напротив, поощряющая нахальство, которое, видя в ней только робость, возвышает свои требования и насмехается над законом. В общественных делах уступчивость одним всегда заключает в себе несправедливость к другим. Чьи-нибудь интересы всегда приносятся в жертву, а никто не имеет права жертвовать ничьими, кроме своих, интересов. Популярничать на чужой счет нечестно. Вот почему уступчивость и угодливость в общественных делах несовместна не только с либерализмом, но даже и с честностью. Угождайте, если угодно, за свой счет, а не за счет общества, не за счет Отечества.
Боже нас сохрани обвинять лица. Многое в действиях того или другого должностного лица объясняется у нас новостью нашего положения. Прежняя система действовала патриархально. Она не разбирала средств при достижении своей цели. Ее цель была законная - поддержание государственного порядка, но средства, которые она употребляла, были случайны и произвольны. Когда эта прежняя система начала сменяться новой системой, мы не отдали себе ясного отчета в том, что, собственно, подлежит отмене. Нам показалось, что тяжба идет не между произволом и законностью, а между суровостью и мягкостью. Мы стали всего более остерегаться суровости и считали себя правыми, когда нарушали закон в видах мягкости. Мы упустили из виду, что непозволительно нарушать закон ни в ту, ни в другую сторону. Мы как будто забыли о том, что символ государства есть меч и что государство поставлено в необходимость прибегать в случае надобности к строгим и даже суровым мерам. Самую законность мы стали понимать внешним, формальным, лжелиберальным образом. У нас вышло совсем из памяти, что ни одно из самых свободных государств не отказывалось от своего несомненного права законным образом принимать в исключительных обстоятельствах исключительные меры. В Англии в случае надобности может быть отменен акт, обеспечивающий личную безопасность, - «Habeas Corpus». В Риме в минуты опасности сенат постановлял свое знаменитое videant consules88 - и консулы были облекаемы диктаторской властью. Эти меры, стесняющие личную безопасность в интересах безопасности общественной, необходимы везде. Они законным образом отменяют законы, издаваемые для мирного времени. Принимаемые при исключительных обстоятельствах, они делают на время этих обстоятельств законным то, что в мирное время не допускается законом. Можно жалеть о том, что в человеческих обществах время от времени наступают такие обстоятельства, но коль скоро они наступают, государство не может бороться против них теми средствами, которые считаются достаточными в спокойное время. Напротив, чем долее государство медлит в подобных случаях принятием исключительных мер, тем круче должны быть впоследствии эти меры и тем продолжительнее должно быть их применение, несомненно тягостное не только для виновных, но и для невиновных.
Мы сочли уместным высказать эти мысли ввиду известий об энергических мерах, принимаемых теперь законными властями в Западном крае и Царстве Польском. Военное положение переходит в действительность не только в Литве, но и в Польше, где управление краем начинает сосредоточиваться в руках военных начальников уездов, а некоторым генералам даровано право конфирмовать на месте приговоры полевого военного суда. В Варшаве было несколько политических казней. Над вождем инсургентов Леоном Франковским, о котором иностранные газеты распустили слух, будто он бежал из цитадели, исполнен приговор военного суда, несмотря на то что, как нам пишут из Варшавы, мать Франковского обращалась с просьбой о помиловании к Ее Императорскому Высочеству Великой Княгине. Из Вильны нас извещают, что 8 июня прибыла туда комиссия из нескольких инженеров путей сообщения, которая собирала сведения о состоянии железной дороги и о служащих на ней. Фактами доказано участие некоторых начальников станций и других служащих на Варшавской железной дороге в возмущении. Только этим участием можно объяснить, что через два часа после прохода пассажирского поезда экстренный поезд с войском нашел дорогу с одной стороны подрытой, вследствие чего паровоз опрокинулся с трехсаженной высоты, первые два вагона разбились вдребезги и следующие восемь также попадали с кручи. Теперь выписывают из Петербурга и Динабурга несколько сот рабочих, которым придется сторожить дорогу и работать на ней. Прекратится также даровая перевозка мятежников по запискам начальников станций, производившаяся, говорят, в широком размере. Сверх того, приступлено к рубке леса, облегающего дорогу во многих местах между Вильной и Варшавой, дело дошло до того, что из леса стреляли в поезд и с трудом можно было находить кондукторов для отправления службы на пространстве от Вильны до Варшавы. Теперь эти леса на 150 сажен в обе стороны от дороги начинают падать под ударами топоров. В Виленском генерал-губернаторстве уже принята эта мера, а в Царстве предполагается приступить к ней, когда будет произведена оценка лесов. Что касается до крестьян Царства, то, к сожалению, в первые месяцы восстания законные власти оставляли их без поддержки. Теперь в Варшаву стекаются толпы крестьян, преимущественно из колонистов, и просят переселить их в Россию. Они готовы даже за свой счет бежать из Царства - до того бедственно их положение вследствие того, что по деревням свободно распоряжается национальное правительство. В Литве население, преданное России и не сочувствующее восстанию, начинает ободряться. В Витебской губернии даже католики обнаруживают расположение в пользу России. Там крестьяне выставили ополчение в две недели, и в него вошли не только старообрядцы, но и латыши-католики. В одной волости государственных имуществ Динабургского уезда вместо 60 ополченцев вышло 800 охотников, и их разрешено менять через известный срок. Генерал Муравьев, очевидно, заботится о том, чтобы поддержать этот добрый дух в крестьянах вверенного ему края. Читатели обратят в этом отношении внимание на воззвание его к сельским жителям.
Не можем не упомянуть здесь кстати о старообрядцах. В Западном крае есть местности, населенные исключительно или старообрядцами, или католиками. В этих местностях коренную, прочную подпору русской народности составляют старообрядцы, а между тем старообрядцы не допускались там к занятию должностей. Их даже не дозволяли избирать в волостные старшины, и, mirabile dictu! (странно сказать!), старшинами в старообрядческих волостях были католики, которые, само собой разумеется, находились под влиянием ксендзов. Тем не менее старообрядцы первые отозвались на весть об учреждении ополчения и наводят теперь спасительный для края страх на мятежных людей между помещиками Витебской губернии. Благодаря старообрядцам можно быть уверенным, что серьезных беспокойств в этой губернии не будет. Дело с графом Плятером и последствия этого дела убедили мятежных панов, что подговорить крестьян к восстанию невозможно и что подобные попытки ведут, напротив, к самым ужасным для панов результатам. Есть основание предполагать, что при вновь назначенных выборах сельских властей в литовских и белорусских губерниях гражданские права старообрядцев не будут стеснены. Старообрядцы ждут с нетерпением этой справедливости. Они восторженно преданы своему благодушному государю и с гордостью указывают на то, что сам Русский Царь называет их теперь не раскольниками, а старообрядцами, как один из них заметил нашему корреспонденту. Во всяком случае, предпочтение, которое оказывалось в том краю католикам перед старообрядцами, было немалым промахом с нашей стороны и немалым подспорьем для революционной пропаганды.
М. Н. Катков ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ НЕ ЕСТЬ ВОССТАНИЕ НАРОДА, А ВОССТАНИЕ ШЛЯХТЫ И ДУХОВЕНСТВА
Польское восстание вовсе не народное восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за свободу, а борьба за власть, - желание слабого покорить себе сильного. Вот почему средством польского восстания не может быть открытая честная борьба. Как в семенах своих, так и своем развитии оно было и есть интрига и ничего более. Если эта интрига имела значительный успех, то лишь потому, что она нашла у нас благоприятную для себя почву. Средства интриги, правда, велики. Властолюбивой шляхте, желающей властвовать над русским народом, подало руку властолюбивое римско-католическое духовенство, желающее поработить Православную Церковь. Два властолюбия вступили в союз, два властолюбия одно другого ненасытнее. Но как ни велики средства интриги, она все-таки не могла бы иметь успеха, если бы мы не содействовали ей своим поведением. Должны же мы теперь бороться с ней: так зачем же было бездействовать, замечая успехи ее, и, наконец, если мы не замечали ее успехов, то зачем мы не замечали их? Увы! Мы всегда доведем дело до последней крайности и только тогда встрепенемся. Встрепенувшись, мы действуем безукоризненно и бываем непобедимы. Это не подлежит сомнению, и в этом наша сила, верный залог того, что наш народ имеет будущность. Но было бы лучше, повторим в сотый раз, если бы мы не дожидались необходимости приносить крайние жертвы. Теперь особенно пора нам вникнуть в причины этого недостатка нашего, ставящего нас в будничные времена нашей истории так низко в ряду других народов. Если мы взглянем на дело пристально, то легко усмотрим, что эта шляхетско-иезуитская интрига имела у нас успех благодаря тем же нашим свойствам, которым и вообще интрига обязана своим всемогуществом в нашей среде. Спросим же себя, на чем основано, что интрига имеет у нас вообще более хода, чем верность долгу? Отчего люди, действующие в общественном интересе, бывают у нас очень часто не в силах бороться даже с такими интриганами, которых все знают за интриганов? Не оттого ли, что в нашей будничной жизни общее дело стоит у нас на десятом плане, что всякий из нас равнодушен к нему и как бы не считает себя призванным стоять за него и заботиться о нем? Отдельные лица тут не виновны. Они могут извинять себя тем, что никому не хочется быть выскочкой, особенно если этого выскочку, пожалуй, никто не поддержит. Тут виноват общий строй нашей жизни, потворствующий равнодушно к общественным интересам. Вследствие этого строя нашей жизни общее дело не находит ни достаточной поддержки, ни достаточной защиты в нашем обществе... Каждый искатель приключений может надеяться на успех в этой пассивной среде, если только направляет свои удары на общее дело, минуя частные интересы отдельных лиц или даже льстя этим лицам. Нападающий действует энергически; он рискует всем или многим, имея в виду важные выгоды; ему должен бы быть противопоставлен энергический отпор, а в обществе вокруг него все вежливо уклоняются и сторонятся перед ним, никто не хочет обидеть его, всякий даже спешит показать, что считает неблагородным вмешиваться не в свое дело. Когда наше общество так смиренно преклоняется перед одним каким-нибудь интриганом, то во сколько раз успешнее должна была действовать интрига, в которой были заинтересованы тысячи и даже десятки тысяч людей? Мы пасовали и упражнялись в уклончивости, а польская интрига действовала систематически, шаг за шагом завоевывая себе почву и забирая нас в свои руки. Только бессилием нашего общества можно объяснить себе, что польской интриге удалось убедить не одного русского, будто отступаться от родных интересов значит действовать рыцарски, а защищать их значит шпионствовать. Для интриги нравственные понятия не существуют, но чем, как не бессилием общества, должно объяснять, что в той самой среде, против которой была направлена интрига, понятия о нравственности едва не перевернулись вверх дном и притом в угоду враждебной интриге? Только выродившиеся нации представляют пример такой общественной немощи, и польские заговорщики, видя нашу пассивность, нашу готовность отступаться от всего своего, могли возыметь надежду на успех самых несбыточных замыслов. Теперь несбыточность польских притязаний доказывается кровью. Вина в этой крови падает, конечно, на безрассудство руководителей мятежа, но отчасти падает она и на пассивность нашего общества, лелеявшую в поляках фантастические планы.
Никакая сила в мире не может доставить успеха польскому восстанию. Какое-нибудь маленькое племя кавказских горцев гораздо более может рассчитывать на свои силы, чем польская революция: там действует племя, там идет национальная борьба, между тем как в Польше мы имеем против себя не польскую национальность, отстаивающую свое право на жизнь, а польское государство, уже давно разрушившееся и тем не менее не могущее отказаться от завоевательных планов. Завоевательная политика не всегда удается и сильным государствам: статочное ли дело, чтоб она удалась государству, которое не принадлежит даже к числу государств существующих? Поляки не хотят своего чисто польского государства; они пытаются восстановить его, но с тем непременным условием, чтоб оно тотчас же завоевало себе и Литву, и Русь. Для нас польский вопрос имеет национальный характер; для польских властолюбцев это -вопрос о подчинении русской национальности своему польскому государству, еще ожидающему восстановления. В такой уродливой форме еще никогда не проявлялся дух завоевания, и вот почему этот дух обречен действовать здесь безнравственными путями интриги.
Польско-иезуитская интрига замышляет конечную пагубу для русского государства, для русского народа и вместе для Русской Православной Церкви. Ловкость интриги успела на время отвести нам глаза. Но за нашей будничной апатией, которой воспользовалась эта интрига, последовал взрыв русского народного чувства, тем более сильный, чем глубже была апатия. Теперь, когда мы поняли и почувствовали в чем дело, исход борьбы не может подлежать сомнению. Мятежники ошибаются, если надеются на поддержку западных держав, и западные державы будут раскаиваться, если думают, что их поддержка полезна полякам. Россия помнит 1831 год, когда ее войскам тоже приходилось подавлять польское восстание. Так ли тогда волновалась вся Россия, как волнуется она теперь на всем своем пространстве от своих вершин до недостигаемой глуби? Было ли тогда хоть что-нибудь подобное теперешней энергии русского патриотического чувства? Правда, что мы окрепли за эти тридцать лет. Наша общественная жизнь сделала важные успехи в этот промежуток времени. Но этими успехами, все-таки сравнительно незначительными, нельзя объяснить то резкое различие, которое замечается между настроением России в 1831 и 1863 годах. Где же разгадка этого различая как не в том, что тогда европейские державы воздерживались от вмешательства в польские дела, а теперь они раздражили русское народное чувство своими притязаниями? Если теперь польское дело не имеет ни малейшей надежды на успех, то этим оно обязано преимущественно той поддержке, которую вздумала оказать ему европейская дипломатия. Чем деятельнее будет иностранное вмешательство, тем более будет крепнуть, а, может быть, тем более будет ожесточаться русское народное чувство.
Западный край, Литва и Белоруссия представляют для всякого человека, уважающего чужую свободу и национальность, не говорим уже для всякого русского, самое возмутительное зрелище. В огромных размерах совершается там лишение русского народа его народности. Главными руководителями этого постыдного дела, переходящего в промысел, служат римско-католические ксендзы. Им недостаточно того, что они заставляют людей менять свою религию. Всяческими ругательствами и недостойными выходками они стараются унизить в глазах крестьянина его язык и его национальность и потом тешатся, что русский человек начинает называть себя поляком. Для русского чувства особенно обидно то, что русская национальность была почти совсем лишена средств защиты. Всякая попытка в этом смысле вызывала вопль негодования и целую тучу доносов. Завзятые поляки, так ловко обделавшие русских, что малейший отпор польским притязаниям считался шпионством, завзятые поляки не останавливались перед настоящим и нередко лживым доносом, чтобы только запечатлеть уста того или другого русского патриота. Тут были пускаемы в ход и социализм, и коммунизм, и еще Бог знает что. А ксендзы между тем действовали свободно, под эгидой чиновников и помещиков, усердствовавших польскому делу. Иные предводители дворянства открыто говорили о необходимости ополячивать край, даже иезуитскими мерами. С удивительной настойчивостью изгонялись из края русские помещики. В несколько лет из тринадцати православных помещиков Дисненского уезда остался только один. И все это происходило в стране, где большинство населения говорит по-русски, где польский язык употребляется простым народом только по принуждению, в разговоре с чиновниками, помещиками и ксендзами.
Православное духовенство и небольшой кружок русских чиновников, вот те препятствия, которые встречали колонизаторы Западного края. Мы уже говорили однажды о том, какое влияние на ополячивание чиновничества имели пятиклассные дворянские уездные училища, учреждение которых так нравилось местному польскому дворянству. Число русских чиновников с каждым годом уменьшалось. Что же касается до православного духовенства, которое в помещаемой ниже прокламации к нему польского революционного комитета подвергается упреку в любостяжании и в подкупе со стороны «московского правительства», то оно живет со своими семействами на жалование в несколько раз меньше того, которое дается от правительства же безбрачным католическим ксендзам. Неравенство положения усиливается еще тем, что ксендзы опираются, сверх жалования, на поддержку своих богатых прихожан помещиков, а православные священники получают лишь небольшие крохи от крестьян, разоренных и изморенных панами. Единственная серьезная поддержка православному духовенству заключалась в устройстве и улучшении около двухсот народных школ пособиями со стороны Министерства народного просвещения. В Виленском учебном округе это пособие было употреблено гораздо справедливее, чем в Киевском округе, где оно превратилось в средство конкуренции (на казенный счет) с приходскими школами, заведенными духовенством. Такого странного и прискорбного антагонизма, к счастью, не было в Виленском учебном округе, и казенное пособие не воспрепятствовало, а помогло духовенству в трудах его по обучению народа. Сверх того, возникла мысль об учреждении приходских братств, или лучше сказать, о восстановлении этого древнего учреждения православия, боровшегося с латинством; проект устройства братств представлен в Петербург несколько месяцев тому назад.
Доверенные лица, сообщающие нам теперь из Вильна сведения о состоянии Западного края, доставили нам перевод двух прокламаций, в которых обращалось польское революционное правительство к православному духовенству. Одна из этих прокламаций издана в Вильне 18-го апреля виленским революционным комитетом; на другой не означено, где она издана, но она была распространена в Западном крае несколькими неделями после первой и, по-видимому, идет от варшавского центрального комитета. Читатели найдут ниже доставленный нам перевод этих двух документов, получающих особенный интерес от сопоставления их. Какие-нибудь две или три недели разделяют эти документы один от другого, а как изменился тон во второй прокламации! Первая прокламация гарантировала свободу вероисповеданий и уверяла право -славное духовенство, будто «свобода совести была исконно свойственна польскому правительству (!!!) и сроднилась в Польше с народными нравами». Эта прокламация ограничивалась угрозами за верность русскому правительству, то есть за политический образ действий. «Борьба с нашествием, - говорила эта прокламация, не есть борьба религиозная, это - борьба за свободу, война народная». Это была личина, взятая довольно ловко: но как скоро сорвала с себя эту личину польская революция! Не прошло двух-трех недель, как властолюбие ксендзов прорвалось наружу. В начале мая появилась вторая прокламация, которая носит на себе все признаки акта, прошедшего через руки католического духовенства. Она начинается призванием Св. Троицы, она оканчивается словом «Аминь». Что же возвещает православному духовенству эта вторая прокламация, так нетерпеливо вырвавшаяся на свет Божий? Она возвещает восстановление Унии, она возвещает православным священникам, что настала минута мести за их преступления и казни за их грехи. В оправдание этих угроз она ссылается на царский гнев и царские казни, которыми будто бы было вынуждено восприсоединение униатов к православию, и упоминает о странствующей монахине Макрине, которой рассказы были изобличены в неправде уже почти двадцать лет тому назад, когда она только что прибыла в Рим. Но лживы или нет были показания этой странницы, несомненно то, что вторая прокламация самым ясным образом уличает первую прокламацию в лживости или по крайней мере удостоверяет, что польским революционным прокламациям никто ни в чем не должен верить. Спрашиваем, можно ли надеяться на успех при таком образе действий?
Как польские революционеры обманывали православное духовенство обещанием свободы исповеданий, так точно обманывали они крестьян обещанием дарового надела земли и освобождения от повинностей в пользу помещика. Из всего Западного края восстание имело наиболее успеха в Ковенской губернии, на которую революционеры обратили особенное внимание, конечно, потому, что она ближе к морю. В Ковенской губернии гораздо меньше поляков не только, чем в губернии Гродненской и Виленской, но даже меньше чем в Могилевской и Киевской. Вот цифры из статистической книжки г. Бушена, вышедшей в прошлом году. Поляков приходится:
В Гродненской губернии . . . 24,0 %
„ Виленской „ . . .18,4 „
„ Подольской „ . . .12,9 „
„ Волынской „ . . .12,2 „
„ Минской „ . . .11,5 „
„ Витебской „ . . .9,2 „
„ Киевской „ . . .4,6 „
„ Могилевской „ . . .3,2 „
„ Ковенской „ . . .2,7 „
Чем же объясняется, что в Ковенской губернии получил такое развитие польский патриотизм? Объяснение в том, что тут работали ксендзы. Вся Жмудь принадлежит к католическому вероисповеданию. Ксендзы работали над Жмудью деятельно в продолжение многих лет и успели распространить в безразличном жмудском населении слепую ненависть к России. Тут польская революция нашла для себя почву издавна приготовленную. Вся Жмудь, или Самогития, фактически повинуется революционному правительству. Тут власть его признается более, чем даже в Царстве Польском. Если где-нибудь его декреты могут быть приводимы в исполнение, то именно тут. Если бы декрет революционного правительства об освобождении крестьян от помещичьих повинностей был серьезным обещанием, то нигде нельзя было так легко привести его в действие как в Самогитии. А между тем именно в Самогитии и только в Самогитии крестьяне до сих пор продолжают работать на польских панов по-прежнему, как будто бы не было не только декрета революционного правительства, но и высочайшего указа 1 марта. Ксендзы тщательно скрывают этот указ от народа, и войско наше является в Самогитии освободителем крестьян от барщинной работы. Если только удастся нам побороть влияние жмудских ксендзов, то польское дело навсегда будет убито в Жмуди. Этим мы будем обязаны лживому образу действий польской революции. Лживость революционеров сослужит нам в Жмуди важную службу. Еще раз спрашиваем, что такое польская революция, как не новая интрига, и может ли она надеяться на успех при таком образе действий?
Не польский народ - враг наш. Не польскую национальность поражаем мы, подавляя восстание. Мы боремся с интригой, которую затеяло властолюбие шляхты и ксендзов. Первую еще можно как-нибудь извинить: в ней живы воспоминания о господстве. Но где найти слово извинений для этих ксендзов, которые из служителей религии мира превратились в предводителей шаек, в заговорщиков и душегубцев? Наиболее точные сведения убеждают в том, что восстание преимущественно держится ксендзами. Еще в декабре прошлого года польское духовенство открыто собиралось в полном составе по деканатам для обсуждения средств «самоскорейшего освобождения Отечества». Сандомирское и Подлясское духовенство подало первый пример, которому тотчас же последовало духовенство Августовской епархии. Оно определило, что дирекция партии умеренных должна прекратить свое существование и слиться с народным комитетом, организованным партией восстания. Оно прежде шляхты признало центральный комитет за законное временное правительство Польши, с тем только условием, чтобы были признаны права и независимость католической Церкви и главы ее, а равно, чтобы комитет принял в свой состав ксендза, избранного всем духовенством. Нельзя не догадываться, что именно этот ксендз, член революционного комитета, и сочинил вторую из прокламаций, отличающуюся от первой и духом нетерпимости, и церковной формой.
Суд истории будет строг к этому духовенству, поднимающему против нас меч братоубийства, посылающему повстанцев на верную смерть, проповедывающему фанатизм и ненависть своей пастве. Что касается до нас, то мы можем указать на эти дела его в опровержение его жалоб на те гонения, которым оно будто бы подвергалось и еще теперь подвергается, под русской державой. Сам святейший отец принужден будет сознаться, что оно пользовалось чрезмерным простором и что спокойствие края и интересы самой паствы требуют не расширения прав латинского духовенства, а более энергического отпора его притязаниям. Этот отпор должен быть, впрочем, дан не столько мерами строгости, сколько развитием бдительности и энергии с нашей стороны. Задача состоит не только в усмирении края, но и в постановке его в такое положение, при котором прежние крамолы были бы невозможны. Нельзя не пожалеть, что дело зашло слишком далеко и требует для своего исправления весьма сильных мер. Принятие их должно послужить укором для лиц, приведших край в это положение, а русскому человеку прилично пожелать, чтоб эти меры как можно скорее достигли своей цели, но не ограничиваться этим добрым желанием, а усиленно трудиться над устранением тех недостатков русского общества, которые ободряли враждебную нам интригу и дали, наконец, подняться на нас ее стоглавой гидре.
М. Н. Катков ПРОЕКТ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ, ПОДПИСАННЫЙ МЕРОСЛАВСКИМ И НАЙДЕННЫЙ У ГРАФА АНДРЕЯ ЗАМОЙСКОГО
Вследствие покушения на жизнь графа Берга, как известно, произведены были обыски в доме графа Андрея Замойского. При осмотре его кабинета обратила на себя внимание четвертушка прозрачной почтовой бумаги, на первый взгляд как будто только разграфленная синими чернилами. При пособии двух увеличительных стекол синие графы оживились и превратились в строчки мельчайшего почерка. Оказалось, что этот листок содержит в себе проект нынешнего польского восстания, подписанный Лудовиком Мерославским и помеченный 1 марта 1861 года. Достаточно прочесть этот документ, чтоб убедиться еще раз в полнейшей безнравственности этой так называемой «святой справы» и измерить колоссальность обмана, который служит главным или, лучше сказать, единственным орудием этого дела.
В нынешнем листке нашей газеты мы сообщаем эту программу вполне. Русская публика получает возможность ознакомиться с документом, который мало в чем уступает знаменитому польскому катехизису. Тайна польского восстания разоблачается еще раз в своем возмутительном виде.
Ложь в этой программе восстания, равно как и в польском катехизисе, возводится на степень священного начала; обман самый нахальный, ничем не стесняющийся, рекомендуется каждою строчкою и простирается на все. Обманывать русское правительство, обманывать русский народ, обманывать польский народ, обманывать правительства западных держав, обманывать общественное мнение Европы, обманывать наших глупых социалистов и помешанных демагогов, обманывать всех без разбора, - вот политика польских патриотов, вот их «святая справа», вот задача, которую они себе поставили.
Чтобы парализовать действия правительства, патриоты находили полезным пустить в дело парламентеров для ведения переговоров с ним. Парламентеры обязаны, в силу проекта, отклонять правительство от всяких решительных мер и отводить ему глаза посредством красноречивых аргументов в то время, когда по всему пространству старой Польши будет распространяться волнение. Парламентеры, как известно, были действительно пущены в ход, - и не без успеха; нерешительность нашей внутренней политики в Царстве Польском и западных губерниях в 1861 и 1862 гг. ввиду незамаскированных действий революции может быть объяснена только теми трогательными записками (всегда на французском языке), которыми забрасывался Петербург, теми изображениями страданий будто бы целого народа, которыми богатые паны, имевшие доступ к правительственным сферам, тревожили совесть некоторых влиятельных лиц. Теперь, когда парламентеры сбросили с себя маску, мы видим, в какой мере можно было полагаться на их красноречивые уверения; теперь мы понимаем, что все эти проделки служили только для обмана, и мы знаем, что граф Андрей Замойский и его партия, поддерживая сношения с правительством, в то же время вели искренние переговоры с партией Мерославского.
Обманывать народ предполагалось распространением в нем волнений по предметам экономического свойства, ему особенно понятным. Цель проекта заключалась в том, чтобы придать народному движению преимущественно социальное направление, чтобы привлечь на свою сторону и подчинить шляхте народ, особенно на Руси, в Литве и Галиции, где, по выражению проекта, народ успел отвыкнуть от господства шляхты. Необходимо было уверить народ, что только московское правительство «затрудняет польских панов» в даровании крестьянскому населению всех прав свободного земледельческого класса. Польские помещики, как известно, воспользовались этим советом только вполовину; уступить землю крестьянам они не решались до самого восстания, но зато они в широких размерах обманывали крестьян относительно намерений правительства.
Впрочем, жертвы, принесенные помещиками, в случае успеха были бы только временными; партия Мерославского, как оказывается, всего менее думала о свободе и благосостоянии крестьян, когда уговаривала помещиков уступить им безвозмездно землю. Это был также не более как ловкий маневр, служивший и для обмана крестьян, и для обмана тех жалких русских революционеров, о которых в проекте сказано следующее:
«Неизлечимым демагогам необходимо открыть клетку для полета - за Днепр; пусть там распространяют казацкую гайдамачину против русских попов, чиновников и бояр. Пусть агитация малороссиянизма переносится за Днепр: там обширное пугачевское поле для запоздавшей числом Хмельничевщины. Вот в чем состоит вся наша панславистическая и коммунистическая школа! Вот весь польский герценизм! Пусть он помогает издали польскому освобождению, терзая сокровенные внутренности царизма. Это достойное и легкое ремесло для полуполяков, полурусских, наполняющих ныне все ступени гражданской и военной иерархии в России. Пусть они обольщают себя девизом, что этот радикализм послужит “для нашей и вашей свободы”: перенесение его в пределы Польши будет, однако, считаться изменою Отечеству и наказываться смертною казнию». Трудно выразить более полное и более заслуженное презрение польских патриотов к своим союзникам гг. Герцену и К° со всею их свитой. Апостолы нового порядка вещей, заботящиеся о Польше, «о нашей и вашей свободе», были в руках у опытных польских революционеров презренными орудиями, назначенными исключительно для нанесения ран русскому народу. Они, как саранча, отклонялись прочь от пределов, на которые простирают свои виды польские патриоты; они отсылались за Днепр, во глубь России. Там предоставлялась им полная свобода терзать свою родину; вот на что они предназначались; вот к чему их дрессировали; вот к чему их прикармливали. Несчастные жертвы обмана, они подвергаются суровой и заслуженной каре за свои бессмысленные попытки, но польские патриоты (и между ними сам Мерославский) готовились избивать их на смерть, если бы вся эта дичь по совершении своих подвигов в России вздумала осчастливить собой впоследствии будущую Польшу. Может ли быть что-нибудь позорнее, что-нибудь презреннее той роли, которую играли эти жалкие преобразователи человечества с их «Колоколом», с их революционными прокламациями, в которых добродушно предлагалось вырезать до 100 000 помещиков и провозглашалась демократическая и социальная республика, с их малороссиянизмом89, с их планами раздробить Россию и покрыть ее фаланстериями?..
Не менее систематически предлагается в проекте обманывать и правительства западных держав, и общественное мнение Европы. Надоедайте правительствам французскому и английскому представлением из Варшавы подложных жалоб, которые будто бы не были уважены в Петербурге. Не смущайтесь тем, что от этого не будет непосредственного результата; сила в том, что этими жалобами Франция и Англия будут компрометированы в глазах России и что поляки приобретут таким образом право жаловаться пред целым светом на равнодушие правительств западных держав. Ведь удалось же таким путем поднять Наполеона против Австрии, несмотря на то что он был далек от мысли устроить Италиянское королевство... Такова тактика польских патриотов. Этот обман также удался им, да и не мог не удаться, когда его направляли опытные руки, находившиеся в связи с Пале-Ройялем. Наконец, общественному мнению Европы проект подносит посредством подкупленных газет «известия, хотя бы и выдуманные, о подземных потрясениях в России, подрывающих царское правительство, о вражде между помещиками, чиновниками и крестьянами, в особенности о жалком состоянии финансов и администрации в России; наконец, обо всем том, что только может служить к проявлению польской жизненности и русского бессилия».
Обман возведен в систему, ложь полагается главным основанием святого дела. Грустно сказать, а система эта имела некоторый успех: она довела польский народ до восстания; европейское общественное мнение и правительства некоторых держав были обмануты; внутри России «полуполяки и полурусские» также старательно выполняли обязанности, возложенные на них проектом. Если польское восстание не должно остаться для России без результата полезного, то мы должны устранить те причины, которые могли довести западнорусский край до того положения, в котором он находился в начале восстания, а еще более до того положения, в котором он находился за несколько месяцев до восстания. Мы должны устранить возможность обмана, возможность рассчитывать на интригу как на действительное средство производить в государстве беспокойства. Мы должны исследовать, не заключаются ли в наших потемках зародыши, неблагоприятные для нормального хода государственной жизни. Мы должны серьезно подумать о результатах, которые могут выйти в том случае, если на всех ступенях гражданской и военной иерархии незаметным образом появятся те полуполяки и полурусские, которых деятельность, по меткому выражению проекта, годится только на бессмысленное разрушение того государственного порядка, которому они служат. Внутренний вопрос для России самый важный. Не беда, если мы не будем иметь средств переубедить Наполеона и общественное мнение Европы; но крайне необходимо иметь полную достоверность в том, что никакая ложь, никакие льстивые уветы не будут иметь успеха у нас внутри. Мы можем прибавить, что в этой-то достоверности и будет заключаться одно из главных средств к установлению правильного общественного мнения о России в Европе. Опровержения газеты «Le Nord», очевидно, недостаточны для восстановления истины относительно России. А между тем Европа продолжает верить всем нелепым толкам о России и продолжает относиться к ней с такими приемами, как она относится только к варварским странам.
Польское восстание может послужить России в пользу. Оно, так же как Крымская кампания, обнаруживает наши недостатки, благодаря которым возможен успех проектов, подобных проекту Мерославского. Остается только воспользоваться указаниями тяжелого опыта и укрепить то доверие, которое в настоящую минуту существует между правительством и народом, одинаково заинтересованными в величии и процветании Отечества.
М. Н. Катков ВРЕД ПРИМИРИТЕЛЬНОМ ПОЛИТИКИ С ПОЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ. ЗАСЛУГА М. Н. МУРАВЬЕВА. НЕДОСТАТОК В РУССКИХ ЛЮДЯХ
Бог велит миловать врагов. Любите врагов ваших, учит Евангелие. Но любить врагов отнюдь не значит любить вражду и питать ее причины. Пользовать больного отнюдь не значит поддерживать болезнь. У нас было много толков о так называемой примирительной политике по отношению к польской национальности в западном крае. Обыкновенно этой проповеди о примирительной политике придают сладкую физиономию гуманности, либеральности и великодушия. Но разве великодушно, разве гуманно поддерживать в людях притязания, которые удовлетворить мы не можем? Польская национальность в Западном крае есть бездна неудовлетворимых притязаний и непримиримой вражды; она столько же пагубна для России, сколько и для тех людей, которые носят имя этой национальности. Как же мириться с нею? Именно из человеколюбия, именно из доброжелательства к самим полякам надобно желать, чтобы чувство польской национальности, которое делает их непримиримыми врагами России, утратило в них свою силу. Одно из двух: или мириться с людьми и стараться о том, чтобы положить конец злу, которое ссорит их с нами; или под фальшивым предлогом гуманности поддерживать в них это зло и сеять вражду, с тем чтобы потом карать людей и губить живые общественные силы, когда семена взойдут в них и дадут свой плод.
Вместе с гуманными либералами, которые откровенно провозглашают русское государство химерой и которые готовы великодушно жертвовать им, не редкость встретить политиков-консерваторов, которые не понимают других мер к избавлению Отечества от зла, кроме истребления людей и общественных сил, которые им страдают. Этим патриотам-политикам и в голову не приходит, что людьми должно дорожить, а также и соединенными с ними общественными силами, что всякое бедствие, постигающее людей, есть уже само по себе величайшее зло, что для России нет никакой радости в том, чтобы разорять, истреблять и изгонять целые общественные классы, и что, напротив, прямой и существенный интерес ее требует сбережения живых сил, а потому освобождения их от заразы, которая губит их и вредит благосостоянию и развитию страны. И вот этого разряда консервативные политики, которым нипочем предложить самые батыевские и в то же время самые нелепые и невозможные меры против живых людей, не поймут вас, если вы скажете, например, что в школах, содержимых русским правительством в русском крае, преподавание должно совершаться на русском языке и что из этого правила всего менее позволительно делать исключение для преподавания Закона Божия, хотя бы и по римскокатолическому догмату. Это покажется им чем-то странным, даже чем-то не либеральным; они готовы будут забыть даже то обстоятельство, что в Западном крае есть не одна сотня тысяч чисто русских людей, которые принадлежат к латинской церкви, но которые тем не менее и могут, и должны оставаться русскими и которым ни в каком случае не след учиться Закону Божию по-польски; они готовы будут забыть, наконец, что католицизм и полонизм отнюдь не одно и то же понятие, отнюдь не одна и та же сила, что нет ни разумного основания, ни интереса отождествлять эти два различные понятия и усиливать одно другим вопреки сущности вещей и в явный вред государству.
История оценит заслуги государственного человека, который в конце своего долгого поприща, призванный к управлению обширным краем в самый разгар крепко организованного мятежа, вспомоществуемого иностранными правительствами и закупленною печатью, обнаружил столько патриотизма, энергии и способов в борьбе с величайшими трудностями и умел преодолеть их с такою же славою; история засвидетельствует также, сколько политической зрелости обнаружило при этом русское общество, вовремя поддержав живым одобрением и сочувствием генерала Муравьева в этой борьбе. Заслуги М. Н. Муравьева состоят не только в том, что он сломил мятеж, но еще более в том, что он нанес могущественный удар коренному злу, которым страдал этот край и которое издавна было источником его бедствий. Он положил конец тому двусмысленному положению вещей, которое делало этот край ни русским, ни польским. Что бы ни говорили порицатели и хулители его действий, несомненно то, что именно благодаря его стойкости, непреклонности и энергии в этом крае не пролилось столько крови, сколько, наверное, пролилось бы при других обстоятельствах, при другом способе действий. На него возлагают ответственность за некоторые общие меры, принятые в западном крае, каковы обязательный выкуп крестьянских земель и контрибуция, которая пала на всех местных землевладельцев без изъятия; но эти меры были вызваны исключительными обстоятельствами, в которых находился край, и во всяком случае не были распоряжением местной власти. Он был беспощаден к мятежу, к революционному Жонду; но чем решительнее действовал он против этого зла, тем благотворнее были результаты его действий для края, даже для самих поляков. В этом крае, искони русском и населенном по преимуществу русским народом, генерал Муравьев не счел возможным вступать в какие бы то ни было сделки с польскою национальностью, - и русская народность здесь, в краткое время его управления, стала наконец правдою, стала действительностью. Все, кому случалось проезжать в последнее время через Вильно, единогласно свидетельствуют, что край получил вполне русскую физиономию. Следует при этом вспомнить, что генерал-губернатор мог действовать только теми способами управления, какие находятся в распоряжении русского правительства. Везде утвердилась тишина и полная безопасность. Православное духовенство ожило; все русское ободрилось и подняло голову. Повсюду теперь господствует русский язык. В селениях открыто около 400 народных школ. Городские училища преобразовываются, и также преобразовываются еврейские народные училища. Язык преподавания в еврейских школах - русский. Евреи заговорили даже между собою по-русски, дети их с ревностью учатся русскому языку в школах, и русские книги разбираются ими нарасхват. Книжная лавка, недавно открытая в Вильне и находящаяся в заведывании г. Гусева, астронома тамошней обсерватории, как нам пишут, ведет свои дела очень бойко. Актеры из поляков играют русские народные пьесы, и театр всегда полон.
Но, как бы то ни было, задача правительства в Западном крае - очень тяжелая: содействовать торжеству русского начала там, где почти все высшее и образованное общество состоит из людей, причисляющих себя к чуждой и притом неприязненной национальности, - где русское начало живет только в бедном духовенстве да в простом народе, запуганном, угнетенном и подавленном. Для того чтоб окончательно укрепить нашу западную границу и успокоить Россию, для того чтобы навсегда покончить с враждебными ей в этом крае притязаниями, недостаточно ума и энергии одного государственного человека. Все, что может сделать способная и распорядительная власть, делалось и делается. Нужны были русские люди по всем частям управления: генерал-губернатором края призвано более 1000 чиновников изнутри России, и не его вина, если в этом числе между многими дельными и честными людьми оказались люди, падкие до незаконной поживы, люди, ни к чему не способные, а также со всем мирящиеся космополиты, так что начальству пришлось некоторых из числа наехавших в Западный край чиновников выпроваживать обратно. Потребность в людях там все еще очень большая, и всякий честный и дельный человек принимается там как дорогое приобретение, и всякий такой человек может смело отправляться туда в полной уверенности, что нигде нельзя принести теперь большей пользы добросовестною службою, как в Западном крае в настоящее время. Всякий найдет себе здесь и службу по нраву, и удовлетворительное положение. Особенно чувствуется здесь потребность в учителях. Достаточно сказать, что в Виленском учебном округе в гимназиях и прогимназиях даже и теперь на 240 (примерно) учителей из поляков оказывается только 80 русских и немцев; в семи уездных училищах процент польских учителей такой же, а в приходских училищах почти все учители из поляков; все женские частные учебные заведения и теперь еще содержатся польками. Только в устроенных в последнее время (главным образом в Виленской, Минской и Гродненской губерниях, лишь отчасти в Ковенской) народных сельских школах учители - русские, но этих четырехсот школ на весь край еще слишком недостаточно, и от крестьянских обществ беспрестанно поступают прошения об открытии новых. Действительно, школы в настоящее время всего более могут поднять нравственные силы в здешних народонаселениях. Школы сделают более, чем военное положение, да и дешевле обойдутся государству. Говоря о народных школах, которые заводятся в Западном крае, один местный польский помещик заметил весьма основательно: «Штыки усмирили нас, а школы убьют».
Заметим кстати, что оклады русских учителей и надзирателей увеличены здесь на 50% и определяющиеся получают двойные прогоны и не в зачет полугодовой оклад жалованья. Учителя имеют казенное помещение или получают квартирные деньги. Не считая добавочных 50%, оклад старшего учителя в гимназиях и прогимназиях - 600 р. с, а в самом Вильне 650 р.с, так что учительское содержание доходит здесь почти до 1000 р.с. Даже учитель народной школы получает в Вильне 250 р.с. и имеет квартиру с отоплением; а по деревням - 150 р., также с квартирой и отоплением; в некоторых местах крестьяне по усердию обязываются сверх того снабжать учителя хлебом.
Но одни правительственные способы, даже при самых благоприятных условиях, все-таки недостаточны. Сколько бы ни наехало в западные губернии способных и дельных людей, одних наезжих деятелей недостаточно. Решительно необходимо, чтобы землевладельческие классы здесь значительно пополнились чисто русским элементом. Земли в Западном крае теперь дешевы и ищут покупателей; но у нас, к сожалению, мало свободных капиталов, а еще менее предприимчивости и духа начинания в людях; поэтому необходимы деятельные правительственные меры, которые могли бы не только облегчить для русских людей приобретение земель в этом крае, но и возбудить в них желание к этому.
В высшей степени важно также дать в этом крае полный ход некоторым начинающимся в нем попыткам свободной общественной ор -ганизации. Мы разумеем устройство «церковных братств», которые в Западное крае имеют давние предания, относящиеся к борьбе православия с латинством. Но, к несчастию, мы так еще недоверчиво смотрим на всякое свободное проявление жизни в нашем обществе, что даже церковные братства в глазах иных консерваторов наших кажутся чем-то сомнительным и даже опасным. Странная участь русской народности! Русская народность считается у нас господствующею народностью, Православная церковь - господствующею церковью; но малейший признак жизни в русском обществе, малейшая попытка рус -ских людей сгруппироваться для совокупного действия даже против организованной измены и революции, даже для поддержания православия и русской народности против организованной пропаганды, -это кажется нам чем-то странным, чем-то неудобным, даже опасным. Мудрено ли, что при таком взгляде на самих себя мы кажемся себе народом, лишенным духа жизни и действия?..
М. Н. Катков. ЗАСЛУГА ГРАФА М. Н. МУРАВЬЕВА (Краткий очерк положения Северо-Западного края)
Те из иностранных журналов, которые не перестают еще служить органами враждебных для России видов, - как и следовало ожидать, - рукоплещут увольнению графа М. Н. Муравьева от управления северо-западным краем. «Муравьев, - пишет известный петербургский корреспондент «Independance Beige», - этот свирепый проконсул Вильны (le farouche proconsul de Vilna), решительно оставляет свою должность, и давно бы пора»... «Известие об увольнении Муравьева, -пишут в «Temps», - может быть встречено европейским общественным мнением не иначе как с радостью; известно, какую мрачную славу приобрел себе этот человек замечательным содействием к подавлению недавнего польского восстания». Радость партий внутренних и заграничных, преданных польской идее, умаляется, как видно из их заявлений, только тем, что М. Н. Муравьев не отставлен от должности, а уволен, как сказано в высочайшем рескрипте, «с сожалением», и что Государь Император, признавая его заслуги пред Престолом и Отечеством и желая увековечить память о них, возвел его в графское Российской Империи достоинство. Впрочем, петербургский корреспондент «Independance Beige», сообщая о замещении генерала Муравьева
генералом фон Кауфманом, лицом, по словам его, малоизвестным, утешает свою партию и недоброжелательную к России иностранную публику предположением, будто бы самое это назначение доказывает, что русское правительство решилось не давать более главным начальникам прежних польских областей того «страшного всемогущества», которым пользовался генерал Муравьев. Как видно, назначение генерала Кауфмана в Северо-Западный край пришлось не совсем по вкусу нашим внутренним корреспондентам, и они желали бы, чтоб он был связан в своей новой деятельности и лишен возможности со всею энергией, поддерживаемою сознанием личной ответственности пред современниками и потомством, продолжать дело, достославно начатое графом М. Н. Муравьевым.
Россия никогда не забудет заслуг этого человека в трудную, мрачную минуту, и беспристрастный суд истории высоко оценит его подвиг, ныне Монархом России «вполне оцененный». Вспомним ту мрачную минуту - хотя бы и не желалось вспоминать ее, - которая призвала графа Муравьева к деятельности посреди объятого мятежом края; вспомним ее, для того чтоб оценить то историческое значение, которое навсегда останется за его именем. Мы не имеем намерения исчислять все его заслуги или обсуживать те меры, которые принимал он по управлению вверенным ему краем; мы хотим указать только на то, какую цену имеет его деятельность по отношению к тем обстоятельствам, среди которых она развивалась, по отношению к тем трудностям, которые могли бы заставить его уклониться от призыва, по отношению к тем препятствиям, с которыми он должен был бороться, для того чтоб исполнять свой долг перед Отечеством. Только два года прошло с тех пор, но надобно сделать усилие, чтобы перенестись мыслию в то время. Теперь посреди русского общества никто не осмелится сказать открыто, что Русское государство не должно быть русским в той или другой части своей территории, что русская политика внутри или вне не должна быть национальною; теперь даже злоумышленники и негодяи стараются подделываться под патриотический тон.
За два года перед сим защищать русские интересы, отстаивать единство, целость и национальность Русского государства казалось делом безумным, отчаянным и невозможным; молвить слово против измены и мятежа, грозившего раздроблением России, значило вооружить против себя все стихии. В то время все русское было поражено бессилием и унынием, все враждебное России заранее торжествовало победу, и Европа ожидала с часу на час, что Россия исчезнет с горизонта, как марево. Минута была критическая! Мало было людей в России, которые решились бы в то время взглянуть прямо в лицо задаче, предстоявшей государственному человеку, призванному верховною властью к борьбе с изменой, встречавшею себе повсюду сочувствие и поддержку, к восстановлению достоинства Русского государства в крае, где оно было по -ругано, к восстановлению русской национальности в крае, где она была доведена до последнего издыхания. Повторим, для того чтоб оценить значение деятельности графа Муравьева в Вильне, надобно сообразить те обстоятельства, среди которых он должен был действовать, надобно представить себе, в каком положении находилось бы теперь русское дело, если бы не явилось государственного деятеля, способного среди хаоса, который окружал нас в ту пору, возыметь решимость исполнить во всей силе Монаршее решение, состоявшее в том, что Западный край, эта коренная историческая часть России, эта колыбель Русского государства, должен быть отныне и навеки краем непререкаемо русским. Представим себе, что произошло бы, если бы в те дни, когда на нас наступала вся Европа, когда внутренняя организованная измена казалась непобедимою и заранее торжествовала свою победу, если бы в то время рука, действовавшая в Вильне, дрогнула хоть на минуту под градом ругательств и проклятий, которые со всех сторон сыпались на всякого русского деятеля, не отступавшего пред своим долгом или не изменявшего ему, и которые с таким страшным обилием сыпались особенно на виленского генерал-губернатора? Не великая ли заслуга в одном том, что граф Муравьев принял на себя всю ненависть, всю злобу как внутренних, так и заграничных врагов единства и целости России?
Деятельность его было проникнута неизменным сознанием, что Литва и Белоруссия могут быть только русским краем. При нем впервые после долгого времени почувствовалось там присутствие русской силы: загнанное русское племя встрепенулось и приободрилось; все русское, бывшее доселе в уничтожении, вошло в почет; сами поляки начали, по-видимому, сознавать необходимость отречься от несбыточных мечтаний и обратиться в граждан земли русской, и даже евреи стали охотно посылать своих детей в школы русской грамотности. Недоброжелательные к России публицисты видят во всех действиях генерала Муравьева только намерение подавить польскую национальность, но мы, русские, не можем не чествовать в нем человека, положившего теми мерами, которые были ему сподручны, начало возрождению русской народности, до того времени забитой и загнанной в западном крае России, начало вступлению ее в законно принадлежащие ей права.
Впрочем, совершение этого великого дела еще далеко впереди: для него требуется соединенное и дружное действие государственных и общественных сил всей России, не говоря уже о необходимости крепкой и по возможности самостоятельной власти в Западном крае. Чего достигла польская пропаганда веками с помощью чрезвычайно искусных усилий и при обстоятельствах особенно благоприятных, того невозможно было переделать в какие-нибудь два года. Ни Юго-Западный, ни Северо-Западный край России далеко еще не стали вполне русским краем. России, за весьма немногими исключениями, не удалось еще сделать никаких приобретений в польском или ополяченном землевладельческом классе Западного края, и этот класс до сих пор остается вполне польским. В Киевском генерал-губернаторстве не приходится и одного русского помещика на 10 польских; в Виленском генерал-губернаторстве это отношение еще менее благоприятно для русского дела, за исключением разве Витебской и Могилевской губерний.
Нельзя, конечно, отрицать великой важности того, что крестьяне, которых значительное большинство принадлежит к русскому народу, приобрели теперь свои земли в полную собственность, что они поставлены в этом отношении вне всякой зависимости и вне всяких счетов с землевладельцами и что, при пересмотре уставных грамот, принимаются меры к возможно большему обеспечению материяльного их быта; но крестьяне представляют собою общественный класс, обремененный тяжким материальным трудом, пассивный и малосамостоятельный во всем, что касается общих политических интересов края. Они всегда будут в состоянии отразить силу силой; но революционная польская пропаганда не всегда же будет спешить действовать силой, и Бог весть какой еще вид могут принять ее интриги и козни и насколько сельский люд окажется способным не только разоблачать и расстраивать эти козни - чего и ожидать от него нельзя, - но даже и сам противостоять им: только русский или вновь обрусевший землевладельческий класс может сделать наш Западный край прочным достоянием России.
Притом же в среде даже русского крестьянского населения Виленского генерал-губернаторства насчитывается несколько сотен тысяч католиков, не считая латинизантов, или тайных католиков. Это обстоятельство само по себе не имело бы особенной важности в политическом отношении, но в данном случае особенно важно то, что в нашем Западном крае католицизму усвоен самим русским правительством польский язык и, напротив, совершенно возбранен язык русский, так что католик Западного края России означает человека, который молится Богу если не исключительно, то преимущественно на польском языке, который слушает в костелах польские проповеди, для которого польский язык служит единственным способом к удовлетворению религиозных потребностей. Католиков Западного края России поэтому прямо причисляют к полякам, какого бы ни были они происхождения. В Ковенской губернии считается всего около 30 000 поляков, и однако же благодаря решительному в ней преобладанию католицизма ни одна губерния не предалась в большей степени последнему польскому мятежу. Понятно, каким могущественным средством к ополячению края является католицизм благодаря этому особенному обстоятельству. Для Северо-Западного края России и особенно для некоторых его губерний это обстоятельство имеет чрезвычайную важность, потому что в составе его населения, простирающегося до 572 миллионов, считается около 2 200 000 католиков, или почти две пятые доли (не считая латинизантов), в Ковенской же губернии, отдельно взятой, 828 000 католиков из 997 тысяч всего населения, или с лишком 4/5, в Виленской - 607 тысяч католиков из 892 000, или более 2/3 (68%) всего населения. Не вдаваясь теперь в подробное рассмотрение этого предмета, мы постановим только вопрос: не способствует ли устранение русского языка из употребления в храмах, в духовных молитвах и при совершении треб ополячению края, и пока этот порядок вещей продолжается, не вправе ли поляки считать эти губернии чисто польскими областями в национальном отношении?
Говорить ли еще о городском населении, в руках которого вся торговля и промышленность, которое располагает значительными капиталами и которое по своему общественному влиянию и экономическому значению в каждой стране занимает второе место после землевладельческого класса? В нашем западном крае, и притом почти равно в обоих его генерал-губернаторствах, собственно говоря, нет ни русских, ни польских городов, а есть только города еврейские, если брать во внимание состав их населения. Во всех девяти губерниях западного края число евреев простирается до 1 180 000, что составляет более одной десятой части (11,07%) всего населения, и эти 1 180 000 все занимаются торговлей, ремеслами и мелкими городскими промыслами, хотя большая половина их имеет свое постоянное жительство в местечках. Но если мы возьмем отдельно одни города, то окажется, что в Виленском генерал-губернаторстве почти половина всего их населения, а в Киевском - более 2/5 (45%) - евреи, именно в первом из 496 000 горожан 244 000 евреев, а во втором - из 435 000 горожан 196 000 евреев; относительно наибольшее число составляют они в Волынской губернии (62 500 из 110 000, или более 56%) и в Ковенской (35 000 из 68 000, или более 51%), наименьшее - в Киевской (83 000 из 204 000, или 40%) и в Виленской (32 000 из 73 000, или 44%). Но даже и там, где евреи не составляют абсолютного большинства в городском населении Западного края, они решительно преобладают над каждым из двух других элементов, враждующих между собою: православным русским и католическим польским. Впрочем, и в этом отношении положение Юго-Западного края гораздо благоприятнее, чем положение Северо-Западного: там православные только в Волынской губернии составляют менее третьей части всего городского населения, тогда как в Киевской их более половины (55%), в Подольской более 2/5 (46%); напротив, в городском населении Ковенской губернии православные составляют немногим более десятой части (11%), Виленской - немногим более одной восьмой (1372%), Гродненской - немногим более одной шестой (17%) и в городах целого Виленского генерал-губернаторства - только одну четверть всего их населения. Если и вообще такое преобладание еврейского элемента в городах и вместе во всей городской промышленности Западного края не может почитаться явлением сколько-нибудь нормальным и было одним из самых печальных и знаменательных продуктов польской истории, то зло еще усугубляется тем, что эти евреи знают русскую народность только в состоянии уничижения, что они привыкли смотреть на нее как на свою добычу и что они невольно тянут на запад, к Польше, где живет почти сплошная масса их единоверцев в 600 000 человек, между тем на востоке Россия не впускает их в другие части своей территории.
Итак, вот действительное положение нашего Западного, и особенно Северо-Западного, края в настоящее время: высший землевладельческий класс, почти исключительно польский, еще мечтающий о восстановлении Польского королевства; почти половина всего городского населения - еврейская, и, наконец, масса крестьянского населения, хотя большею частью и русская, но не располагающая ни материальными, ни нравственными средствами и в значительной степени тронутая католицизмом, который здесь на беду является в национально-польской одежде. Какие нужны усилия со стороны России, чтобы не только внешним образом удержать этот край за собою, но и усвоить его себе вполне, сделать его совершенно своим, русским краем!
М. Н. Катков КОНЧИНА ГРАФА МУРАВЬЕВА
Еще вчера получено было в Москве прискорбное известие о кончине графа Михаила Николаевича Муравьева. Окончив свою деятельность во главе следственной комиссии по делу о покушении 4 апреля, он выехал в свою деревню Псковской губернии Лугского уезда чтоб отдохнуть в кругу своей семьи и присутствовать при освящении отстроенной там церкви. Пишут, что смерть постигла его внезапно и мирно. Вечер 28 августа он провел спокойно с родными, а когда на другое утро вошли в его спальню разбудить его, он уже лежал бездыханный. Известие о кончине графа М. Н. Муравьева отзовется повсюду в России. Это был, бесспорно, один из самых замечательных государственных людей ее в последнее время. Имя его приобрело громкую знаменитость, и приобрело почти перед самым концом его земного поприща, за три года до его смерти. События величайшей для России важности выдвинули его вперед в то время, когда, по-видимому, он уже навсегда расстался с правительственною деятельностью. До 1863 года известность его имени почти не выходила из пределов административных сфер. Как популярность, которую он приобрел, так и ожесточенные нападения, которых он был предметом, относятся именно к последнему периоду его государственной службы. Здесь-то оказал он те несомненные великие заслуги государству, которые внесут его имя в историю и которых размеры равно оценены всеми, хотя и подвергаются противоположным суждениям с противоположных точек зрения; здесь-то обнаружил он и государственный ум свой, и серьезное образование, и силу характера. Ему приходилось бороться не с одними материальными, но еще более с нравственными затруднениями, не с одною силою, но еще более с обманами, не с одними врагами, но еще более со своими. Его энергия требовалась не только для преодоления мятежа, но еще более для того, чтобы бороться с влияниями, которые старались парализовать его и в которых главным образом заключалась и сила мятежа, и опасность, угрожавшая государству. Он вышел из этой борьбы победителем, и Россия оценила его подвиг. Она оценила его как в лице своего Государя, воздавшего ему должное, так и общества, которое сочувственными заявлениями из всех частей и классов своих старалось поддержать его в тягостной борьбе за русское дело с противодействием явным и тайным. Только при полном соображении всех обстоятельств можно достаточно оценить заслуги, оказанные тогда покойным Государю и Отечеству.
Задача его была тем труднее, что гражданский дух в то время был у нас в упадке и над расслабленными умами господствовало темное убеждение, что отпираться от своего Отечества, отрекаться от его чести и интересов, отдавать его на расхищение есть верх либерализма и долг образованного человека. Люди у нас еще так мало освоились с истинным либерализмом, что полагали его в презрении к своему народу, в уничижении своего Отечества и в измене своему гражданскому долгу. Злонамеренные усилия, давно уже работавшие в нашем Отечестве, увенчались, по-видимому, полным успехом, так что в 1862 г. и в начале 1863 г. казались непростительным варварством всякие сколько-нибудь серьезные действия против зла, угрожавшего разрушением государству. Обстоятельства, посреди которых был призван действовать граф Муравьев, требовали решительных и сильных ударов. Чем цивилизованнее государство, чем способнее и образованнее его деятели, тем решительнее бывают эти удары. Все другие права и интересы умолкают, коль скоро государству грозит опасность, коль скоро единство и целость его подвергаются вопросу. Англия славится своими либеральными учреждениями, но никакое правительство не принимает столь энергических мер в подобных случаях, как английское. На виленского генерал-губернатора - на «виленского проконсула», как его называли, - сыпались тогда ругательства, и его честили варваром за то, что он своими решительными действиями быстро сломил мятеж и предотвратил дальнейшее кровопролитие. Если бы не расслабленность, господствовавшая вокруг, то, быть может, не потребовалось бы многих энергических мер, которые должен был принимать он, чтоб исполнить возложенное на него поручение. К тому же он должен был держаться тех способов и приемов, которые давала ему наша доселе бывшая правительственная практика. Ответственность за ее недостатки не может падать на правительственное лицо, которое должно было пользоваться тем, что было у него под рукой, и действовать соответственно тем понятиям, которые выработались из практики.
Не успев отдохнуть после двухлетних неусыпных и тяжких трудов, граф Муравьев был снова призван доверием Монарха к исследованию преступного покушения, грозившего нашему Отечеству величайшими бедствиями. Труд, предстоявший ему здесь, был не менее велик и тягостен и требовал не меньшей силы соображения и характера. Труд этот, быть может, требовал еще большей энергии, чем те затруднения, с которыми покойный боролся в Вильне. И он работал неутомимо, не щадя сил. Неизвестно, в какой мере были успешны его исследования; неизвестно, удалось ли ему преодолеть трудности не столько материальные, сколько нравственные, с которыми и здесь приходилось ему бороться, коснулся ли он «корней зла», которые клялся обнаружить или «лечь костьми». Но печальное известие, которое доводится нам сообщить сегодня публике, свидетельствует, что исполнился торжественно данный им обет. Сбылось его грустно-вещее слово: едва успел он сдать порученное ему дело, как смерть постигла его.
Государю Императору благоугодно было новою почестью отличить графа Муравьева, и в его деревню к 30 августа были отправлены пожалованные ему алмазные знаки ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, но посланный с царскою милостью уже не застал его в живых.
М. Н. Катков ПРИЧИНЫ ПРИОСТАНОВКИ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОМ КРАЕ
Что спасло Россию в 1863 году? Другими словами: в чем была опасность, которая угрожала ей? Последствия показали, что угрожавшая ей опасность заключалась в ней самой. Истинной опасностью для нее был упадок ее общественного духа и политическая безнравственность, которая сознательно и бессознательно овладевала умами. Дела наши усиленным ходом шли в направлении антинациональном и вели неизбежно к разложению цельного государства. Вот зло, которым страдала Россия и которым поспешили воспользоваться внутренняя измена и расчет иностранных правительств. Россия была на волос от гибели не потому чтобы она в действительности была немощна, а потому, что она была больна мнением, находилась под властью ошибки и сама налагала на себя руки. Россия была спасена пробудившимся в ней патриотическим духом, и этим прежде всего она обязана своим врагам, которые слишком рано сочли ее за мертвое, преданное разложению тело. Туман рассеялся, и Россия явилась и сама для себя, и перед лицом мира более крепкой, чем когда-либо прежде. В ее физических силах не произошло перемены, но к ним присоединилась великая нравственная сила. Впервые явилось русское общественное мнение; с небывалой прежде силой заявило себя общее русское дело, для всех обязательное и свое для всякого, в котором правительство и общество чувствовали себя солидарными. Иностранная коалиция, казавшаяся столь грозной, мгновенно рушилась и исчезла как призрак; измена и мятеж утратили силу, которую они черпали в бессилии русского общественного духа и в антинациональной правительственной системе.
Мятеж, который с такой дерзостью разыгрался в западных окраинах России, не имел никакой действительной силы. Однако с этим ничтожеством приходилось считаться. И, чтобы одержать верх в этой борьбе, было недостаточно материальной силы. Надобно было освободиться от обмана, который мешал видеть зло и направлял наши удары на нас же самих. Надобно было переменить систему действий и против враждебной организации выдвинуть русскую общественную силу. Надобно было, чтобы должностные лица, признанные действовать в крае, объятом изменой, были не просто чиновниками, которым по меньшей мере все равно, что бы ни проходило через их руки; надобно, чтобы эти люди были проникнуты чувством общего дела; надобно было, чтобы в этом крае, который крамола с такою дерзостью и так настойчиво оспаривает у русского народа, должностные лица чувствовали себя русскими людьми. Благодаря новому великому движению, которое с высоты трона сообщено делам нашего Отечества, такая нравственная сила не замедлила явиться в крае, где требовалось усиленное действие власти. Образовался ток русского мнения, который охватил всю администрацию края сверху донизу. Сила не в отдельных людях, каковы бы они ни были, а в общем направлении, которое овладевает и лучшими, и худшими, связывая их в одно дело. Измените общее направление или подавите его силу - и люди потеряют дух, и дело рассыплется. С тех пор как Западный край вошел в состав Российской империи, быть может, впервые сказалась в нем сила русского общественного мнения: и вот все, что было в крае русского, оживилось, а враждебная организация упала духом. Люди, над которыми она деспотически властвовала, чувствовали себя все более свободными от нее, и польской партии грозило конечное разложение. Люди, дотоле загнанные в польскую национальность, сами искали выхода из нее; одни переходили в Православие, другие просили русского языка для своей церкви. Русское движение в разных общественных сферах Западного края, даже там, где господствовал прежде польский патриотизм, становилось все сильнее, и нет сомнения, что вскоре оно одержало бы полную победу...
Скажут, что русская общественная сила в Западном крае была дурно направлена, что она была недостаточно разумна, что она была груба и невежественна. Допустим, что все это так, но что же из этого следует? То ли, что надо бы было убить эту силу, или то, напротив, чтобы, сохраняя ее и способствуя ей, просветить ее и направить надлежащим образом?
Национальная политика есть дело у нас слишком новое. Она не могла сразу установиться. Дурные партии, видевшие в ней смертную для себя опасность, отдохнули и нашли пути для новых махинаций и обманов. И вот в наших делах произошли колебания. Хотя правительственная программа ни в чем не изменилась, напротив, она становилась все яснее и определеннее, но в ее исполнение прокрались начала, которые подвергли ее сомнению и обессилили ее действие. Мы снова обратили наши удары на самих себя. Россия снова начала поражать и вязать свои собственные силы. Принимались меры, чтобы подорвать русский патриотизм, именно в тех местах, где он особенно требовался. Сила эта, хотя и молодая, оказалась, однако, более крепкой, чем думали ее противники. Могло ли и быть иначе? Сила эта есть самое естественное явление и самая очевидная необходимость; без нее невозможно дальнейшее движение государственной жизни; без нее национальная политика не имеет смысла; без ее содействия правительственная программа разрушает сама себя. Но удары на русский патриотизм падали все чаще и сильнее; он был оклеветан, осмеян и поруган. Личный состав администрации в Западном крае подвергся сильному изменению. Русские люди увидели себя в этом крае бедной, несчастной, загнанной партией, и, те кто не был выброшен оттуда, толпами оставляли его сами. Кончилось тем, что «русское дело», над которым брезгливо глумились влиятельные вожаки нашей квазиконсервативной партии, утратило веру в себя. Дурные партии снова подняли голову, а польская организация в Западном крае снова чувствует себя силой...
М. Н. Катков «БЫЛИ ГОТОВЫ ПЛАНЫ РАЗДРОБЛЕНИЯ РОССИИ...»>
Нас хотели бы возвратить к тому времени, когда наш государственный корабль быстро несся на риф, когда политическая интрига овладела было самым кормилом правления. Это было тотчас после великой крестьянской реформы, за которою вслед ожидались потрясения внутри самой России и когда, казалось, достаточно было лишь легкого толчка извне, чтоб она распалась. Пусть старожилы припомнят те годы. Пусть припомнят золотые грамоты и попытки взволновать народ; пусть припомнят, наконец, польский мятеж и с тем вместе доктрину, которая тогда овладела нашею интеллигенцией, как тою, которая честит себя либеральною, так и тою, которая кичится титулом консервативной. Всеми овладело бешенство, как бы раздробить и ослабить Россию, как бы выкроить из нее несколько государств. Самое существование русского народа отрицалось. Важные правительственные лица, не стесняясь, заявляли, что русский народ есть фикция, что его не наберется и десятка миллионов, что весь он заключается только в подмосковных населениях, в пределах бывшего Московского великого княжества, что все прочее населено другими народами, которые требуется-де выделить в особые автономные политические тела, и что усилия правительства как в законодательстве, так и в администрации должны клониться не к тому, чтоб укреплять и поддерживать единство России, а к тому, напротив, чтобы все в России обособлять, выделять, отделять, ставить врознь, из каждого племенного фрагмента, никогда не имевшего самостоятельной политической жизни и никакой культуры, из каждого оттенка народного говора создавать особый язык, особую политическую национальность.
Нынешние молодые поколения не помнят этого времени и знают о нем только понаслышке; но кому лет за сорок, те должны хорошо его помнить, а также помнить, чего стоила в то время борьба с этим обманом, который охватил наши дела и действовал растлевающим образом тем сильнее и успешнее, что он был во власти и располагал правительственными способами, а в то же время пользовался потаенными ходами интриги и только что народившеюся у нас печатью. То было удивительное время, когда все казалось возможным. Это было то время, о котором постоянно, с тяжкими вздохами припоминали и покойный «Порядок», и здравствующий «Голос», служивший и тогда, как теперь, официозным органом интриги. Были готовы планы раздробления России. Сколько новых государств должно было родиться с падением России из ее развалин! Сколько, если угодно, новых корон! В сущности же, все это были только потуги, сопровождавшие рождение польского вопроса. Нужно было подавить в русском обществе патриотизм и национальное чувство и вызвать в России центробежное стремление для того, чтобы воскресить Польшу... И вдруг с подавлением польского мятежа это вожделенное движение приостановилось. Люди одумались, возникло русское народное чувство, сказался русский патриотизм; он сказался во всех слоях общества и в правительстве. Интрига была раскрыта, обман был уличен на всех путях его. Здравый смысл, подкрепляемый событиями, вступил в свои права; единство России стало общим лозунгом, изменническая политика многих национальностей спряталась пред идеей одной государственной национальности в России. Всем тогда стало понятно, что если России суждено жить, то в ней может быть только одна государственная национальность и что русская национальность есть не этнографический, а политический термин, что русский народ есть не племя, а исторически из многих племенных элементов сложившееся политическое тело. Наши дела вышли было на путь здравой национальной политики; но, к сожалению, они оставались в руках или сомнительных, или малоспособных, и интрига, продолжавшая действовать подземными путями, умела парализовать или лженаправить самые лучшие меры. Она продолжала действовать, приноравливаясь к обстоятельствам и пролагая себе новые пути в надежде, что день ее опять наступит, что она снова воцарится и снимет с себя маску среди русской, обесславленной, одураченной, потерявшей смысл публики. Двадцать лет - много времени. От национальной политики осталось только имя, от русского патриотизма - только похмелье, от русского здравомыслия - только бессильный упрек совести. Интрига уже приветствует зарю своего дня, называя его завтрашним, и морочит публику, говоря, что она готовит для России нечто новое; она возвращает нас к старому, только сильнее против нас вооруженному. В прежнее время карбонарская сеть, на которую измена опиралась, была только польская, а теперь благодаря нашей слабости, заставлявшей нас слушаться заведомо лживых советов и затыкать уши для убеждений здравого смысла и жмуриться пред очевидностью факта, сеть эта наполнилась порчеными людьми из русских, и Россия вдруг превратилась будто бы в самую революционную страну мира. Что прежде не удавалось, то теперь кажется обеспеченным в успехе. Общество деморализовано и не знает, где правительство. Какая-то таинственная революция будто бы работает в его недрах. Русская власть, так глубоко коренящаяся в недрах народа, объявляется якобы потрясенною, почти упраздненною. Не только в простой публике, но и в официальных сферах владычествует фикция, будто самодержавие Русского Царя на деле уже не существует, что права его ограничены многими конституциями, каких вчера не было и каковы судебная, земская, университетская и т.д. По убеждению интриги, в настоящее время стал анахронизмом брошенный врагам России стих нашего прославленного поэта:
Иль русского Царя бессильно слово...
Та же самая интрига, те же лица, те же, в сущности, планы, только с новыми средствами, с новыми обманами, с новыми союзниками. Она не встречает себе противодействия во влиятельных сферах, где, к сожалению, уроки прошлого забыты или сохраняются в смутных воспоминаниях, между тем как интрига крепко помнит уроки прошлого. Ее вожаки воспользовались опытом и действуют последовательно. Весьма естественно, что она предвкушает свое торжество, ожидая только последних мер, которые превратили бы фиктивную слабость русской власти в действительную и серьезную, всячески напирая на то, чтобы произошло легальное, неестественное в России разделение и перемещение власти посредством какой-нибудь конституции, так, чтобы авторитет власти, которым все держится, пошатнулся в народе. А когда авторитет этот пошатнется, тогда, как справедливо рассуждает интрига, ничто в России не может считаться обеспеченным и никакая сила не будет сильною. Всякая катастрофа окажется тогда возможною, и Русское царство можно будет руками разобрать...
Но хотя в двадцать лет и много воды утекло, однако события 1863 года не могли не оставить следа в русском обществе, не зарубиться в памяти, не могли не завещать некоторых понятий. Вот почему интрига не вдруг, а с некоторою осторожностью возвращается к доктринам того золотого времени, когда в ее видах Россия еще не спотыкалась на пути прогресса...
«Голос» запел уже старую песню о Западном крае, только на новый лад. Так как край этот должен составлять часть России, то ему и не следует-де находиться в исключительном положении; генерал-губернаторства должны быть упразднены, все новые учреждения, которые введены внутри России, должны-де быть введены и в губерниях Западного края. Не очевидно ли, куда клонится эта инсинуация? Отмена особого положения, в котором еще находится этот край, нужна, конечно, не для того, чтоб он плотнее соединился с Россией, а для того, чтобы могла просторнее и льготнее действовать антирусская интрига, у которой не отнята еще почва, так как меры, которых требовала политика государственного единства России, не были исполнены должным образом.
Вообще в программе «Голоса» начинает по-прежнему выступать политика разных национальностей, которая разыгрывалась в 1863 году и клонилась к тому, чтоб убедить Россию превратиться в Австрию. «Голос» берет под свое покровительство и языки Закавказского края.
В № 123 этой газеты высказывалось желание, чтобы в Тифлисской и Кутаисской губернии и Батумской области, входивших когда-то в Грузинское царство, производство дел в судах велось на грузинском языке: «Пришлось бы только части Ахалкалакского и Бочалинского уездов Тифлисской губернии присоединить к татарским губерниям». Такою татарскою губернией следует считать Бакинскую губернию, в которую также требуется ввести суд присяжных, причем все дела должны вестись на татарском языке. Некоторое затруднение представляют Эриванская и Елисаветпольская губернии и Карская область: здесь «равно преобладают армянский и мусульманский элементы и потому присяжных и дела, подлежащие их рассмотрению, нужно делить на две категории».
Но этого мало. Мы-де не только должны тщательно оберегать жите -лей этой части Русской империи от русского языка, но, сверх того, стараться, чтобы коренные русские люди ассимилировались инородцам. В том же самом нумере тифлисский корреспондент «Голоса» с восторгом приветствует решение каких-то тифлисских городских дворян внести на обсуждение губернского собрания между другими вопросами и вопрос об обязательности обучения грузинскому языку в школах грузинских провинций. «Голос» продолжает:
«Нам кажется, что туземные языки должны преподаваться в местных учебных заведениях не только детям туземцев, но и русским, готовящим себя к деятельности в нашем крае. Справедливость такого требования сознается всеми, но, к сожалению, никаких мер не принимается к его удовлетворению. Напротив, уроки туземных языков необязательны в программе гимназического образования и назначены в неудобное для занятий время, в шестой час. Словом, они поставлены на одну доску с музыкой и танцами».
Итак, туземные языки преподаются в кавказских гимназиях; да, но, увы, они необязательны! Каким же образом можно сделать их обязательными и вместе с тем преподавать их в удобное время, то есть в те самые часы, когда преподаются другие обязательные предметы? Этот вопрос, который затруднил бы всякого, не затруднит педагогов «Голоса». Спросите их, как решить вышеупомянутую задачу, и они вам скажут, что это очень легко: стоит только вместо греческого языка преподавать грузинский и татарский, а вместо латинского армянский, и дело улажено. При этом, конечно, эти образовательные заведения сохранили бы свое право выпускать своих воспитанников в университеты. Как ни нелепо это предположение, иного рекомендуемая петербургскою газетой реформа не допускает.
Но дело не в этом. От этой реформы пострадала бы не одна только наука; внушители «Голоса» преследуют своими требованиями другую, более для них серьезную цель: обособить окраины и повести к исполнению программы, которой красноречивым выразителем был покойной памяти Шедо-Ферроти.
Петербургские шарлатаны называют себя либералами и отождествляют свои стремления с европейскими либералами. Но их сепаратистические тенденции как нельзя лучше доказывают всю фальшь их либерализма. Либеральные партии в Европе всегда считали одним из главных условий прогресса единство национальности. Совершенно немыслим был бы либерал во Франции, который стал бы требовать, чтобы в Бретани судебные дела велись на бретонском, а не на французском языке. Подобные «либералы» бывают только у нас в России.
А. Мосолов ВИЛЕНСКИЕ ОЧЕРКИ (1863-1865 гг.)90 (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОЧЕВИДЦА)
Предлагаемые очерки составлены мною в исходе 1866 года, в виде личных моих воспоминаний за время службы моей в Вильне, при бывшем генерал-губернаторе Северо-Западного края графе Муравьеве. В то время Вильна представляла самый оживленный центр политической деятельности, на который было обращено общее внимание. Состоя при генерал-губернаторе, я принимал более или менее участие во всех почти делах управления, а потому и записки эти носят на себе отпечаток времени и представляют последовательные очерки двухлетнего управления графа Муравьева Северо-Западным краем. Отбросив по возможности все, что касалось лично меня и моих отношений к разным лицам, я сохранил здесь все выдававшееся в виленской деятельности за этот любопытный период современной русской жизни.
Очерки мои объемлют два года, а именно: с 1-го мая 1863 г. (время назначения генерала Муравьева генерал-губернатором) по май месяц 1865 г. (время его увольнения) и разделяются на две части: первая заключает в себе описание первого года его управления краем - собственно усмирение мятежа, раскрытие революционной организации и меры, временно принятые до поездки его в Петербург в апреле 1864 г. и возвращения оттуда через месяц. С этого времени начинается второй период деятельности ген. Муравьева, в котором меры временные уступают место более прочным реформам, усиление русского элемента и Православия играет главную роль и «русское дело» в Северо-Западном крае - становится лозунгом его деятельности до отъезда его в Петербург в марте 1865 г. и увольнения его от должности - этот период времени описан во второй части настоящих записок. Главный деятель того времени уже сошел в могилу и, как ни разноречивы были мнения о нем при жизни, все отдают ныне справедливость его изумительным дарованиям, государственному уму и заслугам, оказанным им Отечеству в одну из труднейших годин. Быть может не безынтересно будет теперь прочесть предлагаемые очерки, где на каждом шагу встречается замечательная личность графа М. Н. Муравьева.
В отношении оценки его действий я воздерживался от излишних преждевременных суждений, представляя факты с совершенным беспристрастием. Политические события в Вильне и в Северо-Западном крае рассказаны мною с надлежащею последовательностью, и потому настоящие очерки могут по крайней мере послужить материалом для историка.
Автор Январь 1867 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1863 ГОД.
I
Первые впечатления, производимые Вильной. — Город и окрестности. — Прибытие ген. Муравьева в Вильну. — Общий прием. — Прием православного духовенства. - Прием римско-католического духовенства. — Первые дни и главные сотрудники генерал-губернатора. — Распределение привезенных чиновников. — Дела политического отделения. — Небольшой кружок русских, собиравшихся в Европейской гостинице. — Первые казни. — Воспрещение траура. — Полицейские меры. — Казнь Колышко и Сераковского. — Перемена характера в преследовании мятежников. — Ссылка еписк. Красинского в Вятку
Во время прогулки моей по городу, я увидел впервые общий траур: вообще в городе царило какое-то молчание, заметно было тревожное ожидание жителей; никто не знал, что-то будет завтра, что скажет новый начальник края.
К 4-м часам прибыл по железной дороге Михаил Николаевич Муравьев и прямо отправился во «дворец», где был приветливо принят генерал-адъютантом Назимовым, у которого и обедал со всем своим штабом. Михаил Николаевич приехал без семьи и остановился во дворце наверху, где были почти одни парадные комнаты и церковь; из жилых же тут были только небольшой кабинет, спальня и уборная для генерал-губернатора, да еще одна большая комната у самого входа для секретаря. В этот день я не видел генерал-губернатора. Он призвал к себе правителя канцелярии и долго с ним беседовал и диктовал приближенным разные депеши и инструкции.
На следующий день, 15-го мая, рано утром, все власти и представители всех сословий собрались в большой зале генерал-губернаторского дворца. Когда я подходил к нему ранее других, из ворот выехала карета, окруженная 4-мя казаками. В ней сидели новый и бывший генерал-губернаторы, они отправлялись к митрополиту и в православный собор.
Во дворце собрались уже все наши приезжие. Рядом с приемной залой была другая, где устроилась походная канцелярия. Стены этой комнаты были пусты; посредине стояли два огромных стола, вокруг которых уже расположились чиновники с бумагами; тут же стояли две железные кровати, на полу валялись чемоданы, словом, все было по походному; посторонние сюда не приходили, а состоящие при генерал-губернаторе знакомились здесь между собою. Через час времени возвратился генерал-губернатор и в залах все заколыхалось и пронесся гул. Наконец он появился из внутренних комнат и все стихло. Он ласково приветствовал военных и гвардию, собравшихся в большой гостиной рядом с залою, и передал им благодарность Государя. Пройдя в зал и обратясь к гражданским чинам, из коих большая часть были поляки, он строго напомнил им их обязанности, высказал свой взгляд на управление и требовал, чтобы все лица, несогласные с его взглядом на дело, немедленно выходили в отставку. Желающих, без сомнения, не оказалось. Римско-католическое духовенство на этот раз было оставлено без всякого внимания; дворянство недоверчиво его слушало, как бы выражая сомнение в успехе его дела; еврейское общество являло неописанную радость, что было слишком неестественно.
Общее впечатление, произведенное генерал-губернатором, было самое сильное. Все увидели пред собой человека твердого и проницательного; тут уже не приходилось шутить и надо было переходить в тот или другой лагерь; но все еще ждали за словами действий, и они не заставили себя долго ждать.
По уходе представлявшихся посетил генерал-губернатора высокопреосвященный Иосиф, митрополит литовский, остававшийся в особой комнате около получасу; вслед за отъездом его принято было в особой аудиенции высшее православное духовенство. Генерал-губернатор много говорил о значении его в этом крае, ободрил его и обещал во всем содействие и ограждение, требуя в свою очередь усиленной деятельности и полного самоотвержения. Затем все утро прошло в приемах разных высших лиц, в ознакомлении с ними. Аудиенции продолжались до 5-ти часов. Вечером канцелярия работала до 2-х час. ночи, а в городе говорили о новом генерал-губернаторе.
На следующий день было принято Михаилом Николаевичем римско-католическое духовенство, во главе которого стоял виленский епископ Красинский, отличавшийся особенным нерасположением к правительству и полным сочувствием к мятежу. Епископ чрезвычайно много говорил, смеялся над мятежом и называл усмирение его охотой за повстанцами. Генерал-губернатор строго ему заметил неточность его выражений и объяснил ему необходимость, чтобы римско-католическое духовенство, пользующееся таким огромным влиянием в крае, подало пример преданности законному правительству и чтобы он, стоящий во главе духовенства, принял чрезвычайные меры к удержанию его от мятежа и к увещанию римско-католической паствы своей. На это епископ улыбнулся и высказал, что он не может унять неудовольствий, охвативших край, но что подчиненное ему духовенство вполне благонадежно; тогда генерал-губернатор нашелся вынужденным представить ему несколько случаев, совершенно несогласных с этим заявлением, и напомнить, что политические тюрьмы не напрасно наполнены ксендзами.
-Я не могу ручаться ни за чьи убеждения, - возражал епископ.
- Но вы должны отвечать за ваших подчиненных.
При этом генерал-губернатор указал на прелата Бовкевича, которого он знал еще 30 лет тому назад в Гродне, и высказал свое убеждение в том, что есть люди, не принимавшие, подобно ему, участия в мятеже, но что, конечно, таких между р.-к. духовными можно пересчитать. Римско-католическое духовенство вышло от генерал-губернатора с твердым намерением упорствовать; но слова нового начальника произвели уже свое действие на умы некоторых из второстепенных представителей этого сословия.
Несколько первых дней прошли в лихорадочной деятельности. В это время неутомимо занимался генерал Лашкарев, докладывавший все поступавшие бумаги в качестве главного правителя дел (он занял во дворце большую комнату близ залы, о которой я упоминал). Генерал Соболевский писал инструкции для устройства сельских караулов, вооруженной стражи режицких старообрядцев, ездил беспрестанно в Динабург. Кавалергардского полка ротмистр кн. Шаховской принял в свое ведение тайную полицию, обыски, город вообще. Аудитор Неелов рассматривал залежавшиеся без конфирмаций следственные и военно-судные дела; в канцелярии уже не было места, нас было до 12-ти чиновников, прибавили еще писарей - все тут занимались. Наконец через несколько дней сделано было нам распределение: в особой канцелярии оставили двух только чиновников, остальных же отправили в общую (постоянную) канцелярию, а меня с тремя какими-то господами в политическое отделение, под начальство полковника Павлова, ехавшего со мной по железной дороге.
Я стал по порядку перечитывать все дела отделения с 1861 г. Каждое почти дело раскрывало передо мной новый мир. Польская интрига
представлялась в самых разнообразных и причудливых формах. Так, между прочим, были следующие замечательные дела: 1) о дворянских выборах в Минской губернии, 2) о графе Старжинском (гродненском предводителе дворянства) и 3) о беспорядках в губерниях. Последнее состояло из донесений, которые начиная с 1861 г. стали получаться от исправников, жандармских офицеров и губернаторов о революционных проявлениях в разных местностях; донесения эти по каждой губернии сшивались особо и составляют любопытные документы; вы видите, как туча растет, как она приближается, вам чуется что-то недоброе, и вот вдруг разом посыпались отовсюду грозные вести: там грабеж, там повесили священника, там неистовствует огромное скопище мятежников... ряд донесений прекращается и по каждому из них возбуждается особое важное дело.
Через неделю мне было поручено одно занятие: составить краткое извлечение из донесений о разных убийствах, совершенных мятежниками.
Выписка заключала первоначально 32 жертвы; но в течение месяца, который я пробыл в политическом отделении, список этот утроился, а к осени он достиг громадной цифры шестисот (600) жертв.
Утро везде проходило тогда за занятиями; обедали мы все за общим столом в гостинице «Европа», а в 7 час. все отправлялись в Ботанический сад, где играла музыка. Мы составили из себя небольшой тесный кружок. Тут душою общества сделался Лев Савич Маков (ныне, в 1867 г., директор канцелярии министра внутренних дел). Он был прислан вместе с Влад. Дм. Левшиным еще при генерале Назимове, в конце марта, для приведения в действие указов 1-го марта об обязательном выкупе в губерниях Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской, и от 9-го апреля, об устройстве поверочных комиссий. Вот начало обширной крестьянской реформы во всем Западном крае. До мая месяца 1863 г., за разгоравшимся мятежом, г. Маков был лишь зрителем картины; с прибытием нового генерал-губернатора он стал одним из главных действующих лиц; я очень с ним тогда сблизился и наслаждался его умною, живою и своеобразною речью; грустно было тогда у каждого из нас на сердце; он оживлял нас и группировал вокруг себя; все в этом обществе делались самыми приятными и добрыми товарищами; все вновь прибывшие молодые люди из хорошего общества невольно примыкали к нашему кружку и таким образом составилось в Вильне первое независимое вполне русское общество; впоследствии оно разрослось и распалось на группы; но почти до выезда нашего из Вильны оставалось в тесном сближении.
20-го мая, в 10 часу утра, сидя у себя дома, я был поражен отдаленным звуком барабана и трубы; звук этот все приближался и с ним рос гул толпы. Все всполошились и бросились к окнам: по узкой Доминиканской (ныне Благовещенской) улице приближалась процессия: вели на казнь ксендза Ишору. Впереди ехали жандармы и казаки; далее окруженный солдатами, бодро шел высокий, молодой ксендз, приятной наружности; рожки уныло играли; рядом с осужденным шел духовник, а за процессиею и вокруг нее кипела необозримая толпа народа. Женщины все еще были в черном и громко рыдали. Поляки не хотели верить, что правительство наше решится на казнь и даже самого Ишору уверили, говорят, в том, что казнь будет лишь примерная. Но когда раздался залп, ужас был общий. Слышно было, что до 20 тысяч народу собралось на обширное поле Лукишки, где это происходило, и на возвышенностях, вокруг лежащих.
В этот день в городе было мрачно; русские и поляки при встрече косо друг на друга посматривали. Вина казненного состояла в чтении возмутительного манифеста народу, собравшемуся в костеле. Подобное чтение, как впоследствии обнаружилось, происходило почти повсеместно в крае, в один и тот же день, кажется 20-го января. Умысел и заговор были из этого ясны; Ишора был задержан из первых и потому на него пал жребий. Чрез 2 дня происходила новая казнь: расстреляны были старый ксендз Земацкий и молодой шляхтич Лясковский. Я видел тоже как они шли на казнь. Но казнь эта не произвела уже на жителей такого впечатления, как первая.
В конце мая 1863 г. издано было воспрещение носить траур и революционные знаки; за ослушание назначен был штраф, и служащие обязаны за жен своих подписками. Все это было исполнено быстро, полиции был уже дан толчок и в первое время взыскано было мало штрафов - их взыскивалось гораздо более впоследствии, когда, при разных удобных случаях, были деланы поляками неудачные попытки поставить на своем. До сих пор презрение к русской власти было общее; тут стало понятно, что борьба трудна.
Одно было стеснительное условие для жизни, как последствие военного положения: вечером после 9-ти часов все пешеходы должны были иметь при себе зажженные фонари, что в светлые июньские ночи выходило очень странно. Кроме того нельзя было выезжать на городскую черту без особого билета. Окрестности Вильны скоро были очищены; лишь только кто-нибудь выходил из города в шайку, с домовладельца или хозяина взыскивался штраф. Эта мера многих остановила.
Так протекал июнь месяц; два события особенно в нем ярки, именно: казнь Колышко в начале месяца, а через неделю казнь Сераковского. Первый был молодой человек 22 лет, дворянин Лидского уезда, Виленской губернии; родители его, кажется, эмигрировали, и он воспитывался в Генуэзской польской школе (основанной генералом Высоцким), где отличался своими способностями; характера был смелого, с твердою волею, что называется сорви-голова; он быстро встал во главе одной из трех главных шаек, образовавшихся на Жмуди, и был разбит по соединении с отрядом Сераковского. Во время казни он выказал много твердости. Сераковский же чрезвычайно растерялся, когда ему пришли объявить о предстоящей участи. Он все как-то надеялся на прежние свои заслуги.
Надо заметить, что Сераковский был сильно ранен и долго не могли его допрашивать; но когда рана его почти совсем зажила, он отклонял допросы под предлогом чрезмерной слабости.
Казнь его совершилась лишь два месяца спустя после его задержания, между тем как в преступлении его не было никакого сомнения, а на допросах ответы его были самые короткие и ничего не значащие; однако и он тоже показал, что взят в мятеж силою!
Во время казни он выказал необыкновенное малодушие; бранился, кричал и даже ударил палача. Об этом тогда было писано в газетах. Между тем уже впоследствии я отыскал во французской иллюстрации того времени его портрет с краткою биографиею, в которой сказано, что он, пронзенный пулею в грудь, погиб на поле брани за свое Отечество.
В течение июля месяца 1863 г. принимались деятельные меры к очищению лесов от мятежников; всякие реляции о громких баталиях навлекали на начальствующих лиц неудовольствие генерал-губернатора, ибо доказывали только плохое их смотрение; поэтому характер преследования шаек изменился; прежде смотрели на это как на войну, как на экспедиции против горцев, с целью схватить отличия; а на мятежников, надо сознаться, смотрели наши офицеры, как на воюющую сторону, восторгались их начальниками и одному из них за храбрость против нас выхлопотали прощение.
Теперь войска должны были преследовать шайки до полного истребления и до совершенного водворения в известном районе спокойствия и военно-полицейского управления, согласно инструкции начальника края, изданной 24 мая. Весь июнь ее приводили дружно в исполнение. В уезды назначены новые военные начальники с другим, более серьезным, взглядом на дело. Многие были назначены из гвардии. Повсюду стали учреждаться сельские вооруженные караулы; но можно сказать, что лишь в июле 1863 г. жители края несколько вздохнули.
В конце июня прибыла из Петербурга 1-я гвардейская пехотная дивизия (полки: Преображенский, Семеновский, Измайловский и Гатчинский) на смену 2-й дивизии, а так как между новоприбывшими офицерами у нас было более старых товарищей и знакомых, то следующий месяц общество наше особенно оживилось. Генерал-губернатор сделал смотр Павловскому и Московскому полкам на площадке дворца, перед возвращением их в Петербург. Впервые по приезде его увидели в народе, и энтузиазм войска был огромный.
К этому же времени следует отнести еще одно и притом важное событие: высылку епископа Красинского в Вятку.
После того как генерал-губернатор при личном с ним свидании передал ему свой взгляд на восстание и требовал его содействия, епископ решился не принимать никаких мер, что и сделалось всем известно; вследствие этого генерал-губернатор обратился к нему с письмом, в котором изложил весьма категорически обязанности римско-католического духовного начальства при настоящих смутных обстоятельствах, прося немедленно принять меры к удержанию как духовенства, так и паствы от мятежа, напоминая в письме, что согласно 12 § инструкции для военно-гражданского управления краем одинаковой ответственности с нарушителями порядка подвергаются и те, которые своим несмотрением тому способствуют. Письмо это было в то же время распубликовано.
Вместо ответа епископ сказался больным и чрез прелата Бовкевича на усмотрение генерал-губернатора был представлен проект увещания к народу, своею уклончивостью более походивший на революционное воззвание. Вместе с тем епископ, желая уклониться от ответственности и устрашенный энергическими мерами, принимаемыми правительством к водворению порядка, испросил себе увольнение вследствие отчаянного будто бы состояния здоровья, на несколько месяцев, на кеммернские минеральные воды в Лифляндии. Получив желаемый отпуск, епископ, накануне отказывавшийся, по причине болезни, принять присланного к нему от начальника края гражданского губернатора с требованием передачи управления епархиею на время отсутствия, вдруг выздоровел и стал разъезжать по городу и легкомысленно высказывать свою радость и свои надежды. Все это немедленно разнеслось и генерал-губернатор решился раз навсегда удалить его из края.
Когда Красинский отправлялся из Вильны, огромная толпа народа теснилась вокруг станции железной дороги. В один поезд с епископом сел и жандармский офицер, снабженный открытым предписанием, бумагами к разным губернаторам и значительными средствами для пути. До Динабурга никто ничего не знал, но приехав туда (здесь пассажиры пересаживаются на линию, идущую в Ригу), по выходе из вагонов епископа и его свиты (духовник, доктор и двое слуг), они были встречены местным военным начальником, который между тем был уведомлен по телеграфу, и помянутым жандармским офицером, объявившими епископу распоряжение начальства. Он повиновался без особого смущения и спросил только, куда его повезут; получив в ответ, что его велено доставить во Псков, он видимо успокоился; один доктор был в отчаянии, - он вовсе не располагал туда удалиться; но приказано было лишь по приезде туда объявить епископу о дальнейшем следовании к месту назначения, а спутникам его предложить или следовать за ним на собственный счет, или вернуться в Вильну. Доктор, разумеется, поспешил воспользоваться этим предложением; остальные отправились далее; велено было везти епископа в Новгород по шоссе, чтоб миновать Петербург и не останавливаться долго в Москве. Во все города по пути следования до Вятки дано было знать губернаторам и они принимали миры к скорейшему и удобнейшему его отправлению; для епископа же окончательное место ссылки оставалось тайною до Казани.
Везде по пути он имел отдых и для него нанималась карета. Епископ и доныне (1867 г.) живет в Вятке, где я его неоднократно впоследствии видел.
Высылка его произвела сильное впечатление на все население.
II
Положение Северо-Западного края во время назначения генерала Муравьева виленским генерал-губернатором. - Признаки мятежа до 1863 года. — Приказ о назначении ген. Муравьева в Вильну. — Мое определение в его канцелярию. — Состав походной канцелярии. — Приемы генерал-губернатора. — Отъезд из Петербурга. — Посещение Динабургской крепости. — Полковник Павлов о событиях последнего мятежа. — Вильна
Когда генерал Муравьев был назначен виленским генерал-губернатором, весь Северо-Западный край был объят мятежом. Все сообщения в крае были прерваны - шоссе из Острова на Киев было не безопасно от бродячих шаек. На железную дорогу делались нападения. Служащие в крае все почти были из поляков. Народ в страхе безмолвствовал. Все русское жило, притая дыхание; большая часть местных жителей были уверены, что дело России в западных губерниях проиграно. Самые наглые демонстрации производились открыто повсюду; лица, не желавшие носить политический траур, подвергались всякого рода ругательствам и оскорблениям.
Все признаки мятежа в Северо-Западном крае обнаружились гораздо ранее 1863 года. Край этот жил постоянно польскою жизнью. Варшава давала всему сигнал, и начавшиеся с 1861 года в Царстве
Польском беспорядки отозвались с необыкновенною силою в литовских и белорусских губерниях.
Еще в 1862 году, во время дворянских выборов, происходивших в Подольской губернии, заявлены были тамошним дворянством желание и необходимость присоединить Подольскую губернию к Царству Польскому. С этою целью был составлен известный адрес Государю, в котором выражалось, что край этот по языку, религии и историческим преданиям - край польский, с Россиею общего ничего не имеет и потому для предоставления ему возможности правильного развития необходимо присоединить его к Польше.
Примеру подольского дворянства последовало минское - здесь руководил этим делом губернский предводитель Лаппа, умевший в то же время снискать внимание правительства. Многие русские из ополяченных подписались под протоколом, в котором заявлено о необходимости просить Государя присоединить Минскую губернию, по тем же почти причинам, какие выставлены в подольском адресе, к Царству Польскому. При этом нельзя не заметить, что в Минской губернии на 168 000 католиков - 740 000 православных. Дерзость минского дворянства дошла до того, что когда ему объявлено было высочайшее неудовольствие, оно положило только занести об этом в протокол и заявить в нем, что предположение дворянства не состоялось лишь по недопущению высшего правительства.
В Вильне, с 1861 года, демонстрации всякого рода происходили в самых широких размерах и едва ли не каждый день. Распорядительницей по ношению патриотического траура была богатая киевская помещица Матильда Бучинская, заведовавшая разными благотворительными заведениями и обращавшая свои благодеяния в средства для достижения политических целей. Виленский уездный предводитель дворянства и в особенности жена его были тоже двигателями всякого рода демонстраций: они устроили в окрестностях Вильни, в предместьи Бельмонт, летом 1861 г. народное гулянье с польским национальным характером. По их приглашению, на праздник этот съехались все городские знатные дамы и танцевали с простолюдинами и ремесленниками польские танцы. Все это делалось в видах сближения с народом для предстоящего восстания. Народу сулились великие милости; по краю разбрасывались всюду, даже по полям, тысячи прокламации; между тем, при малейшем противодействии со стороны крестьян, помещики настойчиво требовали военных экзекуций для того только, чтоб восстановить народ против правительства.
Для Литвы явился вскоре свой маркиз Велепольский - это был гродненский губернский предводитель дворянства, гр. Старженский. Он тоже представлял правительству свои мемуары и соображения, также требовал автономии западных губерний и присоединения их к Польше. Он успел вкрасться в доверенность многих высших лиц и, хотя его благосклонно слушали, но требований его не исполняли. Тем не менее он считал, что правительство, как и в Царстве Польском, будет вынуждено обратиться к местной аристократии и что при этом ему будет поручено устройство края. Обнадеженный таким образом, в начале 1863 г., когда правительство вынуждено было усмирять открытый мятеж войсками, гр. Старженский подал в отставку, заявляя, что не считает приличным служить такому правительству, которое само возбуждает (!) резню, и циркулярно сообщил об этом всем уездным предводителям дворянства, приглашая их последовать его примеру91.
Ночь на 11-е января 1863 г. была назначена в Царстве Польском и в Литве для общей резни всех русских войск и для начала восстания наподобие того, как это было в конце прошлого столетия 92. В Царстве Польском резня была общая. В Западном же крае только в некоторых уездах Гродненской губернии. Вслед за тем все Царство Польское наводнилось мятежными шайками и некоторые из них пробрались в Гродненскую губернию.
Несмотря на постоянные битвы и стычки наших войск с мятежниками, в марте и апреле месяцах 1863 г. весь край был уже объят мятежом. В Ковенской в Гродненской губерниях мятежники распоряжались как у себя дома: шайки их бродили под стенами Вильны: в Минской губернии действовали Свенторжецкий и Траугутт: из Петербурга была отправлена в Литву 2-я гвардейская пехотная дивизия, но войск было все-таки недостаточно. Везде были стычки, газеты наполнялись реляциями.
Одновременно с развитием мятежа ополчилась на нас и вся Западная Европа, обвиняя нас в угнетении «несчастных» поляков и предлагая нам посредничество, конгресс.
Все иностранные газеты были наполнены возгласами и сожалениями о поляках, мужественно гибнущих за Отечество; нас называли варварами и монголами и предлагали нам убраться подальше на Восток, где наше истинное призвание, и уступить место польской цивилизации. Выдумки были самые дерзкие и цинические - и иностранные дворы: английский и французский, отправив к нам свои требовательные ноты, лишь воодушевили это движение и поддержали надежды поляков. За Францией и Англией поспешили протестовать и прочие государства.
Война казалась неизбежною. Принимались все меры к укреплению Кронштадта. В публике шел говор о недостаточности его укреплений и о том, что в скором времени мы увидим перед столицей враждебные флоты. Опасность положения нашего в Западном крае только тогда вполне обнаружилась, когда в апреле вдруг загорелся мятеж в Могилевской губернии (впрочем уничтоженный в 10 дней самими крестьянами), а в Витебской губернии, в виду грозных твердынь Динабурга, гр. Плятер напал на транспорт, шедший с оружием, и разграбил его. Правда, тут был и естественный предел своевольству поляков. В Могилевской губернии народ перехватал мятежников, а в Витебской он дошел до крайнего с ними ожесточения... Ропот в Петербурге был всеобщий; как всегда в подобных случаях, все подозревались в измене; в умах произошел сильный перелом - не в пользу поляков.
По мере того, как взгляд на польский вопрос стал проясняться, в обществе происходила реакция и все спешили громогласно отречься от сочувствия полякам. Первый сигнал к этому был подан петербургским дворянством на обыкновенных выборах, происходивших в феврале 1863 года. Дворянство представило государю адрес, проникнутый патриотическими чувствами и заявлениями всеобщей готовности ополчиться против врагов России. Дворянство постановило, на случай войны, жертвовать ежегодно до прекращения ее 7 часть своих доходов. Адресу этому откликнулась вся Россия. Отовсюду посыпались к государю адресы и многие были присланы при депутациях с заявлением тех же чувств. Явление это было глубоко утешительно для всякого русского. Все почувствовали свою силу, и эти заявления остались не без влияния на Европу и на наши к ней отношения. Тон ее стал менее требователен и не столько, кажется, ноты наши, как этот патриотический гул вынудил их оставить нас в покое.
В такое-то время, после предварительных совещаний, 1-го мая 1863 г. назначен был виленским генерал-губернатором член Государственного совета, генерал от инфантерии Михаил Николаевич Муравьев. Ему подчинены были и губернии Витебская и Могилевская, управлявшиеся на общем основании, и даны права командира отдельного корпуса в военное время.
Еще за несколько дней до назначения М. Н. Муравьева в приказе (но когда государь уже объявил ему свою волю), я получил приглашение явиться к нему к 11-ти часам утра.
Муравьев жил в то время на Литейной, в доме Министерства уделов. Уволенный за несколько месяцев перед тем от звания председателя Департамента уделов, он оставался еще на прежней своей квартире в ожидании отделки помещения в собственном своем доме. Когда я пришел, в приемной было уже человек 5 или 6; я ждал с полчаса. Наконец дверь отворилась и быстрыми шагами вышел из нее Михаил Николаевич. Сказав несколько слов со стоявшими выше меня, он просил меня к себе потолковать. Я вошел за ним в огромнейший кабинет, который был перегорожен шкафами с книгами. Он расспрашивал меня очень подробно..., остался по-видимому мной доволен и сказал, что зачислит в свою канцелярию, но просил зайти через несколько дней, так как нет еще приказа о его назначении, а до того он не может сделать ничего положительного.
М. Н. Муравьев приветливо отпустил меня, но я долго не мог освободиться от того впечатления, которое он на меня произвел. Я все припоминал свои слова, боясь - не сказал ли какой-нибудь глупости и вообще чего-нибудь лишнего, - так сильно было произведенное им на меня впечатление. Это не было обыкновенное чувство подчиненного перед начальником, ибо я не имел тогда ни малейшего понятия о служебной зависимости и смотрел на все взглядом светского человека.
Дня через три, кажется, 4-го мая, я отправился снова на Литейную и снова очутился в большой приемной, где на этот раз было уже более ожидающих. Между прочими тут находились отставной генерал-лейтенант Энгельгардт, назначаемый губернатором в Ковно, и флигель-адъютант полковник граф Бобринский93, только что назначенный накануне губернатором в Гродно. В этот раз мне пришлось ждать подолее и я увидел уже дежурного чиновника со списком в руках. Он подходил к каждому и спрашивал чин и фамилию и тотчас записывал. Наконец двери кабинета растворились, и Михаил Николаевич теми же маленькими, но быстрыми шагами вышел к нам. Графу Бобринскому он сказал несколько любезных фраз по-французски и поздравил его с назначением. Затем быстро обратясь ко мне: «Ну, теперь я уже приказал вас зачислить. Принесите в канцелярию ваши бумаги и начните заниматься». Я откланялся. Меня привели по другую сторону парадной лестницы в маленькую комнатку, откуда постоянно выходили и входили какие-то господа. У окна на кресле сидел известный полковник Лебедев (бывший редактор «Инвалида», автор многих статей, в том числе и о тюрьмах; им написана монография: «Гр. Петр и Никита Панины»). Меня подвели к нему, как к начальнику, и просили любить меня и жаловать. Он очень был приветлив, много шутил и несколько меня приободрил.
Канцелярия была целый день полна народом: из постоянных чиновников был собственно один я. Все прочие были временные чиновники, прежде служившие под начальством М. Н. Муравьева и взятые лишь для кадра на первые дни. Тут сочинялись предписания о введении военного положения во всех губерниях и уездах Северо-Западного края, об устройстве сельских караулов, об учреждении разных следственных комиссий. Дня через три стали являться разные чиновники, все по два, командированные из разных министерств. Таким образом нас оказалось 10 или 12 человек. Писарей вовсе не было, наподобие дипломатической канцелярии. Действительно, все бумаги здесь составляли важные в то время тайны, занимались и утром, и после обеда, от 8 часов до поздней ночи. Дня за два до отъезда, уже часу в 11-м вечера, велено было написать какую-то длинную инструкцию в 10 экземплярах, так что пришлось всем писать под диктовку одного, чтобы поспеть к утру. Удовольствие это продолжалось до 3-го часа ночи.
Однажды мне пришлось быть дежурным у генерал-губернатора за отсутствием адъютанта. В числе представлявшихся был виленский губернский предводитель дворянства, впоследствии столь известный Домейко. Он просился в отпуск за границу; но генерал-губернатор приказал ему немедленно отправиться к месту служения, так как в такое бурное время все должны быть на своих местах. После 2-х часов его посещали министры и иные высшие лица; вечером - чиновники, отправлявшиеся в край передовыми. Отсюда таким образом был назначен в Могилевскую губернию командующим войсками кн. Яшвиль, бывший командир лейб-гусарского полка.
За два дня до отъезда, я увидел в приемной новое лицо с бумагами: мне сказали, что это камер-юнкер Рачинский, начальник походной канцелярии, т.е. и мой. Он только что принял должность от полковника Лебедева94. Перемена эта сделалась с необыкновенною быстротою, даже незаметно для самих действующих лиц.
Генерал-губернатор несколько раз ездил к Государю с докладами; но нам еще не назначали дня отъезда, опасаясь огласить его, чтобы поляки, узнав о том, не повредили железной дороги. Наконец 12-го мая, в воскресенье, нам было объявлено, что отъезд назначен в этот же день вечером в 10 часов.
Генерал-губернатор ехал в особом вагоне с адъютантом и генералами Соболевским и Лошкаревым. Первого я уже видел раза два, а последнего лишь утром в день отъезда, так как он только накануне прибыл из Москвы. Провожавших генерал-губернатора было множество: сочувствие к нему было большое, на него были устремлены все взоры, на него все надеялись.
В одном поезде с нами ехали еще два офицера Генерального штаба, назначенные в его распоряжение, и другие второстепенные лица, поступившие на службу в Северо-Западный край.
Таким образом мы отправились в Вильну 12-го мая 1863 г. в 10 часов вечера. Генерал-губернатор должен был на другой день рано утром остановиться в Динабурге и с ним из канцелярии человек 6. Прочие же, в том числе и я, должны были прямо ехать в Вильну и явиться там за приказаниями.
Я сказал, что мы выехали в воскресенье 12-го числа ввечеру, а потому и прибыли в Динабург на следующий день рано утром часу в 7-м. Здесь задний вагон, где находился генерал-губернатор, был отделен и с прицепленным к нему паровозом отправился задним ходом чрез боковую линию в самую крепость Динабург, которая в полутора версте от станции и куда проведены рельсы. В Динабурге генерал-губернатор сказал сильную речь представителям дворянства, принял решительные меры к обороне крепости на случай покушения мятежников и конфирмовал графа Плятера, уже приговоренного военным судом к расстрелянию. Эта казнь была первая с прибытия нашего в край и произошла дня через четыре по приезде нашем в Вильну.
Весь следующий день пути я провел с полковником Павловым, начальником политической канцелярии в Вильне, прибывшим в Петербург тотчас по назначении Муравьева с поручением от бывшего генерал-губернатора, остававшегося в Вильне. Он рассказывал мне вещи, о которых я, да и все петербургские, не имели ни малейшего понятия, и вещи весьма важные о Западном крае. Он знакомил меня вкратце с историей управления тем краем после мятежа 1831 г., с личностями правителей и главных при них деятелей. Между прочим он рассказал в подробности о разбитии шайки Сераковского в Поневежском уезде Ковенской губернии и о взятии его в плен генералом Ганецким с Финляндским полком. Молодецкое дело при Медейке происходило, сколько помню, три дня, около 25-го апреля. Сераковский, капитан Генерального штаба, известный своими статьями об уголовных наказаниях, отправлялся в марте месяце в 1863 г. за границу, кажется, даже с казенным поручением. Он оставался довольно долго в Вильне, всех посещал, все его благосклонно принимали, а в начале апреля он поехал далее. Но из Ковно повернул в Вилькомирский уезд, где в самое короткое время образовал шайку до 800 чел. Он шел беспрепятственно чрез Поневежский уезд и намеревался вторгнуться с 10 000 чел. польского войска в Курляндию, где полагал поднять все население. Без сомнения, это был бред его фантазии, в который однако польская часть населения слепо верила. Действительно, он присоединил к своему отряду шайку Колышки в 400 человек и ожидал шедшую к нему на соединение колонну или толпу, человек в 600, ксендза Мацкевича, впоследствии столь известного упорными партизанскими действиями. Высланный из Вильны отряд генерала Ганецкого с частью Финляндского полка перерезал путь Сераковскому. В первый день дело ограничилось перестрелкой, на второй шайка его была совершенно разбита, сам он ранен пулей в спину и укрылся с Колышко, адъютантом своим Косаковским, докторами и еще несколькими лицами из свиты на соседней мызе. В этот же день ксендз Мацкевич, уже подходивший с своею шайкою к месту боя, услыхав сильный огонь, счел за благо удалиться и оставить своих товарищей. С тех пор с переменным успехом он бродил по всей Жмуди до декабря месяца 1863 г. и неоднократно разбиваемый, долго ускользал от преследования.
На третий день боя были рассеяны отдельные части этих больших шаек, а сам Сераковский с Колышко и штабом захвачены на мызе поручиком Вангасом и доставлены в Вильну. Здесь Сераковский содержался в госпитале Св. Якова, страдая раною и упорствуя в показаниях под предлогом болезни, видимо однако проходившей.
Мы приехали в Вильну ввечеру 13-го мая. Всюду слышался еврейский говор и крик. Прежде всего нас поразили необыкновенно узкие улицы, которые при вечернем слабом освещении казались еще уже. Мне все представлялось, что если попадется навстречу экипаж, то мы столкнемся; в большей части улиц двум экипажам только и можно, что разъехаться. Многие из нас остановились в прекрасной, лишь с 1-го мая открытой, гостинице «Европа», сделавшейся в скором времени как бы клубом вновь прибывающего русского общества. Там я нашел прекрасный, чистый номер со всеми удобствами, ярко освещенную столовую и хороший ужин. В нее сошли тотчас же и офицеры Генерального штаба, о которых я уже упоминал, и многие другие чиновники: здесь и завязалось наше общее сближение.
III
[...] дворец, в особую канцелярию, и вместе с прочими появлялся оттуда в большой малиновой комнате, где генерал-губернатор делал ежедневно прием. Приемы эти отличались от обыкновенных служебных приемов. Генерал-губернатор говорил мало, но всегда выразительно, негромко и не возвышая голоса; прием продолжался редко более получаса.
Обойдя всех представлявшихся, генерал-губернатор обращался на возвратном пути в кабинет к нашей толпе, как тогда выражались: «состоящих при и по» (так как все мы не имели определенных мест, а были зачислены или в его распоряжение, или по канцелярии, при управлении, при генерал-губернаторе и т.п.). Жаждущих мест было множество. Тут были и камергеры, и генералы, и гвардейцы, все зачисленные в своих частях и командированные в распоряжение генерала Муравьева. Так как должности сначала открывались медленно, то толпа этих состоящих при и по все увеличивалась. Недолго впрочем это продолжалось, и по мере того, как генерал-губернатор осваивался с управлением и стал удалять неблагонадежных чиновников (что сперва делалось весьма разборчиво), на места их определялись вновь прибывшие. Некоторым из них давались тут же маленькие командировки и поручения для ознакомления с ними; но так как на всех дела не хватало, то, оставив лишь некоторую часть их для постепенного замещения открывающихся вакансий, остальных, согласно требованиям губернаторов, раскомандировали в их распоряжение для назначения на должности по их усмотрению. Надо отдать справедливость, что рвение этих господ к службе было огромное, каждый ехал сюда или для проложения себе дороги, или для поправления прежних служебных ошибок и неудач; из числа их многие оказались впоследствии прекрасными и весьма способными мировыми посредниками, членами поверочных комиссий и военными начальниками, равно и на прочих должностях, и лишь весьма малое число оказалось вовсе никуда негодными, которых мало-помалу спровадили восвояси. Впоследствии назначения на должности по мировым учреждениям делались уже по предварительным сношениям и особым вызовам; и только высшие из прибывающих чиновников оставлялись на время при главном управлении для ознакомления с ходом дела и с руководящим направлением; все же мелкие чиновники, прибывавшие из разных губерний, прямо отсылались к одному из губернаторов, где встречалась надобность, где открывалось более вакансий, а иногда и сообразно с желанием приехавшего.
Я описываю наш чиновничий фаланстер, как одно из весьма оригинальных служебных явлений; дамского общества вовсе тогда не
было; с поляками мы ничего не имели общего; польские дамы чуждались нас, равно как и мы их; местные русские чиновники смотрели на нас тоже недоверчиво и даже неприязненно; приезжавшие большею частью не привозили с собою семейств до упрочения на должности, так что образ жизни все почти вели одинаковый, впрочем довольно скромный и, сообразно со средствами и потребностями, посещали одни и те же места.
В то время как происходили эти передвижения в нашем маленьком чиновничьем мире, готовилось одно важное событие, имевшее влияние на перелом мятежа.
Виленскому дворянству была подана мысль о представлении всеподданнейшего адреса, в коем оно сознало бы свои заблуждения и просило помилования; главною же целью этого было уяснение партии, расположенной к правительству, так как всякий подписавший адрес, в случае открытия его виновности, становился вдвойне виновным, а всякий благомыслящий стремился бы, подписав свое имя, увеличить ту партию, из которой он уже не мог выступить. Дело это шло весьма медленно сначала, тем более что сам губернский предводитель Домейко колебался и сомневался в его успехе, но к нему наконец примкнули семейство графов Плятер, помещик Снитко (православный) и некоторые другие. Со стороны правительства в этом деле принимал участие тот же полковник Павлов, много лет живший в этом крае и имевший в среде местных помещиков друзей и родных. Генерал-губернатор зорко следил за этим делом и не давал ему проявиться, пока оно не созреет; так, дворянство хотело было представить адрес 22-го июля, в день тезоименитства государыни; но начальник края отклонил это до 27-го июля и в эти пять дней число подписей удвоилось.
22-го июля был первый официально торжественный день, наступивший после долго продолжавшейся упорной борьбы законного правительства с мятежом, и потому он отличался особенным характером. К 10-ти часам утра все местные власти и представители всех сословий наполнили залы дворца и перед началом обедни генерал-губернатор обошел присутствующих. Большая малиновая гостиная, где обыкновенно делались приемы, была наполнена гвардейцами: тут был весь Преображенский полк, незадолго прибывший, лейб-уланы и лейб-драгуны, собранные в Вильну для возвращения в скором времени в столицу. Караул у дворца был Преображенский. День был чудесный, и окна дворца были открыты. Генерал-губернатор был очень ласков с гвардейцами и предупредил их, что скоро пошлет в экспедицию. Дворянам он сказал несколько простых, но сильных и внушительных слов, и заявил, что ему уже известно их намерение, но он не может еще допустить его исполнения, так как мало видит чистосердечного раскаяния, ибо для этого нужны действия, а не одни слова; евреям генерал-губернатор не доверял, но всегда обращался к ним с несколькими словами, напоминая о неусыпном исполнении верноподданнических обязанностей; римскокатолическое духовенство было еще очень смущено недавними казнями ксендзов и высылкою своего главы.После приема генерал-губернатор пригласил всех представлявшихся последовать за ним в соборную церковь для слушания литургии и молебствия.
Давно уже наш православный собор не представлял такого блистательного зрелища. Богослужение совершали епископы: Ковенский -Александр и Брестский - Игнатий (викарии Литовской епархии), 2 архимандрита и 4 протоиерея. Когда же началось молебствие и духовенство направилось к амвону - впереди всех показался знаменитый Литовский митрополит Иосиф. Весь собор был наполнен служащими и даже несколькими дворянами; все были в мундирах; в левом углу помещалась небольшая группа русских дам; перед собором на площадке были построены: Преображенского и Семеновского полков роты его величества и спешенные эскадроны лейб-улан и драгун. Толпа народа вокруг была необозримая, и все это было залито сиянием июльского солнца. После молебна загудели колокола, в цитадели загремели пушки и, по выходе начальника края из собора, пронеслось по площади и в толпе народа нескончаемое «ура». Это не был обыкновенный праздник. Всякий чувствовал, что тут совершаются исторические события и, хотя все это представляло лишь внешнее торжество русской силы, но в нем видимо было и чувствовалось то новое направление, которому должны будут следовать в крае грядущие поколения. После развода генерал-губернатор вместе с многочисленною свитою и начальствующими лицами посетил митрополита, который был чрезвычайно утомлен службою, и едва был в силах принять на несколько минут столь многочисленное общество. Голос его чрезвычайно был слаб, так что во время служения слова его были слышны лишь близь стоявшим.
Вечером в городе была великолепная иллюминация, бесчисленные толпы народа покрывали улицы и площади и в первый, кажется, раз по возобновлении играли в театре. Перед началом представления оркестром Финляндского полка был исполнен народный гимн: «Боже царя храни», который три раза заставили повторить при громком неумолкаемом «ура».
Тут только, в эти минуты, мы, равнодушные петербургские космополиты среди враждебной нам среды, начали чувствовать себя русскими и проникаться самым горячим патриотизмом.
27-го июля так близко следовало за описанным мною торжеством, что может почитаться как бы его дополнением. По случаю дня рождения Государыни снова все собрались в генерал-губернаторский дворец, но в этот день Виленское дворянство чрез депутацию из 15-ти человек, имевшую во главе губернского предводителя, просило начальника края представить Его Величеству письмо с выражением раскаяния и с заявлением верноподданнических чувств. Минута была торжественная. Генерал-губернатор принял адрес, подписанным уже 230 почетнейшими дворянами и согласился представить его Государю; но вместе с тем напомнил дворянству, какую важность должно иметь это заявление, и что затем им следует действиями своими доказать, что они отрекаются от революционной партии и во всем намерены содействовать правительству для восстановления спокойствия в крае. Губернский предводитель заявил при этом, что подписка на особых листах продолжается по уездам и идет успешно.
Немедленно была отправлена государю в Царское Село телеграмма с извещением об этом событии и о содержании адреса. Самый же адрес при пространном донесении отправлен к его величеству в тот же вечер с ротмистром кавалергардского полка, князем Шаховским. На телеграмму был в тот же день получен благосклонный ответ государя. Затем несколько времени спустя его величество удостоил генерала Муравьева милостивым по этому случаю рескриптом, а князь Шаховской был назначен флигель-адъютантом.
В тот же вечер 27-го июля офицерами Преображенского полка был устроен на вершине Замковой горы, в виду всего города, великолепный фейерверк; ничего эффектнее мне никогда не приходилось видеть: положение горы, темнота вечера и тишина погоды - все тому благоприятствовало; в разных местах на площадях, равно как в Ботаническом саду, играло несколько полковых оркестров, на улицах слышалась веселая речь; поляки как-то не дичились в этот день и выказывали желание поддержать свое заявление возможно торжественнее. Смешно сознаться, но я вместе с несколькими людьми, подобно каким-нибудь тайным агентам, рыскал по улицам и площадям, из театра в сад, и при встрече друг с другом на улицах, буквально залитых огнем иллюминации, как-то крепче пожимали мы друг другу руки и сознавали, что вокруг нас совершалось. Шаг был сделан - надо было идти вперед.
Описанные мною торжества и особенно подача адреса Виленским дворянством были слишком очевидными результатами распоряжений правительства, и революционная партия, чуя приближение своей гибели, должна была решиться на отчаянную попытку и террором остановить начавшееся движение в пользу законной власти. Все это чувствовали, но никто не мог предугадать откуда направится удар.
29-го июля рано утром по городу разнеслась весть, что маршалка убили; трудно было понять, что это значит, а потому я немедленно отправился во дворец. Выходя из квартиры, заметил я необыкновенное движение. Немецкая улица, постоянно полная грязных евреев, была занята полицией, казаками и войском; скакали верховые - тут только я догадался в чем дело и что покушение было на жизнь губернского предводителя Домейко; вскоре в канцелярию нашу стали прибывать разные лица с места действия, принося различные по делу подробности; оказывалось, что в 8-м часу утра неизвестный человек явился к Домейко под предлогом подачи просьбы. Слуга просил его обождать, пока доложит. Губернский предводитель только что встал и еще в халате вышел в приемную, куда велел впустить и пришедшего. Слуга тем временем остался в большой прихожей, над лестницей, где растворял окна. Услыша внезапный крик в соседней комнате, он бросается туда и в дверях сталкивается с убийцей, у которого в руках окровавленный кинжал. Он стал было сопротивляться; но при виде кинжала ужас им овладел и он, весь израненный в грудь и в бок, упал замертво. Убийца скрылся.
Между тем Домейко не только был жив, но был гораздо слабее изранен, чем его слуга. Убийца хотел поразить его в самое сердце, но он всякий раз, как тот наносил ему удар, защищался локтем левой руки, согнув ее в виде щита. На руке его было семь больших ран, но толстый фланелевый рукав предохранил Домейко; приход же слуги заставил убийцу броситься назад, чтоб проложить себе путь отступления. Вместо прошения Домейко было подано два листка. Листки эти с запекшеюся на них кровью были отосланы в канцелярию и с них делался перевод. На первом было напечатано по-польски постановление верховного народового трибунала, которым все лица, подписавшие адрес Государю, изъемлются из-под покровительства закона и предаются военному полевому суду, а Александр Домейко, как один из главных виновников этого дела, должен быть немедленно казнен смертью, как изменник отечеству. К этому документу приложена была синяя печать с изображением соединенных гербов Литвы и Польши с надписью вокруг: «Pieczec rzadu narodowego. Oddzial Litwy»95. Другой листок заключал приказ исполнительного отдела Литвы за подписью начальника miasta96 Вильны (с неразборчивою подписью), в коем предписывалось привести в исполнение приговор над гражданином Домейко.
Немедленно была подана медицинская помощь Домейко и его слуге, который в первое время подавал мало надежды на выздоровление. К дому его приставлен был караул от Преображенского полка и разостлали солому. По всей Немецкой улице во всех квартирах и на задних дворах были сделаны тщательные обыски; город был весь оцеплен войсками, по всем направлениям были отправлены разъезды казаков и сообщены приметы убийцы (среднего роста, рыжий, с короткими волосами; одет в сером пальто); в городе было общее смущение; все власти и служащие, все русские порядочные люди поспешили заявить свое сочувствие Домейко и теснились до вечера в его прихожей, узнавая о его положении и записывая на листе свое имя. Вечером после 9-ти часов вовсе было воспрещено выходить из дому; на площадях поставлены караулы и на ночь был назначен повсеместный обыск; он начат был одновременно в разных частях города с наступлением одиннадцатого часа; войска были разделены по кварталам; на каждый дом полагалось нисколько человек рядовых с унтер-офицером. В обыске принимали участие одни гвардейцы и исполнили они эту тяжкую обязанность без шуму; по несколько человек входили в каждую квартиру, требовали огня, осматривали всех наличных жильцов, заглядывали под кровати, за печи, за шкафы, во все чуланы и чердаки. Так как нельзя было отметить квартиры, занимаемые русскими, то ко многим из них заходили солдаты; офицеры за всем наблюдали и где делалось известным, что живет русский или служащий и военный, то воспрещено было их тревожить; обыска не избежали и мужские монастыри; но все было тщетно: взято было несколько лиц, схожих с приметами преступника, но по предъявлении их Домейко и слуге его они никого не признали.
В это время, когда, казалось, никакой не было надежды открыть даже следы преступника, сделаны были двумя лицами весьма важные раскрытия; оба доносчика были из шайки кинжальщиков, только что сформировавшейся в Вильне и распространяемой по всему краю с целью политических убийств. Первый был некто Мирошников, молодой человек, православный и русский, сын солдата; но мать его была полька, и он был воспитан в кругу поляков; кутила и сорви-голова, он уже был однажды арестован по какому-то подозрению, а в то самое время, когда случилось покушение на жизнь Домейко, где-то проговорился, хвастаясь. При допросах он сознался, что их, кинжальщиков, более десяти человек; но что из них он знает лишь немногих; из названных им 4-х лиц трое оказались бежавшими и никогда не были схвачены; один лишь В.97 в то же самое время заявил желание сделать указания, которые и послужили к обнаружению всего этого адского общества; каждую ночь, а часто и днем, делались обыски. В первые же дни схвачены были два брата Ревковские, Яблонский и Сипович - все люди молодые, совершенные пролетарии, подрядившиеся за небольшое содержание на политические убийства по указанию революционного правительства; в случае удачи им обещались особые награды. Так, оказалось впоследствии, что убийце Домейко было обещано 1000 руб., хотя на самом деле ему выдали только 700 руб., полагая, что убийство уже совершилось. Все названные мною молодые люди были в высшей степени жалки, даже революционеры не могли их почтить своим уважением, как гнусных наемников. Все они были захвачены врасплох и хотя никто из них еще не совершил убийств, но при всех оказались кинжалы и все они сознались в получении денег в счет наград за преступления. Следствие было самое непродолжительное; суд совершен в два дня и все четверо были повешены. Сперва были казнены вместе два брата Ревковские, а дня через два Яблонский и Сипович.
Между тем бдительность полиции и жандармов не ослабевала, и 6-го августа на Виленской станции железной дороги дежурный жандармский офицер Собин заметил двух молодых людей, прибывших в вокзал с лишком за час до отправления поезда; едва приметное в них смущение при его взгляде заставило его обратить на них некоторое внимание; они все спешили взять билеты и несколько раз подходили к кассе, которая еще не отпиралась. В то время был уже учрежден по всей линии железной дороги осмотр паспортов и багажа, а у лиц сомнительных осматривались и вещи в дорожных мешках. Молодые эти люди предъявили заграничные паспорты для прописки и, получив контрамарки, потребовали в кассе билеты на Варшаву; это показалось Собину несколько подозрительным и, заметив их неловкость и смущение при расспросах о причинах такого отдаленного пути за границу, он приказал их арестовать. По-видимому, ожидание путешественников было самое мучительное и напряженное, так что один из них при этом не выдержал и с ним сделалось дурно.
Оба арестованные были предъявлены Домейко, и в одном из них, который был побойчее и поупрямее, найдено было что-то общее с преступником; но черный цвет волос и гладко выбритая борода и платье, казалось, не имели с ним ничего общего; через несколько же дней заметили, что у этого молодого человека волосы из черных делаются фиолетовыми, а концы стали переходить в рыжий цвет. Ему смыли голову; волосы его оказались перекрашенными; он снова был предъявлен своим жертвам и на этот раз несколько смутился, а через день во всем повинился.
Преступник был никто Беньковский, родом из Варшавы, цирюльник, с небольшим 20-ти лет; он нанялся еще в Варшаве совершать убийства и отличался стойкостью характера и предприимчивостью; из Варшавы он был послан в распоряжение Виленского исполнительного отдела вместе с сообщником своим Чаплинским (упавшим в обморок при арестовании); здесь ему обещали за убийство Домейко 1000 р., но так как его одели и некоторое время кормили, то сделали вычет и всего ему пришлось получить около 700 руб. Но не ему одному поручено было убить губернского предводителя, а также Чаплинскому и Марчевскому, которого они признали между арестованными уже кинжальщиками. Все они ходили изучать расположение квартиры Домейко, но почему-то не удалось им исполнить этого, пока более решительный Беньковский не приступил к делу.
Первые дни после покушения, Беньковский скрывался у разных лиц, переодеваясь даже в женское платье, раз как-то ночевал на кладбище и рассчитывал, что через несколько дней, когда строгие меры наблюдения поослабнут, - будет легче выбраться из города.
Для расследования шайки кинжальщиков, обнаружившей за собою иную, сильнейшую революционную организацию, была учреждена особая следственная комиссия под председательством генерала Соболевского; членами ее назначены были разные гвардейцы и между прочими Преображенского полка полковник Шелгунов.
Комиссия поместилась в здании давно уже упраздненного доминиканского монастыря, в одной небольшой комнате, и все главнейшие преступники, обвиняемые впоследствии как участники в революционной организации, были доставляемы в мрачную доминиканскую тюрьму, которая с этого времени сделалась страшилищем, тогда как до того времени важнейшие политические арестанты помещались в одном из крепостных казематов, № 14.
Люди возникают вместе с обстоятельствами, и это было время раздолья для разных ярых сыщиков. Сколько помню я таинственных фигур, являвшихся под вечер во дворец для передачи своих открытий; чиновники самого невысокого полета порывались прямо к генерал-губернатору, а производившие аресты по ночам тоже напускали на себя мрачный вид и старались долее сохранить следы ночных бессонниц. Вообще же записные доносчики мало оказывают пользы; ими можно пользоваться лишь для нападения на след преступления, когда у правительства нет никаких данных и поддержки в обществе; затем эти господа стараются запутать дело и усложнить его, и так как это большею частью люди с разными дурными наклонностями, то всегда кончается тем, что о них же возникает несколько следственных дел самого темного содержания. То же можно сказать и о евреях-лазутчиках при военных отрядах; по общим отзывам они эксплуатируют обе стороны, очень много хвастают о своих подвигах, а в результате очень мало оказывают услуг; во всяком случае этот народ гораздо лучше политических шпионов: эти последние негодяи и пользы от них почти никакой.
Все главнейшие открытия были сделаны гораздо позднее, когда учредилась бдительная и неусыпная полиция и образовалась правительственная [...].
IV
Лица, стоявшие во главе управления Сев.-Зап. краем ко времени прибытия в Вильну М. Н. Муравьева. — Виленский театр. — Туристы-англичане. — Францисканская тюрьма. — Андрей Ник. Муравьев. — Адрес дворян государю. — Адресы Муравьеву. — Обложение помещичьих имений процентным сбором. — Отъезд из Вильны некоторых русских чиновников. — Гвардия. — Высочайший рескрипт
В то время, когда генерал Муравьев прибыл в Вильну, во главе управления Северо-Западным краем стояли следующие лица:
Помощник командующего войсками округа, генерал-адъютант Фролов, некогда любимец фельдмаршала князя Паскевича. Генерал Фролов98 оставался в этой должности до января 1864 г., когда заменен был генерал-адъютантом Крыжановским, а сам назначен сенатором.
Виленскою губерниею управлял генерал-майор Галлер, бывший в течение нескольких лет дежурным штаб-офицером, управляющим политическим отделением и наконец некоторое время правителем канцелярии генерал-губернатора. Назначенный лишь с год до начала мятежи Гродненским губернатором, он незадолго до прибытия Муравьева был переведен в Вильну; но не прошло месяца, как он был уже уволен и на место его назначен г. Панютин, бывший в то время председателем Динабургской следственной комиссии.
Гродненским губернатором, как я сказал уже выше, одновременно с назначением гр. Муравьева в Вильну был назначен граф Бобринский; на место его назначен был вскоре начальник IV округа корпуса жандармов, бывший долгое время Ковенским жандармским штаб-офицером, генерал Скворцов; он скоро водворил спокойствие в Гродненской губернии и обратил особенное внимание на крестьянское дело. Гродненское губернское присутствие было передовое, и поверочные работы по Гродненской губернии были окончены прежде, чем в других губерниях.
Ковенская губерния, более остальных охваченная мятежом, к тому же самым упорным, долго оставалась как бы в междуцарствии. Прежний губернатор контр-адмирал Кригер был немедленно уволен и на место его назначен генерал-лейтенант Энгельгардт, вызванный из отставки по рекомендации генерал-адъютанта Муравьева-Карского. Отличный воин, генерал Энгельгардт не мог справиться с целою областью, объятою мятежом, проникнувшим во все слои общества, и не умел обращаться с административными мерами. Он сам это чувствовал и просил увольнения. Временно заведовать этой губернией назначен был сын начальника края Н. М. Муравьева, бывший губернатором в разных губерниях и из гражданского чина переименованный тогда в генерал-майоры; но с назначением его оставалось еще несколько правителей: два уезда, Вилькомирский и Поневежский, составили военный отдел под начальством генерала Пахомова; в Шавельском и Тельшевском начальствовал генерал Майдель, а впоследствии командующим войсками в остальных уездах губернии назначен князь Яшвиль, водворивший к августу месяцу 1863 г. порядок в Могилевской губернии. Такое сложное управление более вредило делу, и по истреблении всех шаек и по взятии знаменитого ксендза Мацкевича к концу года вся власть сосредоточилась в руках губернатора.
В Минскую губернию, независимо от гражданского губернатора Кожевникова, назначен был военным губернатором и командующим войсками с большим полномочием генерал-лейтенант Заболоцкий99. Должность его была упразднена лишь весной 1864 г., и тогда он перешел на службу в Варшаву.
Витебская и Могилевская губернии были подчинены начальнику Северо-Западного края лишь при назначении на эту должность генерала Муравьева и объявлены на военном положении. В первую был послан еще до того времени генерал Длотовский, по случаю возникших близ Динабурга беспорядков, а потому он же и был назначен командующим войсками в губернии. Местопребыванием его был Динабург. В Витебске оставался гражданский губернатор Оголин. По замещении в августе 1863 г. г. Оголина генералом Веревкиным Витебская губерния разделена на 2 военные отдела. Ему подчинен был 2-й отдел, т.е. восточная половина губернии, с г. Витебском, а на место генерала Длотовского, немного лишь позднее, назначен генерал Ковалевский военным начальником 1 отдела и ему же подчинены ближайшие к Динабургу уезды: Дисненский - Виленской губернии и Новоалександровский - Ковенской 100. Из этого возникла впоследствии мысль об образовании особой Динабургской губернии; от министерства был даже прислан особый чиновник для составления соображений; но дело было отложено до окончания крестьянской реформы, так как с образованием новой губернии приходилось несколько изменить всю карту Северо-Западных губерний и прирезать часть Курляндии.
В Могилевской губернии начальствовал А. П. Беклемишев, оставшийся там до 1806 г., но по случаю возникших в губернии беспорядков и с объявлением в ней военного положения назначен был временно командующим войсками князь Яшвиль. Мятеж Могилевской губернии в неделю был усмирен крестьянами при помощи полиции и кой-каких солдатиков; поэтому, согласно с представлением князя Яшвиля, туда не были даже назначены военно-уездные начальники, и исправники исполняли их обязанности. Князь Яшвиль ходатайствовал у начальника края о снятии военного положения с Гомельского уезда, где даже не было допущено проявлений мятежа, и на это последовало согласие101. Сам же князь Яшвиль был осенью переведен в Ковенскую губернию, и затем в Могилевской губернии все шло почти обыкновенным порядком (см. Описание мятежа Могилевской губернии, составл. Василием Федоровичем Ратчем («Вестник Западной России», изд. 1865 г.)) 102.
Главным правителем дел, т.е. постоянным докладчиком всех поступавших бумаг, экстренным распорядителем по всем делам, передатчиком текущих приказаний всем должностным лицам и заведующим личным составом был ген.-м. Лошкарев, занимавший в то же время должность директора Константиновского межевого института в Москве и командированный Министерством юстиции в распоряжение генерала Муравьева на время усмирения мятежа. Он жил во дворце наверху, постоянно был требуем генерал-губернатором и положительно целый день был занят. На всех доложенных им бумагах он писал резолюции начальника края, и отмечал место, куда должна поступить бумага. Эти доклады служили высшим контролем по всем частям управления и при необыкновенной памяти Михаила Николаевича были причиной того, что бумаги не залеживались в канцеляриях.
Правителем особенной канцелярии, как я уже выше сказал, под непосредственным заведыванием г. Лошкарева, был камер-юнкер Рачинский...
Один из главнейших деятелей, подполковник Черевин, прибыл в Вильну, по приглашению генерал-губернатора, с Кавказа, в конце июля месяца 1863 г., в мундире Севастопольского пехотного полка, с которым он там отличался. Первое время деятельность его была весьма ограниченная: раз только ему было дано поручение в Вилькомирский и Поневежский уезды для разъяснения местных недоразумений. При веселом нраве, соединенном с самым пленительным остроумием и находчивостью, он сделался душою небольшого кружка состоящих при генерал-губернаторе, но в ноябре месяце, когда генерал Лошкарев должен был возвратиться к своему месту, должность его была поручена Черевину. Все сначала были изумлены, так как никто еще, кроме самого генерал-губернатора, не знал серьезных свойств веселого товарища. Исполняя важную свою должность до 1865 г., он всегда оставался неизменным при самых трудных обстоятельствах, делал много добра, сдерживал своим влиянием разные увлечения и порывы служащих и всегда был удивительно скромен. Он имел несомненно некоторое влияние не только на ход дел, но и на самого генерал-губернатора, который любил всегда иметь его близ себя и советоваться с ним: совершенно независимого характера, он смело и с достоинством высказывал свое мнение, и хотя начальник края не всегда следовал его указаниям, тем не менее выслушивал их и ценил.
Не выказывая без нужды своих знаний, он обладал однако познаниями и понятиями всегда точными, ясными и определительными. Истинное наслаждение говорить о таком человеке.
Правителем общей штатной канцелярии был д. с. с. Туманов, служивший прежде по учебной части103. Чиновники этой канцелярии были еще по большей части поляки и лишь постепенно замещались русскими, и то более с 1864 года. Они составляли особый мир и редко являлись во дворец.
В настоящих очерках мне неудобно представить полную характеристику главнейших из действовавших в то время лиц; но скажу только, что при замечательном разнообразии характеров и наклонностей, все мы были одушевлены как бы одним духом и стремились к одной цели. Это направление сообщалось и всем служащим в крае в самых отдаленных пунктах. Ежедневные приемы генерал-губернатора и доступность его всем служащим, а равно и наша Особенная канцелярия много способствовали этому объединению. До приемов и после того все представляющиеся должностные лица и более или менее нам известные заходили в нашу канцелярию, которая, как я уже сказал, была рядом с приемною. То, что не было договорено генерал-губернатором, здесь пояснялось, здесь каждый мог понять господствовавшие мысли и применять к ним свою деятельность, сюда стекались все сведения, все лица, словом сказать, это был маленький foyer104.
Тут же составлялись ответы на депеши, шифровались и расшифровывались секретные телеграммы.
Кроме этого кружка ближайших сотрудников начальника края постепенно стал увеличиваться кружок мировых деятелей. К сожалению, Маков, заведовавший первоначально этим делом, по семейным обстоятельствам вынужден был в сентябре 1863 г. покинуть Вильну, и занятия его перешли к помощнику его, г. Левшину, только что вернувшемуся из Минской губернии, куда он был послан для образования поверочных комиссий и для наблюдения за началом их занятий.
К осени число прибывающих на должности по крестьянскому делу увеличилось; ни одного поляка не оставалось уже на местах по этому роду службы; и при этом обнаружилось, что во многих местах крестьянам даже не было растолковано прежними местными посредниками из поляков положение и они оставались как бы в крепостном состоянии. Все новоприбывающие деятели были по большей части мировыми посредниками у себя дома, что уже служило некоторым ручательством; иные, лично известные генерал-губернатору или другим лицам, были приглашаемы прямо на известные должности; по большой части это все были люди порядочные, многие из хороших фамилий и даже со средствами; надо заметить, что больше всего посредников прибыло из Смоленской губернии, из числа тамошних небогатых помещиков, для которых прибавка 500 руб. к содержанию по близости Северо-Западного края имела значение, и оттуда шли лучшие люди.
Все эти господа соединялись ежедневно в Европейской гостинице, где собирались также и офицеры Преображенского полка и все приезжающие и путешественники, которых к осени много появилось. Собрания были в высшей степени оживленные и интересные, — все русские люди из разных дальних стран собрались в крае, мало известном в остальной России и, конечно, это тоже немало служило к разъяснению взглядов наших на польский вопрос и преимущественно в Северо-Западном крае.
К осени приехало остальное семейство начальника края, многие из служащих выписали тоже своих жен и дочерей, ко многим стали приезжать знакомые, и пошли гулянья и пикники. В загородных домах устраивали завтраки, а после того танцевали до вечера; вообще Вильна в то время оживилась; театр был в полном ходу. Генерал-губернатор, понимая всю важность общественных зрелищ, с самого начала обратил на них серьезное внимание; при открытии театра на нем играли лишь польские пьесы - и только иногда в конце представления давали плохенький русский водевильчик, или неважную сцену, вроде: «Запечатанного Ицка»; да и актеры, из коих многие отличались истинным талантом, были все поляки; но в скором времени мало по малу русские пьесы на Виленском театре стали появляться все чаще, и к ядру польского состава труппы стали прибавляться русские наезжие актеры; польские же актеры окончательно выучились говорить по-русски, и театр сделался так хорош, что многие русские пьесы были разыгрываемы даже не хуже, чем в Петербурге в Александрийском театре.
Около этого же времени стали посещать Вильну разные туристы-англичане: первый из них, г. Дей, прибыл еще в конце июля; но так как он не знал ни по-русски, ни по-французски, то его мало заметили; между тем он собрал все нужные сведения и напечатал ряд замечательных статей по польскому вопросу в «Daily News», которые были переведены в то время на русский язык и обратили на себя общее внимание. Англичанин подробно описал генерала Муравьева, отдавая справедливость всем его мерам и даже несколько восторгался его умом и энергией. Г Дей этим не удовольствовался и приехал еще через год, когда о нем уж забыли, и стал настойчиво требовать разных данных для книги, которую он составлял; просил дать ему выписку из дела о кинжальщиках и предъявил другие требования. Генерал-губернатор принял его очень ласково, приказал снова показать ему все тюрьмы, приюты, окрестности и т.п., но вместе с тем отстранил весьма искусно и его притязания.
Вслед за ним приехал более серьезный посетитель, некто г. О’Брейн, с товарищем вроде секретаря. О’Брейн отличался высшим образованием, имел какое-то официальное положение и довольно хорошо говорил по-французски; приглашенный к обеду к начальнику края, он вообще остался в восторге от его приема; ему также был открыт доступ во все тюрьмы; он посетил и следственную комиссию, и ему разрешено было присутствовать при допросах; так как я обыкновенно был назначаем в спутники этим господам, то вместе с г. О’Брейном посетил между прочими тюрьмами и тюрьму францисканскую.
В глубине двора, за костелом, ныне закрытым, находится это большое четырехугольное здание в два этажа, составлявшее прежде жилище францисканов. Вокруг него идут по наружной стене широкие чистые коридоры, а все кельи, высокие и сухие, обращены окнами на внутренний двор, на котором устроен цветник и посажено нисколько тополей. В цветнике этом гуляли некоторые арестанты и между прочими мне указали на богатого помещика Александра Оскерко, оказавшегося впоследствии одним из главных сотрудников Огрызко; уже сосланный в Уфу, он был вытребован оттуда обратно и по приговору суда отправлен впоследствии на 20 лет в каторжную работу. Полковник Петр Семенов. Лебедев (бывший редактор «Русского инвалида»), имевший высшее наблюдение за всеми тюрьмами в Вильне, как бы угощая иностранца этою образцовою тюрьмою, берег для нас еще один сюрприз. После обзора некоторых арестантских мы были приведены в комнату, где содержалась богатая виленская помещица Матильда Бучинская, урожденная Гинтер. Высокого роста, величественная, уже пожилая, г-жа Бучинская приняла нас весьма любезно, как великосветская женщина принимает в своей гостиной. Она поразила нас своим умом, познаниями и живостью. В какие-нибудь десять минут речь зашла даже о Данте; она говорила, что вовсе не сетует, а благодарит судьбу за это небольшое испытание, так она до сих пор не знала в жизни превратностей и теперь только в этом уединении лучше научилась понимать некоторые вещи и думать о том, на что прежде не обращала внимания. У постели ее висел на стене ковер, на столике перед диваном стояли следы домашнего обеда, на окне в горшке под стеклом она вырощала какую-то травку. Г-жа Бучинская содержалась не как подсудимая, но в виде административно -го взыскания за прежние ее подвиги и руковождения в демонстрациях всякого рода; а месяца через три она отправлена была в Нижегородскую губернию. Вообще содержание в францисканской тюрьме считалось самым легким по сравнению с остальными тюрьмами. Прощаясь с англичанином, она смеясь сказала ему: «Итак передайте в вашем отечестве, что вы видели в виленских тюрьмах женщину веселую и совершенно довольную своим положением», а мне она выразила надежду увидеться где-нибудь со временем при более счастливых обстоятельствах.
Г О’Брейн тоже написал несколько статей о Вильне и Варшаве в «Evening Star», отличавшихся впрочем большею сдержанностью, чем сочинения Дея.
Были еще другие приезжие, менее важные; между ними я помню только одного молодого человека хорошей фамилии, готовившегося в парламент, который вместе со своим воспитателем путешествовал по Европе и только что прибыл из Норвегии. Я катался с ним по окрестностям и при виде полного месяца, ярко осветившего реку Вилейку, окруженную густыми рощами с поблекшими листьями, он оживился, стал декламировать Байрона, прочел мне даже какие-то свои стихи.
Около того же времени проследовал через Вильну в Варшаву с многочисленною свитою сенатор Николай Алексеевич Милютин, предназначавшийся для преобразования управления Царства Польского.
Вместе со всеми своими спутниками он остановился в Европейской гостинице, где они заняли пол-этажа. Все утро он провел у начальника края; а на общий прием прибыли будущие его сотрудники.
Таким образом в этот день прием был самый замечательный. Тут были: князь В. А. Черкасский (впоследствии министр внутренних дел в Царстве), Юрий Федор. Самарин, (известный писатель), тайный советник Петерсон, г. Протопопов (директор департамента в Министерстве государственных имуществ) и еще человек десять; для полноты же картины был один изящный чиновник в виц-мундире Министерства иностранных дел, как говорили, для переводов с польского языка.
Генерал-губернатор пригласил всех этих будущих деятелей в свой кабинет и долго с ними беседовал. В тот же день они были приглашены во дворец к обеду. Все это укрепило впоследствии связь между начальником Северо-Западного края и управлением Царства Польского. Сенатор Милютин во время частых поездок своих в Варшаву почти всегда останавливался в Вильне для свидания с генерал-губернатором.
В октябре же месяце, в конце, посетил Вильну брат начальника края, известный писатель Андрей Николаевич Муравьев. Он осмотрел все православные памятники древней Вильны и между прочим был поражен величием одного заброшенного здания, носившего в то время скромное название «Спасских казарм». Судьба этого некогда соборного храма в высшей степени замечательна. Построенный в XV столетии на берегу реки Вилейки, в самом центре древнего города, храм этот был освящен московским митрополитом Алексеем во имя Пречистыя Богородицы, и полтора столетия служил митрополиею Литвы. Всепоглощающая уния обратила его в свое достояние. Мало-помалу собор этот тесно вокруг застраивался, город расширялся в другую сторону, и он потерял всякое значение, а после пожара, в прошлом столетии, был вовсе заброшен и считался лишь в духовном униатском ведомстве. Князь Чарторыйский во время знаменитого своего управления Виленским учебным округом испросил высочайшее повеление на передачу этого ненужного здания в ведение университета для устройства ветеринарной школы и анатомического театра. За упразднением университета и помянутых учреждений здание поступило в заведывание городской думы и некоторое время отдавалось под постой войск. За устройством же более удобных казарм сделалось складом городского имущества; перегороженные внутри части его розданы в наймы бедным ремесленникам. В одной части его поместился экипажный сарай, а в главном алтаре устроена кузница. Я сам застал его в этом печальном виде105. Впоследствии, когда по настояниям Андр. Ник. Муравьева, несмотря на большое противодействие разных высших лиц и даже на опасения его брата за громадность издержек, здание это было несколько пообчищено и внутри его разломаны перегородки, то я увидал внутренность чудесного православного храма с 4-мя большими посредине столбами, некогда поддерживавшими купол. В стене же у алтаря были видны следы древнего иконостаса с византийскими дверями. Три полукруглые выступа для алтарей еще прежде наводили многих на мысль о древнем величии храма. Теперь (1867 г.) собор Пречистыя возобновляется и этим он конечно обязан усердному вмешательству в это дело Андрея Николаевича Муравьева и его брату, вскоре убедившемуся в значении этого памятника.
Последствием посещения Андрея Николаевича Муравьева было издание брошюры: «Русская Вильна», в которой красноречиво описаны все памятники древнего православия в этом городе. Книжка эта разошлась в большом числе экземпляров и переведена была на французский язык графом Ожаровским.
С обессилением мятежа, повсеместным почти уничтожением шаек и водворением строгого и бдительного военно-полицейского управления необходимо было дать остававшимся мятежникам возможность положить оружие, тем более что с наступлением осеннего времени им становилось почти невозможно держаться в лесах, а крестьяне отказывались их продовольствовать, так что они вынуждены были почти с бою доставать себе пропитание. С этою целью 26-го августа циркуляром начальника края, повсеместно распубликованным, было объявлено всемилостивейшее прощение всем тем, которые явятся из мятежа добровольно к начальству и представят оружие. Начальники шаек первое время удерживали нерешительных страхом, но за удвоением строгих мер и за исполнением в 24 часа нескольких приговоров над взятыми в плен предводителями скитавшихся по краю бродячих шаек энергия их пропала и мятежники стали сотнями являться к начальству. От них отбирались показания и оружие и если на них не падало подозрений в совершении особо важных преступлений или злодеяний, они водворялись на прежнем месте жительства, с согласия обществ и по приведении к присяге. Первая очистительная присяга, принесенная несколькими шляхтичами и одним ксендзом в Вильне, была обставлена возможною торжественностью: прелат Немекша совершал литургию в Свято-Янском костеле и на ней присутствовали высшие должностные лица. Некоторые из заблудших были потрясены до слез106. Добровольно возвратившихся из мятежа было водворено в крае свыше 3000 человек; сверх того до 300 человек не были приняты обществами своими на поручительство и отправлены поэтому на водворение в сибирские губернии, административным порядком.
За возвращением столь значительного числа лиц из мятежа не представлялось уже основания щадить упорных фанатиков, державших страну под влиянием террора и совершавших ежедневно жестокие истязания над мирными жителями. Тогда-то шайки эти получили известное название жандармов-вешателей. Главнейшею их целью было продержаться как-нибудь до весны, так как они надеялись на присоединение к ним снова большого числа мятежников, которые могли бы отдохнуть зимою и запастись оружием. Тем временем и тайная революционная организация напрягала все свои силы, чтобы сохранить за собою господство в крае. Во главе ее стал человек необыкновенно предприимчивый и энергический - некто Калиновский, долго ускользавший от преследования.
Вместе с тем и правительство удвоило свои усилия, так как необходимо было за один раз покончить с мятежом и не допустить ни в каком случае возможности возобновления его с весны. Независимо от преследований и истреблений жандармов-вешателей, открытия некоторых агентов организации и совершения над ними казни учреждена была уже повсеместно сельская стража; в больших лесах велено было в кратчайший срок прорубить просеки, что значительно способствовало к их очищению. Поверочные комиссии продолжали свои поздно начавшиеся работы до тех пор, пока земля не покрылась снегом и сделалось невозможным распознавать ее достоинство.
По примеру виленского дворянства - и от других губерний стали прибывать депутации107 с представлением всеподданнейших адресов. Словом сказать, правительственная власть на всех пунктах росла, все сословия к ней приставали и, хотя число недовольных не уменьшалось, но явно они не могли делать вреда. Ковенское дворянство представило адрес за 500-ми подписями 26-го августа, затем гродненское - в половине сентября; в конце сентября и минское вместе с новым предводителем дворянства Прошинским, человеком замечательной честности, силы воли и ума. Решаясь на составление адреса, он написал окружное послание на белорусском языке с выражением своих убеждений. Он высказывал в нем уверенность в исторической необходимости слияния западных губерний с Россией, но в то же время необходимость этого слияния он доказывал мыслью о панславизме. Мысль эта пустила было корни в Минской губернии, так как в ней заключалась известная уловка поляков, которые на все согласны лишь бы не быть и не называться русскими. Адресы от губерний Витебской и Могилевской несколько запоздали; особенно последний, который был представлен чуть ли не в ноябре; это происходило от пассивного противодействия и уклончивости тамошнего губернского предводителя князя Любомирского, человека скрытного и осторожного.
Для соглашений по адресу, особенно же для устранения неудовольствий, возникших в среде значительных русских помещиков Могилевской губернии, желавших подать особый от поляков адрес, был послан в Могилев незадолго перед тем прибывший из С.-Петербурга генерал Чевати, хорошо знавший с давнего времени край. В пространном донесении своем о положении дел в Могилевской губернии он с замечательным умом обрисовал личность и деятельность князя Любо-мирского и, объехав губернии Витебскую и Минскую, содействовал успешному составлению адресов.
Генерал-губернатор, принимая могилевское дворянство, выразил сожаление, что губерния эта так поздно приступила к настоящему заявлению и что от нее, как от коренной русской губернии, можно было ожидать большего сочувствия делу обрусения края. Будучи в 1829 г. могилевским губернатором, Михаил Николаевич Муравьев хорошо знал многих тамошних старожилов и изумил представлявшихся свежестью своей памяти и необыкновенно подробными расспросами о разных знакомых ему местах и лицах. В числе депутатов половина была из русских. Кн. Любомирский был сухо принят и ему воспрещено было возвращаться в Могилев. Затем он выхлопотал себе разрешение ехать в Ригу, а оттуда впоследствии в Петербург. О нем производилось несколько следственных дел; но по всем этим делам он был оставлен лишь в подозрении. На место его назначен губернским предводителем гомельский уездный предводитель Крушевский, женатый на русской.
Еще долго после представления дворянами шести губерний адресов поступали от губернских предводителей дополнительные листы с подписями, собранными по уездам; таким образом число подписавшихся под адресами дворян доходило впоследствии до 12 000. Вместе с представлением на высочайшее воззрение дворянских адресов испрашивались награды губернским предводителям (кроме Любомирского), некоторым из членов депутаций и даже самим губернаторам. В ответных бумагах вместе с монаршею благодарностью всегда выражалась уверенность, что дворянство не на словах, а на деле выкажет свою преданность Государю и Отечеству.
Вместе с тем стали отовсюду прибывать разные депутации с адресами от разных еврейских и городских обществ; крестьяне, по мере освобождения от полевых работ, тоже присылали депутатов поблагодарить Муравлева (как его называли в народе) за его защиту и благодеяния. Для покрытия чрезвычайных расходов, вызванных усмирением мятежа, все помещичьи имения Северо-Западного края были обложены 10% сбором с их доходов; сбор этот, однако, был понижен с лиц немецкого происхождения до 3%, а с русских до 11/2% и составил в общей сложности в первый год до 2 600 000 р. Когда некоторые из русских землевладельцев, приводя на вид свое расстроенное от мятежа положение, жаловались на контрибуционный сбор, для них будто бы оскорбительный, начальник края постоянно отвечал им, что сбор этот с них собственно не имеет вовсе вида контрибуции, а есть скорее приглашение способствовать правительству в общем деле, что доказывается самою его незначительностью в сравнении со сбором десятипроцентным; вместе с тем им представлялось на вид, что для них более, чем для других, правительство вынуждено было делать чрезвычайные расходы, так как в случае удачного исхода мятежа и отпадения северо-западных губерний от России, польское революционное правительство, конечно, прежде всего распорядилось бы отобранием не только их доходов, но и самых имений, и что поэтому со стороны русских помещиков Северо-Западного края можно бы ожидать большего содействия.
Когда М. Н. Муравьев был назначен в Вильну, ему предстояло лишь усмирить мятеж и водворить спокойствие в крае; затем ему и были даны чрезвычайные полномочия. Он не располагал оставаться долго в Литве и ехал собственно, чтоб гасить пожар; с этою целью были приглашены и все его сотрудники и было сделано распоряжение, чтобы чиновники, командируемые от министерств в его распоряжение, сохраняли свои места и содержание, считались бы в командировке; а для доставления им преимуществ на это время в распоряжение генерал-губернатора назначена из государственного казначейства на первый раз стотысячная сумма для выдачи чиновникам прогонов и подъемных, добавочного содержания и на прочие экстренные расходы по мятежу и на командировки.
Поэтому все ближайшие из состоявших при генерал-губернаторе лиц тоже располагали лишь на короткое время поехать в Вильну, поработать, схватить отличий и вернуться в Петербург; никто из них не устраивался, не покупал мебели, жили как на биваках. Семейство генерал-губернатора тоже поговаривало постоянно о скором возвращении в Петербург; некоторые чиновники, более других дорожившие своими местами и требуемые своими начальствами, видя продолжительность командировки, возвратились к своим должностям. (Я не говорю о тех, которые получили в Северо-Западном крае штатные места). Наконец, гвардия тоже мало-помалу выступала из края; гвардейской кавалерии в ноябре 1863 г. уже вовсе не было и только от лейб-атаманского полка оставлен генерал-губернатору конвой из одного офицера и 20-ти казаков. 1-й гвардейский стрелковый батальон прошел в Рижский округ. Лейб-казаки тоже прошли почему-то в Ригу и только в Ковенской губернии оставались до января 1864 года отличавшиеся там стрелки императорской фамилии. Поздние других должен был вернуться Преображенский полк, прибывший в октябре из августовской экспедиции. Один из офицеров этого полка, Г. Оболенский, написал среди боевых биваков военный марш или гимн в честь М. Н. Муравьева. По этому случаю приглашены были однажды вечером во дворец все офицеры Преображенского полка и в большой зале двумя полковыми оркестрами и двумя хорами - военных и митрополичьих певчих - был исполнен в присутствии многочисленного собрания гимн Г. Оболенского под дирекцию самого композитора. Волнение его, когда он сошел с устроенной для него эстрады, было необыкновенное; генерал-губернатор обнял его и благодарил. Приветствия сыпались ему со всех сторон. Затем разносили фрукты и вино, протанцевали две кадрили и в полночь все разъехались. Это был первый и единственный вечер в доме генерал-губернатора до 1865 года. Перед выступлением полка был снова смотр на дворцовом дворе и по окончании молебствия вызваны были под знамена 72 наиболее отличившихся унтер-офицера и рядовых, а сам начальник края при звуках музыки и неумолкаемом «ура» надел на них георгиевские кресты. Энтузиазм войска был неописанный.
Вслед за отправлением полка мы считали пребывание свое в Вильне приближающимся к концу. Генерал-губернатор послал Государю Императору донесение с описанием заслуг гвардии, с изображением состояния края, и указывая лишь на незначительные бродяжничьи шайки, упорно державшиеся в обширных лесах Ковенской губернии, просил, по исполнении возложенного на него поручения, уволить его от управления краем, тем более, что здоровье его от усиленной деятельности слабеет, а устройство края на новых началах потребует новых усилий, для которых нужен другой человек.
На письмо это Государь Император рескриптом от 9-го ноября 1863 г. в самых лестных для подданного выражениях отдавал справедливость его заслугам и просил для пользы Отечества продолжать управление краем доколе силы его это дозволят.
Ободренный высочайшим рескриптом, начальник края приступил с этой минуты к новой деятельности по устройству края; с этого времени меры, им принимаемые, носят на себе отпечаток прочности и вытесняют меры временные; с этого времени поднято и частью разрешено множество вопросов по всем отраслям гражданского управления и политического устройства края; с этого же времени самая деятельность его получила значенье не простого усмирения мятежа, а русского народного дела. Православие и русская народность сделались лозунгом нашим, и генерал-губернатор умел придать всем последующим своим действиям этот оттенок, но так как все отдельные меры получили более определительности после поездки его в конце апреля в Петербург, то с того времени и мы будем считать второй период его деятельности и согласно тому разделится это сочинение на две части.
V
Выражения М. Н. Муравьеву сочувствия русских в день его именин — Распределение занятий Муравьева по управлению Северо-Западным краем. — Положение дел в Ковенской губернии. — Ксендз Мацкевич. — Конфискации. — Возрождение сельского населения в Северо-Западном крае
8-го ноября 1863 г., день именин начальника края, был, конечно, одним из торжественнейших дней его жизни. В этот день ясно и осязательно высказалось общее к нему сочувствие не только всех служащих в Северо-Западном крае русских, но и целой России. Пользуясь этим случаем, петербургское общество по подписке приготовило к этому дню великолепный чеканенный образ Архистратига Михаила с надписью на нем напутственных слов митрополита московского Филарета: «Твое имя - победа», и при кратком, но знаменательном письме за 80-ю подписями, во главе которых стояло имя графа Дмитрия Николаевича Блудова и его дочери и красовались имена: графов Строгановых, графини Протасовой, князей Барятинских и иных, препроводило икону в Вильну с камер-юнкером Шевичем, отправлявшимся в имения свои Минской губернии. Г. Шевич прибыл во дворец во время общего приема, на который не только собрались все военные и гражданские, но многие прибыли из отдаленных мест края, и в том числе почти все губернские предводители. Из Петербурга и из всех концов
России сыпались горячие пожелания и приветствия в виде телеграмм. Канцелярия едва успевала приготовлять краткие на них ответы. Всех депеш в этот день было более 80-ти. К этому же дню служащие в Вильне русские люди составили подписку на несколько тысяч рублей и, представляя их при письме генерал-губернатору, просили его употребить эти деньги на возобновление в Вильне одной из древнейших православных церквей во имя Св. Николая, стоящей в центре города и основанной в ХIII столетии знаменитым ревнителем православия в Западной Руси князем Константином Острожским. Подписавшие письмо просили в нем, чтобы к этой церкви пристроена была часовня во имя архистратига Михаила.
Из глубин уездов Гродненской губернии прибыли к этому дню крестьянские депутации с богатыми по их средствам иконами. Во всех этих заявлениях не было ничего приторного или чиновнического; заслуги человека, к которому все это относилось, слишком были очевидны для края, чтоб не быть почтены заявлением, выходящим из ряда обыкновенных.
Когда начальник края, видимо тронутый общим приветствием, удалился в церковь, то все хлынули туда за ним. Большая церковь не могла вместить в себе и половины тут бывших; многие слушали литургию даже из третьей комнаты.
У генерал-губернатора был в этот вечер обед, а в Европейской гостинице, неожиданно для всех обедавших, подано было за жарким шампанское содержателем гостиницы и все гости были усердно им угощаемы.
Утомленный утренними заявлениями и видимо потрясенный, генерал-губернатор к вечеру занемог и на следующий день не делал приема, хотя продолжал заниматься также неутомимо, впрочем здоровье его вскоре поправилось.
Распределение его занятий было достойно внимания; конечно, не много на свете людей, которые могли бы посвятить в течение нескольких лет столько же часов в день усиленной и внимательной работе, сколько посвящал ей ген. Муравьев. Внимание было отличительною чертою в занятиях Михаила Николаевича. Он как бы увлекался всяким делом, которым был занят в данную минуту, но это увлечение, ни на миг не ослабевающее, было не что иное, как изумительная энергия и сила мысли, выработанные в течение долголетней деятельной жизни и согретые высоким патриотизмом.
День его начинался довольно рано. В 8-м часу он подымался снизу (где пил кофе) в свой кабинет и в то же время посылал за генералом Лошкаревым, а впоследствии за полковником Черевиным. Утром докладывались бумаги, полученные из Петербурга в течение ночи, диктовались ответы на телеграммы, назначалось за кем послать и отдавались другие текущие приказания. После того принимаем был комендант с рапортом о числе арестантов, засим губернский почтмейстер, д. с. с. Россильон. Он читал выдержки из иностранных газет и надо заметить, что генерал-губернатор часто позволял пропускать такие статьи, какие вымарывались в Петербурге, - так мало он придавал значения западным ругательствам. Барон Россильон приносил также список всех писем, полученных в это утро, в алфавитном порядке, и если какое-нибудь имя было подозрительно, то письма вскрывались. После губернского почтмейстера генерал-губернатор выслушивал доклады по следственным делам и подписывал по ним решения; в первое время докладывал все следственные дела г. Неелов, но, с учреждением в октябре 1863 г. при штабе Виленского военного округа временного полевого аудиториата, он был назначен обер-аудитором и докладывал, по утрам же, дела военно-судные, а дела следственные перешли к г-ну Яковлеву, бывшему делопроизводителю динабургской следственной комиссии, около того же времени упраздненной. Оба они были примерные, честные и неутомимые труженики; через руки их прошли тысячи дел и все были рассматриваемы с одинаковою тщательностью. Г. Яковлев со своими чиновниками и писарями помещался также в особой канцелярии, занимая отдельную часть ее, пока не получил управление политическим отделением. Часов в 11 являлся полицмейстер с рапортом и докладывал; затем виленский губернатор, а в приемной уже собирались представляющиеся и должностные лица, почти ежедневно появлявшиеся к этому времени, как то: попечитель Виленского учебного округа Иван Петрович Корнилов, начальник полицейского управления С.-Петербурго-Варшавской железной дороги полковник Житков, заведующий тюрьмами полковник Петр Семенович Лебедев, а впоследствии полковник Бушен, военный начальник виленского уезда князь Хованский, командующий войсками в губернии (сперва генерал Дрентельн, по уходе гвардии - князь Яшвиль, а по смерти его, с февраля 1864 г., - генерал Криденер), все чиновники особых поручений, адъютанты и разные другие лица. Иногда в это же время посещал генерал-губернатора митрополит Иосиф. Начальник края выходил встречать его в первой зале, а провожал до дверей прихожей. Архипастырь едва уже двигался, но каждое посещение его продолжалось не менее получаса.
После приема, который мною был уже описан и на котором почти никогда не было дам, начальник края принимал отдельно попечителя округа, разных приезжих, которых просил обождать, и других из экстренных посетителей; нередко беседовал он о делах церкви с священником Антонием Пчелкою и с католическим прелатом Немекшею, всецело руководившим делами Виленской епархии. Начиная со 2-го часу докладывал правитель канцелярии г. Туманов свой нескончаемый доклад, постоянно прерываемый депешами и другими экстренными делами; г. Туманов жаловался, что никак не может доложить всех своих бумаг и часто дожидался доклада по нескольку часов сряду. В 4-м часу приезжал начальник окружного штаба, генерал Циммерман, и доклад его длился до обеда.
В 5 часов семейство генерал-губернатора, несколько приближенных, дежурный адъютант и ординарец собирались в столовую; большею частью было человека два, три приглашенных, из высших должностных лиц или приезжих. Вообще приглашение к обеду в дом генерал-губернатора делалось редко и считалось между служащими за особенную честь.
Отдохнув после обеда около часу, в конце восьмого, Михаил Николаевич снова приступал к занятиям. Полковник Черевин докладывал все поступившие на имя начальника края бумаги от губернаторов, командующих войсками, военных начальников, соседних губернаторов и генерал-губернаторов, епархиальных архиереев и прочих, разные просьбы и докладные записки служащих. Иногда количество бумаг, всегда значительное, доходило до ста в день. Многие требовали серьезного обсуждения, некоторые немедленного решения, и лишь малую часть составляли текущие донесения, которым впрочем придавалось всегда значение. Я не говорю о серьезных проектах, поступавших на просмотр и заключение начальника края из Петербурга, и прочих важных делах. Вечером число докладчиков было еще более. Вечером они теснились в дежурной комнате и ожидавшим разносили чай. Тут были полицмейстер, правитель особой канцелярии, управляющий политическим отделением, управляющий комиссией по крестьянским делам, иногда снова правитель общей канцелярии, председатель особой следственной комиссии, чиновники, получившие особые приказания с докладом об их исполнении, князь Шаховской с корректурой «Виленского вестника» и с проектами реформ по театру, генерал Соболевский (всегда заполночь) с передовой статьей «Московских ведомостей» и иные менее важные докладчики. Все это делалось быстро, но иногда и в 2 часа ночи некоторым приходилось возвращаться без доклада. О каждом посетителе докладывал предварительно адъютант, в дежурной же комнате постоянно находился и дежурный ординарец из молодых офицеров гвардии или полков Виленского округа для посылок или замены адъютантов во время отлучек.
В первый год пребывания нашего в Вильне занятия оканчивались всегда около 2-х часов ночи, пока доктор не входил в кабинет и не замечал, что уже спать пора; тогда отворялись из дежурной комнаты в кабинет генерал-губернатора две маленькие двери и несколько человек приближенных входили в него; генерал-губернатор докуривал трубку, иногда шутил, спрашивал о погоде, о том, что делалось сегодня в городе, и через минуту или две прощался и уходил к себе.
Все мною описанное шло как по заведенной машине, и лишь это искусное распределение занятие доставляло генерал-губернатору возможность обратить одинаковое внимание на все отрасли управления.
Известно, что многие высшие государственные лица всегда жалуются на недостаток времени и что от этого часто страдают дела в сложных управлениях; но это по большей части происходит от неосновательного распределения времени и еще более от занятия мелочами. Между тем Михаил Николаевич умел облечь иных лиц обширною властью и, удовлетворяя тем их самолюбие, он в то же время отклонял от себя тысячи второстепенных дел и вопросов, которые, при твердой и ясно определенной системе управления, были так же удовлетворительно и в том же направлении разрешаемы второстепенными лицами.
Из описанного мною видно, что Особенная канцелярия, в которой постоянно требовались справки по всем делам, всегда должна была быть в сборе и чиновники начинали расходиться к обеду лишь тогда, когда приходил с докладом начальник окружного штаба.
В конце ноября 1863 г. я вынужден был отправиться по своим делам в Петербург на две недели. Когда доложили начальнику края о моей просьбе, он выразил неудовольствие; но, впрочем, тотчас же и отпустил меня. Вообще он не любил давать отпусков, даже на самое короткое время; ему казалось, и довольно основательно, что деятельные исполнители и работники формируются только близ него, где все вокруг постоянно трудится, и что поэтому, отвлекшись на некоторое время от занятий, не так легко к ним возвращаться.
В Петербурге в то время еще интересовались польским вопросом и положением западных губерний; но так как опасность уже миновала, страх прошел, то многие, не двинувшиеся для отвращения ее с места, уже прехладнокровно осуждали деятельность генерала Муравьева, как утратившую свое прямое назначение с усмирением мятежа; некоторые, впрочем немногие, поговаривали даже снова о примирении. Большею частью в Петербурге не понимали, или забывали, что в том крае не столько страшен был мятеж, как польская пропаганда, проникшая во все щели и грозящая нескончаемыми периодическими смутами. Пропаганда эта состояла в неуважении всякой русской власти, в презрении к русскому языку, к литературе и науке, в подавлении среди крестьянского населения всех коренных его русских начал и в неприметном ополячении масс. Без сомнения, и обрусение края могло бы совершиться только с таким же постоянством и настойчивостью, при содействии всех правительственных органов в стремлении к этой цели в течение многих десятков лет; но нам предстояло открыть еще путь к обрусению, т.е. сделать его возможным. Все меры, принимаемые начальником края в этом отношении, были чисто реактивные; но и всякое государство неминуемо к ним прибегло бы в подобном случае. Так, например, воспрещение говорить по-польски в присутственных местах и публичных собраниях, уничтожение польских мер и весов (воспрещенных и законом), снятие польских вывесок и т.п. Все это как ни странно само по себе - было в высшей степени необходимо, если вникнуть в дело. Еще незадолго пред тем русский, приходивший по своему делу в присутственные места Западного края и обращавшийся с вопросом на родном своем языке, встречал вместо ответа взгляды удивления и недоверия и никто его не понимал или делал вид, что не понимает, между тем как с изданием этих воспрещений все польские чиновники (по большей чисти воспитанники гимназий) заговорили отлично по-русски. В то время одни лишь «Московские ведомости» обнимали со всею серьезностью этот вопрос и передовые статьи их, отличавшиеся необыкновенным талантом, руководили общественным мнением России в этом отношении и служили нам в Западном крае как бы поддержкой. Читать «Московские ведомости» сделалось у нас такою же необходимостью, как исполнять свои служебные обязанности. Не забуду никогда, что по указаниям этой газеты, опередившей виленских деятелей, «Виленский вестник», печатавшийся дотоле в двух столбцах, по-польски и по-русски, стал с 1-го января 1864 года выходить исключительно по-русски. Издание полупольского официального органа после всех преобразований, совершившихся в крае, делалось уже несообразностью; но такова сила привычки и вкоренившихся понятий, что на месте если и приходило об этом кому-нибудь в голову, то считалось неосуществимым.
В Петербурге я узнал о предполагавшемся назначении генер.-адъют. Крыжановского помощником командующего войсками Виленского округа. Так как Михаил Николаевич постоянно стремился сдать свое управление, и даже за Высочайшим к нему рескриптом нельзя было полагать, что он останется очень долго в Вильне по причине болезней, то в новом помощнике весьма естественно всякий видел будущего преемника, тем более, что и самые заслуги и прежняя служба г.-ад. Крыжановского в должности варшавского генерал-губернатора заставляли думать, что он лишь на время принимает второстепенную должность помощника.
По возвращении моем в Вильну около 10-го декабря я был встречен радостною вестью; все говорили мне при встрече: «Вы знаете, Мацкевич взят!»
Надо ознакомить читателя с положением дел в Ковенской губернии, чтоб уяснить какое магическое действие производили в то время эти слова.
С самого начала демонстраций политического свойства, проникших из Царства Польского в губернии с частью литовского населения, в них началось сильное религиозное движение; могучее население этой губернии, состоящее из жмудинов (древней нижней Литвы), сохранило в себе совершенно древний тип. Ученейшие люди относят народ этот к племенам доисторическим и не находят ничего с ним общего ни в одном из современных европейских племен. Высокорослые, сильные эти люди, с темными длинными волосами и большими проницательными глазами, позднее всех племен, населяющих Европу, приняли латинское христианство, именно в XIV только столетии, теснимые рыцарями и ляхами. Долго еще сохраняли они (даже отчасти и поныне) свои языческие обряды и поверья, но теперь это самые пламенные и фанатические католики. Помещики здесь не имели такого значения, как в прочих западных губерниях; ксендз был здесь главным лицом, народ здесь верил в него как в святыню; здешнее духовенство по большей части вышло из того же народа и потому имеет на него могучее нравственное влияние. Это в полном смысле теократическое правление. Самогитские епископы, имевшие до 1864 г. пребывание в м. Ворни Тельшевского уезда, в среде жмудского населения и вне всякой светской власти пользовались конечно большим авторитетом, чем папа в своих владениях; в XVII и XVIII столетиях епископы были как бы преемственны в двух родах: Тышкевичей и Гедройцев; они накопляли огромные богатства и имели свою традиционную политику.
Поляки, имеющие с жмудянами общего только религию, искусно играли на этой струне. После первых варшавских беспорядков по всей Жмуди разнесся слух, что Москва хочет уничтожить веру католическую, что в Варшаве русские сломали крест на кафедральном костеле... Во всей жмуди поднялись вопли и стоны. Епископ и духовенство с амвона обращают к народу пламенные речи, требуя еще большего усердия к вере отцов; на костелах появились огромные плакаты, изображающие распятие, переломленное пополам; кругом огромными буквами описывались зверские действия москалей в Варшаве с католиками и с их святынею. До десяти подобных изображений хранились в мое время в канцелярии виленского генерал-губернатора при донесениях местного начальства.
Первою шайкою в Ковенской губернии в начале 1863 г. была шайка лесного офицера Корево, который был вскоре схвачен и расстрелян; но вслед затем вся губерния поднялась на ноги; нигде крестьяне не шли в мятеж с таким одушевлением; только на Жмуди Сераковский и Колышко могли собрать такие многочисленные скопища, с которыми они, впрочем, и погибли. Все лето 1863 г. прошло в Ковенской губернии в поисках и стычках с повстанцами, из коих некоторые были весьма упорны.
По истреблении же всех почти шаек, как то: Люткевича, Яблоновского, Богдановича, ксендза Норейко, Шимкевича и других преимущественно стрелками императорской фамилии, одна только шайка бойких мятежников ксендза Мацкевича постоянно ускользала; несколько раз разбиваемая, через неделю она появлялась там, где ее вовсе не ожидали.
Молодой ксендз фанатик Мацкевич, с необычайною энергией, обладавший замечательным уменьем вести партизанскую войну, до ноября 1863 г. держал в каком-то напряженном состоянии всю Жмудь. Еще в ноябре он был совершенно разбит и даже предполагали, что он убит, но перед самым отъездом узнал я, что он снова где-то появился; но вскоре затем, теснимый со всех сторон, лишенный продовольствия и крова, Мацкевич с кассиром своим Родовичем, адъютантом Дартузи и несколькими сообщниками пробирался к Неману, чтобы, переплыв его, удалиться на прусскую землю. Невдалеке от Немана, пообедав у какого-то лесника, все эти мятежники разбрелись по одиночке в разные стороны, чтобы удобнее укрыться, тем более, что во время последнего странствования им приходилось метаться по лесам из стороны в сторону от появлявшихся разъездов и небольших пеших отрядов. Ксендз Мацкевич, изнуренный, приблизился к Неману и в лесной чаще, над крутизною берега, лег под деревом. В таком положении застал его отряд штабс-капитана Озерского, производивший в лесу обыск. Отряд совсем было прошел то место, где скрывался Мацкевич, как вдруг унтер-офицер указал г. Озерскому на что-то темное под кустом. Офицер стремглав бросился на Мацкевича и надо было много усилий, чтоб воздержать солдат, готовых растерзать мятежника; «я ксендз Мацкевич!» - простонал он - и это их остановило. Так все были поражены этим именем. Мацкевича доставили к вечеру к Ковно. В Вильну дано было знать об этом по телеграфу и оттуда последовал приказ судить его в 48 часов. Мацкевич из тюрьмы писал письма военному начальнику, губернатору и начальнику края; в них он излагал свои взгляды и умолял о помиловании, обещая быть человеком полезным. Найденные при нем часы, деньги, пистолет и иные ценные вещи были разделены между солдатами отряда, его схватившего. Мацкевич бодро шел на казнь...108 В день казни дано было знать
0 совершении ее по телеграфу в Вильну. Сообщники его были также вскоре перехвачены, но никто из них не был казнен, а сосланы большею частью в Сибирь.
В то время как я вернулся в Вильну, штабс-капитан Озерский был уже там, каждый день приходил он в особую канцелярию, где составлял статью о поимке Мацкевича. Молодой человек этот, отличавшийся воспитанием и образованием, был упоен выпавшим на его долю счастьем. Он тогда был в моде, всякий его расспрашивал, и он только и говорил, что о своей счастливой экспедиции. Составленная им статья, чрезмерно подробная, но написанная с увлечением, была несколько изменена и напечатана в «Виленском вестнике». Кстати здесь упомянуть, что приходившие как-то после того в Вильну по своим делам смышленые ковенские старообрядцы, наиболее пострадавшие от мятежников, умоляли меня дать им несколько экземпляров «Вестника», где описано взятие Мацкевича. Надо было видеть их благодарность, когда я исполнил их просьбу. «Пусть дети наши читают», - говорили они со слезами на глазах. Надо заметить, что осенью 1863 г., когда террор в крае был в сильнейшем развитии, жертвами его в Ковенской губернии сделались старообрядцы, жившие в отдельных фольварках, отдаленных один от другого. В одну ночь в околице Ибяны, недалеко от Ковно, их было повешено мятежниками, при жестоких истязаниях, одиннадцать человек. Это не прошло даром мятежникам. Виновные в этом страшном злодеянии подвергнуты примерному наказание. Все жители околицы Ибяны, как явные участники преступления, были выселены в Сибирь; дома их со всем имуществом отданы под населенных тут старообрядцев и православных в числе нескольких сот семейств. Такие же поселения образованы были из конфискованного имения помещика Акко - «Ужусоль», близь Ковно, и из большой шляхетской околицы Ушполь, Поневежского уезда, которая, кажется, названа слободою Александровскою - и где на собственный счет мировым посредником А. С. Бирюковым (одним, по «Вести», из босоногих) построена православная церковь. Таким образом в местностях, где мятеж долее свирепствовал, образовались значительные русские православные и старообрядческие поселения.
Без сомнения, выселение целых околиц, и даже истребление их огнем в виду всех жителей и соседей, как например, околицы Щуки в Гродненской губернии, сожженной еще в сентябре 1863 г., были применяемы лишь в последней крайности, когда целые селения поголовно упорствовали и содействовали мятежникам в разных злодеяниях. Это были меры, наводившие ужас на самых смелых; и много надо было решимости и усилия, чтобы к ним прибегнуть.
Этим зрелищем завершается картина усмирения собственно мятежа; но дело было далеко еще не кончено; во всем крае действовала правильно устроенная революционная организация, которую, несмотря на все усилия, не удавалось обнаружить. Отдельные открытия указывали на ее силу и обширность; но сначала надо было гасить мятеж; с окончательным же его усмирением деятельность полиции и войска не ослабевала. Во главе управления стоял человек, не дававший никому дремать, и лишь это постоянство привело впоследствии к обнаружению всего зла, о котором только можно было догадываться. Всю зиму войска производили поиски в лесах, отыскивали закопанное оружие, ловили отдельных бродяг и поддерживали дух сельского населения, которое стало сознавать силу правительства, понимать его благодеяния и тот путь, который был им указан местному населению. Это возрождение крестьян делало невозможным всякие попытки возобновить мятеж с весны. Сами крестьяне первые дали бы отпор. Они уже представляли начальству пойманных ими мятежников и усердно помогали войскам разыскивать оружие.
Тем временем Европа приумолкла; западная пресса не столь сильно громила Россию; эмигранты были в отчаянии; система действий виленского генерал-губернатора вводилась и в Варшаве и приносила плоды, хотя и с большими усилиями и жертвами. Одна неугомонная «Французская иллюстрация» не переставала ратовать; в конце 1863 года появилась в ней небольшая поэма в прозе «L’hiver et la Pologne» («Зима и Польша»), в которой весьма яркими, впрочем, красками описывались страдания Польши, снег на ее полях, орошенных кровью, умирающие в лесах с голоду повстанцы и свист русских пуль под каламбуры Муравьева. «А Европа, - говорилось в заключение, - своим равнодушием становится участницей злодеяния и мало-помалу примет варварские обычаи Севера и французы превратятся в северных казаков».
1864-й ГОД
VI
Адрес римско-католического духовенства. - Прелаты Немекша, Жилинскии и Тупальский. — Жандармский полковник Лосев. — Арест Калиновского и его казнь. — Назначение в Вильну ген.-ад. Крыжановского. — Старообрядцы. — Учебная часть. — Церковно-строительное дело. — Двадцатипятилетняя годовщина воссоединения унии. — Представления М. Н. Муравьева в Петербург по вопросам об устройстве крестьян и о ссылке. — Поездка Муравьева в Петербург
В самый день нового 1864 года, когда в залах генерал-губернаторского дворца собрались по обыкновению все служащие и представители разных сословий, явилась депутация от римско-католического духовенства Виленской епархии, имея во главе прелата препозита Бовкевича и трех новопоставленных прелатов: Немекшу, Жилинского и Тупальского вместе с остальными членами капитула. Депутация представила начальнику края...
[...]
...мало пострадало вследствие мятежа, кроме наказания лиц, прямо виновных в беспорядках и сосланных; лишь некоторые административные меры несколько стеснили деятельность этого сословия; но так как с ослаблением и уничтожением военного положения и самые меры эти утратят значение, то духовенство римско-католическое останется самым сильным, деятельным и опасным врагом России в ее собственных пределах.
На третий день нового года послан был внезапно в Минск виленский губернский жандармский штаб-офицер полковник Лосев с секретным поручением, имевшим впоследствии огромные результаты.
Я сказал уже в предыдущей главе, что отдельные открытия и общие показания в следственных комиссиях обнаруживали постепенно состав революционной организации. Дело это несколько более уяснилось после истории виленских кинжальщиков, по их показаниям и потому что вытребованы были из Варшавы разные загадочные личности и задержан один из агентов варшавского Жонда, везший обширную инструкцию в литовский революционный Жонд, найденную в подошве его сапога. В конце 1863 г. были сделаны многие важные арестации. По делу обнаружилось, что некто Зданович, кандидат Петербургского университета, сын бывшего профессора Виленского университета, был распорядителем всей хозяйственной и денежной части мятежа. При обыске в доме Здановичей, где-то на заднем дворе, за обыкновенными складами вроде сенника, открыта комната, выходившая единственным окном на пустынный берег Вилейки. Тут были захвачены разные бланки, печати, акты, революционные приказы и проч.
В то же время был арестован прибывший из Варшавы Дормановский, уроженец Познани, молодой человек чрезвычайно изящной наружности, оказавшийся, по общим показаниям, революционным комиссаром Виленской губернии, иначе - губернатором; тот и другой, сознавшись лично в своих замыслах, упорно скрывали все остальное и были казнены в декабре 1863 г. оба в один день. По делу же сделалось известным, что вся революционная власть, бывшая прежде в руках Дюлорана (служившего при виленской станции железной дороги и вовремя скрывшегося), перешла в руки энергического молодого Калиновского, бывшего до того времени революционным комиссаром в Гродне. Он постоянно менял фамилию и несмотря на все усилия и депеши из Вильны не был отыскан. В январе месяце 1804 г. казнен был в Вильне молодой дворянин Тит Далевский, также упорно не сознававшийся в своих преступлениях, и в конфирмации его одним из главных пунктов обвинения было то, что он находился постоянным агентом и рассыльным Калиновского, управлявшего революционным отделом Литвы; но самого Калиновского все еще не было, хотя присутствие его повсюду ощущалось.
При виде усиленных и правильных арестов некоторые из главных деятелей Жонда, подобно Дюлорану, успели скрыться; между прочими бежал из Петербурга только что переведенный туда на службу из Вильны офицер путей сообщения Малаховский, бывший, как оказалось, революционным начальником г. Вильны, и подписавший смертный приговор Домейке. В тот самый день, как было сообщено в Петербург об его арестовании, он скрылся из дому, выбрил голову у парикмахера, купил парик и с тех пор о нем ничего не слышно.
Начальник края, зорко следя за всеми видоизменениями мятежа и хорошо понимая характер поляков, обратил особенное внимание на Минскую губернию. В ней мятеж уже был совершенно усмирен. Долее других бродивший в лесах Свенторжецкий скрылся и все, по-видимому, было спокойно; но из всех концов губернии от частных лиц поступали ежедневно серьезные извещения о разных проявлениях мятежа. По всем почти этим запискам производились дознания, большею частью ничего не обнаружившие, кроме существования очевидной связи и единства во всех проявлениях мятежа. Это подало начальнику края мысль о том, что в Минской губернии должна была сформироваться самая полная революционная организация109, так как там деятельность революционеров встречала менее препятствий. С этою же целью и с указанием на некоторых лиц, наиболее обнаруженных по секретным дознаниям, послан был полковник Лосев на дело почти безнадежное. И что же? через несколько недель его неутомимых, терпеливых трудов110 была открыта почти вся революционная организация Минской губернии. Были обнаружены все уездные начальники, комиссары, кассиры, окружные, участковые, полицейские и т.п.; большая часть из них были задержаны и вполне откровенно сознавались - оказалось, что в числе революционных должностных лиц было много довольно значительных помещиков.
Последствием искусной деятельности полковника Лосева было то, что по делу его в Минской губернии не было ни одной казни, а все нити и цели мятежа были совершенно уяснены; это доказывает как важно искусство следователя и как часто по его торопливости или нетерпению виновные подвергаются тяжким наказаниям без пользы для дела и для общества.
В числе лиц, с которыми имел дело полковник Лосев, оказался один молодой человек, наиболее посвященный во все тайны главных деятелей мятежа. Полковник Лосев понял это, обещал исходатайствовать ему помилование и воспользовался его открытиями. Молодой организатор этот обнаружил не только главных двигателей мятежа и все перемены, происходившие в их составе, но и самое местопребывание Калиновского, с которым он был в ближайших сношениях. Шифрованная телеграмма с уведомлением об этом получена была в Вильне в 9 час. вечера; в ней были описаны приметы Калиновского и сказано, что он проживает с фальшивым паспортом гродненского дворянина Витольда Витоженца в Свенто-Янских мурах. Это последнее обстоятельство было несколько темно, так как под этим названием подразумевались все здания, принадлежавшие некогда костелу Св. Яна, занимающие почти целый квартал и выходящие одной стороной ко дворцу. В обширных зданиях, принадлежавших некогда Иезуитской коллегии, а впоследствии университету, находятся: гимназия, музеум древностей, центральный архив, обсерватория, множество квартир для служащих и даже отдаются частные квартиры. Содержание телеграммы было сохранено в глубочайшей тайне. Полицмейстеру было поручено лично справиться в книгах (только что приведенных к новому году в порядок) о точном адресе Витоженца и, как всегда бывает при поспешности, имя его ускользнуло при рассмотрении книг, хотя и было в них внесено. Пришлось снова сделать огромный обыск и оцепить весь Св.-Янский квартал, для чего понадобились две роты солдат, разделенные на 10 партий при офицерах полиции и особых чиновниках. Имя лица, которое следовало арестовать, было им объявлено лишь ночью перед самым обыском.
Калиновский нанимал уже другой месяц комнату в квартире одного учителя гимназии, уехавшего куда-то в отпуск. Его застали на площадке лестницы со свечою в руке, и когда спросили фамилию, он самоуверенно отвечал: «Витоженц» и в ту же минуту был задержан. Рано утром, несмотря на тайну, которой все это сопровождалось, жиды разнесли уже повсюду весть о том, что ночью взяли главного начальника Жонда, хотя еще не было обнаружено, что арестованный действительно Калиновский. Вообще евреи, отлично знающие вдоль и поперек весь край и каждого отдельно, все знали о мятеже; но молча на все смотрели, по свойственному им равнодушию к той и другой стороне, и ожидали, чья возьмет. Еще во время покушения на жизнь Домейки все сильно на них негодовали, так как преступление совершилось в узкой улице, полной с раннего утра тысячами евреев, и нельзя было не предполагать, чтоб они не видели преступника выходящим из-под ворот после того, как в доме раздавались вопли раненых.
Доминиканская комиссия, перешедшая в конце 1863 г. под председательство полковника Шелгунова, о котором я упоминал, говоря об образовании комиссии, и который, подобно полковнику Лосеву, отличался терпением, устойчивостью в занятиях и проницательностью, деятельно работала в конце 1863 г. над раскрытием организации. С начала открытий, сообщенных из Минска Лосевым, и с арестацией Калиновского она получила особый интерес. Генерал-губернатор, интересовавшийся ходом дела в высшей степени, постоянно посылал туда чиновников своих. Первый день Калиновский лишь кусал себе губы, неохотно даже отвечал на вопросы; но к вечеру не выдержал и объявил свое настоящее имя. Несмотря на все усилия членов комиссии, им не удалось исторгнуть от Калиновского подробного показания о личностях, составляющих революционную организацию края. Он однако откровенно сознался, что был распорядителем Жонда во всем крае, и, как видно из показаний других лиц, он умел поддержать падающий революционный дух польского населения. Помещики его страшились, он свободно разъезжал между ними, воодушевлял нерешительных и запугивал слабых. Калиновский был лет 26, крепкого сложения и с лицом жестким и выразительным; короткие русые волосы были зачесаны назад; таким я видел его в тюрьме за несколько дней до казни. Ему дали перо и бумагу и позволили свободно излагать свои мысли. Он написал отличным русским языком довольно любопытное рассуждение об отношениях русской власти к польскому населению Западного края, в котором, между прочим, высказывал мысль о непрочности настоящих правительственных действий и полное презрение к русским чиновникам, прибывшим в край. Калиновский сознавал, что с его арестованием мятеж неминуемо угаснет; но что правительство не сумеет воспользоваться приобретенными выгодами.
Казнь Калиновского совершились уже в марте или в конце февраля 1864 г. и была едва ли не последнею в Вильне.
Было ясное холодное утро; Калиновский шел на казнь смело; придя на площадь, он встал прямо лицом к виселице и лишь по временам кидал взоры в далекую толпу. Когда ему читали конфирмацию, он стал было делать замечания; так например, когда назвали его имя: «дворянин Викентий Калиновский», он воскликнул: «у нас нет дворян; все равны!» Полицмейстер покачал ему головой и просил замолчать. Не стану описывать подробностей этого печального зрелища, подобных которому не дай Бог когда-нибудь еще увидеть.
С этого времени доминиканская комиссия исключительно занималась раскрытием революционной организации в крае. В марте месяце полковник Лосев окончил минское дело и вернулся в Вильну. Как я сказал уже, по минскому делу не было казненных, а молодой дворянин, открывший Калиновского, по собственному его желанию, отправлен на жительство в одну из внутренних губерний.
В Гродне для обнаружения организации была учреждена особая следственная комиссия, усердно работавшая до конца 1864 г. Так как начальник края вместе с обнаружением отдельных лиц особенно заботился об обобщении всех открытий, дабы разъяснить все средства мятежников и способы их действий, то он и поручил разным лицам составлять впоследствии по делам следственных комиссий описания мятежа. Таким образом мятеж по Гродненской губернии был описан делопроизводителем гродненской следственной комиссии Варнавиным. Описание это, не отличающееся литературными достоинствами, тем не менее самое полное и ясное из всех, которые мне довелось читать. В нем чрезвычайно отчетливо определены характер организаторской деятельности в разных уездах, роды и классификации должностей и выдававшиеся в них личности. Организация в губерниях Витебской и Могилевской была обнаружена несколько позднее виленскою комиссиею, хотя в Могилеве и была особая комиссия, занимавшаяся старыми делами по вооруженному мятежу.
В начале января 1864 г., на 3-е, кажется, число, были вызваны в Вильну все губернаторы для совещаний по крестьянскому делу; им было поручено пригласить с собою по одному члену губернского присутствия и по одному или по два члена поверочных комиссий. Собрания эти были весьма замечательны. На общем представлении начальник края сказал им речь, в которой подтвердил непременную свою волю, чтобы при поверке грамот была соблюдаема строгая справедливость и не было делаемо уклонений в ущерб помещикам; вместе с тем он высказал им всю неуместность ношения некоторыми посредниками, представителями правительственной власти в крае красных рубашек, кафтанов и т.п. и вообще мысли свои о важном нравственном значении для края всего мирового института, который и должен наполняться людьми примерными во всех отношениях.
Так как около того же времени была учреждена при генерал-губернаторе комиссия по крестьянским делам наподобие существовавшей в Киеве, но с более ограниченными правами, то прибывшие в Вильну деятели обсудили совокупно с нею все вопросы, предстоявшие к выполнению; тут же была обсуждена данная еще в 1863 г. в руководство поверочным комиссиям инструкция и, согласно указаниям опыта прошедшего года, в ней сделаны были некоторые изменения111.
Скажу здесь несколько слов о жандармском управлении. Учреждение жандармских команд было задумано начальником края в конце 1863 г. с целью усиленного наблюдения за обывателями, особенно же за шляхтою и помещиками. Около месяца прошло, пока последовало высочайшее утверждение и списывались с шефом жандармов. Начальник края составил для команд серьезную инструкцию, по которой на них возлагалась ответственная исполнительная деятельность, а не одно только наблюдение; кроме того команды подчинены в уездах военным начальникам и губернскому начальству и лишь в строевом отношении представления о них шли чрез корпус жандармов.
Положено было в каждом уезде иметь одного офицера, с наименованием начальником жандармского управления, и 16 конных или 30 пеших унтер-офицеров, судя по местным условиям. Как офицерам, так и нижним чинам назначено было большое содержание, и потому на эти должности шли охотно, особенно же полковые унтер-офицеры, и можно с уверенностью сказать, что все это учреждение было образцовое. Все начальники управлений были люди порядочные, многие отличались особенною деятельностью, а некоторыми были возбуждены весьма важные для края вопросы. Унтер-офицеры деятельно исполняли свои обязанности, отлично себя держали с местным населением и уважительно с властями; но надо заметить, что подобная полиция, учрежденная в 50-ти уездах Северо-Западного края (за исключением 5-ти) стоила огромных денег, и теперь уже (1867 г.) идет речь о сокращении состава команд112.
Команды формировались постепенно; за недостатком в людях, сперва были избраны самые мятежные уезды, как Поневежский, - Ко-венской губернии, Бельский, - Гродненской губернии и т.п. Но так как польза их с самого начала сделалась ощутительна, то признано было необходимым ускорить их формирование, и весной 1864 г. дело это было уже окончено.
В январе месяце последовал приказ об увольнении ген.-адъют. Фролова и о назначении на его место помощником командующего войсками Виленского военного округа, генерал-адъютанта Крыжановского. В ожидании его прибытия стали о нем распространиться, как это всегда бывает, самые разнообразные слухи. Так как многие предполагали, что он заменит начальника края, то многие старались изыскать какие-нибудь свои связи с новым светилом.
Николай Андреевич Крыжановский прибыл в Вильну в конце января 1864 г.; на следующее утро он представился начальнику края, с которым до того времени едва ли был знаком. При генерале Крыжановском состоял, по особому распоряжению, гвардейской артиллерии поручик Мазинг в виде адъютанта.
По воскресеньям начальник края, сделав прием, оставался часто в большой гостиной рассматривать чертежи и проекты, приносимые академиком Чагиным, составлявшим большую часть рисунков для вновь устраивавшихся и возобновляемых церквей как г. Вильны, так и всего Северо-Западного края. Генерал-губернатор старался придать этому возможную гласность и не пренебрегал ни чьим советом. Для каждой постройки было представляемо несколько проектов, и тут же при всех, после многочисленных рассуждений, начальник края утверждал своею подписью проекты зданий. Это было его развлечение, его забава; -страсть к постройкам, в настоящем случае вызванная необходимостью, была сильно развита у генерал-губернатора. Генерал Крыжановский всегда присутствовал при этих художественных совещаниях и подавал свое мнение; все жадно ловили его слова, стараясь извлечь из них какое-нибудь заключение об его личности и, помнится с сожалением, что неблагонамеренность успевала многое (?) переиначить.
Начальник края имел в виду, что генералу Крыжановскому придется занять его пост и потому желал ознакомить его по возможности с краем и частью с гражданским управлением. С этою целью в половине февраля генерал Крыжановский отправился в объезд по губерниям как для осмотра войск, так и военно-полицейского управления, для чего ему было дано особое предложение и вмести с тем поручено обратить особое внимание на личный состав уездных учреждений, особенно же на чиновников из поляков, оставшихся еще в значительном числе на своих местах.
Генерал Крыжановский начал свой объезд с Ковенской губернии, где брожение умов было еще сильно, подобно как в море после жестокой бури. Из Ковенской губернии получено от него два или три пространные собственноручные письма. Начальник края, читая письма эти, делал на них свои отметки и передавал в особую канцелярию для немедленного исполнения предпочтительно перед всеми остальными делами.
Из Ковенской губернии генерал Крыжановский проехал в Ригу для переговоров с генерал-губернатором бароном Ливеном о защите морского прибрежья против готовившейся высадки поляков... и для принятия мер против укрывавшихся в Курляндии мятежников. Осмотрев затем Динабург, генерал Крыжановский вернулся для личного доклада в Вильну.
Отношения его с начальником края были в это время самые лучшие; но в скором времени он отправился в Минскую губернию, а оттуда проехал в Гродно.
Первые месяцы 1864 г. были посвящены возбужденно и разрешению многих вопросов.
Между ними заслуживают особенного внимания следующие: о прибавке 50% к содержанию чиновников разных ведомств, прибывающих из внутренних губерний в Северо-Западный край; мера эта была сначала допущена в виде временного усиления штатов; но вызванная необходимостью, она получила впоследствии обширное развитие. В 1864 г. чиновники всех ведомств получили постепенно прибавку жалованья; это было необходимо для привлечения в Северо-Западный край достойных и полезных людей, которые в этом крае, конечно, лишены были многого в сравнении с великороссийскими губерниями и которым предстояла жизнь, окруженная борьбою, недоброжелательством и разного рода лишениями.
Затем, начальник края деятельно занялся устройством русских и старообрядческих поселений на свободных казенных землях, как равно и в оставшихся от выселенных в Сибирь шляхетских околицах. Сделаны были опыты раздачи земель отставным унтер-офицерам и солдатам в губерниях Могилевской и Гродненской. От всех лиц польского происхождения сомнительной благонадежности или замешанных в мятеже отбирались арендуемые ими казенные фермы и из них делались отчасти нарезки государственным крестьянам, а некоторые в полном составе отдавались русским в аренду же. В это же время была сознана необходимость усиления в крае русского землевладельческого элемента, и начальник края энергически представлял о том, чтобы все лица, высланные из края за участие в мятеже, имения коих не конфискованы, а лишь подвергнуты секвестру, обязаны были в известный срок продать свои недвижимые имения русским, потому что такие лица, обнаружившие свои враждебные побуждения, никогда уже не могут сделаться полезными России гражданами. Мысль эта встретила сочувствие в министре государственных имуществ; но в то время не была одобрена правительством, тем не менее кое-что было уже сделано: 5-го марта 1864 г. были высочайше утверждены правила для выдачи ссуд при покупке имений в Западном крае русскими. Ассигнована была для этого особая сумма; несколько человек воспользовались этим и приобрели довольно значительные имения при помощи правительства; но это была капля в море, и лишь через два почти года, 10-го декабря 1865 г., был издан указ о воспрещении лицам польского происхождения покупать в Северо-Западном крае имения, и объявлена обязательная в два года продажа секвестрованных имений. Это показывает, какой произошел в эти два года перелом в общественном сознании. Дело, встретившее неодолимое по-видимому противодействие в 1864 г., сделалось в конце 1865 г. без особого труда.
Учебная часть обращала на себя особенное внимание начальника края. Осенью 1863 года попечителем Виленского учебного округа назначен Иван Петрович Корнилов, на место князя Ширинского-Шихматова, который в скором времени получил ту же должность в Киевском округе113. Князь Ширинский, горячий русский патриот, имел однако свой особый взгляд на дело и полагал постепенно достигнуть того, что М. Н. Муравьев считал делом первой необходимости. Князь Шихматов в два последние года своей деятельности на выхлопотанные им с большим трудом деньги открыл свыше ста народных школ. Новый начальник края полагал необходимым немедленно же исторгнуть народное образование из рук ксендзов и вообще поляков. И. П. Корнилов, человек с замечательным сердцем и любовью к России, сделался горячим исполнителем предначертаний начальника края по устройству народного образования на русских началах. Отличительною чертою его деятельности было уменье привлекать к себе людей способных и преданных делу; он не только не тяготился подобными лицами, но как бы гордился ими и все успехи приписывал всегда другим. Но решительная реакция в учебном деле Северо-Западного края произошла во второй половине 1864 года по возвращении начальника края из Петербурга.
Независимо от всего этого генерал-губернатор обращал особенное внимание на книги и иные предметы, распространяемые в народе; при его помощи были выписаны для Северо-Западного края десятки тысяч молитвенников, учебников, крестиков как для новокрещенных младенцев, картин духовного содержания, портретов Государя и Государыни по самой дешевой цене. Все это имело глубокую цель подействовать на первые впечатления народа, в котором пробуждается сознание. 1-го января 1864 года открыта в Вильне, также при содействии начальника края, первая русская книжная торговля известного Сеньковского, и дела ее пошли сначала очень хорошо.
Не меньшее внимание было обращено и на внешность самых городов: вывески польские были уничтожены, воспрещалось говорить по-польски в присутственных и общественных местах, счеты в магазинах велено было вести по русски - все вещи по-видимому не важные; но это делалось не для того, чтобы придать обманчивую наружность краю, а чтобы провести в сознание массы населения силу русской власти и преобладание русского начала.
Церковно-строительное дело также было двинуто. Вопрос этот был возбужден гораздо ранее мятежа в белорусских губерниях, вследствие настойчивости тайного советника П. Н. Батюшкова. На построение сельских церквей в этих губерниях положено было отпускать ежегодно из казны по 200 000 р. в течение пяти лет; но дело это велось кое-как. Начальник края принял его вместе с белорусскими губерниями под ближайший свой надзор. Постройки были рассмотрены; много в них было сделано упрощений и сбережений; вместе с тем во всех почти уездных городах стали возобновлять или вновь строить православные соборы. В самой Вильне начаты были огромные перестройки. На православный Николаевский собор, в котором происходили все описанные торжества, было испрошено 80 000 р. К сожалению надо заметить, что наружность собора, переделанная из упраздненного костела св. Казимира, до такой степени католическая, что несмотря на все усилия ничего нельзя было сделать; впоследствии многие сожалели об этом и признавали более полезным употребить эту сумму на возобновление храма Пречистыя, которому должно быть возвращено древнее значение литовской митрополии. Церковь Константина Острожского стала перестраиваться на деньги, собранные по подписке 8-го ноября 1863 г.; вокруг нее скуплены дома, сдавливавшие и закрывавшие ее, и обведена прекрасная ограда. Далее, в центре города отысканы стены древней Пятницкой церкви, в которой по историческим данным погребено тело кн. Елены, жены литовского князя Александра и дочери Иоанна III. Маленькая церковь эта возобновлена в самом изящном византийском стиле. Она также была совершенно застроена и теперь еще (1867 г.) загорожена домом Махнаура, сосланного за политические преступления. Постоянно шла речь о покупке этого дома; но не знаю, исполнилось ли это114. Церковь эта, на которую менее других обращали внимания, вышла лучше всех; она предназначалась для гимназии, от которой недалеко находится, и было предположение устроить для нее из гимназистов небольшой хор певчих. Еще в сентябре 1863 года происходила торжественная закладка на Георгиевской площади часовни во имя Александра Невского в память православных русских воинов, павших при усмирении мятежа. На белых мраморных досках, коими она обложена, вырезаны их имена в память потомству. Освящение этой часовни последовало 30-го августа 1865 г. и она вышла так изящна, что могла бы украсить собою любую столицу.
По мере развития церковно-строительного дела были учреждаемы для этого комитеты в губернских городах. Прежде других был основан виленский церковно-строительный комитет; он заведовал постройками и расходованием сумм как в самой Вильне, так и во всей губернии. В уездах были устраиваемы для той же цели церковные советы из лиц духовного звания, местных мировых посредников, некоторых чиновников, и из православных помещиков там, где они были, под председательством военно-уездных начальников. Советы эти подчинялись губернскому комитету. Постройка же сельских церквей возлагалась по большей части на сельское население под наблюдением священников. Дело шло успешно.
Всеми вообще работами с художественной стороны заведовал известный академик Рязанов, постоянно приезжавший из Петербурга, а на местах под его руководством работал виленский губернский архитектор Чагин. Начальник края, как я сказал уже, чрезвычайно любил заниматься с ним всякого рода проектами построек и всегда передавал на его заключение чертежи, присылаемые из губерний. Впоследствии, по случаю крайнего разнообразия в проектах для сельских церквей, составлены были образцовые проекты, на различное число прихожан, и разосланы, налитографированные, во все губернские и уездные церковные комитеты.
К тому же времени относится возобновление церковных братств, или попечительств, при церквах, что составляло древний обычай в Северо-Западном крае. Братчиками многих из беднейших сельских церквей записались разные богатые москвичи и иные ревнители православия, чрез посредство которых, а равно чрез супругу начальника края и ее знакомых, было доставлено множество церковной утвари, облачений всякого рода и т.п.
Крестьянское дело с наступлением весеннего времени было усиленно двинуто: для скорейшего окончания поверочных работ и для одновременного перевода крестьян на облегченные платежи по обязательному выкупу были учреждены во многих уездах вторые поверочные комиссии, независимо от первых и в таком же составе как первые, а уезды были разделены между ними на участки.
25-го марта 1864 года совершилось 25-летие воссоединения западных русских униатов с Восточною церковью. В Вильне торжество это тем особенно было велико, что во главе тамошней православной иерархии стоял знаменитый подвижник этого великого дела - митрополит Иосиф. Значение воссоединения униатов было вполне оценено лишь после минувшего мятежа, когда правительство могло опереться на двухмиллионную массу православного сельского населения, бывшего за 30 лет до того более близким к католицизму и Польше. Я не стану здесь распространяться о подробностях самого воссоединения, принадлежащего уже истории; но укажу только на статью об этом бывшего минского архиепископа Антония, напечатанную в одной из книг «Русского вестника» за 1863 год. Архипастырь этот был одним из ближайших сотрудников Иосифа Семашко, находясь еще в звании ректора Журавицкой униатской семинарии (в Слонимском уезде Гродненской губернии). Впоследствии, по совершении великого подвига, он довольно долгое время управлял Минскою епархиею. Лет уже 20 тому назад, будучи склонен к литературным и умственным занятиям и к жизни созерцательной, он удалился на покой и поныне (1867 г.) живет в Минске на незначительную свою пенсию, нанимая маленькую квартирку - и творя добро, сколько позволяют средства. Мне привелось видеть этого почтенного старца зимою 1865 г., когда он, пробужденный новою жизнью, повеявшею в крае, посетил Вильну, чтобы видеть в ней самый источник русской силы. Преосвященный Антоний в большой зале генерал-губернаторского дворца видимо наслаждался, слушая в день Крещения огромный хор учеников народных училищ, стройно певших молитвы и народный гимн: «Боже Царя храни»115.
Возвращаюсь к празднованию 25-летия воссоединения униатов в Вильне. Накануне этого дня обер-прокурор Св. Синода препроводил к начальнику края для вручения митрополиту Иосифу царский рескрипт, в котором вспоминались по этому случаю его труды и заслуги на пользу Церкви и Отечества.
Рано утром начальник края отправил рескрипт и высочайше пожалованный жезл с бриллиантовыми знаками к митрополиту со своим адъютантом, прося передать и его поздравление. Так как Николаевский собор уже перестраивался, то все высшие власти собрались для выслушания литургии в церковь Троицкого монастыря, в коем помещается и семинария. В конце службы ректор семинарии, архимандрит Иосиф, взойдя на амвон, прочел слово высокопреосвященного Иосифа, в котором выставлено было значение этого события для края и высказано несколько важных мыслей по поводу его настоящего положения и значения Православной церкви в деле упрочения в нем русской народности. Слово это было напечатано отдельной брошюрой и раздавалось желающим. Начальник края по выходе из церкви был приветствован войсками, выстроенными на дворе монастыря по обе стороны пути его следования, и направился в митрополичий дом поздравить главного виновника торжества. Надо заметить, что Михаил Николаевич Муравьев в бытность свою с 1831 по 1835 год гродненским губернатором много со -действовал воссоединению униатов в тот период времени, когда после мятежа 1831 года мысль эта только что зарождалась, а Иосиф Семашко с вышеназванным Антонием Зубко занимались отобранием подписок от отдельных лиц и склоняли в пользу замышляемого ими дела главнейших представителей униатского духовенства.
По поводу этого события нельзя не придти к некоторым серьезным заключениям. Мятеж 1831 г. и принятые за ним меры правительства породили воссоединение униатов, и если большинство воссоединенных не сделались тотчас же истинными православными, то все таки край уже был признан таковым, а через 30 лет, когда еще живы главные деятели того времени, мы лишь изредка встречаем, и то где-нибудь в глуши края, бессильные обломки унии, наиболее сохранившейся в некоторых второстепенных обрядах; эти остатки мало-помалу сами собою исчезнут, поглощаемые временем - и таким образом Западный край сделался в значительной степени краем православным. Равным образом, после мятежа 1863 г. край этот был прежде всего официально признан русским; журналистика наша помогла тому, что мысль эта проникла теперь в сознание всего русского общества и лишь в силу этого признания приняты в нем и принимается ряд мер, клонящихся к упрочению затем русского характера. Меры эти по большей части вызывают (как в свое время вызывало воссоединение униатов) горячие порицания врагов России и даже некоторой части русского общества. Допустив даже, что если со временем, в силу общей всем людям забывчивости и снисходительности, они поослабнут, то часть дела будет уже сделана: в крае русском и православном, хотя бы и со значительным католическим населением, невозможны будут национально-религиозные мятежи, каким издали казался последний в Северо-Западном крае.
Возвращаясь затем к событию 1839 года, можно придти к заключению, что митрополит Иосиф, коему всецело принадлежит победа в этом деле, положил первый основание твердому владычеству России в западных ее окраинах.
Начальник края... предвидел, что ему скоро придется оставить край. Вместе с тем, сознавая, что все те вопросы, которые не будут возбуждены при нем, едва ли возникнут при последующих правителях, спешил хотя отчасти коснуться116 всех отраслей управления и скорей разрешить главнейшие для судьбы края вопросы. В марте месяце он делал в Петербурге энергические представления; я уже упомянул о переписке его с министром государственных имуществ по усилению в крае русского землевладельческого элемента; не менее важны были его письма к шефу жандармов, покойному князю Долгорукову. В одном из них, замечательном по самому своему изложению, генерал-губернатор ясно высказал свой взгляд на особенности крестьянского дела в Северо-Западном крае по поводу опасений, чтоб обязательный выкуп, первоначально предположенный лишь в 4 литовских губерниях и распространенный уже на белорусские губернии и на Юго-Западный край, не проник внутрь России и не произвел там важных замешательств. Начальник края в письме этом обрисовал все составные элементы края и положительно доказал, как необходимо было создать в нем, невзирая на все возгласы, независимое крестьянское землевладельческое сословие. Говоря о необходимости изменения основных начал положения 19-го февраля для Северо-Западного края, он припомнил следующее: «когда мы с вашим сиятельством занимались крестьянским вопросом, мы имели в виду не мятежный край, а православную Россию, преданную своему Государю». В том же письме говорится, что насколько важно было в то время иметь в виду сохранение добрых отношений между раз -ными сословиями государства, так, напротив, ныне в Северо-Западном крае - не менее необходимо разобщить крестьян и помещиков. Из этого видно, что тогда еще Михаил Николаевич мало рассчитывал на привлечение в край русских людей для покупки имений. Немудрено, что при таком взгляде на дело начальника края некоторые из крестьянских деятелей, желая скорее достичь цели, им предположенной и ясно всеми понимаемой, позволяли себе некоторые излишества. Впрочем, во всех подобных случаях они были круто останавливаемы, несмотря на постоянного своего защитника Левшина.
Другое из этих любопытных писем было посвящено вопросу о размещении лиц, высылаемых из края; число этих лиц, высланных по разным категориям взыскания, достигло уже тогда значительной цифры, и сам начальник края заботился об уменьшении на будущее время высылаемых и о замене по возможности ссылки иным административным наказанием. Лица, высланные из края по приговорам судов и с лишением прав состояния, хотя и составляли большинство, но не представляли особых затруднений, так как они предназначались или в каторжные работы и арестантские роты, или в Сибирь на поселение и на житье. Самою опасною в будущем являлась категория лиц, которые в числе до 1500 человек высланы были из края на жительство во внутренние губернии, под надзор полиции (по распоряжениям начальника края), в тех случаях, когда по следствию или по суду не было юридических доказательств к их наказанию, но представлялось столько подозрений, что оставлять в крае подобных лиц не было возможности. Это были главные виновники мятежа, более влиятельные чиновники и знатные помещики, которые заблаговременно обставили себя предосторожностями на случай подозрения со стороны правительства.
Начальник края указывал на то, что эти лица, размещаемые Министерством внутренних дел по внутренним нашим губерниям, лишь разносят с собою зло и подготовляют в будущем неурядицы - и признавал необходимым сосредоточить их в какой-нибудь отдаленной местности, «где им могли бы быть даны все средства к жизни, кроме способов вредить России». - Он присовокуплял, что «прежде всего должно иметь в виду Россию и что нельзя останавливаться перед такою мерою, употребляемою для политических преступников во многих государствах, славящихся своею гуманностью и либерализмом».
Вопрос этот остался неразрешенным, и впоследствии, когда летом 1865 г. всю Россию охватило пламя пожаров и общественное мнение ясно указывало на источник зла - Михаил Николаевич, живя уже тогда на покое, составил по поводу пожаров статью и включил в нее выдержки из разных своих представлений, заключающие в себе печальные предсказания, начинавшие уже сбываться...
Приближалась Святая неделя, а вместе с тем и наш отъезд в Петербург. Он назначен был в конце недели. Все были убеждены, что генерал Муравьев уже не возвратится в Вильну. К пасхальной заутрени собралось в ярко освещенную дворцовую церковь множество лиц. Все были в напряженном состоянии, ожидая, что начальник края получит в этот день графское достоинство и что это будет сигналом к его увольнению.
По окончании богослужения все присутствовавшие были приглашены в большую гостиную, где обыкновенно происходили приемы и в которой на этот раз стоял огромный стол, убранный всякими яствами. Едва собрались в эту комнату и бокалы наполнились вином, как генерал Крыжановский провозгласил тост за начальника края, встреченный единодушным «ура». Затем следовали и другие возглашения, но никаких известий из Петербурга все-таки получено не было.
В субботу на Святой неделе начальник края выехал в Петербург.
Перед отъездом были сделаны следующие главные распоряжения: генералу Крыжановскому поручалось вступить в командование войсками округа; ему же предоставлены: конфирмация военно-судных и следственных дел и управление Августовскою губерниею. В случаях важных и не терпящих отлагательства - он мог принимать чрезвычайные меры, донося о том по телеграфу; ему же поручалось доносить о всех происшествиях, заслуживающих внимания, и вообще представлять собою лицо начальника края; но все дела общей канцелярии с объяснительными записками и заготовленными ответами или предписаниями должны были отсылаться ежедневно с жандармом в Петербург для доклада генерал-губернатору. Таким образом Михаил Николаевич должен был из Петербурга управлять краем, что при удобстве сообщений и телеграфе не представляло особых затруднений. С генерал-губернатором отправились в Петербург следующие лица: полковник Черевин, генерал Чевати и я - собственно для ведения дел; адъютант Павлов и ординарец Бибиков - для дежурств и приема посетителей; затем в виде свиты: камергер Булычов, действительный статский советник Брянчанинов, жандармский капитан Медведев, доктор Фавиш, при том два писца и два лейб-казака из конвоя. В день отъезда нашего, 25-го апреля 1864 г., высшие лица собрались во дворец, и начальник края передал им свои инструкции. Во всем этом было нечто величественное - многие были потрясены до глубины души, расставаясь с начальником края и полагая, что его более уже не увидят в стенах Вильны. Многие, преданные делу, а не лицу, утешали себя тем, что если Михаил Николаевич и оставит управление краем, то будет назначен председателем Западного комитета, который будет руководить и направлять всю администрацию 9-ти западных губерний; но Западный комитет, возникший с началом смут в Западном крае, прекратил свое существование как раз незадолго перед тем, и дела по западным губерниям пошли по прежнему в Комитет министров - что совершенно рационально - и лишь уцелел до настоящего времени (1867 г.) комитет по делам Царства Польского...
Генерал-губернатор отправился с пассажирским поездом, отходящим в 4 часа дня.
Огромное число служащих и дворян собралось на станции железной дороги. Михаил Николаевич приезжал всегда заблаговременно и потому тут происходил целый прием; до последней минуты он отдавал приказания и видимо был тронут общим к нему сочувствием; все говорили, что ждут его поскорее назад и смело можно сказать, что для большинства это было искренно.
Когда поезд уже стал трогаться, генерал-губернатор, снимая шапку и кланяясь, повторял: «прощайте, прощайте»; но все, как будто в один голос, закричали ему: «до свидания!», и этому общему желанию суждено было на этот раз осуществиться.
VII
Встречи Муравьева по пути из Вильны. — Встреча в Петербурге. — Представление государю Александру II. — Записка М. Н. Муравьева об устройстве Северо-Западного края в Комитете министров. — А. Л. Потапов. — Возвращение М. н. Муравьева в Вильну
М. Н. Муравьев ехал в Петербург в особо приготовленном для него вагоне; свита его помещалась в другом. Будучи и без того уже слабого здоровья, измученный беспрерывными трудами, генерал-губернатор едва выдержал дневной переезд и к утру следующего дня ему сделалось так дурно, что он хотел остановиться в Пскове для отдыха и лишь благодаря доктору, тут бывшему, доехал безостановочно до Петербурга. В пределах Северо-Западного края были всюду приготовлены торжественные встречи и на платформах толпились старообрядцы и крестьяне с хлебом-солью. В Петербурге его ожидала блистательная встреча. Министры: государственных имуществ и путей сообщения, сенатор И. М. Гедеонов, П. Н. Батюшков и многие другие высшие лица; начальник 1-й гвардейской дивизии генерал Дрентельн, командир Преображенского полка князь Барятинский и все офицеры этого полка в полной парадной форме ожидали его на станции железной дороги; толпы любопытных толпились вокруг станции - и когда Михаила Николаевича вынесли на кресле из вагона, в сводах огромного дебаркадера пронеслось оглушительное «ура». Когда же начальник Северо-Западного края появился в толпе и его стали усаживать в карету - толпа народа и даже извозчики, повскакавшие на свои дрожки, приветствовали его громкими восклицаниями.
В доме Муравьевых на Сергиевской улице ожидали его с хлебом-солью графиня А. Д. Блудова и многие дамы и лица высшего круга117. Михаил Николаевич был совершенно растроган этою встречею; здоровье его было до того потрясено, что первые дни он не только не выезжал; но не мог заниматься делами. Многие лица позволили себе в его пользу маленькие демонстрации, так, например, в одно утро его посетили 7 сенаторов; офицеры Финляндского полка, столько отличавшиеся в Виленском округе, также явились все вместе.
Московское купечество, узнав о прибытии генерала Муравьева в Петербург, отправило к нему депутацию из почетнейших представителей этого сословия. Утренние приемы были крайне замечательны: кого тут не было? разные генералы, помещики, купцы, лица, желающие поступить на службу в Северо-Западный край, разные дамы-просительницы (многие, кажется, приходили из любопытства посмотреть на Муравьева и чтоб рассказать о своем с ним свидании). До представления Государю он старался отклонять посетителей, но впоследствии посещения эти еще усилились; у дома Муравьевых был постоянный съезд.
Не ранее как через неделю по прибытии в Петербург начальник Северо-Западного края представился Государю. Его Величество ласково его принял и просил продолжать управление краем сколько хватит сил; Государь поручил ему представить свои соображения в самом скором времени, так как Его Величество предполагал в конце мая ехать вместе с Императрицей на границу на все лето. Государыня приняла Михаила Николаевича в тот же день.
Когда мы ехали в Петербург, было почти решено, что Михаил Николаевич уже не возвратится в Вильну; неожиданный оборот дел крайне всех нас удивил. Вслед за приемом Государя Михаила Николаевича посетили: министр иностранных дел князь Горчаков, военный министр, министр юстиции, и иные.
Между тем канцелярия наша поместилась где-то в третьем этаже по черной лестнице. Занятия шли беспрерывно. В Вильне ничего не смели сделать сами и обо всяких пустяках спрашивали начальника края. Сюда присылались все дела общей канцелярии, политического отделения, все донесения ген. Крыжановского и по подписании бумаги должны были немедленно возвращаться. Одна разборка и отправка почты составляла египетскую работу. Кроме того Михаил Николаевич никогда не был доволен редакциею бумаг Туманова и переделывал иные раза по три, по четыре; при всем том текущие дела, телеграммы, спешные разрешения и приказания в Вильну, разные дела, отложенные до Петербурга, - это была сфера М. Н. Муравьева.
Через несколько дней прибыл из Вильны управлявший комиссией по крестьянским делам, Левшин, и тоже поместился в нашей маленькой канцелярии. Тогда начали обращаться к нему неотступно разные господа, желающие поступить на службу по крестьянскому делу в Северо-Западном крае - никто не хотел должности менее посредника, или члена поверочной комиссии (жалованья от 2000 до 3500 руб.!), но многие затем примирялись и с местом станового. «Отчего, - думали, - не запросить побольше; хоть что-нибудь дадут». Но, признаюсь, такие появлялись личности, что мы часто не могли удерживаться от смеха в их присутствии. Один какой-то помещик так настойчиво требовал должности посредника, что стал кричать и чуть не ругаться; один какой-то почтенный гвардейский капитан, прослуживши всю жизнь в образцовом полку, тоже изъявил желание ехать в Польшу118 на должность в поверочную комиссию. Когда же его спросили весьма деликатно, занимался ли он крестьянским делом и знаком ли с положением 19-го февраля, - то он чрезвычайно замялся и отвечал, что слышал о нем что-то, - и этот-то воин тоже хотел быть членом поверочной комиссии, не имея даже понятия о том, чти предстоит им поверять.
Начальник края приступил тем временем к составлению замечательной записки о некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края. Он пригласил для этой цели директора хозяйственного департамента Министерства государственных имуществ, Вешнякова (прежнего своего подчиненного) и диктовал ему ежедневно в течение почти всего утра. Записка была окончена дней в 10 и представлена Государю 15-го мая 1864 г. Государь, прочитав ее, приказал в кратчайший срок рассмотреть в Комитете министров в присутствии генерала Муравьева.
Рассмотрению этой записки посвящены были два или три заседания; тут, казалось, решались судьбы Северо-Западного края. Записка обнимала все главнейшие вопросы, как то: крестьянское дело, учебную реформу, закрытие католических монастырей, обеспечение быта православного духовенства и постройку церквей, устройство русской администрации, воспрещение в делах польского языка, высылку из края политических преступников; но в главе всего этого стоял один вопрос, по-видимому не требующий разрешения, но на котором генерал Муравьев особенно настаивал - это необходимость признания Северо-Западного края раз навсегда русским и ведения в нем дела на будущее время в этом смысле. По этому, как и по многим другим вопросам, последовало утверждение; по некоторым было поручено разным министерствам войти в ближайшие соглашения с генерал-губернатором и лишь по одному возникло разногласие. Генерал Муравьев представил о вредном преобладании польских уроженцев во многих учебных заведениях и университетах и полагал необходимым ограничить число польских уроженцев в этих заведениях до 10% всего числа учащихся и свыше того не принимать. Предположение это было вызвано тем, что польские уроженцы составляли совершенно замкнутые кружки в университетах и часто завлекали в них и русских. Тогдашний министр народного просвещения восстал против этого, и с ним было большинство комитета; мнение меньшинства (председателя и трех членов, в числе коих был и М. Н. Муравьев) хотя и было утверждено, но мера эта признана лишь временною. В конце записки генерал-губернатор просил, чтобы министры и главноуправляющие сообщали на предварительное заключение начальника края все предположения касательно края - на это последовало заключение комитета такого рода, что это по возможности уже исполняется.
Достигнув, таким образом, утверждения многих мер, предварительно уже им принятых, и вообще одобрения общего направления дела в крае, генерал Муравьев возвращался в Вильну с большею еще властью, и ему предстояло привести в исполнение, так сказать, внести в жизнь края, все высшие решения, которые ему удалось испросить у правительства.
Когда в Вильне узнали, что Михаил Николаевич возвращается, радость всех русских была общая; особенно торжествовал виленский губернатор Панютин, предсказывавший всем нам, что мы непременно вернемся, несмотря на наши положительные уверения в противном. Семейство же генерал-губернатора было почему-то очень недовольно и с трудом примирилось с мыслью о необходимости возвратиться в Вильну.
До отъезда в Вильну начальник края был еще раз с докладом у Государя, испросил приказания по случаю предстоявшего следования чрез край Императорской фамилии, а также некоторым лицам награды. Вместе с тем он выхлопотал себе чрезвычайно важное право иметь помощника по гражданской части, так как ближайшее заведывание семью губерниями было сопряжено со множеством второстепенных дел, мешавших генерал-губернатору устремить все свое внимание на устройство края в политическими отношении. Кроме того имелось в виду, что преемник его должен быть человек, не только знакомый с гражданским управлением и с краем, но хорошо понявший и направление, необходимое для управления в западных наших областях. Выбор пал на управлявшего III отделением и начальника штаба корпуса жандармов, генерала Александра Львовича Потапова.
Нового деятеля в Северо-Западной России в некотором отношении характеризуют собственные слова, сказанные генералом Потаповым преосвященному Александру в Вильне, в первый же день по прибытии на генерал-губернаторство, когда преосвящ. просил Александра Львовича верить искренности и доброжелательности русских людей, служащих в крае и заранее им осужденных на высылку:
- Никогда, никому, ни в чем в жизни моей я не верил, и никогда не имел, ваше преосвященство, повода в том раскаиваться...
Назначение генерала Потапова было отложено до возвращения Государя из-за границы, так как шеф жандармов сопровождал туда Его Величество, а генерал Потапов должен был управлять на это время III Отделением.
За два дня до возвращения в Вильну начальник края, граф М. Н. Муравьев ездил в Царское Село откланяться.
Отъезд наш назначен был 24-го мая 1864 г., и мы прибыли в Вильну 25-го утром - пробыв в Петербурге ровно месяц.
С возвращением генерал-губернатора начинается новый ряд правительственной деятельности в край, гражданское и политическое его устройство и развитие русских начал в самых широких размерах, что продолжалось до вторичной его поездки чрез год в Петербург и последовавшего затем увольнения генерала Муравьева.
Е. Феоктистов ЗА КУЛИСАМИ ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ. 1848-1896 (Отрывки)
Глава четвертая
Никогда не забуду путешествия до Варшавы. Спутниками моими были все военные и ни одного штатского; начиная с Динабурга один из открытых вагонов 3-го класса наполнился солдатами с заряженными ружьями; повсюду уныние, затишье словно пред грозой, да гроза отнюдь не была призраком воображения, а могла разразиться над нами каждую минуту. Кто мог поручиться, что при проезде чрез леса вагоны наши не будут осыпаны пулями? По всей дороге стояли пикеты казаков и верховые беспрерывно сновали на наших глазах из одного места в другое. Казалось, все меры были приняты, а между тем от спутников моих я только и слышал, что о разных безобразиях, случавшихся почти ежедневно: здесь пытались сжечь мост, там развинтили рельсы или набросали на них кучу камней и т.п.
Наконец, около 9 часов вечера прибыли мы в Варшаву. На станции тысяча формальностей - требование пачпортов, расспросы, зачем приехал и долго ли намерен остаться в городе, имею ли там знакомых. Все это потребовало более получаса времени, после чего я отправился в Европейскую гостиницу. Вечер, проведенный мною там, отнюдь нельзя назвать приятным: прислуга отличалась умышленною грубостью, вокруг все какие-то мрачные, недоброжелательные лица за исключением, разумеется, военных. Я глубоко чувствовал тоску одиночества, сидя у себя в номере и думая о своем семействе.
На другое утро поспешил я представиться Великому князю. Мне впервые случилось видеть вблизи этого человека, о котором ходило так много разнообразных толков, которого одни считали чуть ли ни гением и главным виновником освобождения крестьян, а другие - человеком легкомысленным и вздорным. С нетерпением ожидал я, когда войдет он в приемную залу, где собралось множество всякого люда. Наконец он появился и начал обходить присутствовавших. Когда дошла очередь до меня, я подал ему бумаги и письмо Головнина, но он не стал его читать. Вообще нетрудно было заметить, что он знал заранее о моем приезде и имел обо мне подробные сведения. Так, например, одним из первых его вопросов было, давно ли я знаком с князем Н. А. Орловым, хотя об Орлове я не упоминал ему ни слова; с какого времени начал заниматься литературой, где печатал свои статьи и т.п. Конечно, все это предварительно сообщил ему Головнин, но если он счел нужным сообщать такие сведения, то только потому, что рекомендовал меня как человека, которым следовало бы воспользоваться для предположенной им цели. Я еще более убедился в этом, когда Великий князь закончил разговор со мной следующими словами: «Зачем вам спешить в Петербург? Поживите у нас. Не забудьте заехать к графу Бергу, ему будет приятно с вами познакомиться».
Впечатление, произведенное на меня Великим князем, было не совсем приятное. Его манеры, разговор отличались каким-то мальчишеством (не могу прибрать другого, более удачного слова), он удивлял ребяческими выходками, которые были особенно неудачны в его серьезном положении. Вот одна из них. Лишь только отошел он от меня, ему подали телеграмму. «Телеграмма из Петербурга», - сказал он громким голосом и затем стал долго и тщательно обнюхивать ее со всех сторон. «Я всегда привык узнавать по запаху, - заметил он, - хорошие или дурные сведения заключаются в телеграмме». Конечно, это пустяки, но впоследствии я имел случай убедиться, что Великий князь очень часто занимался пустяками такого рода.
Вечером того же дня явился ко мне в гостиницу курьер и подал записку из канцелярии графа Берга. В записке было сказано, что графу желательно меня видеть и что он примет меня на другой же день в 8 часов утра. Начальник войск, расположенных в Царстве Польском, не имевший отдыха от бесконечных хлопот и занятий, до такой степени воспылал желанием вступить со мной в личные сношения, что первый протягивал мне руку. Можно ли было бы придумать что-нибудь забавнее этого! Несколько месяцев назад все эти господа отнеслись бы с высокомерным презрением к мелкому чиновнику, упражнявшемуся отчасти в литературе, а теперь они принимали его a bras ouverts119, готовы были всячески ласкать его, и все это в надежде, что он скажет о них доброе слово... Не доказывает ли это, каким слабым и беззащитным чувствовало себя варшавское правительство? Приглашение графа Берга было в высшей степени для меня неприятно, но не было возможности уклониться от него. Я должен был отправиться на свидание. О графе Берге не раз приходилось мне слышать, что это самое верное воплощение Фигаро, и нужно сознаться, что наружность его как нельзя более оправдывала эту репутацию. Анекдотов о нем ходило множество. Между прочим, Н. А. Орлов рассказывал мне, что во время Венгерской войны Берг находился при австрийской армии и там со свойственною ему наклонностью к интригам всячески пакостил Паскевичу, которого терпеть не мог. Паскевич поклялся, что как только встретится с ним, то наговорит ему таких вещей, так оборвет его, что он никогда этого не забудет. Разумеется, Берг тщательно уклонялся от свидания. Но война кончилась. Паскевич прибыл к Петербург, где Николай Павлович превознес его до небес, велел отдавать ему царские почести, и назначен был день, когда все высшие военные чины должны были явиться к нему с поздравлением. Смущенный предстоявшею ему сценой Берг поспешил к графу А. Ф. Ор -лову, тогдашнему шефу жандармов (отцу князя Николая Алексеевича), с просьбой, не может ли он ехать вместе с ним, ибо в его присутствии, зная его расположение к Бергу, Паскевич не решится устроить слишком крупный скандал. «Ах, батюшка, - отвечал Орлов, - оставьте меня в покое, что мне за дело до ваших распрей и с какой стати я буду разыгрывать для вас роль chaperon120...» Наконец наступил тревожный для Берга день. Приезжает Орлов к Паскевичу, поднимается на лестницу, - глядь, Берг идет рядом с ним. «Как это вы ухитрились?» - спрашивает он его. «Признаюсь, граф, - отвечал Берг, - я сидел чуть не полчаса в экипаже на Мойке (где жил Орлов), ожидая, когда вы выедете, и поспешил вслед за вами; можете сердиться на меня или нет, а уж я от вас не отстану». Действительно, он не отходил от него ни на шаг. Все обошлось благополучно, Паскевич только бросал исполненные ненависти взоры на своего врага. Гораздо позднее хороший мой приятель П. К. Щебальский ездил в Варшаву искать места редактора тамошней официозной газеты. Место это занимал Павлищев, и Берг, бывший уже тогда наместником, никак не соглашался сменить Павлищева. Он предлагал Щебальскому сделаться помощником Павлищева, весьма красноречиво убеждал его не спешить, не садиться сразу на первое место и ждать, когда очередь дойдет и до него. «Именно так, - воскликнул он, - действовал я здесь при Великом князе, - стоял на втором плане, довольствовался скромною ролью, а между тем исподволь подготовлял все, чтобы занять первую роль, et vous voyez, quand a present je n’ai pas a me plaindre 121...»; этими словами граф Берг определил весьма верно свой образ действий: он знал, что если бы дела шли хорошо, то честь этого была бы всецело приписана Константину Николаевичу, а с другой стороны он был слишком хитер, чтобы принять на себя ответственность за безрассудные распоряжения Великого князя. Поэтому il laissait faire, laissait aller122, втайне радуясь сумбуру, который господствовал в Польше.
К этой-то курьезной личности я был направлен Великим князем. Вероятно, графу Бергу было сказано, чтобы он принял меня как можно лучше и, изобразив мне положение дел, заставил бы меня взяться за перо. Не сомневаюсь, что последнему обстоятельству не придавал он ни малейшей важности: в самом деле, мог ли он при своих понятиях и царедворских привычках допустить мысль, чтобы такая незначащая личность, как я, отказалась служить Великому князю, когда Великий князь делал мне честь потребовать моих услуг... Граф Берг повел поэтому дело круто и без всяких околичностей.
Я застал его в маленькой комнате за столом, на котором лежала географическая карта. «Le grand due m’a ditt beaucoup de bien de vous123, -сказал он при моем входе, - к тому же Головнин, которого я искренно люблю, прислал сюда самые лучшие о вас отзывы et les amis de mes amis sont toujours mes amis 124. Вы посетили нас в критическую минуту».
Граф Берг тотчас же пустился в подробный рассказ о том, что происходило в Привислянском крае. Он говорил много и очень ловко, - сначала до конца по-французски. Вообще картина, нарисованная им, отличалась весьма мрачным колоритом. «Toute la nation polonaise, - говорил он, - est contre nous et les plus devoues sont ceux qui se taisent; ce sont les meilleurs et les mieux disposes125. В распоряжении нашем находится 200 000 войска, - с первого взгляда, кажется, достаточно, но не так на деле: этими войсками мы должны охранять границы прусскую и австрийскую, железную дорогу от Белостока и две дороги от Варшавы в Пруссию и Австрию. Кроме того, мы держим войска в пяти крепостях, во многих городах и нам приходится беспрерывно конвоировать военные снаряды от Бреста до Варшавы и других пунктов: сообразив это, нельзя удивляться, что двухсоттысячная армия далеко не удовлетворяет всем потребностям. Но это еще не все. Варшавское управление ведет борьбу не только с Царством Польским, но также с Познанью и Галицией;
из обеих этих областей еженедельно переходят к нам шайки и перевозятся снаряды. Богатые познанские помещики не скупятся ни на какие жертвы для успеха мятежа; чтобы судить об этих жертвах, достаточно сказать, что в Торне, например, захвачен был недавно склад оружия на полтора миллиона талеров. В Галиции дела еще несравненно хуже, ибо не существует там почти вовсе немецкого элемента, который служил бы противовесом польской шляхте. Австрийское правительство не в силах бороться со злоумышленниками. Граф Менсдорф (тогдашний первый министр) беспрерывно присылает нам шифрованные депеши с указанием, что вооруженные шайки формируются в том или другом месте, но шайкам этим австрийцы не препятствуют переходить через границу; быть может, даже они рады, чтобы эта саранча удалилась из их пределов. В настоящее время происходит то же самое, что было в 1831 году: я ехал тогда из Италии, чтобы присоединиться к нашей армии в Царстве Польском, и на пути, в Галиции, виделся с тамошним губернатором Лобковицем. С полною откровенностью выразил я ему свое удивление, что австрийские власти дозволяют инсургентам вторгаться в Россию. «Que voulez-vous, mon cher, - отвечал мне Лобковиц, - nous ne pouvons rien entreprendre, mais nous desirons sinceremeut que vous les tuyez tous»126... Галиция богатая страна, обладающая большими средствами, и заговор существует там в огромных размерах...» Берг решился высказать, что есть, пожалуй, средство бороться с мятежом, это - опереться на крестьян, но Великий князь не хочет прибегнуть к нему; его устрашает мысль о повторении галицийской резни; внимая советам маркиза Велепольского, он считает долгом сдерживать крестьянское население. Берг считал это большою ошибкой, но, несомненно, потому только, что ему хотелось уколоть Великого князя; нельзя предположить ни на минуту, чтобы он сам помышлял о тесном сближении с крестьянами; подобный план слишком резко противоречил всем его понятиям, и, случись что-нибудь подобное, он сам прежде других завопил бы о революции.
К тому же в разговоре со мной он более десяти раз повторял одну и ту же фразу: «Il nous faut menager l’opinion de l’Europe; nous ne devons pas irriter les gouvernements europeens»127...
He стану излагать здесь подробно нашу беседу, продолжавшуюся более часа. Многое касалось в ней частных вопросов - передвижения войск, распоряжений Военного министерства, личных качеств разных действующих лиц. В этом длинном монологе граф Берг говорил без умолку, и мне оставалось только слушать его - ни одного искренно сочувственного слова о Великом князе; правда, иногда он похвалял его, но как-то сквозь зубы, и в самой похвале слышалось порицание. Заключительные его слова немало меня встревожили.
- Notre position est dramatique et peut bien devenir tragique 128, - сказал он. - Со дня на день ждем мы поголовного восстания в городе. Впрочем, мы уже приняли необходимые меры на этот случай, и меры эти не только не составляют тайны, но я предоставляю вам право говорить о них во всеуслышание кому угодно... Всем начальникам войск приказано, при малейшей тревоге, занять по секретной диспозиции некоторые пункты в городе и, лишь только раздастся выстрел из какого-нибудь дома, врываться в этот дом и вырезывать без разбора все его население.
Что могло бы быть ужаснее очутиться среди такого побоища! Вот угощение, которое приготовил мне А. В. Головнин. Могло ли быть что-нибудь страннее, как сидеть без всякого дела в Варшаве, когда Варшава могла быть ежедневно залита потоками крови?
- Но что же будет со мною, - воскликнул я, - если начнется битва? Я исполнил свое поручение, и, надеюсь, Великий князь не встретит препятствий отпустить меня в Петербург.
- К чему так спешить, - отвечал граф Берг. - Вам лично не угрожает никакой опасности. Где вы остановились?
- В Европейской гостинице.
— Эта гостиница прилегает к Саксонской площади, на которой всегда стоят войска; при первых выстрелах или звуках набата ступайте на площадь, и вы спасены. Нет, не торопитесь, поживите у нас. Для любознательного человека все, что происходит теперь в Варшаве и вообще в здешнем крае, представляет много поучительного; постарайтесь вникнуть в положение дел, уясните себе громадные трудности, с которыми мы вынуждены бороться, и вы можете оказать существенную услугу, если постараетесь рассеять нелепые предубеждения, которыми увлекается наша печать.
Я как будто и не слыхал последних слов графа Берга и расстался с ним в весьма тяжелом настроении духа. Прямо от него поехал я к генералу Чарницкому, к которому было у меня письмо от одного из моих товарищей, профессора Академии Генерального штаба. В разговоре с этим господином я упомянул между прочим о мерах, задуманных правительством на случай восстания в городе. Чарницкий подтвердил, что распоряжения в этом смысле действительно существуют; он находил мое положение крайне незавидным. «Конечно, вы русский, - сказал он, - но в кровавой схватке кто отличит вас от поляка? Весьма может быть, что выстрелы раздадутся и из Европейской гостиницы, - толпа разъяренных солдат ворвется туда и зарежет вас, не слушая ваших объяснений». Чарницкий советовал мне переехать на житье к какому-нибудь знакомому из военного люда, но к кому? К счастью, он тут же упомянул, что в Александровской цитадели стоит с своим полком генерал Ралль. Я знал В. Ф. Ралля давно; мы познакомились в 1850 году у графини Салиас и находились в отличных отношениях. От Чарницкого я полетел к нему и лишь только заикнулся о своем затруднительном положении, как он предложил мне поместиться в его квартире. В другое время и при других обстоятельствах я не пожелал бы стеснить его, но теперь колебания были неуместны. В тот же вечер перебрался я к Раллю и впервые со времени моего приезда в Варшаву почувствовал себя совершенно спокойным. Конечно, жизнь в Александровской цитадели не представляла ничего приятного: у ворот крепости с утра до ночи толпилось множество всякого люда, желавшего видеться с своими родственниками и знакомыми, которые содержались под арестом. Это было в высшей степени грустное зрелище. Начальство не отказывало, кому можно, в пропускных билетах, но выдавать их приходилось с крайнею осторожностью, потому что между посетителями было немало людей в высшей степени злонамеренных. Трудно представить себе, какие страшные и странные сцены разыгрывались пред входом в крепость. Ралль рассказывал мне, что он заметил однажды нашего солдата, разговаривавшего с молодою и прилично одетою дамой уже не у ворот, а в некотором отдалении от них. Он прикрикнул на солдата и спросил его, о чем он мог шептаться с неизвестною женщиной. «Да вот, ваше пр-ство, все упрашивает меня, чтобы я провел ее в цитадель; сперва обещала деньги, а потом говорит, что придет ко мне куда угодно ночью, только бы я послушался ее». Удивительное самоотвержение, не отступающее даже пред развратом!
Всякий раз, когда я возвращался из города, меня останавливали в воротах крепости, подвергали допросу, зачем и куда я еду, потом один из солдат садился на козлы «дрожек» и сопутствовал мне до самого подъезда квартиры генерала Ралля. Он сдавал меня, так сказать, хозяину с рук на руки. Все это было очень скучно и досадно; несмотря на то Александровская цитадель казалась мне раем в сравнении с Европейскою гостиницей. Утешительно было сознание, что уже никто тебя не тронет за стенами, с которых целые десятки пушек направлены на Варшаву...
После свидания с графом Бергом целых два дня никто меня не тревожил. После обеда, 9 августа, Ралль предложил мне отправиться в Лазенки. Это местечко, служащее обыкновенно в летнее время любимым гуляньем варшавских жителей, представляло тогда странное зрелище: посетителями его были исключительно офицеры, лишь изредка мелькало между ними штатское пальто. Около шести часов приезжал Великий князь, часто с супругой, в сопровождении конвоя линейных казаков, которыми командовал какой-то султан или хан в чалме и азиатском костюме. У дворца гремел оркестр музыки, а по аллеям уныло бродили господа офицеры. Вот этим-то развлечением хотел угостить меня мой радушный хозяин. Только что прибыли мы в Лазенки и высадились из экипажа, как показался поезд Великого князя. Со всеми был он очень любезен, разговорчив, сказал мне несколько приветливых слов и пожелал представить меня Великой княгине. [Помимо своей замечательной красоты производила она впечатление порядочной дуры.] Начала она разговор прямо с того, что возбуждало неистовое негодование ее супруга, но о чем он имел такт умалчивать, а именно с «Московских ведомостей»; она поспешила мне объяснить, что называет Каткова не иначе как «противный Каток», вероятно, находя это весьма остроумным. «Бог знает, что он о нас пишет, просто ужас, - говорила она. - Корреспонденты его следят за каждым нашим шагом и все перетолковывают в дурную сторону. Однажды случилось мне надеть малиновый плащ, так и тут стали кричать, будто я ношу польские национальные цвета. Конечно, положение дел в Варшаве невыносимо; не далее как сегодня, в полдень, почти у ворот нашего дворца убили какого-то полицейского. Вы не можете себе представить, какое впечатление производит все это на Великого князя; он сильно страдает, за несколько дней пред вашим приездом слег даже в постель и хотел приобщаться. Я пишу каждый день свой дневник и, если хотите, покажу его вам, вы увидите из него, сколько мы выстрадали в эти последние месяцы. Конечно, - я этого не отрицаю, - мужу моему предлагали корону, но я тогда же сказала им (кому?), что они не заслуживают счастия иметь Великого князя своим королем. Он решительно отклонил их предложение. Вот как благородно поступил он, а московская газета осмеливается заподазривать его в недостатке патриотизма...»
Все это было высказано по-французски, с лихорадочною торопливостью и с самою пошлой, плаксивой интонацией голоса. Напрасно Великий князь, стоявший тут же, пытался обуздать дражайшую спутницу своей жизни: она неслась как река, и мне оставалось только сожалеть, зачем мы не беседовали с ней с глазу на глаз. Вероятно, она пустилась бы еще и не в такие откровенности.
Посторонний наблюдатель мог живо заинтересоваться всем, что происходило пред моими глазами, но меня беспрерывно тревожила мысль, что произнесено будет роковое слово, что ко мне обратятся уже не с намеками, а с положительными настояниями. Но, конечно, самый изворотливый ум не ухитрился бы сказать что-нибудь в пользу варшавского управления. Ежедневно приходилось мне беседовать с разными лицами, имевшими верное понятие о положении дел, и нельзя было представить ничего подобного такому хаосу и такому упадку духа. Для всех было ясно, что Великий князь совершенно сбился о толку и не отдавал себе отчета, куда он идет, какую имеет в виду цель. В беседе со мной граф Берг указывал только на громадные трудности, с которыми вынуждено бороться правительство, но и из его слов нельзя было заключить, надеется ли оно преодолеть их и какими именно средствами.
К счастью, тревогам моим положен был внезапный и весьма благоприятный конец. Однажды вечером отправился я в Лазенки. Вскоре затем прибыл туда Великий князь, видимо чем-то озабоченный и недовольный. Он подошел ко мне: «Завтра утром я еду в Петербург, - сказал он; - так как без меня вам незачем тут оставаться, то - если хотите - можете отправиться вместе со мной».
Я просто не верил своим ушам, восторгу моему не было границ. По возвращении моем домой оказалось, что генерал Ралль уже знал об отъезде Великого князя. Весть эта как молния облетела всех близких ко дворцу, но передавали ее друг другу шепотом, хотя и не сомневались в ее достоверности. Никто не мог объяснить себе этого неожиданного события, но были убеждены, что Великий князь вернется, тем более что жена его и дети оставались в Варшаве.
Почти всю ночь напролет мы проболтали с Раллем. На другой день рано утром (отъезд был назначен в 10 часов) я отправился на станцию железной дороги, которая отстоит очень далеко от цитадели. По пути беспрерывно обгоняли меня военные в полной форме. В виду этих быстро скачущих экипажей и всей этой суетни прохожие с изумлением останавливались на улице. Около станции стояли какие-то войска.
Кое-как успел я отыскать начальника движения Варшавской дороги, который объяснил мне, что я займу место в вагоне, назначенном для адъютантов. Вскоре затем приехал граф Берг, а чрез несколько минут послышались клики солдат, с которыми Великий князь здоровался по пути к дебаркадеру. Мы двинулись в путь.
Я сидел с адъютантами Арсеньевым, Киреевым и графом Комаровским. До самого обеда мы почти не видали Великого князя. Обед был общий - не помню уж на какой станции. Вышедши из-за стола, Константин Николаевич предложил мне перейти в его вагон, куда явился также и Набоков. Беседа наша продолжалась до самого вечера, и едва ли я ошибусь, сказав, что она достаточно мне уяснила, что такое был Великий князь.
Я нашел в нем человека умного и обладавшего разносторонними сведениями. Особенно это последнее сказалось, когда от разговоров о делах в Царстве Польском он перешел к своим путешествиям по Востоку и Германии. Он много читал и все, что случилось ему прочесть, помнил до мельчайших подробностей, - память его была поистине изумительна. Иногда вырывались у него меткие и остроумные замечания. Но - удивительное дело - этот человек как будто не привык останавливаться долго на одном предмете, а только скользил по нем, вследствие чего в ту самую минуту, когда с жаром витийствовал он о чем-нибудь, стоило сделать какое-либо возражение, и оно видимо его затрудняло. Мне показалось, словом, что был у него ум, но более бойкий, чем основательный, были сведения, но сведения отрывочные и не приведенные в систему. Беседа наша касалась преимущественно положения дел в Польше. Весьма понятно, что Великий князь был поглощен этим предметом, говорил о нем с лихорадочным волнением, знал об общем неудовольствии против него в России. Следовало ожидать, что он постарается отразить нападки на него, будет оправдывать свою политику, а между тем именно тут и оказывался он крайне слабым и несостоятельным.
- До сих пор не могу я понять, - воскликнул он, - чего хотят от меня, что находят предосудительным в моем управлении? Вот вы недавно приехали из Петербурга: сообщите же мне, пожалуйста, тамошние толки.
Странное дело, как будто обвинения против него недостаточно ясно были формулированы печатью! Неужели не вычитал он из «Московских ведомостей», почему негодовали на него и почему преклонялись пред Муравьевым? Я счел долгом заметить, что в сущности неудовольствие сводится к следующему: нельзя после всего совершившегося обольщать себя мыслью о возможности примирения с поляками, нельзя сохранять автономию в крае, который весь объят смутой, нельзя все должности от высших до низших предоставлять по-прежнему полякам, ибо если администрация не будет вполне русскою, то даже и войско окажется бессильным для борьбы.
- Но я жду той минуты, - воскликнул Великий князь, - когда в самом польском обществе обнаружится реакция против теперешних безобразий.
- Никто у нас, ваше высочество, не верит, чтобы реакция когда-нибудь обнаружилась. Все поляки одинаково ненадежны; коноводы теперешнего движения никогда не образумятся, а что касается тех, которые не дерзают открыто присоединиться к восстанию, то их немного и они слишком малодушны, чтобы выступить с открытым протестом.
Если система Великого князя была основана на чаянии какой-то реакции, то, конечно, он никак не мог согласиться с тем, что было высказано мною. Иначе из чего же сидел он сложа руки и упорствовал в своем бездействии?.. Но, к величайшему моему изумлению, он тотчас же - и это случалось не раз в течение нашего разговора - сдался на доводы своих противников, мало того - постарался подкрепить их примерами.
- Действительно, - сказал он, - дряблость и несостоятельность людей, на которых можно было бы, кажется, нам рассчитывать, превосходит всякое вероятие. С самого прибытия моего в Польшу я убеждался в этом на каждом шагу. Несомненно, что когда польские дворяне съехались в Варшаву, после того как я был ранен, то целью их было подать мне адрес с выражением полнейшего сочувствия. Несколько дней сряду они совещались, и в это время революционеры успели так обработать их, что адрес был составлен в духе явно враждебном правительству. До последней минуты они сами не поверили бы, что дело кончится таким образом. А Фелинский? Вот еще замечательный пример! Мы понимали затруднительность его положения и старались всячески облегчить его, но ничто не помогло. Когда он подал в отставку из Государственного совета и сочинил известное письмо Государю, то предварительно приехал с ним ко мне. Я толковал с ним целых два часа и убеждал его отказаться от задуманного им поступка; я выставлял ему на вид всю нелепость притязаний революционной партии, указывал ему на меры, которыми правительство думает обеспечить благосостояние Польши, и разговор наш кончился тем, что Фелинский со слезами на глазах бросился мне на шею. Казалось, дело кончено. На другой день, однако, он снова является в замок. «Hier l’homme a eu raison, mais l’archeveque a eut tort!»129 - воскликнул он, и уже не поддавался ни на какое соглашение. А еще Фелинский лучший из поляков. Что же сказать о других? Преобладающая черта в их характере определяется французским словом, которому у нас нет равносильного, - словом lachete 130 Это какая-то смесь низости и слабодушия.
И это говорил человек, который отрицал необходимость суровых мер, а советовал опереться на польское же общество, чтобы подавить мятеж. Где же тут логика?
В дальнейшей беседе Великий князь нередко удивлял меня своею бестактностью. О своих противниках говорил он не иначе как с бранью; имя Муравьева не сходило у него с языка, и он поносил его кстати и некстати. «Муравьеву легко, - говорил он, - потому что в Западном крае можно опереться на православный и русский люд, а то ли дело в Польше? Но если бы и была у меня такая опора, я все-таки не унизился бы до роли палача. Муравьев действовал бы совсем иначе, если бы у него было что-нибудь заветное и святое, но ведь вы слыхали, конечно, что это за человек: apres moi le deluge131 - вот его лозунг. Ему бы только снискать популярность, выказать себя, а затем он уйдет и предоставит расхлебывать кашу другим. Разве такие люди помышляют о будущем?» Подобные речи, не совсем приличные в положении Великого князя, продолжались во всю дорогу.
Под вечер вошел в вагон генерал Стюрлер, и разговор коснулся других предметов. Нетрудно было заметить, что по мере приближения нашего к Вильне Великий князь становился задумчивее и беспокойнее. Наконец за одну или две станции до этого города (в Вильну мы приехали поздно вечером) он заметил, что пора успокоиться, и отпустил нас. Перешедши в наш вагон, я не скрыл от А. Киреева, которого знал уже прежде, что меня удивляет ажитация Великого князя. «Как тут не ажитироваться, - отвечал он, - Великий князь видимо озабочен, выедет ли Муравьев к нему навстречу или нет...»
Получив разрешение загадки, я был в высшей степени заинтересован предстоявшею встречей. Начать с того, что мне ни разу не случилось видеть Муравьева, который в 1863 году сделался чуть не легендарною личностью; заслуги его в деле усмирения польского мятежа были до такой степени важны, что огромное большинство публики произносило его имя с благоговением. Теперь представлялся мне случай взглянуть на него (ибо, по мнению адъютантов Великого князя, он непременно должен был выехать навстречу, и всякие опасения на этот счет казались неосновательными), и кроме того, было крайне любопытно посмотреть, как сойдутся лицом к лицу эти два мужа - патриот par excellence 132 и чуть ли не «изменник», как общий голос честил тогда Великого князя Константина Николаевича.
Вот показалась наконец платформа виленской станции. Она была усеяна всяким чиновным людом в мундирах, и тут же стоял почетный караул. Когда остановился наш поезд, то я заметил, что во главе этой толпы находится какой-то генерал, которого я по описанию принял за Муравьева: толстый, сутуловатый, очень безобразный и с голубою, как мне показалось, лентой через плечо. «Не правда ли, это Муравьев?» — спросил я кого-то из адъютантов Великого князя. «О нет, — отвечали мне, — это виленский комендант Вяткин». Потом уже я разглядел, что Вяткин был без усов, тогда как Муравьева на фотографических карточках я видел с усами, и что на нем была не голубая, а синяя лента (Белого Орла).
Вяткин стоял с рапортом впереди. За ним вытянулись остальные должностные лица в ожидании появления Великого князя, но прошло несколько минут, а Великий князь не показывался из вагона. Наконец он вышел и, едва остановившись пред Вяткиным, который начал ему что-то бормотать, двинулся вперед; на пути он встретил другого господина, который отрекомендовался ему таким образом: «Гражданский губернатор города Вильны Панютин». - «С чем вас и поздравляю», - отвечал Великий князь. Вообще и он сам, и все встречавшие его были до такой степени сконфужены, что сцена эта производила крайне тяжелое впечатление. Когда главные действующие лица ушли в станционные комнаты, я остался на платформе, не зная, следовать ли мне за ними; вскоре, однако, и меня пригласили туда же. В первой зале я нашел целую толпу, а вошедши в другую комнату, увидел, что Великий князь разговаривает с Вяткиным и жандармским полковником, которые сообщали ему подробности о поимке негодяя, покушавшегося на жизнь виленского предводителя дворянства Домейки. Разговор длился, однако, недолго. Вяткин и жандармский полковник вышли. В комнате остались только Великий князь, Набоков, Стюрлер, Киреев, Арсеньев, граф Комаровский и я.
Комната эта была ярко освещена, уставлена цветами, и в ней находился буфет. Возможность поужинать приятно обольщала нас, потому что, выехав из Варшавы рано утром, мы останавливались только для обеда и обедали очень дурно. Но ожидания наши были обмануты.
- Генерал Вяткин, - сказал Арсеньев, - просил меня доложить вашему высочеству, что М. Н. Муравьев распорядился приготовить ужин.
- Ну это он напрасно беспокоился, - отвечал Великий князь: - не правда ли, господа, ведь вы не хотите ужинать? Будет гораздо лучше, если мы спросим себе только по стакану чая.
Он не мог скрыть своего раздражения. Оно выражалось и в его голосе, и в жестах.
- Видишь теперь, что я был прав, - повторял он неоднократно сидевшему около него Стюрлеру, который в ответ возводил только очи к небу. - Я знаю этого человека, он на все способен.
- Не прикажете ли, - произнес глупый Киреев, - пригласить к чаю генерала Вяткина?
- Это зачем? Может подождать и там.
Затем опять начались восклицания: «Это совершенно в его характере; не знает меры своей подлости, когда чего-нибудь ему нужно, и задирает нос, как скоро ему везет...». Стюрлер по-прежнему вздыхал. Наконец чай был выпит.
- Пора в дорогу, - произнес Великий князь и направился к выходу. Случилось так, что я шел прямо вслед за ним. В большой зале он остановился пред Вяткиным и сказал ему громким и звучным голосом:
- Скажите генералу Муравьеву, что когда проезжает Великий князь, брат Государя и Наместник Царства Польского, то он мог бы потрудиться выехать к нему навстречу, не ссылаясь на болезнь.
Остальное путешествие не представляло ничего замечательного. В течение следующего дня я видел Великого князя лишь урывками. Когда мы прибыли в Царское Село, то на платформе находился уже с многочисленною свитой сам Государь, который встретил брата особенно радушно, долго обнимал его и целовал. Очевидно, это делалось с целью ободрить Великого князя, на которого публика смотрела как на зачумленного.
Таким образом окончилась неприятная моя поездка в Варшаву. Головнин виден тут вполне: могло ли быть что-нибудь нелепее, как послать человека, не решившись высказать ему прямо, зачем это делается, - человека, который уже заявил ему, что не примет на себя навязываемой ему роли? Это было столь же глупо, как последующая попытка Александра Васильевича произвести в публике благоприятный для Великого князя поворот посредством брошюры, которую поручил он сочинить дюжинному писаке Фирксу (Шедо-Феротти) и неизвестно зачем разослал ее по высшим учебным заведениям. Никто не любил так много толковать об общественном мнении, как Головнин, и никто менее его не был чуток к этому мнению и не отличался большею неспособностью действовать на него. Мало общительный, замкнутый в очень тесном кружке людей одинакового с ним образа мыслей, усвоивший в Мраморном дворце навык к мелким интригам, он постоянно принимал миражи за действительность и в этом отношении оставался верен себе до конца.
В. В. Розанов БЫЛ ЛИ ЖЕСТОК М. Н. МУРАВЬЕВ-ВИЛЕНСКИЙ?
Прочитав в № 237 «Русского слова» прекрасную статью г. Полеского «Муравьевские годовщины» (1796-1866 гг.), не могу не передать одного свидетельства, устно мною слышанного от компетентного человека, относительно того, насколько исторически верна молва о жестокости названного государственного человека. Несколько замечаний прибавлю и от себя.
Удивляло всегда меня, что где бы я ни встречал (в глухой русской провинции) мелкого чиновничка, бывшего на службе в Северо-Западном крае при Муравьеве, - несмотря на многие годы, протекшие со времени этой службы, самая живая память хранилась о нем. Неизменно на стене - его фотография в рамке, среди самых близких и дорогих лиц; заговоришь ли: не почтение только, но какая-то нежность, тихий восторг светится в воспоминаниях. Ни о ком еще я не слыхал от подчиненных маленьких людей отзывов, столь мало разделенных, так единодушных не в смысле только суждений, но, так сказать, в их тембре, в их оттенках, интонациях.
Однако я был уверен, что «грозный» диктатор был действительно «грозен»; что в пору суровую, в момент критический - он был жесток. Ни на минуту мне не приходила мысль внутренне осудить его за это: высланный Государем и народом отразить нападение на государство мятежных провинций, он и должен был поступить с ними как укротитель, смиритель, как больно бьющий бич. Мне были, сверх сего, видны там и сям, по встречам же, черты износившейся нации: пороки всех падающих народов, кичливость и угодливость, трусость и жестокосердие; и тщеславие, тщеславие - тщеславие впереди всего и после всего. Эти черты, даже когда по ним больно бьют, как-то не возбуждают к себе сочувствия и сострадания. В «правах» России смирять я также не сомневался, зная несколько историю: ведь Польша собственно не была разделена, насилия никакого ей не было сделано. Она расселась по швам, развалилась ранее; стропила полезли в одну сторону, стены подались в другую, печи рухнули; для людей она сделалась опасным, негреющим, небезопасным, невозможным жилищем; и когда камни рушащейся храмины покатились к ногам соседей, - каждый из них, имевший свой крепкий дом, пришел и взял только строительный материал для своих поделок, и, кстати, из милосердия дал приют у себя и оставшемуся бездомным населению. Только.
Но я вдумывался в характер Муравьева, более занимательный для психолога, для русского, чем все польские ламентации, чем их «политические соображения». Меня удивляла молва о жестокости его, столь твердая в самом русском обществе. Он был суров, груб; был беспощаден в требовательности; был крут в мерах, как капитан корабля среди взбунтовавшихся матросов. Но «жесток», то есть жаден к чужим страданиям? находивший в них удовольствие?.. Он не мог быть жестоким уже потому, что был мужествен. Жестокость есть черта женственных натур, натур слабых и боязливых, сантиментальных и фантастических. По закону связности психологической, в Муравьеве-Виленском эта черта не совмещалась со всеми другими, и притом хорошо засвидетельствованными. Скорее - это черта поляков, черта Рима в пору его изношенности, греков в эпоху упадка («30-ти тиранов» в Афинах); всегда людей утонченных и извращенных. Франция прошлого века, утопающая в «amour pour l’homme»133, в порывах к «fraternite»134, в мечтах о paix perpetuelleи135 назавтра пляшущая перед дымящеюся кровью гильотиной - вот это история; Нерон, отворачивающийся от смертного приговора со словами: «О, как не хотел бы я в эту минуту уметь писать» - вот это психика. Но Муравьев? гроза мятежников? этот суровый русский Кориолан?.. Все мне казалось загадочно и сомнительно...
Около 89-го года, служа в г. Ельце Орловской губ., я случайно встретился с членом окружного суда г. Шиповаловым - почтенным пожилым человеком, известным в городе умом своим, спокойствием и мягкостью характера; он, без сомнения, жив и может опровергнуть слова мои, если в них заключается ложь; говорил я с ним один только раз, и не помню, да едва ли знал и тогда, даже имя и отчество. Случайно упомянута была в разговоре Польша и, по «ассоциации идей» - Муравьев; он служил при нем; с жадным интересом я спросил его - о «жестокости».
К удивлению, он сказал мне, что это был человек редкой, но скрытой гуманности. «Его жестокость есть чистый миф, им же созданный. Правда, были меры крутые, как сожжение “такого-то” имения, где, при соучастии его владельца, были предательски вырезаны безоружные русские батраки»; он назвал еще факты; «но что касается казненных собственно - их было до того мало, что нужно удивляться искусству и мастерству, с каким он избег большого их числа». Он назвал точную их цифру (к великому сожалению - я ее не помню; если ему попадется эта моя заметка, он сделает услугу русскому обществу, напечатав ее); «и только - это я знаю по документам»: он назвал место своей службы.
«Но Муравьев знал характер поляков и захотел навести на них ужас: он окружал каждую казнь величайшею помпой; делал это грандиозно и шумно - так что отдавалось в самых глухих местечках края; поляки прятались и ежились, слабели и без того в небольшой своей энергии. Он достиг цели: край затих, замер в страхе; след этого страха хранится и до сих пор, сказывается в ненависти к имени Муравьева. Никто не знает, однако, что этот страх есть страх испуганного воображения, под которым нет почвы фактов».
Конечно, слова рассказчика не были эти именно; но эта именно мысль, в ее подробностях, без малейшего изменения, была в словах его, которые я слушал с изумлением, и теперь, к 30-летней годовщине смерти Муравьева, считаю своевременным передать их обществу.
Едва ли, в далеком потомстве, не придется признать его не только лучшим практическим выразителем за этот век русского исторического credo, но и для самих поляков суровым, очень суровым дядькой, который многое для них спас, научив их самому важному в их положении, уменью - повиноваться, сдерживать себя, не распускаться. Злыми гениями Польши были и останутся те, которые действовали обратно.
Л. А. Тихомиров ВАРШАВА И ВИЛЬНА В 1863 г. 136
1
Однако же центральная эпоха русско-польского столкновения для многих доселе покажется столь загадочной, как и сама фигура Виленского «диктатора». Эта внушительная фигура, как на камне, врезалась в воображение современников и в память потомства. Но граф разделяет поныне судьбу многих крупных исторических деятелей, сила действия которых, чаруя одних, возбуждая проклятия других, как бы заслоняет у всех спокойное понимание самого ее содержания. А между тем понятно, что лишь содержание силы способно придать ей историческое значение...
Загадочность 1863 года доходит у многих до того, что они спрашивают даже: действительно ли М. Н. Муравьев был усмирителем мятежа? Нужен ли был бы М. Н. Муравьев, если бы у нас в Вильне был второй граф Ф. Ф. Берг? Этот вопрос может показаться странным и, однако, его делали...
Между тем для современников решающее значение графа Муравьева было совершенно ясно. Он, и никто другой, считался усмирителем мятежа. Варшавский Жонд понял далекого Виленского врага после первых же ударов и, не довольствуясь посылкой целого отряда собственных убийц (в том числе известного Беньковского), прибег к такой совершенно экстраординарной мере, как назначение 25 000 р. вознаграждения кому бы то ни было, кто убьет графа...
«Дадут больше», — только и промолвил граф Муравьев, услыхав объявление Жонда. И, действительно, наверное бы дали больше, если бы не наступило так быстро время, когда уже заговорщикам ни о каких наступательных действиях невозможно стало и помышлять.
Столь же ясно было решающее значение М. Н. Муравьева во впечатлении русских людей. Его все признали главой. Он вдохнул во всех силу и веру. Масса народа также отнеслась к нему очень быстро, как к народному начальнику. Даже крестьяне-поляки Августовской губернии, не входившей в его область, прислали к нему депутацию с просьбой присоединить их губернию ко вверенному ему краю. И граф Муравьев занял своими войсками чужую губернию раньше, чем получил на то разрешение. Несколько позднее он точно так же занял два соседних уезда Плоцкой губернии. Общепризнанный авторитет Муравьева, как главы усмирения, пропитывал собой воздух мятежного края, побуждая к действию и Варшаву, и Киев. Виленский генерал-губернатор вмешивался и в петербургские дела. Его настояниями была разрушена польская организация в столице. Против него ворчали, строили козни, и все-таки — он заставлял идти за собою. А между тем известно, что в Петербурге власть графа с начала до конца висела на волоске. Он был призван скорее как нечто неизбежное, нежели желательное, наподобие того, как было в 1812 году с Кутузовым.
На первый взгляд, во всем этом есть какая-то странность. Начать с того, что мятеж был польским. Его настоящий очаг, его источник силы и центр составляла Варшава. Почему же виленский генерал-губернатор явился столь страшным для мятежа, почему он, а не кто другой, усмирял мятеж... Почему, наконец, это было сделано не из Варшавы, а из Вильны?
Как объяснить себе поразительно быстрое изменение всего положения дел с появлением Муравьева?
Не следует забывать, что в 1863 году Россия переживала скорее русский, чем польский кризис. Ряд ошибок с 1856 года привел нас к такому положению, что русское дело казалось проигранным. Таково было впечатление бунтующих поляков, таково было мнение вяло защищающихся русских; так, наконец, начали смотреть даже державы Западной Европы.
Но вот явился на сцену действия М. Н. Муравьев, и через 2 месяца — столь же единодушно — поляки, русские и Западная Европа начинают убеждаться, что перед ними разыгрывается не русский, а польский кризис.
Как случилось это превращение? Политика Варшавы, господствовавшая до 1863 года, и политика Вильны, ее затем сменившая, дают ключ к уяснению этого ряда вопросов.
2
Противоположение тогдашней политики варшавской и виленской в общем, - это противоположение политики узко «административной», специфически «петербургской», безыдейного «управления», «ведения дел», и политики национальной, знающей свои исходные пункты в исторической реальности и свои цели, совпадающие с целями национальной будущности России.
Эта безыдейная «петербургская» политика появилась в Варшаве вовсе не с 1856 года. Грозная рука графа Паскевича сдерживала Царство Польское в редком спокойствии. Но далее этого наместник точно так же не шел. Его упрекали даже впоследствии, что он «ополячил Польшу».
Во всяком случае, к 1856 году Польша оставалась той же Польшей, со всеми историческими фантазиями, со всем своим легкомыслием, с обычным преобладанием элементов беспорядка над элементами устойчивого развития.
Новое царствование сразу и без малейших оснований возбудило в Царстве самые преувеличенные ожидания. Когда Государь посетил Варшаву в мае 1856 года, Его приняли восторженно, потому лишь что ожидали от Него каких-то особых льгот, введения Органического статута или чего-либо подобного...
Нельзя по этому случаю не отметить факта, резко отделяющего «петербургскую» политику от исторического гения русских Государей. Подобно тому, как император Николай I явился «первоначальником» русского дела в Западном крае, император Александр II первый выставил истинно русскую программу в Варшаве.
Как ни был тронут Государь выражавшимся ему чувством преданности, однако именно в это время он заявил Царству программу политики, в высшей степени благосклонной, но в то же время глубоко проникнутой исторической идеей русско-польских отношений. Речь 11 мая 1856 года останется навсегда документом, показывающим, как
высоко стоял лично Император Александр II над своими помощниками. Ничего столь ясного не формировал до него никто из русских людей, не говоря уже о поляках. В самом деле, программа, начертанная Государем, давала полякам забвение прошлого, обеспечивала им заботу Государя о благе их наравне с русскими, но в то же время требовала отказа поляков от мечтаний («point des reveries»137) и указывала им не только государственное единение, но полное слияние с остальными народами Империи.
К сожалению, голос русского Государя прозвучал в 1856 году как глас вопиющего в пустыне Российской империи. Ни поляки, ни русские исполнители предначертаний Государя не оказались способны их понять.
Поляки только и жили мечтами о прошлом, о Польше от моря до моря, о своей обособленности и автономии. Русские же государственные люди не имели просто никакой идеи в отношении польской политики.
При Паскевиче такой идеей было внешнее спокойствие и беспрекословное повиновение. Но забвение прошлого, объявленное Государем, и общий либеральный дух, охвативший Петербург, естественно упраздняли политику Паскевича. Что же новый наместник и вечно колеблющийся князь М. Д. Горчаков привносил вместо упраздняемых «ежовых рукавиц» прошлого? В идейном смысле совершенно ничего. «Царство Польское» в Российской империи было сплошным «вопросом». Князь же Горчаков начал просто «править», «вести дела», как будто вокруг него не было ровно никаких «вопросов». Эти «дела» велись благодушно, снисходительно, с теми неистощимыми поблажками, которыми «петербургская политика» проникается каждый раз, когда снимает ежовые рукавицы. Поляки получили амнистию. Им разрешено было печатать в Варшаве Мицкевича, до тех пор находившегося под строгим запретом. Им разрешили говорить о их нуждах, им разрешили кажущиеся невинными организации, как знаменитое Земледельческое общество. Администрация благодушно и равнодушно смотрела на появляющиеся выходки оппозиционного и «польскопатриотического» характера. Полиция стала приходить постепенно в полный упадок и никому ни в чем не мешала.
Какую идею все это несло в себе?
Никакой. Это было «примирение», не разбирающее с чем оно мирится, одинаково благодушное к друзьям и врагам...
Поставленная Государем программа не только «слияния», но даже «единения» была немедленно забыта. Не вспоминали о ней ни поляки, ни русские. Поляки начали понемножку предъявлять свои желания, русские - понемножку исполнять их.
Но все это сразу отклонилось от идеи единения и слияния к совершенно противоположным требованиям обособленности в языке, управлении, учреждениях в смысле национально-польской автономии.
3
Если бы варшавская (она же и петербургская) политика с 1856 по 1863 годы имела хотя какую-нибудь идею, то есть знала, куда она хочет идти, - она без труда заметила бы, что из данного положения без осмысленного противодействия ему нет другого исхода, кроме революции. Но политика наша «своих» идей не имела, а потому просто плыла по течению, создаваемому тем, кто имел свою идею, то есть полякам. Вся наша политика сводилась к тому лишь, чтобы как-нибудь оттянуть удовлетворение желаний поляков. Удовлетворить их в возможно вредной для России степени и, наконец, - кротостью, мягкостью, уступками предотвращать недовольство и раздражение поляков. Все это, как легко было бы и предвидеть, давало прямо противоположные результаты.
Поляки ни на одну минуту не задумались над указанной Государем программой единения и слияния. Нельзя их за это и обвинить. Программа эта была русская, а не польская. Русские, стало быть, должны были встать во главе ее практической разработки, но ничего подобного не сделали. В то же время мы открыли полякам фактическую свободу действия. Естественно, что они пошли в своем действии туда, куда влекли их собственный исторический инстинкт и собственная историческая природа.
В Польше немедленно началась группировка общественных элементов по внутреннему сродству. Мы никому не мешали. Явились «белые» со своим Земледельческим обществом. Явились либерально-буржуазная «Рессурса» (выросшая из купеческого клуба). Явились многочисленные кружки «красных». Эти, положим, принуждены были действовать тайно, но в сущности ничего от того не теряли, потому что начальство их почти не трогало. Если в Варшаве были аресты, то почти исключительно вследствие демонстраций; собственно же организация имела возможность производиться совершенно спокойно. В 1861 году, когда белые собрали свой «вальный съезд» в Варшаве и выбрали «делегацию», которая должна была руководить их партией, красные, недавно собиравшиеся на съезде Мирославского в Гомбурге (Гессенском), решили составить свой «вальный съезд» также в Варшаве и сделали это совершенно беспрепятственно, тоже выбрав «делегацию». Оба эти партийные «правительства» действовали в Царстве едва ли не с большей легкостью и удобствами, нежели правительство русское.
То же самое происходило в «Литве».
Поляки делились на партии, сходились, расходились, заключали союзы и ссорились между собой. Но в одном они совершенно сходились. Они хотели не «единения», не «слияния» с остальными народами империи, а стремились к реставрации исторической польской идеи, хотели собственной самостоятельности и владычества над русскими во всех пределах Речи Посполитой. Никогда они в то время нас в этом отношении не обманывали. И белые и красные всех оттенков совершенно ясно говорили, чего они хотят. В этом отношении заслуживает, между прочим, высокого внимания записка известного Сераковского. Это настоящее историческое credo поляка. В нем он, между прочим, заявляет:
«Если бы к Российской империи принадлежало только так называемое Царство Польское, вопрос польский не представлял бы особенных затруднений... Между тем, если вникнуть в дело, оказывается, что польский вопрос едва ли не самый важный изо всех вопросов, решение которого предстоит Европе»...
Почему это?
«Причина этого, - отвечает Сераковский, - так называемые западные губернии... Нынешнее Царство Польское составляет только часть великого целого - бывшей Речи Посполитой».
Затем, всячески унижая русскую идею и возвеличивая польскую, Сераковский указывает совершенно верный исторический факт, что «в западных губерниях встречаются две цивилизации, две народности». «Подобные встречи причиняют обыкновенную борьбу». Сераковский указывает, что борьбы можно избегнуть только «федерацией»... Вот и все «единение», какое допускали поляки.
Но и такое «единение» они допускали, в сущности, только как военный маневр. Они прекрасно понимали, что оно невозможно, и все рассчитывали так или иначе вырвать у России ее области. Одни, белые, шли к этому постоянно, стараясь избегнуть открытого восстания. Другие, красные, всячески вызывали восстание, ободряемые видимыми признаками русского бессилия. Но Польша, как самостоятельное целое, владеющее Литвой, Белоруссией, Украиной, - одинаково оставалась их общей целью.
Громадная манифестация в честь Люблинской унии против Ков-но, где на глазах наших властей братались «представители» Литвы и Польши; такая же манифестация у Городли для заявления соединения Польши и Руси, - все это уже в 1861 году ясно показывало стремления поляков. Требование присоединения к Царству Польскому осмеливались, наконец, прямо выразить Государю в своих адресах дворянства Подольской и Минской губерний.
Вот к чему шли поляки. К чему же шла наша варшавская политика? Соглашалась ли она на требование? Нет. Мешала ли она ему? Тоже нет. Она только старалась всех «успокоить», «примирить», ничего не дать и всех этим удовлетворить.
4
Ничего не может быть прискорбнее для русского самолюбия, как воспоминание об этих годах, с 1856 до 1863. Здесь трудно даже обвинять отдельные личности. Тут сменился длинный ряд управителей края: Горчаков, Сухозанет, граф Ламберт со злополучным Герштенцвейгом, Лидере... Не говорю о последнем периоде, когда владычествовал Велепольский. Не было в Варшаве недостатка в людях и очень энергичных, хотя, к сожалению, на второстепенных местах. Но никакая смена лиц, умов и энергий не могла принести изменения в общем ходе событий, потому что здесь с польской стороны неудержимо развивалась действительно историческая идея, глубокая, тысячелетняя... С нашей же стороны была лишь идея административная.
Поляки организовывались, делали манифестации, сначала робко, потом все смелее. Мы то давали им отпор, то пускались в поблажки. Эти поблажки были иногда возмутительны, как, например, допущение «делегации» Рессурсы, на 40 дней затмившей официальную полицию, или - допущение Земляческого общества превратиться чуть не в национальное представительство. Эти поблажки были так непостижимы, что сами повстанцы, как Авейде, впоследствии заявляли, что мы несем нравственную ответственность за мятеж. Но ведь мы не всегда были кротки и уступчивы. Иногда, приведенные, наконец, в отчаяние все растущей дерзостью поляков, их оскорблениями, их готовностью чуть не забрать нас живыми в плен, - варшавские политики очень огрызались. 8 апреля 1861 года Хрулев, давно кипевший стыдом за русское имя, открыл на улицах Варшавы такую пальбу, что перестрелял 200 человек. Два раза в Варшаве было объявлено военное положение. Но все это не имело ровно никакого значения. Конечно, при первом проявлении серьезной энергии с нашей стороны, поляки смирились. Водворялась тишина. А потом - мы все-таки не знали, что делать, и потому понемножку снова начинали уступать, то есть давать в ничтожных дозах то самое, что хотели поляки, то, что их от нас обособляло и давало им общественную организацию, способную вести это обособление дальше. Все это было неизбежно, пока у нас не было идеи, ибо положение безыдейное есть положение бессмысленное. Высокознаменательный факт, что мы, именно мы, а не поляки обрадовались маркизу Велепольскому, который возвел в систему постепенное укрепление польской силы. Поляки, напротив, с характерным легкомыслием отвертывались от этой системы и ненавидели Велепольского более, чем русских. На его жизнь было даже два покушения...
Итак, никакой своей идеи мы не умели дать Варшаве. Мы старались только ослабить притязания польской идеи, но раз давши полякам нравственный перевес над собой, не могли, конечно, избежать последствий этого перевеса. Сила поляков росла, росла их самоуверенность, а с ней и дерзость. Мы же, раз отрешившись от своей идеи в политике, естественно, могли лишь понижаться все более и, в конце концов, возложив все упования на маркиза Велепольского, собственное внимание устремили на чисто внешнее поддержание порядка, потеряв даже силу следить за подкладкой манифестаций. Безыдейность власти и ее колебания так деморализировали всех, что громаднейший когда-либо бывший на свете заговор оставался для властей невидимым и не возбуждал их внимания.
Опубликованная переписка 1861-62 годов Государя с наместниками и властями Варшавы наполнена сведениями о демонстрациях.
Государю тщательно докладывают о всяком ничтожном сборище; не забывают отметить с радостью, если в городе было все спокойно... Но о заговоре - ни слова.
Между тем многочисленные организации возникли в крае уже в конце 50-х годов. С мая 1861 года началось сплочение их в одну крупную силу. В августе 1861 года была выбрана «делегация» красных. Затем началась вербовка повстанцев. К 1862 году в списках Жонда Народовего состояло 25 000 человек, готовых идти в бой, распределенных в различных воеводствах, на которые Жонд разделил Польшу, имея всюду своих начальников. Уже закупалось оружие, а мы - почти не знали о самом существовании заговора, сажали в цитадель мальчишек, демонстрирующих по костелам, и не замечали 25-тысячной армии со всем штабом и складами оружия! Ирония судьбы решила, чтобы последнюю искру мятежа бросил не кто другой, как Велепольский.
Маркиз Велепольский, преследуя свою систему постепенного мирного восстановления Польши, более всего боялся внешних проявлений мятежа, способных вызвать правительство из апатии. Под его-то влиянием решен был знаменательный «набор», объявленный в октябре 1862 года. Сам по себе этот набор, 10 000 человек, конечно, был неотяготителен для края, но он должен был быть произведен исключительно среди городского населения.
Велепольский рассчитывал таким путем ослабить толпу городской вольницы, чересчур разбушевавшейся и каждую минуту способной компрометировать его тонкие комбинации. Но мера привела к совершенно обратным результатам. Жонд Народовый решился выступить от -крыто и объявил, что он не допустит до набора.
Перчатка была брошена. Не могло отступить правительство, не мог отступить и Жонд. Впрочем, по существу это не имело значения. Мятеж был решен, и вопрос о наборе лишь немного ускорил восстание, побудивши Жонд начать его с силами менее организованными, нежели он желал.
5
Любопытно, что и мы, даже при этом выступлении Жонда в качестве польского правительства, все-таки ничего не предвидели. Изменническое пособие мятежу со стороны нашей собственной администрации польского происхождения, в руках которой мы оставляли край, - было так ловко, что в этот решительный момент, когда уже началось бегство «до лясу» и банды Жонда по всем «воеводствам» поспешно вооружались, - мы все-таки ничего не знали и не видели.
Наши разбросанные войска не получали никаких инструкций, ничего не ждали и потому были захвачены врасплох.
Когда с 3 на 4 января 1863 года нами был произведен упомянутый набор, Жонд немедленно же назначил на 10 января восстание, и в ночь с 10 на 11 января совершенно неожиданно на наши войска произведены были нападения банд в 10 пунктах (Полоцк, Плонск, Едльня, Бедзентнын, Шидловец, Любартов, Кодень, Родин, Сточек). Мы, следовательно, до самого начала военных действий не замечали такой организации, которая способна была в 5 дней мобилизировать свои банды для внезапного одновременного действия почти на всем протяжении Царства!
Начались военные действия. В исходе их, казалось, трудно было сомневаться. Повстанцы бились храбро и действовали, по признанию военных писателей, с большой сообразительностью. Но мы при всем хаосе в наших действиях имели 90 000 регулярного войска против 2530 тысяч плохо вооруженных волонтеров. Жонд совершенно разумно приказывал уклоняться от открытого боя. Тем не менее наши войска успели принудить повстанцев в течение января, февраля и марта к 40 боям, в которых банды были, казалось, совершенно рассеяны.
И что же? На деле оказалось совершенно не то. Рассеянные банды возрождаются, усиливаются, появляются в новых местах. Жонд Народовый получил характер какого-то действительного правительства, воюющей стороны, он почти признается Европой, и, в довершение всего, восстание, опять же совершенно неожиданно для нас, переносится, кроме Царства, в Литву и Белоруссию. В Литве мы уже также ничего не видели, как и в Петербурге. А в белорусских и литовских губерниях давно образовались тоже два Жонда - «белых» и «красных». Они уже вступили в союз с Жондом Варшавским. В Петербурге организация Огрызко и Сераковского насчитывала более 1000 членов, имея свои отделения по всей России. Она находилась в тесной связи с Вильной... А мы нигде ничего не видели, и все повсюду оказывалось «совершенно неожиданным». Край при благодушном управлении В. И. Назимова был в довершение беды почти без войска. Здесь совершенно ничего не ожидали, и хотя войска разгоняли банды, но в общей сложности мы с изумительной быстротой оказались владеющими лишь городами. Литовский отдел Жонда, имеющий резиденцию в Вильне, - оказался господином громадного края.
И мудрено ли видеть такой исход? Наши администраторы теперь возились с бандитами, как прежде возились с манифестациями. Они видели только результаты. Но ту силу организации, которая формировала банды, они не умели заметить, не говоря уже о их бессилии воздействовать на дух, порождавший организацию.
Положение стало прямо критическим.
Поляки сознавали себя победителями. Победителями их считала и Европа.
Наше бессилие казалось столь явным, что 5 апреля Франция, Англия и Австрия осмелились прямо вмешиваться в наши дела с официальным посредничеством между нами и Польшей. Они требовали полной амнистии, введения представительного правления в Польше, признания польского языка официальным.
Князь A. M. Горчаков старался оттянуть категорические требования, способные превратиться в ультиматум. Но к чему вели оттяжки?
Амнистия действительно была дана полякам 31 марта, в первую же минуту, где можно было иметь хоть призрак победы над бандитами. Но Жонд отвечал, что поляки взялись за оружие не для амнистии, а для освобождения отечества... За русский язык мы тоже не особенно стояли. Уже в октябре 1862 года речь Наместника Государственному совету Царства была произнесена по-польски. Да и вообще мы были близки к тому, чтобы махнуть рукой на «Царство»...
Но «Царство» тянуло за собой Литву!..
В предвидении возможной высадки французских войск в Курляндии Сераковский предпринял отчаянную экспедицию на Север, которая при удаче могла иметь роковое значение для России. Дерзость поляков и наше бессилие были так велики, что повстанцы под покровительством местного жандармского начальника (поляка) замышляли овладеть Ди-набургом и, по свидетельству М. Н. Муравьева, легко могли бы это сделать, если бы безрассудное нападение графа Плятера на русский военный транспорт не разоблачило преждевременно этих планов...
Положение казалось безвыходным. Не умея справиться с поляками один на один, что стали бы мы делать при вооруженном вмешательстве держав?
6
Но в это критическое время, когда варшавско-петербургская политика довела дело до кризиса, выступает на сцену действия Россия, русский дух. В апреле месяце оскорбленное и встревоженное патриотическое чувство вызывает ряд русских демонстраций. Из Петербурга, из Москвы, изо всех мест начинают являться верноподданнические адресы в ответ на дерзость Польши и Европы. Раздался громкий голос М. Н. Каткова, ставшего трибуном России. Этот порыв русского чувства, столь понятный сердцу Государя, произнесшего упомянутую речь 11 мая 1856 года, выдвинул вперед и М. Н. Муравьева.
«Ввиду европейского напора и могущих быть военных действий, -рассказывает М. Н. Муравьев, - в апреле 1863 г. был вызван в Петербург знаменитый брат его, Карский герой». Речь шла о защите Балтийского берега. В беседе с Н. Н. Муравьевым Государем было принято и другое важное решение: послать в Вильну М. Н. Муравьева вместо Назимова.
Почему именно в Вильну, а не в Варшаву? Быть может тут имели влияние кое-какие личные соображения, а более всего, вероятно, именно потому, что о Царстве Польском, по свидетельству М. Н. Муравьева, «уже и речи не было». Думали о спасении «Литвы». Государь, предлагая М. Н. Муравьеву Виленское генерал-губернаторство, «рассказывал обо всех Своих опасениях относительно возможности удержать за нами Литву, особенно при европейской войне, которую должно ожидать после сделанных нам угроз Францией и Англией». Согласившись на желание Государя, М. Н. Муравьев, однако, высказал ему заранее, что петербургские деятели будут ему не помогать, а мешать, и, выяснив свою систему, требовал, чтобы Государь настоял на принятии этой системы и в Царстве. «Необходимо, - говорил он, - чтобы как в западных губерниях, так и в Царстве, была одна система, т.е. строгое преследование крамолы, возвышение достоинства русской национальности и самого духа в войске». Относительно западных держав М. Н. Муравьев также требовал «решительного отпора».
Государь вполне согласился с мнением М. Н. Муравьева, хотя последнего буквально в тот же день уже начали стараться подорвать у Государя.
Вообще, как и предвидел М. Н. Муравьев, его борьба с либеральствующими и бюрократствующими петербургскими деятелями была и осталась наиболее трудной частью выпавшей на его долю задачи.
Как бы то ни было, система, так быстро умиротворившая мятеж, принадлежит не кому иному, как М. Н. Муравьеву. Ее распространение на Царство Польское - было вытребовано им же. Наконец, его инициатива решила - хотя не сразу, а лишь после быстрых его успехов - энергический отпор наш европейским притязаниям.
7
Здесь было излишне входить в описание действий М. Н. Муравьева. В общих чертах они всем известны, в подробностях же для изложения своего потребовали бы особого тома. Но теперь время поставить себе вопрос: в чем же состояла сама сущность совершенного Муравьевым дела и секрет его успеха, который поставил Вильну во главе усмирения мятежа?
Как мы видели, некоторые частности событий, как многое в истории, зависели от простой случайности обстоятельств. При несколько иных условиях (если бы, например, нам угрожала Германия, а не морские державы) М. Н. Муравьев, вероятно, мог быть назначен не в Вильну, а в Варшаву. Существо дела, определившее исход русско-польского столкновения 60-х годов, нимало не изменилось бы от того, где бы начал Муравьев действовать. Конечно, из Петербурга он мог бы еще более развить свою систему, если бы Петербург 60-х годов был совместим с присутствием таких людей во главе управления.
Случайность личных отношений и временных условий определила назначение М. Н. Муравьева именно в Вильну. Но он принес с собой, в своей личности, ту систему действия, которая подсказана была ему его глубоким русским инстинктом, его редким пониманием сущности русско-польских отношений, его умом, математическая ясность которого сочеталась со столь же редкой энергией характера.
Эта ясность и продиктовала усмирителю мятежа его крутые меры. Смешны толки о какой-то жестокости М. Н. Муравьева. Его система была прежде всего обдуманна. Люди его калибра и его закалки делают то, что нужно. Лично, по всем свидетельствам, человек очень добродушный, - он, если нужно, не останавливался перед строгостью, и, если нужно, был краток, хотя бы это в данном случае противоречило его личному чувству. В начале деятельности нужны были меры крутые, терроризирующие, но М. Н. Муравьев немедленно их прекратил, как только его рассуждение показало возможность и даже пользу этого прекращения. Сама энергия действия была им развернута в такой усиленной степени потому, что это, как показал его трезвый математический ум, было при данных условиях необходимо.
Не следует, впрочем, преувеличивать размеров репрессии, примененной М. Н. Муравьевым. Он лишь умел применять ее так, чтобы подействовать на воображение врагов, поражать их, устрашать, но по этому самому уменьшить число необходимых жертв. За все время генерал-губернаторства его казнено 128 человек. Должно вспомнить, что повстанческие «жандармы-вешатели» и «кинжальщики» со своей стороны «казнили» по малой мере в десять раз больше.
Кроме казненных, Муравьев сослал 972 чел. на каторгу и 1427 чел. на поселение (всего в Сибирь 2399 чел.). Остальные наказания его - высылка в Россию (1529), поселение на казенные земли (4026), сдача в солдаты (345) и в арестантские роты (864) - имеют характер дисциплинарный или даже с трудом могут быть причислены к наказаниям. В сущности, крики против Муравьева, без сомнения, значительно определяются тем обстоятельством, что он карал по преимуществу и совершенно основательно интеллигенцию. Понятно, что она и подняла крики. Действительно, из 2304 человек, сосланных Муравьевым в Сибирь, на интеллигенцию приходится 1340 человек, а на простые сословия - 964. У графа Берга отношение совершенно обратное: из 1824 человек, сосланных им в Сибирь, 1634 человека приходится на злополучные «простые сословия», а на подстрекающую «интеллигенцию» всего 189 человек!
Но не нужно забывать, что заговор в Литве и Белоруссии был главным образом магнатско-шляхетский. Белые играли здесь самую энергическую роль и вместе с тем самую изменническую. Они успели добиться даже официального подчинения себе красных. На белых держался весь мятеж.
Как бы то ни было, возвращаясь к вопросу, сущность системы Муравьева состоит вовсе не в крутых мерах и даже не в энергии. Она состояла только в том, что к данному частному проявлению польско-русского спора М. Н. Муравьев отнесся совершенно так же, как относится к нему сама история русская. М. Н. Муравьев был и умен, и энергичен, и неутомимый работник, но его поразительный успех зависел, прежде всего, от того, что он имел русский гений, а потому и русское историческое чутье. Он понимал, что против нас идет польская историческая идея; он отнесся к ней с точки зрения русской исторической идеи, и без малейшего страха, потому что понимал, что русская идея, пока она остается сама собой, -сильнее польской. Как поляк Сераковский, русский Муравьев всем существом своим сознавал, что в Западных губерниях сталкиваются две народности и две цивилизации. Русский человек выразил бы идею Сераковского более точными словами - «это есть столкновение двух типов». Для победы - нужно, стало быть, развивать свойства своего типа. Этого не понимали либеральные и бюрократические деятели петербургских министерств, но это чувствовал самый последний мелкий виленский чиновник, каждый солдат Бакланова, каждый мужик белорусской деревни.
Они все сразу поняли Муравьева, как только услыхали его, и сплотились вокруг него, как тело около души.
М. Н. Муравьев, в смысле собственно борьбы с мятежом, не применил ничего, кроме самого обыкновенного здравого смысла, но он мог это сделать только потому, что, стоя за русское историческое дело, сознавал себя правым. Он мог бить врага без нервничанья, со спокойной душой, чего не было ни в Варшаве, ни в Петербурге, где, потеряв русскую душу, считали себя виноватыми перед поляками, а потому не могли действовать ни спокойно, ни твердо. Но, сознавая себя правым, сознавая, что стоит за святое дело, Муравьев не имел нужды в больших рассуждениях, чтобы понять всю систему борьбы. Понятно, что нужно было бить врага в центре, разбить его там, где источник его силы, рубить корень, а не концы ветвей. Назимов писал в Петербург, что всю силу составляют ксендзы, а потому с ними необходимо поладить. Муравьев внимательно прочитал бумагу Назимова, задумался и сказал: «Да, это очень важно... Непременно повешу ксендза, как только приеду в Вильну...».
Не забудем, однако, что польское духовенство не только стояло во главе мятежа, не только поджигало народ и устраивало в монастырях склады оружия (иногда отравленного), но ксендзы, как Мацкевич, были начальниками банд и даже лично состояли «жандармами-вешателями», и лично совершали убийства (ксендзы Плешинский, Тарейво, Пахельский и т.д.).
Точно так же Муравьев понял, что необходимо обуздать польских помещиков. Польша вся в «помещиках», в шляхте, в шляхетском духе. Такова она в Западном крае. Отнять от мятежа шляхту - это значило сковать всю его силу. Точно так же Муравьев понял, что недостаточно разгонять банды или ловить кинжальщиков, а нужно истребить саму организацию. Он таким путем и пошел и в 4 недели исправил у себя, в «Литве», то, что 6 лет портила варшавская система. В ноябре же 1863 года мятеж был уже вполне уничтожен. Успехи были столь быстрыми, что уже в июле мы могли дать западным державам отпор, достойный России, и державы смирились, потому что сами увидели, что сила на стороне России, а не Польши.
Но, искореняя собственно мятеж, М. Н. Муравьев тем же русским чувством и сознанием понял, что здесь идет спор более глубокий: о русском или польском начале в самой жизни края. И он сделал все, чтобы поднять и укрепить русскую народность. Церковь, язык, школа, освобождение крестьян, их независимость от ополяченной шляхты, посильное оживление умственной русской жизни края - ничего не было забыто. М. Н. Муравьев, как сам русский человек, не имел никакого труда помнить, что нужно русскому человеку. Трудиться приходилось только на работе административной. Но система не выдумывалась: она была у него в сердце, в его чувстве...
Труднее, казалось, перенести систему М. Н. Муравьева в пределы Царства, где русское дело в «борьбе двух цивилизаций» не имело за собой опоры этнографической и исторической.
Система, однако, с соответственными изменениями была перенесена и в «Царство».
Выше мы отметили мнение, будто бы граф Ф. Ф. Берг действовал не менее успешно, нежели Муравьев. Но, во-первых, граф Берг получил фактическую власть лишь в сентябре 1863 года, а окончательное управление Царством только в октябре. Он лишь последовал за муравьевской системой, к этому времени блестяще доказавшей свою целесообразность и, сверх того, граф Берг был понуждаем к тому нравственным давлением М. Н. Муравьева, подкрепленным волей Государя.
Система Муравьева, раз демонстрированная, - понятно - была усваиваема везде. Она перешла и в Киев при генерал-губернаторе А. П. Безаке. Но, собственно, граф Берг, принявший особенно энергические меры после покушения 7 сентября 1863 года на его жизнь, во всяком случае, не умел выдержать характера и затянул усмирение мятежа почти на два года. Все современники (Карцев, Н. Милютин и др.) жалуются на очень скоро наступившие у него подачки полякам. Вообще граф Ф. Ф. Берг, конечно, администратор умный и энергичный, был именно типичным представителем петербургского чиновничьего «оппортунизма» с добавлением прибалтийского феодализма. Главная часть муравьевской системы была для него даже совершенно непонятна, и он ей только по мере сил мешал.
Русская идея Муравьева в применении к Царству Польскому требовала отыскания и усиления в Царстве элементов, сколько-нибудь нам родственных, если не по крови, то духовно. Такой элемент составляло польское крестьянство, и, насколько это возможно, идеи Муравьева были применены в Царстве, но только не графом Бергом, а Н. А. Милютиным, кн. В. А. Черкасским, Я. А. Соловьевым и их сподвижниками.
Излишне говорить о том, в каких плохих отношениях с гр. Бергом они находились при проведении крестьянской реформы 19 февраля 1864 года. А между тем окончательный удар мятежу нанесен был только с этой реформой, избавившей польское крестьянство от порабощения мятежной шляхтой и привязавшей его сердечно к Царю-Освободителю.
8
М. Н. Муравьев есть центральная историческая личность, воплощение русского духа, выступившего на борьбу против польского, в споре 1863 года. Все, что действительно было страшно мятежу, - так или иначе группировалось вокруг Муравьева, или прямо им вдохновленное и наученное, или примыкая к нему сочувственно и союзнически, как к главной силе.
Но невелико еще доселе было господство русского исторического духа в русской политике. К русскому началу обращались в минуту опасности, когда не было другой опоры. Но проходила опасность - и в правящих сферах снова брали верх либерально-бюрократические силы, представители суетливого безделья, легкого плаванья по течению событий, неголоволомного «ведения дел» без идеи, без принципа и цели. Прошла опасность. Мятеж раздавлен... И Муравьев, как сам предвидел с первой же минуты, - удаляется от дел, уступая место людям «попроще».
Конечно, с его удалением не могла сразу рухнуть его система. Он оставил учеников, друзей, последователей. Вильну он оставил даже спокойно, в руках генерала Кауфмана. Да и помимо людей система не могла погибнуть, потому что она вся состояла в освобождении действия самого исторического процесса. Он и сам за себя борется даже там, где за него нет никаких официальных деятелей.
Но сила безнационального бюрократического начала немедленно сказалась по уходе, а тем более по смерти этого выразителя русского духа. Везде, на всем пространстве спорного края, начинаются колебания, перерывы русского развития, появляются даже эпохи прямой измены русскому делу, когда русские в Вильне, на Волыни, в Варшаве снова чувствуют себя под польским игом. Короче - с тех пор прошли все перипетии 1865— 1897 годов, долгие 30 лет, и если бы теперь тень М. Н. Муравьева поднялась из гроба, — то, окинув взглядом обширные пространства, на которых он «забрасывал якори» русского дела, — кто знает, не отвернулся ли бы он с огорчением и укором от развертывающейся перед ним картины?
Немногое осуществилось из того, мечта о чем воодушевляла дружину муравьевских сподвижников. И, однако же, — не проходят бесплодно ни такие люди, ни такие эпохи, не исчезают вызываемые ими силы. В самой Варшаве, дотоле видевшей в самом лучшем случае Паскевичей, ныне еще все полно воспоминаниями о временах фельдмаршала Гурко, столько лет державшего знамя не одной русской власти, но русского дела, русской исторической идеи. Но не все «якори», забрасываемые русскими деятелями, вырывает непогода, не все они засасываются бездонной тиной. Кое-что остается крепко, до следующего раза, до нового свежего и свободного порыва русской силы, и облегчает ей каждый раз новое поступательное движение.
Немного имен Россия может с благодарностью вспомнить за XIX век в деле устроения польско-русских отношений на русских началах, но тем более сильна эта благодарность, и можно смело сказать, что какие бы блестящие имена не выдвинуло на этом поприще наше будущее, — имя М. Н. Муравьева никогда не померкнет между ними. Никто не похвалится, что сумел быть более русским по духу, по силе, по сознательности, нежели этот могучий боец критического 1863 года.
Н. К. Имеретинский ВОСПОМИНАНИЯ О ГРАФЕ М. Н. МУРАВЬЕВЕ
В начале 1861 года в Варшаве, а затем и во всех губерниях Царства Польского и в Западном крае начались серьезные беспорядки, постепенно возраставшие. В 1862 году они приняли размеры возмутительных демонстраций в костелах и на улицах, а в 1863 году обострились открытым вооруженным восстанием. Об отправлении гвардии для усмирения вспыхнувшего мятежа польской шляхты и ксендзов не было и речи ни в декабре 1862 года, ни в начала 1863 года.
Только в одно из воскресений в середине января, на разводе в Михайловском манеже, Император Александр Николаевич, собрав присутствовавших офицеров, объявил им о последних происшествиях в Царстве Польском и о преступных нападениях врасплох на русских солдат и офицеров, мирно расположенных там на квартирах. Причем Его Величество прибавил: «Я не хочу обвинять во всех происшедших грустных событиях весь народ польский. Я вижу только работу революционной партии, стремящейся повсюду к ниспровержении законного порядка. Мне известно, что партия эта рассчитывает и на изменников в рядах наших; но они не поколеблют веры Моей в преданность своему долгу, верной и славной Моей армии. Я убежден, что теперь более, чем когда либо, каждый из вас, чувствуя и понимая всю святость присяги, исполнит свой долг, как честь нашего знамени того требует. В рядах ваших Я сам начал Мою службу, потом несколько лет имел честь вами командовать, и потому чувства вашей преданности Мне хорошо были известны, и Я ими гордился за вас перед покойным Государем, родителем Моим. Уверен, что если обстоятельства того потребуют, вы и теперь докажете на деле, что Я могу на вас рассчитывать, и оправдаете Мое полное к вам доверие».
Эти слова были покрыты единодушным, восторженным «ура». Но и после этих слов Государя еще не было слуха о походе гвардии в Литву. Наконец на исходе января последовало высочайшее повеление о немедленном отправлении 2-й гвардейской пехотной дивизии в Вильну. Через три дня после этого началось выступление этой дивизии из Петербурга, по Варшавской железной дороге, в двухбатальонном составе. Первым выехал л.-гв. Финляндский полк, 31-го января138. О нашей (1-й гвардейской) дивизии пока не было положительно известно; сначала думали даже, что она вовсе не пойдет на войну, однако вскоре и эта дивизия стала готовиться к походу, поджидая бессрочноотпускных для формирования третьих батальонов. Я находился в отпуску в Москве, то есть в сердце России, и сам видел, как сильно оно бьется при народном бедствии, особенно в те дни, когда Отечеству грозит опасность. В смутное время 1863 года я имел случай говорить по душе с земляками из простонародья. На мне был блестящий в те поры преображенский мундир и академический аксельбант. Петербургский простолюдин, привыкший к мундирам, никогда не заговорит первый с офицером-барином: пожалуй, мол, еще в загорбки накладет или в участок стащить велит! Москвич - совсем другое дело! В его глазах «царский гвардеец» имеет вес. Если он чванится - Бог с ним! А не чванится - отчего не поговорить по душе? Кроме того, всякий русский, особенно же московский человек, чутко понимает, что беда сравнивает и сближает людей. Поэтому на улице заговаривали со мною извозчики, а в гостинице - истопники, половые и всякий люд. Бывало так, что один заговорит, а двое, трое подойдут слушать, однако и свое словцо выскажут. Сущность расспросов и суждений я свожу к следующему итогу: «поляки, слышно, опять забунтовали, затеяли у царя нашего земли отнимать, - вон оно что! Так как же это?.. Пора бы и нам пошевеливаться. Неужели сидеть на печи и есть калачи!..». На такие речи я обыкновенно отвечал успокоительно, что у царя много войск, Бог даст, управимся, даже очень скоро, и до чрезвычайных наборов дело не дойдет. Однако мои суждения встречались недоверчиво, неодобрительно: «войско-войском, а помочь-помочью!.. Без подмоги никак невозможно, какие там наборы, время ли очередных сбирать?.. Пока сгонят, пока выправят... и-и-и!.. Улита едет, да скоро ли будет! А поляки, вон, десять губерний оттягать хотят, а с чужих краев к ним идет подмога великая!.. Верно слово!.. Все как есть в газетах пропечатано! А мы-то что?.. Не то мало у нас народу? Пускай Государь слово скажет, прочтут по церквам, так вся Москва подымется, а куда Москва - туда и весь народ. А то начнут бить да калечить, гляди - в войсках реденько станет, а подсоблять кому?.. А всем народом как начнут валить - про запас хватит!..». Странные речи! Случалось мне слышать кое-что в этом роде и перед Крымскою войною, однако ее теперь не поминали, и в словах: «поляки опять забунтовали!» - сказалось воспоминание о польском восстании 1831 года. Еще большую новинку выражало присловье: «В газетах пропечатано!». Стало быть, напечатанное пошло в народ? Да, пошло, и далеко пошло!
Два имени были у всех на уме и на языке: Муравьев и Катков. В какой мере был знаком умиротворитель Литвы с московским писателем до восстания, я не знаю. Народное бедствие сравняло, сблизило их, а сравнивать этих двух людей было очень трудно. Один являлся во всеоружии власти, имея в руках государственный меч, врученный ему самим монархом с обширными полномочиями. В руках Каткова было одно только перо. Он был частным человеком, почти без всякого официального или служебного положения. Однако, из сближения этих двух полюсов сверкнули молнии, испепелившие крамолу до самого корня! Не буду говорить о тогдашних статьях Каткова, они слишком общеизвестны. Не буду распространяться и о том, с каким жгучим интересом прочитывал я «Московские ведомости». Едва ли ошибусь, если скажу, что с ними народ переживал душою и умом каждый день и час смутного времени. Эти статьи укрепляли, ободряли и вдохновляли самого Муравьева. Говорю не наобум, потому что слышал это от самого Михаила Николаевича.
Когда я был назначен им же военным начальником Виленского уезда, случилось, что Муравьев пригласил меня отобедать запросто. Кроме хозяина и хозяйки за столом сидели две-три личности из приближенных, обедавших тут каждый день. Из гостей собственно был я один и в этом качестве попал на почетное место, по правую руку хозяина. Он был в духе и стал подшучивать надо мною, обращаясь к супруге: «Вот, матушка, смотри, это уездный виленский начальник, то есть наш щит, наша охрана! Поклонись ему пониже и проси покровительства!».
Добрейшая и почтеннейшая Пелагея Васильевна, смеясь, поклонилась в мою сторону, а Муравьев вдруг сделался серьезен, взял меня за наконечник аксельбанта и сказал: «Вот это научило вас писать, как вижу из всех ваших донесений. Не удивляюсь, потому что могу судить по себе. Покойный отец мой учил нас строже, чем нынче учат...1, однако думаю, что вы попривыкли также и читать с разбором... Ведь почитывать любите?..». Я спешил ответить, что со дня назначения военным начальником не имею досуга даже просмотреть газеты. Муравьев рассмеялся: «Ну, об этом не жалейте, ничего не потеряли, напротив!.. Я много читаю, потому что обязан читать139 140, но, не говоря о заграничной чепухе, и у нас мало путного нахожу, кроме, однако же, московских газет, - прибавил он твердо и серьезно, - особенно катковская газета, по-моему, самое отрадное исключение!..».
Я ответил очень искренно, простым рассказом о том, как зачитывался в Москве «Московскими ведомостями», упомянув о народном говоре и о том, что, по моему убеждению, статьи Каткова проникают в народ. Муравьев слушал, беспрестанно кивая головою. «Еще бы не проникнуть, - сказал он наконец, - все это доступно народу, потому что писано простым, понятным языком. Катков пишет дельно, убедительно, потому что не боится писать. Это прямой народолюбец, воистину русский человек! Он зорко смотрит, далеко видит и дело понимает так, как оно есть! Дай Бог, чтобы все так понимали!..». Присутствующие единодушно и горячо поддакнули хозяину, и неудивительно: этим двум людям поддакивала в то время вся Россия!
Виноват, я забежал вперед и должен вернуться в Москву, где думал еще погостить, так как имел четырехмесячный отпуск, но не про -шло и трех месяцев, как уже мною получено было известие, что Преображенский полк отправлен в Вильну по железной дороге141. Я живо собрался в путь и приехал в Вильну во второй половине дня. Помнится, что я приехал в среду или в четверг, но по какому-то, пожалуй, суеверно медлил явиться до воскресенья, а хотел прежде отслушать литургию, отслужить молебен и потом уже начать службу. В воскресенье же пришлось мне, как на грех, встретиться с командиром полка на самой паперти собора. Он страшно рассердился и сделал мне резкий выговор за промедление. Кроме этого проступка полковой командир имел основание быть мною недовольным и по другим причинам. С этих же пор полковое начальство стало относиться ко мне сухо, недоверчиво и весьма неблагосклонно. Рота моя была расположена на окраине города, в земляной крепостице, по ту сторону реки Вилии, на полверсты выше Зеленого моста. Это было предмостное укрепление, с открытою горжею, примыкавшею к реке; сообщением служил летучий паром.
Теперь расскажу, в каком положении находился край, когда я в него приехал. В первой половине мая на смену генерал- губернатора В. И. Назимова прибыл в Вильну М. Н. Муравьев. В народной памяти навеки укоренилось понятие, что он усмирил польский мятеж во всей Литве и Белоруссии, причем, конечно, представляется главнейшим понятием вооруженное восстание, которое следовало подавить прежде всего. Но такое понимание деятельности Муравьева не совсем верно. Вооруженное восстание подавлено Назимовым, при помощи 2-й гвардейской дивизии. При Муравьеве во всем Северо-Западном крае оставалось, может быть, две-три сколько-нибудь значительных шайки; при нем произошла серьезная стычка 1-го гвардейского стрелкового батальона с повстанцами, при Попелянах, в высшей степени неудачная, и другая: разбитие ксендза Мацкевича в Зеленковском лесу в августе и сентябре 1863 года. 1-я гвардейская дивизия, то есть часть ее, усмиряла открытый мятеж собственно только в Августовской губернии, временно подвластной Муравьеву142. Задолго до его назначения местность, ближайшая к Вильне, была очищена от вооруженных банд предметником моим, капитаном Павловского полка Тимофеевым. Этот храбрый и способный начальник Виленского уезда разбил при Гедройцах шайку Альбертуса, а при местечке Дубичах шайку Нарбута, самозваного военного диктатора Литвы. Далее, самое большое скопище мятежников в Виленской губернии было разбито и рассеяно под Ширвинтами лейб-гвардии Московским полком. Наконец, шайки, гнездившиеся в лесах Ковенской губернии, самые многочисленные, бывшие под командою способнейших начальников, почти все были разбиты и разогнаны Финляндским полком. Под местечком Биржи генерал Ганецкий уничтожил соединенные банды Колышки и Сераковского, на которого польский Жонд возлагал все свои надежды!
Вообще необходимо поближе присмотреться к главнейшим военным начальникам повстанья, с которыми, повторяю, пришлось иметь дело преимущественно генералу Назимову, а никак не Муравьеву. Кто был помянутый Альбертус и куда он давался, об этом не мог сказать мне даже сам Тимофеев, видевший и убитых и пленных повстанцев разбитой им при Гедройцах шайки. Известно, что повстанцы постоянно лгали и, чтобы скрыть следы предводителя, всегда показывали его убитым, а о личности «довудцы» отзывались незнанием. Шайка Альбертуса, по словам Тимофеева, была крупная по численности, но переполнена всяким сбродом. Большинство составляли гимназисты, сущие дети! В начале восстания, благодаря просто неимоверному попущению местных властей, около местечка Ширвинты Виленского уезда собралась громадная шайка. Не говоря о численности, она имела сильное нравственное влияние, далеко выходившее за пределы уезда, потому что состояла из самых отборных повстанцев, грозила будто бы Вильне и служила передовым постом революционных скопищ Ковен-ской губернии. Северная окраина Виленского уезда изобилует лесами, равно как и смежные местности Вилькомирского уезда; в углу, образуемом рекою Вилиею и границею, к стороне Янова, находятся значительные лесистые местности: верст на 40 вправо, вблизи местечка Ширвинты, прилегает обширный Шешольский лес; еще более вправо, начиная от имения князя Стефана Гедройца, тянется в Вилькомирский уезд столь же обширный лес Изабелинский, соединяющийся с Авант-скими лесами; с другой стороны Вилии находится не менее лесистый Трокский уезд. Все эти леса, разделяемые небольшими промежутками, а часто вовсе сплошные, служили лучшими проводниками шаек. Лежащее близ Ширвинт селение Шешоли с окружающим его лесом было в начале восстания одним из главных сборных пунктов мятежников. Даже в конце 1864 года были еще видны в Шешольском лесу засеки и разрушенные «буды» (шалаши) повстанские. По местным преданиям, здесь стояло целое городище, так что дым и пламя от костров видны были на несколько верст. Сюда приезжали все окрестные помещики, как на пикник, служили мши (обедни), устраивали пиршества, подвозили оружие, провиант и проч.
Шешоли, как и все окрестные деревни, принадлежат государственным крестьянам. Говорили, что предводители и паны платили мужикам по несколько рублей за курицу и вообще щедро сыпали деньгами. Когда вторая гвардейская дивизия серьезно принялась унимать мятеж, отряд л.-гв. Московского полка капитана, по другим рассказам полковника, Крамера явился в Шешольском лесу, где в помянутом скопище собраны были соединенные банды Киршгайлы (помещика Городенского) и Вислоуха (псевдоним). Последний принадлежал к числу искуснейших предводителей банд. Кроме предприимчивости и изворотливости он, кажется, не был чужд основательных знаний военных наук. Говорили, что Вислоух в лесу ставил всегда свою шайку «контом» (углом), так что, если бы наш отряд наткнулся на одну сторону угла, то при удаче повстанцев они могли бы взять нас в тиски; при неудаче же их остальная сторона могла беспрепятственно отступить. В описываемом случай Вислоух советовал будто бы Киршгайле войти поглубже в лес, завлекая русских за собою, между тем как он, Вислоух, спрячется в засаду, так что русский отряд в решительную минуту мог быть поставлен меж двух огней. Но Киршгайло и слышать не хотел, а сказал, что нарочно выйдет на поляну и там столкнется с нашими войсками. В таких-то условиях произошла стычка при деревне Киванцах.
Городенский (Киршгайло) с косиньерами отчаянно лез на русские штыки, но на первых же порах будто бы убит был наповал. Шайка, разумеется, разбежалась, а Вислоух, видя явное дурачество товарища, мало участвовал в деле и ушел цел и невредим. Все это рассказывали пленные повстанцы, в большинстве страшные лгуны. Вероятнее всего, что Городенский успел ускользнуть за границу, а шайка, кто бы ею ни командовал, не могла устоять против натиска дисциплинированных и хорошо вооруженных гвардейцев. Несомненно только то, что дело при Киванцах, или «Ширвинтская баталия», как его называли местные жители, произвело потрясающее впечатление во всем окрестном населении. Не одни повстанцы, а многие обыватели положительно утверждали, что паны и все руководители мятежа, возлагавшие великие надежды на ширвинтское скопище, по уничтожении его совершенно упали духом и страшно бранили предводителей, особенно того, кто скрывал свое имя под псевдонимом Киршгайлы. Его называли храбрым, но неспособным фанфароном, постоянно кичившимся, что убьет всех москалей свинцовыми и золотыми пулями (намек на взятки), а когда дело дошло до расправы, он испортил все дело «поспо-литого рушенья». Результат боя при Киванцах действительно показал, что характеристика Киршгайлы совершенно верна.
Не таковы были начальники ковенских шаек. Из них Сераковский -личность в самом деле недюжинная... Вообще после 1831 года в Петербурге утвердились два столпа польской революции: известный Иосафат Огрызко, главный созидатель польской справы в 1863 году, и Сигизмунд Сераковский. Первый устраивал гражданскую организацию, а второй -военную. После 1831 г. Сераковский был одним из старейших революционеров в России. Еще в 1848-1849 гг. он принадлежал к петербургско -му университетскому польскому патриотическому кружку. Он попался, бежал и пробирался уже за границу, но был схвачен на нашей границе, судим и разжалован в солдаты в оренбургские батальоны. Но даже в серой шинели этот ловкий человек умел вкрадываться в семейства провинциальных властей, давал детям уроки, приобрел доверие и, наконец, протекцию, был помилован и в 1857 году поступил в Арзамасский драгунский полк. В 1859 году он был уже поручиком, поступил в академию Генерального штаба, где отлично кончил курс и был зачислен в Генеральный штаб. Но академические занятия не помешали ему замышлять смуту и устраивать ее вместе с Огрызко.
В 1859-1860 годах в Петербурге был уже правильно организованный революционный кружок, делившийся на два: петербургский военный и петербургский штатский. Первый образовался с появлением Сераковского в Петербурге, под его влиянием. О развитии этих кружков один из членов (пленный повстанец) показал так: «По приезде моем в Петербурга (в 1859 г.), вскоре после поступления моего в Академию (Генерального штаба) капитан (поручик?) Сераковский познакомился со всеми поляками нашего курса и познакомил нас друг с другом; так через него я познакомился с Домбровским, Станевичем и другими. Сераковский от начала нашего знакомства стыдил нас, что мы забыли свой язык, давал нам разные польские книги, исторические и поэтические, польские газеты, выходившие тогда за границею, и “Колокол” и вообще старался расположить наши умы к тем идеям, которые проповедовал впоследствии»143.
1861-1862 годы, когда я сам был в академии, служили преддверием вооруженного восстания в Польше и Литве; в то время деятельность Сераковского, казалось, достигала цели. В моих записках за 1861 год я подробно говорил, как он постоянно являлся на наши лекции, что, конечно, было благовидным предлогом; главная задача была та же, что и в 1859 году, то есть «знакомиться и знакомить». Плоды пропаганды отразились на нашем выпуске (1862 г.). Сбежали в повстанье один из наших профессоров, Голендзовский, и два-три из академистов. Личность Сераковского я хорошо помню: это был человек среднего роста, с худощавым, бледным лицом, с реденькими, жидкими волосами, без седины. Серые, некрасивые глаза его часто опускались, на иезуитский манер. Желчная, насмешливая улыбка не сходила с губ и придавала лицу антипатичное, даже отталкивающее выражение. В то время он был уже капитаном Генерального штаба и человеком очень популярным и не только в академии, но и в Военном министерстве. Оно даже посылало его на казенный счет за границу изучать военно-судную и дисциплинарную часть в иностранных войсках. Сераковский возвратился с портфелями, переполненными обильнейшим материалом... Со временем обнаружится это в высшей степени интересное дело...
Вообще открытый мятеж вспыхнул слишком рано и неожиданно для вожаков. Сераковскому раздумывать было опасно, он махнул рукою на русскую карьеру, приехал в Вильну в начале 1863 года, без церемоний сбросил мундир и являлся повсюду в штатском платье, развязно болтая, что едет за границу. Вместо того он отправился в Ковенские леса, где его уже давно ждала большая шайка отборных повстанцев. Кажется, в апреле 1863 года144 под Биржами соединенные банды Колышки и Сераковского отважились столкнуться с Финляндским полком, были разбиты в пух и прах, а Сераковский, раненный, стал рисоваться и декламировать перед генералом Ганецким: «Подумайте, генерал, что скажет Европа!». Ганецкий показал на себя и резко отвечал: «Вот тут перед вами и Европа и Азия и все что хотите! А вы отправитесь в госпиталь, в арестантское отделение, а потом под суд. Европе недолго придется ждать о вас известия!».
Сераковского отправили в Виленский госпиталь. Следствие о нем при Назимове не кончилось, так как подсудимый всячески затягивал процесс, отказываясь отвечать на допросы под предлогом сильных страданий от раны.
Он имел важные причины тормозить следствие, будучи уверен, что за него ходатайствуют очень веские покровители. Но начальником края уже сделался Муравьев, а при нем было трудно затягивать дело. Действительно, к нему посыпались письма и телеграммы из Петербурга о помиловании Сераковского. Было даже письмо от имени английской королевы, переданное сент-джемским кабинетом через английского посла! Трудно поварить, а это факт, не подлежащий никакому сомнению!
Но Муравьев преспокойно клал домогательства под сукно, а сам торопил следователей и судей. Наконец, он вдруг приказал представить к нему приговор, во что бы ни стало, подписал его, и на другой же день плац-майор и аудитор с конвоем явились в госпиталь и стали будить еще спавшего Сераковского. Он рассердился, заворчал: «Оставьте меня в покое, я больной человек и хочу спать. С какой стати я буду вставать в такую рань?». Но посланные повторили предложение одеваться, даже как можно поскорее. Сераковский, очень удивленный, стал допытываться: «Я же вам говорю, что еще слаб, не могу двинуться с места! Ведь меня всегда допрашивали тут, в госпитале, что ж за новости такие! Куда вы меня тащите?.. Зачем?..». Тогда ему, уже не обинуясь, объявили, что приговор состоялся, и пришло время его исполнить. Сераковский быстро приподнялся с постели, задумался, но скоро расхрабрился и сказал с натянутым смехом: «Ах, понимаю! Пора разыграть комедии приговора и помилования?.. Ну, нечего делать, едем!» Он оделся, сел на дрожки с плац-майором и под конвоем приехал на место казни.
Однако при виде эшафота с двумя виселицами, окруженными войсками, Сераковский сильно побледнел и так смутился, что с трудом спустился с дрожек, даже при посторонней помощи. К нему подошел ксендз с приглашением покаяться, примириться с Богом и людьми. Увещеваемый, с трудом напустив на себя невозмутимую личину, сказал ксендзу: «С удовольствием, отец мой, только, кажется, серьезного исхода не будет. У меня в Петербурге есть сильная рука, и я уверен, что меня помилуют!». Ксендз грустно покачал головою и сопутствовал осужденному на эшафот. Войска взяли «на караул», аудитор прочел утвержденный приговор смертной казни через повешение. Сераковский рассеянно слушал; глаза его разбегались в пространстве, то пытливо разглядывая ближайших окружающих, то устремляясь в даль. Он ждал гонца с помилованием, но не дождался!
По прочтении приговора к нему подошел палач и взял его так грубо, что разбередил еще не совсем залеченную рану. Сераковский отчаянно вскрикнул, вырвался и завопил: «Что ты лезешь на меня, дурачина! Как ты смеешь трогать меня!..». Но эта вспышка только ожесточила палача, и он стал расправляться еще черствее, а Сераковский кричал отчаяннее, ругался, барахтался и дрался с палачом. Его живо скрутили и повесили, а Муравьев отвечал на последнюю телеграмму о помиловании тремя словами: «Поздно, Сераковский повешен». Его товарищ Колышко, казненный вместе с ним, держал себя, напротив, с достоинством и умер без страха, без малодушных колебаний: он сам вытолкнул скамейку из-под своих ног.
Я приехал несколько дней позже, так что не был в Вильне во время этой казни, а слышал о ней от очевидцев, а как слышал, так и записал, не ручаясь, конечно, за безусловную верность рассказа.
О втором выдающемся по таланту и репутации польском начальнике, называвшемся военным диктатором Литвы, именно о Нарбуте, я могу рассказать с большею достоверностью, так как слышал о нем от победителя его Тимофеева, человека правдивого, вполне достойного веры. Нарбут был тоже русский офицер из боевых, служил на Кавказе и, говорят, даже имел Владимира с бантом. Кроме того Нарбут в качестве литовского помещика и страстного охотника знал все уголки и тропинки в лесах Виленской и Ковенской губерний. Его шайка была отлично дисциплинирована и обучена, а главное любила своего начальника и безусловно верила и подчинялась ему. Понятно, что генерал-губернатор Назимов приказал уничтожить во чтобы ни стало это опасное скопище. Подобное поручение получил в числе других и Тимофеев.
Узнав от лазутчиков, что шайка Нарбута гнездится около местечка Дубичи, он пошел туда, обыскал окрестности, но нигде никого не нашел. Расспросы жителей ни к чему не повели. Тимофеев пошел дальше, прошел верст двадцать без всякого результата, ночевал в какой-то деревне и рано утром вернулся обратно в Дубичи по кратчайшей проселочной дороге, а казакам велел ехать стороною до леса, ближайшего к Дубичам, и затем присоединиться к отряду, так как этот лес был уже обыскан накануне. Впоследствии оказалось, что Нарбут ловко обманул наш отряд. Он действительно гнездился с своей шайкой в Дубичах, но, узнав заблаговременно о приближении Тимофеева, отошел верст на 10 от местечка и хоронился в отдалении; когда же Тимофеев двинулся дальше, мятежники спокойно вернулись в тот же лес, но зорко наблюдали за показавшимися вдали казаками. Нарбут был уверен, что это -авангард Тимофеева, тогда как последний вернулся уже в местечко. Повстанцы, не подозревая близости русских, учились стрелять в цель, так что в Дубичах слышны были выстрелы, но ксендз и все обыватели уверили Тимофеева, что в соседнем лесу охотятся старообрядцы145.
Известие о возможности поохотиться соблазнило гг. офицеров стрелковой роты. Двое из них надели охотничий, костюм и отправились на добычу. Лес был недалеко от местечка, отделяясь от него болотистою речкою. Офицеры переправились на челноке, но только что вступили на другой берег, как заметили между деревьями опушки сторожевых мятежников. Впоследствии пленные показали, что Нарбут был уведомлен о появлении каких-то двух молодцов с ружьями. Он долго смотрел на них в бинокль, махнул рукою и презрительно сказал: «Кацапы охотники, больше ничего!.. Да вон они уже пошли наутек!..». И он спешил к противоположной опушке леса и продолжал наблюдать за казаками, но и тут успокоился, видя, что они свернули от леса, а за ними никого не было видно.
Действительно, наши два охотника поспешили вернуться в местечко и уведомить начальника отряда о своем открытии.
Тимофеев, человек огневой, решительный и находчивый, тотчас собрал роты без шумной тревоги, еще быстрее переправился в лес и атаковал повстанцев, не успевших образумиться. По словам Тимофеева, шайка дралась так искусно и упорно, что он удивился. Нарбут распоряжался молодцом: приказал отступать перекатами, то есть в две линии: одна залегала позади, а другая, отстреливаясь, перебегала за первую, после чего вторая линия начинала стрельбу, и так далее. Но повстанцы были плохо вооружены, большею частью охотничьими ружьями, поэтому очень боялись наших стрелковых рот, прозванных ими: «чарны пасы» (черные поясы). Русские штуцера производили страшное опустошение, и одною из первых жертв был сам Нарбут, отступавший последним и показывавший пример стойкости и бесстрашия. Верховой лошади у него давно уже не было. Он шел пешком, сопровождаемый одним из доверенных сослуживцев и гимназистом, который нес самовар и чемоданчик начальника.
Отступление совершалось в порядке, как вдруг Нарбут пошатнулся, упал на колени и присел на землю. Ближайшие повстанцы бросились к нему на помощь, но он замахал рукою и проговорил: «то ниц, то ниц!..» («это ничего, ничего!»). Он был смертельно ранен. Его подхватили на руки и побежали с ним, но спасти все-таки не могли, так как наши подошли и были уже в нескольких шагах. Нарбут успел еще расстегнуть чамарку и передать бумаги и деньги одному из своих про -водников, но затем упал мертвым, вместе с носильщиками, пораженными несколькими пулями. Повстанец, получивший казну и канцелярию, успел убежать, зато шайка при известии о тяжелой ране своего начальника приостановилась на свою гибель. Ее окружили и почти всю уничтожили. «Я видел только начало разгромления, - рассказывал мне Тимофеев, - я так устал, что выбился из сил и не помнил, как добрался до квартиры, бросился на постель, заснул, как убитый, и проспал до полдня следующего дня. Когда я проснулся, меня уже давно поджидал исправник; он поздоровался со мною такими словами: “А я вам гостинца привез!”. Мы вышли в переднюю: первое, что я увидел, был лежавший на скамейке труп Нарбута. Он был в простой синей чамарке, без всяких отличий, и в больших сапогах. Лицо покойника было красивое, привлекательное: высокий лоб, правильные черты лица, на котором как будто застыла горделивая улыбка. На вид ему было сорок лет не более».
Остается сказать о последнем из упомянутых главных партизанов.
Ксендз подбржесского костела, Владислав Мацкевич, по образованию, особенно же по военной подготовке, стоял несравненно ниже Сераковского и Нарбута, но зато был способнее их обоих, вместе взятых. Насколько могу судить из всего, что о нем слышал, Мацкевич был человек недюжинного ума, одаренный непреклонною волею и несокрушимою энергиею. В стычках с нашими войсками он часто выказывал несомненный военный талант, и при Назимове никому не удавалось ни истребить его шайки, ни захватить его самого.
При Муравьеве он был пойман в конце 1863 года, но безоружным, одиноким бродягою. Мацкевич в сопровождении одного своего казначея пробирался по лесу к реке Неману, где его ожидала лодка. В это время наши войска обшаривали лес, и один армейский поручик с несколькими солдатами наткнулись на двух беглецов, лежавших под деревом в изнеможении.
Мне рассказывали, что Мацкевич бросился было бежать, но в него прицелились и закричали: «Стой, или убью!». Видя, что усталые ноги не вынесут его и не спасут от пули, беглец остановился и закричал: «Стойте!.. Не стреляйте!.. Я ксендз Мацкевич, ведите меня к генералу Муравьеву!..». При этом внушительном имени ружья опустились, но поручик долго не верил своему счастью, так как многие повстанцы для спасения жизни назывались именем известных предводителей.
Однако беглец назвал себя на этот раз настоящим именем. Он был привезен в Ковно со своим адъютантом и казначеем и, по приговору военного суда, повешен146.
Теперь скажу несколько слов о наших «отцах-командирах», подвизавшихся в правление генерала Назимова. 2-я гвардейская дивизия молодецки отслужила свой срок. Как офицеры, так и солдаты выказали себя истыми сынами русского народа, всегда проявлявшего геройство в борьбе за Отечество. Война людей родит; она же переворачивает вверх дном регламентацию мирного времени. Так было и в 1863 г.
При партизанской войне главною боевою единицею оказалась рота, а не полк. Полковники, капитаны стали играть первые роли, а генералы являлись персонажами без речей. Начальник 2-й гвардейской дивизии, генерал Б..., в мирное время считался великим тактиком по знанию старых и новых уставов. На разводах, парадах и маневрах он являл энергию, находчивость, даже творчество, а с 1863 г. я, по крайней мере, не слыхал о нем другого отзыва, как «военный генерал в мире и мирный генерал на войне».
Из бригадных и полковых командиров 2-й дивизии отличился один командир Финляндского полка, Ганецкий; о прочих я не слышал, и желательно, чтобы кто-нибудь из очевидцев пополнил этот пробел.
Зато не только в моей, но и в памяти многих сохранились имена полковников Ченгеры и Алхазова, капитанов л.-гв. Московского полка Крамера, л.-гв. Павловского - Тимофеева и многих других.
Теперь перехожу к личности и деятельности М. Н. Муравьева. В настоящее время обнародованы его собственные записки и множество рассказов, исследований и воспоминаний о нем очевидцев и сослуживцев. Все это я не могу считать непогрешимым, опровергать же тоже ничего не желаю
Военные начальники уездов имели всегда доступ к начальнику края; они имели право входить в его кабинет днем и ночью без доклада, поэтому пишу только то, что видел и слышал сам.
Начну с наружности, уже теперь затемненной временем, как бронза на памятнике. Вообще редкий монумент передает в совершенстве фигуру и черты усопшего героя, так как обыденный тип его и характерные особенности, видимые при жизни, с трудом поддаются изображению. Муравьев был роста выше среднего, но казался ниже от полноты и сутуловатости. Курносое лицо с широкими скулами, большие, умные серые глаза, чрезвычайно проницательные - вот его наружность. Михаил Николаевич носил только небольшие щетинистые усы. Голова его в то время уже значительно облысела, и на передней ее части, поверх лба, оставалась одна длинная прядь, или чуб, обыкновенно приглаженный щеткою; но при занятиях и в раздумье Муравьев начинал теребить свой чуб до того, что он вытягивался вперед и торчал как рог. Когда же Михаил Николаевич приглаживал его, - это значило, что решение принято и волнение успокоилось.
Впрочем, в его наружности замечательны были не черты лица, не характерность фигуры, а общее выражение и необыкновенная типичность всех особенностей, вместе взятых. Больше всего поражали с первого же раза строгая неподвижность его лица и спокойный, пристальный взгляд всегда серьезных, умных глаз. Этот взгляд, острый как кинжал, проникал в душу и заставлял дрожать виновного. Когда Муравьев сердился, он только краснел, пыхтел и теребил свой чуб, но лицо его не искажалось, взгляд не разбегался, глаза не мутились, и голос никогда не возвышался до крикливости, а напоминал зловещее рычание льва, идущего на добычу. Громадная житейская опытность этого замечательного человека изощрила до совершенства его природную способность распознавать людей по первому взгляду. Он умел найти способных и надежных людей, умел привлечь их к себе, возвысить, отличить, но сейчас же вкладывал, втискивал человека в ту форму, в те условия, в какие ему было нужно. Людей способных, но и самостоятельных, словом таких, как он сам, Муравьев недолюбливал. Это был властитель по природе, по призванию и по привычке. Умнее, тверже, энергичнее себя он никого не выносил. Ему надобны были исполнители, разумные и деятельные, он требовал повиновения, но сознательного и беспрекословного. Всякую красномолвку, недомолвку, лживку, лукавку, немогузнайку Муравьев прожигал, как огнем, своим громадным здравым смыслом и беспощадною логикою. Это прежде всех испытали передовые люди польской интеллигенции, особенно те, которые пробовали стать на нейтральную почву, то есть одинаково опасались и законной русской, и подпольной польской власти, тогда как середины не могло быть. Уловка служить и нашим и вашим не удавалась даже евреям. Как только Муравьев был назначен, к нему явился в Петербург147виленский предводитель дворянства Домейко, в то время уже действительный статский советник, камергер со Станиславскою лентою через плечо. Когда он назвался, Муравьев озадачил его вопросом:
- Зачем же вы здесь, а не в Вильне?
Домейко нашелся ответить, что, узнав о назначении его высокопревосходительства, спешил в Петербург представиться и засвидетельствовать почтение, а кстати попроситься в отпуск заграницу для поправления здоровья.
- Напрасно вы торопились ко мне в Петербург, - обрезал Муравьев, - тогда как я сам тороплюсь в Вильну. В теперешнее время каждому из нас следует быть на своем посту, и я прошу вас сейчас же ехать к месту вашего служения.
Но Домейко не поехал, прикинулся больным и только через несколько недель по прибытии в Вильну Муравьева явился к начальнику края.
Еще характернее расправа Муравьева с известным бискупом Красинским, самым опасным, неуловимым устроителем и поборником мятежа. В понятии тогдашних польских интеллигентов всякий москаль был набитый дурак с дикими, животными инстинктами, которого можно подкупить стаканом водки или рублем, а если он высокопоставлен, то льстивым словом и вкрадчивым обхождением. Когда при первом же свидании Муравьев строго спросил бискупа: как он думает о мятежных поступках и о пропаганде польского духовенства, Красинский отвечал уклончиво, что ни о каких дурных поступках ксендзов ему неизвестно, и начал тонко подсмеиваться над повстаньем, рисуя его в карикатурном виде и представляя смуту чем-то смешным, не стоящим внимания; при этом он выражал удивление, что столь могущественное, самодержавное правительство русское может опасаться чисто ребяческой вспышки, которая скоро кончится травлею зайцев львами. Бискуп смиренно опускал глаза и говорил сладеньким голоском, с насмешливою улыбочкою. Муравьев не спускал с него глаз, не улыбался и вдруг перебил Красинского очень крутым возражением:
- Насчет того, что эта вооруженная сволочь нам не опасна, я согласен с вашим преосвященством, но не могу согласиться с тем, что все это смешно. Ксендзы открыто возмущают народ в Божьих храмах, благословляют измену, освящают резню. Двое ксендзов148 лично предводительствуют шайками, и я прошу ваше преосвященство объяснить мне, какие приняты меры, чтобы положить конец этим бесчинствам.
Красинский перестал улыбаться и опять-таки уклончиво ответил, что карательная власть его ограничена каноническим правом, но что он был бы благодарен, если бы начальник края почтил его «предварительным сношением по каждому случаю проступка духовного лица Виленской епархии». Тогда Муравьев заговорил напрямик и объявил прелату, что, кроме прав, он имеет и обязанности, и что при первом же повторении мятежных действий со стороны духовенства ответственность падет прежде всего на высших иерархов, невзирая на их высокий сан и высокое положение. Красинский вскоре убедился, что у нового начальника края слово вяжется с делом. Муравьев велел расстрелять двух ксендзов-пропагандистов Ишору и Земацкого без предварительного снятия с них сана. Этот неслыханно грозный пример так перепугал Красинского, что он сказался больным, слег в постель и послал Муравьеву прошение об увольнении его на Друскеникские воды для лечения. Муравьев согласился, но на железной дороге бискупа ожидал жандармский офицер с инструкциями, и вместо Друскеник Красинский совершенно неожиданно был сослан в Вятку.
Я приехал в Вильну через два месяца после Муравьева, когда первые шаги его на многотрудном поприще были у всех в свежей памяти и у всех на языке. Помянутая казнь двух ксендзов состоялась незадолго до моего прибытия. О ней шла молва по всей Литве, потому что это был пример потрясающий, громовой! Чтобы понять его значение, стоит припомнить, что исповедь и проповедь были страшными орудиями в руках польского духовенства. На кафедру всходил, например, древний, седой как лунь старик и начинал говорить слабым, глухим, как будто загробным голосом, но с увлечением, красноречиво, убедительно. Он сам плакал и заставлял плакать всех прихожан. На другой день являлся перед ними молодой, красивый ксендз и проповедовал пламенно, порывисто, с фанатичным жаром якобинского клубиста. Он увлекал, очаровывали. и доводил слушателей до патриотического исступления. Все эти пропагандисты, старые и молодые, по целым годам, каждый день и час, говорили на одну и ту же тему: «Отечество в цепях! Спасайте, возродите его, не щадя имущества, свободы, живота!». Воплощение пропаганды такого рода представляли, в лицах, ксендзы Ишора и Земацкий, осужденные за то, что явно проповедовали мятеж в костелах, освящали оружие и благословляли повстанцев на резню. Ишора был восьмидесятилетний старик, седой как лунь, а Земацкий - высокий, красивый ксендз с голубыми глазами, в которых блестело вдохновение. Я слышал, что их не везли на казнь на позорной колеснице, а вели пешком. Старый и дряхлый Ишора совсем расслаб; на него нашел столбняк, и он двигался, лучше сказать, его вели в полусознательном состоянии. Когда осужденных привязывали к столбу, Ишора совершенно потерял сознание, так что переход в вечность был для него нечувствителен. Земацкий, напротив, умер мужественно; он все время шел твердым шагом, не смотрел ни на кого, а только на небо, и до последней минуты то тихо, то громко молился.
Теперь, тридцать лет спустя, легче сравнить систему управления Муравьева и предместника его. В. Я. Назимов мог по справедливости сказать: «Я подавил вооруженный мятеж, истребил все сколько-нибудь значительные шайки, а Муравьеву достались лишь остатки, совершенно ничтожные. Так чего же еще можно было от меня требовать!». Это совершенно верно; но зато польских магнатов, помещиков, шляхту, польских или ополяченных русских чиновников Владимир Иванович или вовсе не преследовал, или преследовал редко и слабо. Католическое духовенство Назимов берег, уважал и доносил государю, что прелатов и ксендзов следует всячески привлекать на нашу сторону, так как они имеют сильное влияние на умы и популярны в народе. Можно себе представить, каким влиятельным лицом был при Назимове епископ Красинский! Муравьев действовал прямо противоположно и вразрез системе своего предместника. Вооруженным шайкам он не придавал особого значения, называл их сволочью и сравнивал с ветвями и сучьями дерева, которые вырубаются, сохнут, падают, но на их месте вырастают другие, и дерево продолжает расти да разветвляться, пока корни его целы. На эти-то корни и обрушился Муравьев. Первым страшным ударом топора было обложение всех помещиков польского происхождения большим процентным сбором. Эти господа с конца 50-х годов употребляли свои доходы и капиталы на «офяры» (пожертвования) в пользу отчизны, то есть в пользу мятежа. Вот куда помещались русские деньги! Распоряжение Муравьева положило конец такому порядку вещей. Русские деньги стали употребляться на русское дело: процентный сбор расходовался на постройку, ремонт и украшение православных церквей, на улучшение быта православного духовенства, на упорядочение администрации, полиции и другие подобные цели, прямо противоположные задачам мятежа.
Наконец, почином Муравьева приступлено было к действительному осуществлении крестьянской реформы по Положению 19-го февраля 1861 года, тогда как при Назимове помещики извращали и обходили закон, обращая реформу в свою единоличную пользу. Благодаря помянутым двум коренным мерам Муравьева, польские землевладельцы до того оскудели, что лишились возможности формировать, довольствовать и содержать шайки на своем иждивении.
Из предыдущего видно было, каким образом Муравьев подрубил другой жизненный корень мятежа в лице бискупа Красинского и как он подсекал второстепенные корешки в лице таких священников, как Ишора и Земацкий.
Остатки мятежнических скопищ новый начальник края тоже не оставил своим попечением. Один из приближенных к нему сотрудников, смеясь, говорил мне: «Вам предстоит много работы. Муравьев хочет извести повстанцев как клопов, то есть ошпаривать кипятком, прижигать и выколупывать их гнезда до тех пор, пока и зародышей не останется». Так оно и вышло на самом деле. Вся 1-я гвардейская дивизия раздробилась на ротные колонны, которые начали, по выражению Муравьева, «сновать» по всем направлениям и не давали повстанцам ни отдыха, ни срока. Со своей стороны, Варшавский Жонд (революционное правительство) старался приноровиться к обстоятельствам и послал Литовскому отделу приказание переменить тактику, избегать столкновений и упорно держаться ночных, партизанских действий, имея в виду только поддержание террора в народе, и во что бы то ни стало затянуть мятеж, выиграть время и «дождаться лучших дней» (любимое изречение поляков).
Такой оборот был, в сущности, практичным и целесообразными. Поляки ждали вмешательства Европы и не ошибались, так как дело действительно дошло до попытки признания поляков и русских «воюю -щими сторонами» со стороны Англии и Франции, предлагавших свое посредничество. Известно, что эта затея Наполеона III потерпела фиаско вследствие решительного отказа императора Александра II, выраженного в резком ответе канцлера, князя Горчакова. Подпольные варшавские агитаторы не переставали, однако же, верить в заступничество
Европы и держались до крайности. Хотя вооруженные силы мятежа разлагались; но военная и гражданская организация «народового Жонда» крепко коренилась в Литве даже при Муравьеве.
В самой Вильне, близко от него, проживали польские гражданские губернаторы Малаховский и Калиновский. Они держали в своих руках материальные и нравственные средства революции, поддерживали деятельные сношения с главным Варшавским комитетом и с особым усердием старались устроить подпольную администрацию, особенно кинжальщиков и жандармов-вешателей, главных орудий террора. Муравьев долго не мог добраться до этих корней, глубоко таившихся в почве и широко разросшихся. Но он терпеливо и упорно добирался до них, а такие отчаянные попытки, как покушение на маршалка (предводителя дворянства) Домейко, усугубляли энергию и распорядительность усмирителя польской справы.
Командир Преображенского полка жестоко дал почувствовать мне свое неудовольствие на меня тем, что только в конце лета, даже, помнится, в начале осени послал наконец и мою роту в экспедиции. До тех пор она обречена была на службу в гарнизоне, хотя при этом я исполнял экстренные поручения, непривычные и неприятные. Назначали меня членом следственных и военно-судных комиссий, командировали на обыски, которые Муравьев то и дело приказывал производить по всему городу. Войска собирали втихомолку в казармах, и мы не знали, зачем и куда пойдем, покамест нас не приводили на место, обыкновенно в глухую ночь. И вдруг мы оцепляли целую улицу, иногда целый квартал, и начинались обшаривания, расспросы, аресты с аккомпанементом плача, воплей и отчаянной суеты растерявшихся обывателей.
Наконец моей роте пришлось побывать на экзекуции политических преступников. Первая смертная казнь, виденная мною в жизни, совершена была над двумя братьями Ревковскими, принадлежавшими к разряду кинжальщиков, то есть тайных убийц из-за угла. По виду же они напоминали забубенных уличных гуляк. Помню, что оба были небольшого роста, один брюнет, с небольшими бакенбардами, другой белокурый, вовсе безбородый; на одном была затасканная блуза, а на другом - дрянное поношенное пальто. На головах красовались ухарски надетые клеенчатые фуражки. Оба брата держали себя с напускною развязностью, раскланивались с улыбками на все стороны, особенно выразительно подмигивая и кивая встречным знакомым.
Торговую площадь, где совершались казни, помню так живо, как будто вижу ее перед собою. Из городских строений здесь выдавался вперед один костел; далее было поле, обрамленное полукружием довольно больших холмов, усыпанных народом, что представляло картину римского амфитеатра. Эшафот был расположен ближе к городу, весьма недалеко от костела, который казался снизу задрапированным крепом, потому что к стене прильнула целая вереница женщин, в глубоком трауре с плерезами. Они проталкивались к стене костела, не смотрели на казнь, молились и плакали. Церемониал экзекуции очень короткий и суровый. Войска отдают честь, аудитор читает приговор, и сейчас же после чтения начинают трещать барабаны, бьющие дробь. Это делается для того, чтобы заглушить крики и вопли, а главное -чтобы помешать осужденным говорить разнузданные речи народу, что многие из них делали. Ксендз, напутствовав Ревковских, удалился с эшафота, а палач связал им руки и набросил на них рубашки без рукавов, с глухим капюшоном, так что лица не было видно; затем накинули им на шею веревки и поставили каждого на высокую скамейку под виселицею. Наконец палач вытолкнул скамейки из-под ног, и висельники судорожно закрутились в воздухе.
Как-то раз утром, 29-го июля, по обыкновению я переправился из укрепления на городскую сторону и сейчас же заметил на улицах суету и необычайное движение. Казаки, жандармы скакали во всю прыть, полицейские растерянно бегали по всем направлениям, зорко оглядывая каждого встречного, а прохожие останавливались и горячо о чем-то рассуждали. Я подошел к одной группе, спросил, что случилось. Мне отрывисто отвечали:
- Маршалка зарезали!.. Домейку!..
- Как? Когда? Где?..
- Час тому назад, - у него на квартире!..
Я вернулся в укрепление, собрал роту и приказал никому не отлучаться из казарм, впредь до распоряжения. Скоро, однако же, я успокоился, узнав от офицеров, что в городе все в порядка, и ничего худого не предвидится. Распустив роту, я сам отправился на разведку и вот что узнал на первых порах: в день рождения императрицы (Марии Александровны), 27-го июля, Домейко представил начальнику края всеподданнейший адрес дворянства Виленской губернии с выражением верноподданнических чувств. А через два дня, 29-го утром, часов в девять, к Домейко явился какой-то проситель, настоятельно требовавший повидаться с ним по безотлагательному делу. Предводитель, только что вставший с постели, неохотно принял раннего посетителя. Тот подал ему, не говоря ни слова, свернутый лист бумаги, оказавшийся не прошением, а смертным приговором, подписанным Варшавским Жондом. Вслед за тем исполнитель его вынул нож и, как только маршалок принялся читать, бросился на него и начал наносить удар за удам. К счастью, Домейко не потерял присутствия духа и отбил удары противника правою рукою, которою загородился, как щитом149. На крик пострадавшего прибежал старик камердинер. Появление его в дверях испугало злодея, боявшегося за отступление. Он оставил в покое израненного Домейко и бросился на его слугу, нанес ему тяжкие раны, перепрыгнул через свою жертву, свалившуюся на пол, выскочил в переднюю, ранил и там встречного мальчика казачка, наконец выбежал на улицу и скрылся в одном из прилегающих жидовских кварталов. Найти его в переполохе не могли.
Домейко жил на одной из самых людных улиц Вильны. Наглое до невероятности покушение на такого сановника посреди бела дня вывело Муравьева из себя. Он позвал полицеймейстера Саранчова и объявил ему, что если убийца не будет схвачен в скорости, то все полицейские власти будут заменены новыми. Однако прежде всего необходимо же было знать хоть какие-нибудь приметы убийцы. Камердинер и мальчик были так сильно изранены, что не могли говорить, а сам Домейко, истекавший кровью, с трудом мог показать, что злодей - очень молодой человек, похожий на мастерового и рыжий. Из-за этой приметы многие пострадали безвинно. Казаки, жандармы и городовые начали хватать без разбора всех голоусых, безбородых и рыжих парней, преимущественно из мастеровых. Не пренебрегали и блондинами: там, мол, начальство разберет, какой он масти!.. Нахватали множество белокурых, рассажали их по тюрьмам и начали водить на показ несчастному больному Домейко и его служителям, которые не могли вспомнить об убийце без страшного нервного потрясения. Наконец, когда больные несколько оправились, им стали понемногу предъявлять мнимых убийц и, конечно, всех освободили.
Настоящий же убийца был пойман 6-го августа, то есть недели через две после покушения. Впоследствии разъяснилось, что преступник затаился на лютеранском кладбище, переодетый в женское платье. Лютеранские пасторы не вмешивались в политику и держали себя так легально, что Муравьев оставлял их в покое, и убийца мог спокойно проживать в черте пасторской оседлости, пока горячка преследования не улеглась. 6-го августа Малаховский пришел в гостиницу, ближайшую к Варшавской железной дороге, ведя под руку высокую черноволосую даму под густой вуалью. Это был убийца Домейко. Его переодели в гостинице в мужское платье, после чего Малаховский довел преступника до вокзала и оставил вдвоем с варшавским сообщником его, Чаплинским. Последний разыгрывал роль провожающего, а первый — пассажира. Оба явились в опрятном, штатском платье; у пассажира был готовый паспорт в руках. Малаховский исчез. По открытии кассы паспорт предъявлен был в исправном виде. В то время при кассе находился особый чиновник, ревизовавший паспорты, но предъявленный ему заграничный паспорт оказался в порядке, и ревизор без затруднения наложил на него штемпель; но нечистая совесть и лихорадочное нетерпение выдали преступников. Они слишком торопливо бросились к кассе, как только ее открыли, так что жандармский офицер обратил на них внимание. Ему показалось странным и то, что пассажир, имея заграничный паспорт, брал билет только до Варшавы. Тем не менее кассир, в виду правильно визированного паспорта, не мог отказать в выдаче билета, и убийца мог бы легко ускользнуть, если бы товарищ его держал себя спокойнее. Напротив того, Чаплинский, более робкий литвин, выдавался лихорадочною суетою, нервно бегая взад и вперед, так что жандармский офицер, не спускавший глаз с обоих приятелей, не вытерпел, подошел к пассажиру и сказал:
- Позвольте мне еще раз посмотреть ваш паспорт.
Подозреваемый вынул документ и очень спокойно предъявил его, но Чаплинский не выдержал, побледнел как смерть и задрожал. Тогда жандармский офицер арестовал их, и едва успели они посидеть несколько дней, как уже волосы подросли у черноволосого и выказали рыжие корни. Его вымыли щелоком и предъявили Домейке, тотчас же признавшему своего убийцу. После поимки его самозваный губернатор Малаховский бежал из Вильны, но его место занял Калиновский, поселившийся как раз против дворца Муравьева, через улицу, в губернской гимназии, в квартире одного учителя, находившегося в отпуску. Калиновский жил там под фальшивым именем Витольда Витоженца. Он был пойман после моего отъезда, поэтому опущу слышанные мною подробности этой поимки и возвращаюсь к рассказу.
Убийцею Домейки оказался варшавяк, ремесленник по фамилии Беньковский. Я состоял в числе членов суда над ним и, между прочими, подписал смертный приговор. Стоит описать теперь наиболее характерные черты покушения. Само собою разумеется, что главною целью политических убийц была жизнь Муравьева150. Еще не успел он выехать из Петербурга, как уже Варшавский Жонд пытался убить его. «Искали только фанатика, который бы взялся за исполнение подобного преступления, вследствие чего и Петербургский комитет тоже со своей стороны искал такого злодея. Наконец, однажды Виталий Опоцкий пришел к Огрызко с донесением, что при содействии общества “Земля и Воля” охотник нашелся между ремесленниками, который и просит за это злодейство 5000 рублей»151.
Этот замысел, к счастью, не состоялся.
В Петербурге же Муравьев узнал, что Жонд обещал значительную сумму его убийце. Говорят, будто Михаил Николаевич ответил на эту новость: «дайте мне только приехать на место и начать с ними расправляться, тогда они предложат в десять раз больше за мою голову!». В Вильне же он так обставился, что во дворец генерал-губернатора не могла пробраться ни одна подозрительная личность. Дворцовый сад, где начальник края часто гулял, был окружен высокою стеною и цепью часовых.
Кажется, за все управление Муравьева во дворце случился один только переполох, и то комический. В одно прекрасное утро Муравьев увидел в окне своего кабинета бородатую голову, большие черные глаза и руку, вооруженную чем-то длинным и острым. По звонку прибежал адъютант, но тревога кончилась комедиею: оказалось, что жид, красильщик, томимый любопытством увидеть Муравьева вблизи, осмелился спуститься на своей качалке до самого окна в недозволенное время, то есть в час докладов. Муравьев велел привести еврея к себе и, смеясь от души, спросил: «Ну что?.. Видел меня?.. Хорош я?..» Ответа не было, потому что у еврея отнялся язык; он позеленел и чуть не умер от страха, так что начальник края мог только вменить ему этот панический страх в наказание.
Можно смело сказать, что генерал-губернатор, не выходя из своего кабинета, управлял шестью губерниями, да еще как управлял! Действительно, М. Н. Муравьев почти никуда не ездил, разве к обедне, в собор, и к митрополиту, известному Иосифу Семашко. «Ездил же он в маленькой карете, причем два казака скакали вплотную к окнам, и карета неслась с такою быстротою, что подступиться не было возможности. Литовские кинжальщики, в большинстве гимназисты, аптекарские ученики и тому подобная молодежь, были слишком трусливы и неопытны до того, что даже боялись вида крови. Варшавский Жонд не мог добиться от них не только покушения на Муравьева, но даже на Домейку, махнул рукою на виленских кинжальщиков и приискал себе варшавяка Беньковского. Этот был цирюльник, не боявшийся крови, притом отчаянная голова. Ему пообещали крупный куш, выдали порядочный задаток и ловко спровадили в Вильну. На суде я видел его сам: рослый, рыжий, безусый парень, с упрямым, озлобленным выражением лица, словом истый сорви-голова. На допросы он отрывисто отвечал сквозь зубы: «так ест!» (да!) или же: «ни!» (нет!). Больше этого подсудимый ничего не говорил. Перед казнью он успел выломать из кровати кусок железа и хотел напоследок убить председателя комиссии генерала Соболевского, так что на казнь его везли в ручных кандалах с особым приспособлением, связывавшим пальцы.
На казни Беньковского и товарищей его Малевского и Чаплинского я не был, потому что меня наконец-таки послали в экспедицию. Экспедиции же мы все очень любили по той причине, что высшее начальство оставалось дома, и каждый ротный командир делался сам себе господин, а вместо скучной, однообразной службы в гарнизоне наступала служба серьезная, занимательная, имеющая цель. Наша цель, например, заключалась в поимке Вислоуха. Это опять-таки название герба, а не личности. Почти все предводители повстанцев скрывали свои фамилии под такими геральдическими псевдонимами: Сераковский-Доленго, Жвирждовский-Топор, Гейденрейх-Крук (ворон), и проч. Кто был Вислоух, осталось загадкою, по крайней мере для меня. Подобно Мацкевичу, он ускользнул из рук 2-й дивизии и еще скитался по лесам в муравьевское время, но в бой вступать не пытался, а поддерживал в народе террор, перебегая через реку Вилию из Трокского уезда в Виленский.
Его видывали в корчмах, на мызах, на фольварках; молва разносила о нем чудеса, но мы плохо им верили.
Я пошел с ротою вверх по Вилии до местечка Чабишек, где стоял в 1849 году. Какие тяжелые воспоминания возбудило сравнение прошедшего с настоящим! Панскую мызу в Чабишках я нашел пустою. Мне говорили, что Вислоух несколько раз врывался туда ночью, будил хозяина и забирал лошадей, провиант, словом все, что хотел, грозя перерубить канаты у парома и сжечь мызу до основания. Выведенный из терпения помещик Пилсудский уехал за границу, оставив имение на произвол судьбы. Я, конечно, посылал патрули и разведки во все стороны, но о Вислоухе не было и помину. Он знал, когда было время налетать и когда исчезать; словом, мои розыски привели только к арестованию нескольких забубенных шляхтичей, заведомых членов банды Вислоуха, что я удостоверю в конце, когда буду говорить о тогдашнем характере польской партизанки.
От Чабишек я пошел кружным путем, стараясь захватить возможно большее пространство Виленского уезда. Везде слышали мы самые грустные известия о наших литовских амфитрионах 1849 года. Особенно жестоко покарала судьба помещика Северина Ромера, где преображен-цы так весело охотились в 1849 году. Сам Ромер, подобно Пилсудскому, родственнику своему, тоже проживал за границею, зато управляющей его замешался в повстанье и допустил зверские истязания и убийства русских людей. Но Муравьеву в таких случаях было все равно, что помещик, что управляющий, и он порешил так: «А зачем же помещик дер -жит ненадежных управляющих? Поделом ему! Пускай пеняет на самого себя!»... И он велел сжечь мызу дотла.
Ромер спешил приехать из-за границы просить милости и свидетельствовать о своей невинности. Но каково же было удивление просителя, когда и его самого засадили в каменный мешок на основании муравьевского правила: «все они виноваты!».
Другой наш амфитрион 1849 года, хлебосольный старик, пан Подбересский, женатый на сестре Ромера, в 1863 году, кажется, не был уже в живых, зато сыновья его ушли в шайку, и поместье представляло печальную картину запущенности и разорения. Моя рота «сновала» вдоль и поперек в проходимых местностях, забирала подозрительную шляхту да откапывала из тайников запрятанное оружие. Эта манипуляция была делом нелегким, до того искусно скрывали контрабанду под крышами сараев, под полом, в стенах; словом, в таких местах, куда никому и в голову не приходило заглядывать.
Стоял я раз посреди двора какого-то фольварка и посматривал, как солдаты с бранью и прибаутками вытаскивали из разных нор охотничьи ружья, сабли, седельные пистолеты и тому подобное. Утомившись стояньем, я сел на длинную колоду с выдолбленным желобом для корма или пойла кур. Фельдфебель, явившийся с докладом, вдруг стал пристально вглядываться в мое сиденье и, наконец, выразил желание, чтобы я побеспокоился встать. Говорю ему: «Рехнулся ты что ли? Какого рожна хочешь искать под куриным пойлом?». Вместо ответа он вынул тесак и стал тыкать им под колодою. Тесак входил до рукоятки, земля была, очевидно, разрыхлена. Пришлось мне побеспокоиться, принесли лопату, но не успели прорыть на пол-аршина, как уже оказался песок, в песке же соломенный тюк, во всю длину колоды, а в нем три ружья...
Был у меня в роте субалтерн-офицер Василий Львович Давыдов152. Он теперь покойник, и я могу помянуть его добрым, правдивым словом. Это был человек умственно и физически развитый, энергичный, находчивый и проницательный. Ему я собственно обязан неожиданным результатом экспедиции и прямо говорю: будь он ротным командиром, на моем месте, то не мне бы пришлось быть виленским начальником, а ему. Не о розысках и арестах говорю, это дело второстепенное, но Давыдов помогал мне словом и делом смягчать драконовское правило: «все виноваты!». Он добивался строгой разборчивости между правыми и виноватыми, убедил меня в непричастности многих, которых, по справедливости, следовало оставить в покое, даже под риском ответственности за послабление власти. Тот же Давыдов удерживал солдат от пьянства и насилия с такою беспощадною строгостью, что обыватели успокаивались, теряя доверие к революции, и склонялись на сторону законной власти.
В таком смысле по окончании экспедиции я и написал рапорт командиру Преображенского полка. Достаточно сказать, что все подобные рапорты докладывались Муравьеву командующим войсками в Виленской губернии. Насколько помню, рапорт мой имел форму военного журнала; особенного в нем ничего не было, разве то, что академическая практика помогла мне передать побольше фактов сравнительно немногими словами. По прочтении этого рапорта Муравьев, не заглядывая в кандидатские списки, велел назначить меня помощником военного начальника Виленского уезда.
Назначен был я помощником начальника уезда 19-го сентября 1863 года, а утвержден в должности начальника 17-го октября153. На другой же день по назначении я представился Муравьеву, которого в первый раз увидел вблизи и услышал от него следующее:
- Я читал ваш рапорт (то есть об экспедиции 10-ю ротою) и вижу, что дело это вы уразумели как следует. Не верьте ничему, что вам будут говорить о снисхождении, гуманности, недоказанности вины... неправда! Ведь они виноваты более или менее, и самое малое наказание - если кто посидит в каменном мешке!... Нам надобно вырвать им зубы до весны, а иначе опять придется начинать сызнова! Я дал военным начальникам самые широкие полномочия, распоряжений своих не изменяю, а напротив подтверждаю и всегда поддерживаю. Поэтому не бойтесь ответственности, не стесняйтесь тем, что скажет следственная комиссия...
Выговорив последние слова, он энергично прихлопнул рукою кипу следственных дел, перед ним лежавших, и продолжал:
- Все это для вас не обязательно, и соображаться с тем, что могут или могли бы сказать, вам не следует. Еще раз говорю: если кто из этих... по виду покажется невиновным, нужды нет!... Пускай посидит, одумается, это самое меньшее из того, что все они заслуживают! А если увидите пристанодержательство, пособничество или хоть малейшую поблажку этим мерзавцам, приказываю вам все сжечь, сравнять с землею - будь-то деревня, усадьба, что бы ни было! Особенно строго присматривайте за панами и ксендзами, а с этими шляхетскими околицами не следует церемониться по их многолюдству: напишите мне, и я их выселю всех до единого! Ну-с, я рад, что могу вам дать случай послужить в такое время Государю и русскому делу!...
Получив столь резкие инструкции, я спешил ознакомиться с условиями и средствами новой службы. Муравьев подчинил всю гражданскую администрацию военной, то есть: исправники прямо подчинялись военным начальникам уездов, а становые пристава - военным становым. Из войск я получил в свое ведение Преображенскую 10-ю роту, графа Орурка154, 2-й батальон Устюжского полка и небольшое число казаков гвардейского атаманского полка и донских.
Уездное полицейское управление поразило меня порядочностью и строгим приличием внешней обстановки. Оно расположилось в чистом, опрятном помещении, которому по виду соответствовал и личный состав чиновников. Старый почтенный исправник, подполковник Шпейер, был крайне неприятно поражен необходимостью подчиняться молодому гвардейскому капитану, лет на пятнадцать младшему по службе. Предместник мой, Тимофеев, занятый военными делами и относившейся к старику Шпейеру с полным доверием, не трогал гражданского управления.
Из делопроизводителей мне сразу бросился в глаза один дока из крещенных татар. Тимофеев в шутку назвал его «Мустафою» и рассказывал, что при В. И. Назимове тоже арестовывали многих помещиков и помещиц, которые препровождались в уездное полицейское управление. Мустафа, как знаток польского языка, прочитывал захваченную переписку и брал с разных графинь-патриоток и магнатов полновесные выкупы, после чего большая часть заподозренных спокойно возвращалась в свои поместья. При Муравьеве все эти источники доходов вдруг иссякли, и скуластый, курносый, седой Мустафа оказался бессребреником и большим ревнителем православия и русской народности.
Не успел я осмотреться, не прошло недели после моего назначения, как престранный случай уже осветил прошедшее полицейского управления. В один прекрасный день, лучше сказать, в одну прекрасную ночь начальник края потребовал к себе полицеймейстера, командующего войсками и других исполнителей, которым приказал распорядиться, чтобы немедленно обысканы были шкафы, столы, словом, все углы и закоулки во всех виленских присутственных местах. На другой день в городе произошел страшный переполох. Оказалось, что везде откопали образчики революционной поэзии в прозе и в стихах, прокламации, польские катехизисы и прочее. Каково было мое удивление увидать у себя, в уездном полицейском управлении, бледные, вытянувшиеся лица, и когда мне подали список конфискованных вещей и бумаг, не говоря уже о запрещенных книгах, газетах и прокламациях, найдены были порох, пули и машинки для набивания патронов. Только револьверов и не доставало! Признаться, я не сдержался и позволил себе расхохотаться и сделать юмористические, впрочем, весьма неуместные замечания, глубоко оскорбившие служащих. Шпейер даже резко напомнил мне, что не мешало бы переговорить сначала с предместником моим и убедиться, что найденный старый хлам не может бросать тень на нынешних служащих. Я пришел к Тимофееву, бывшему уже накануне отъезда из
Вильны, и говорю: «Ну, Алексей Алексеевич, поздравляю! Мы с вами и со всем причтом повстанцами оказались!» Тимофеев прочел список, рассмеялся и долго не мог говорить от хохота. Наконец, успокоившись, он серьезно советовал мне не увлекаться этим случаем и не усердствовать через меру: «все эти вещи, - говорил он, - старый выдохшийся хлам былого времени, чиновники, хранившие их, почти все бежали “до лясу” (в шайки), кроме Мустафы и еще некоторых, вполне благонадежных. Во всяком случае, весь теперешний состав нисколько к этому делу непричастен, и если нынешние оставляли всю эту дрянь в столах и шкафах, то потому лишь, что даже выкидывать ее боялись, чтобы не навлечь и на себя подозрения».
Тимофеев советовал мне доложить в таком смысле это дело Муравьеву и прямо сослаться на его, Тимофеева, слова. Я поехал к начальнику края. Дежурный объявил, что в кабинете находятся управляющие и председатели гражданского ведомства, и что я могу войти без доклада, как только последний из этих господ удалится. Не успел я присесть, как в приемную вбежал председатель виленской казенной палаты, Дероберти, бледный как смерть и тяжело дышавший. Преображенцы были знакомы с ним по прежним стоянкам 1849 и 1854 годов, и он, понятно, обрадовался, увидев в такую минуту старого знакомого. Дероберти был не в виц-мундире, а в простом, черном фраке со звездою. Забыв даже сказать мне: здравствуй! - он прямо объявил, что приехал с готовым прошением об отставке в кармане, а потом вдруг, всплеснув руками, задал мне вопрос: «Да неужели же и в полицейском управлении нашлось что-нибудь подозрительное?» - «Как же, - говорю, - не только письменные улики, даже боевые припасы нашлись у меня, знай наших!» Дероберти пожал плечами и удивился, как я могу быть спокойным, да еще шутить, когда мне грозит, по малой мере, отрешение от должности. Отвечаю ему: «Помилуйте, чего мне бояться? Ведь я без году неделя в должности, стало быть, ни испортить, ни поправить ничего не мог». В это время начали выходить один за другим из кабинета почтенные старцы, председатели, красные как раки, как будто их только что выпарили в бане. Дероберти подбегал к каждому из них, провожал его до залы и все шептался. Наконец, вышел от начальника края последний сановник, утирая платком вспотевшую лысину и нервно покашливая. Адъютант притворил дверь кабинета и легким поклоном пригласил меня войти.
Муравьев сидел на обычном месте, возле письменного стола. Лицо его было строгое и неподвижное, как всегда, только известный чуб успел взъерошиться, и Михаил Николаевич то приглаживал, то опять вытягивал его. Не вставая с кресла, он подал мне руку и сказал:
- Садитесь-ка... Ну, что же?.. И у вас та же история?..
Я молча подал ему список конфискованных вещей, но Муравьев лишь бегло просмотрел и сейчас же отдал мне его назад с такими словами:
- Знаю, знаю!.. Не у вас у одних, - везде то же самое!..
И он кивнул подбородком на разбросанные по столу бумаги.
- Да еще у вас, в полицейском управлении, пустячки... А вот в других местах сделали находки посерьезнее!..
Тут у меня в голове невольно промелькнул комический вопрос: если пули и патроны пустячки, то хороши же должны быть «серьезные» находки! Признаюсь, что, забывая страх, я начал кусать усы, чтобы еще, чего Боже сохрани, не улыбнуться. Муравьев как будто заглянул мне в душу, рассмеялся сам и, показывая на список, бывший у меня в руках, сказал:
- Ну, вот теперь сами видите... Давно ли я говорил вам, что здесь никому верить нельзя?.. Вот вы и присмотрите! Вам нет надобности ждать моих распоряжений, сами у себя распоряжайтесь. Переписываться, переговариваться некогда, а то этому конца не будет. Вам надобно искать новых людей, а прежних смещать, и чем больше, тем лучше... Чем скорее, тем лучше!..
Тут он приостановился на минуту, и я воспользовался ею, доложил мнение Тимофеева и сослался на его слова. Муравьев слушал, отвернувшись и барабаня по столу пальцами. Выслушав, он сказал:
- Так-то так!.. Однако вы не убаюкивайтесь!.. Он (т.е. Тимофеев) говорит, что это старый сор?.. Так что же они до сих пор его не выметали?..
Он говорит - боялись?.. Да ведь боится только виноватый, а правому бояться нечего!.. Сами по себе судите: ну вот вы ведь не боитесь меня, хотя и у вас беспорядки нашлись, а почему же?.. Скажите-ка сами?..
Он опять рассмеялся, а я снова прикусил свой ус, Муравьев же пригладил чуб и продолжал серьезным тоном:
- То-то!.. Вот видите!.. Все старое, лукавое, ополяченное, все это ненадежно. Прежние чиновники слишком засиделись на местах, у всех рыльце в пуху, все в лес смотрят. Их надо вывести, заменить новыми людьми: вот эти будут заниматься делами, а не сумасбродными фантазиями...
Потом он расспрашивал о том, насколько я осмотрелся и ознакомился с новою службою, и отпустил меня весьма любезно. При выходе в приемную Дероберти бросился мне навстречу с вопросом: «Ну что?!..» - «Ничего, - говорю, - страшен сон да милостив Бог! Голова моя, как видите, еще на плечах, да и место пока остается за мною». Дероберти как будто успокоился, но едва успел адъютант пригласить его в кабинет, как уже председателя опять покоробило, и мне показалось, что он слегка пошатнулся, переступая порог. Похоже было на то, что в казенной палате нашлись-таки серьезные раскопки.
Откровенно говорю, что мнение Тимофеева о служащих показалось мне честным, человечным и не только правдоподобным, но совершенно верным. Ведь он же был ближайшим начальником этих господ в трудное, смутное время, так кому же лучше знать их, как не ему. И вдруг Муравьев только дунул на мои убеждения, как уже все они рассеялись в прах! До тех пор я не обращал внимания на письмоводителя канцелярии, уездного начальника, а теперь стал к нему присматриваться и расспрашивать о нем. Это был Р..., рябой, лысый господин, очень слащавый и раболепный. Оказалось, что он еще до начала восстания был исключен из службы, помнится, по суду за какое-то темное дело о сгоревшей корчме. Понятно, что под шумок смутного времени он умудрился всплыть опять на поверхность, но каким чудом мог терпеть его на службе такой рыцарски-благородный человек, как Тимофеев? При первом же свидании с Р... мне припомнились слова Муравьева: «старый, лукавый, рыльце в пушку!..». Не утерпел я, пошел к Тимофееву и говорю ему: «Помните, Алексей Алексеевич, вы упреждали меня, что Р - человек ненадежный?..». Тимофеев махнул рукой: «Если я вам сказал - ненадежный, этого мало: мошенник он, выжига, взяточник такой, и двух не найдете. Правду говорил вам Муравьев, всех бы их стоило выгнать!.. И в уездном управлении - тоже один Мустафа еще туда-сюда... по крайней мере, способный человек, но уж тоже подлец естественный...» «Так как... - говорю, - каким же образом вы с вашим характером могли с ними уживаться?..» Тимофеев рассмеялся: «А подождите недельку, сами на себе испытаете: было ли у меня время заниматься канцеляриями! Я требовал только одного, чтобы не бегали “до лясу”, так ведь и сами они на это не отваживались, зная, что бегуна я догнал бы и повесил на первом дереве. Тоже и Р. понимал, что покриви он душой, так отдал бы его под военный суд, а не гражданский, и что он на этот раз не вышел бы сухим из воды».
Эти слова молодца-капитана сбылись на мне все до единого. Дома, то есть в Вильне и в Виленском уезде, я почти не бывал, а постоянно гонялся за шайками в чужих уездах - Свенцянском и Вилькомирским. Муравьев строго и раз навсегда приказал, чтобы каждый военный начальник не ограничивался своим отдельным районом, а появлялся бы в соседних местностях при первом известии о появлении шайки мятежников и распоряжался бы в чужом ведомстве, как в своем собственном. Такое хозяйничанье в чужих владениях в мирное время, конечно, немыслимо, а в те поры оно было в порядке вещей, и жутко пришлось мне от таких порядков.
Тридцать два дня я не сходил с лошади, не имел покоя ни днем ни ночью и вынужден был, не выжидая пехоты, гоняться за шайками, численность которых была неизвестна, и все это в Ковенской губернии, самой беспокойной из всех, где еще разгуливали вожаки шаек: Мацкевич, Товкевич, Малецкий и другие. Правда, нашелся один из высших начальников, перещеголявший даже капитанов и поручиков в рискованных поступках, превосходивших пределы благоразумия. Это был генерал-лейтенант Г..., начальник армейской дивизии, расположенной в Минской губернии. Надобно полагать, что он имел известие, что шаек в этой губернии никаких нет, потому что выехал из Борисова в Игумен на учебную стрельбу, захватив с собою и наградные деньги для лучших стрелков. Генерал отправился, как в мирное время, без конвоя, и ехал преспокойно в экипаже, имея при себе одного писаря. За такую самоуверенность ему пришлось жестоко поплатиться. На дороге в лесу шайка мятежников выросла как из-под земли и окружила коляску. Писарь, раненный выстрелом из ружья, свалился с козел, а начальник дивизии очутился в плену. Можно себе представить, с каким триумфом спешили повстанцы разгласить о своем знатном призе! Со своей стороны, наше военное начальство телеграфировало из Минска Муравьеву, а он рассердился и велел сейчас же двинуть войска против мятежников. Но выручка оказалась совершенно лишнею. Начальник шайки Свенторжецкий, или Свенцицкий, бывший офицер русской службы, воспитывался во 2-м кадетском корпусе, а взятый им в плен генерал Г... был в то время ротным командиром помянутого начальника повстанцев. Этот оказался благородным и великодушным победителем: он ограничился отобранием денег и бумаг, самого же генерала отпустил на свободу здравым и невредимым. Можно представить себе, с какими чувствами предстал освобожденный перед начальником края. Известно только, что Муравьев сказал ему следующее: «Если бы они вас повесили, я, конечно, нисколько бы не пожалел о вас. Не понимаю, каким образом, прослужив так долго, вы могли поступить с таким, прямо сказать, ребячьим легкомыслием. Надеюсь, что после всего этого ваше превосходительство не думаете остаться не только на своем месте, но и на службе».
Взгляд Муравьева на это дело по своей крутости покажется многим слишком беспощадным, но безусловно несправедливым его назвать нельзя. Правда, что тоже и поступок генерала Г... невозможно назвать малодушным, а наоборот - слишком отважным. Это была собственно простая оплошность, - русский «авось» и «небось». Она не только не имела дурных последствий, но кончилась весьма счастливо. Дело, однако, в том, что Муравьев никогда не принимал в расчет ни особенностей характера служащего, ни личных его побуждений. Он рассчитывал только на то, чтобы подчиненные способствовали, а не противоречили и не противодействовали разуму и общему направлению принятой им политики. Впоследствии, осенью, военно-уездные начальники, в том числе и я, раздробляли свои силы до того, что даже роты поделили на отряды до того мелкие, что сам начальник и подчиненные его рисковали попасть в такую же засаду, как и помянутый дивизионный генерал. Между тем Муравьев не только не порицал, но еще одобрял не в меру рискованные партизанские набеги.
Да, но условия сильно изменились осенью 1863 года. Повстанье едва держалось, да и то лишь в мелкой шляхте и в ополяченных крестьянах-католиках, преимущественно казенных (ведомства государственных имуществ). Они шныряли по ночам, и, от 20 до 50 человек, не более. Рекрутировались они на в каждой мызе, в каждом фольварке, а днем прятали оружие в норки и из повстанцев обращались в мирных жителей - в батраков, поденщиков, рабочих и проч. В местечке Овантах я видел, например, в поле множество людей, работавших врассыпную на пространстве нескольких десятин. Какая же работа в конце октября на вымерзлой пашне, где даже и посеяно ничего не было? Пустишь, бывало, трех казаков, и вдруг все работники рассыпаются в стороны, улепетывая без оглядки. Казаки перехватят, подгонят ко мне несколько человек, смотришь - все парни рослые, развязные, выправленные по-военному, словом не похожи на крестьян, а скорее на отставных солдат. Спрашиваю их, кто откуда... Отвечают: мы экономические рабочие, зовут так-то и так-то... - Что вы тут делаете? - Камни выворачиваем из земли по приказанию помещика. - Ну, пойдем-ка на поверку... - Поверка эта была уже давно установлена Муравьевым, велевшим в каждой экономии вести подробные списки рабочим и живущим в данной местности. Беру списки, сзываю наличных людей, и что же?.. Являются те же парни, которых встретил в поле; у них и лопат нет, а просто палки в руках! Все отвечают на свои имена, придраться нельзя ни к кому, ни к чему, тогда как я знал, что эти самые обыватели - ночные бегуны, террористы, исчезавшие при появлении войск в мызе, где они вымогали у помещиков, не признававших подпольной власти, деньги, лошадей и съестные припасы, особенно водку, под угрозою красным петухом и смертью. При известии о приближении войск ночные гости живо перебегали в местности, где войска только что проходили; обыватели, видя, что войска наши не спасут их, признавали в польских партизанах действительную силу и трепетали перед нею тем более, что те же повстанцы и днем оставались в народе, под личиною мирных жителей, следили за доносчиками и приверженцами законного правительства, которым в следующую же ночь мстили пожаром и убийствами. Если бы паны оставались неприкосновенными, а ксендзы священными, пожалуй, вышло бы по словам Муравьева, то есть весною пришлось бы начинать сызнова; но его метод подрубать корешки взял свое. Аресты тайных руководителей и пособников мятежа делались каждым военным начальником и в самом широком размере; эти крутые меры достигли цели. Мызы и фольварки опустели, а процентный сбор окончательно ослабил пристанодержательство шаек. Вооруженное повстанье разлагалось. В самом городе Вильне еще гнездились остатки революционной организации, но об открытом мятеже не было и помину не только в Вильни, но и в Виленском уезде, и если бы я мог ограничиться вверенною мне местностью, то оставался бы спокойным, как и внутри России.
Но, как выше сказано, я испытывал на себе пословицу: в чужом пиру похмелье. Да и в чужих-то уездах приходилось напрасно изнурять себя, гоняясь за тенью предводителя шайки, измельчавшей до двух десятков ночных бродяг. Этот предводитель будто бы конной банды был молодой человек без усов и бороды, в очках и с рукою на перевязи. Он носил полушубок, высокие сапоги, меховую шапку с серебряным литовским гербом, а на шее его висело на широкой черной ленте медное распятие, на котором он заставлял присягать новобранцев. С ним бегало от 13 до 15 человек верховых и, как слух носился, одетых на казачий образец. На вопрос одного помещика: «зачем он тревожит обывателей и навлекает на них войска, а сам не схватывается с ними, а утекает?», ночной воево -да отвечал: «для того, чтобы знали, что “рухавка” еще существует!». Этот последний из коноводов «рухавки» носил прозвище «Совы», а настоящая фамилия его была, кажется, Червинский. Он казнен в конце 1863 г. или в начале 1864 г. в селении Ушполи, главном гнездилище его шайки. Муравьев велел выселить всех жителей этого селения поголовно, и с тех пор окончательно рухнула партизанка.
В конце лета начальник края счел возможным вовсе освободить от взыскания всех простолюдинов, участвовавших в восстании, но чистосердечно раскаявшихся. Кроме того, он обнародовал всеобщее помилование для всех, кто явится в данный срок с повинною. Сначала являлись очень немногие, как будто для пробы. Их приводили к присяге и распускали по домам с отдачею на поручительство обществам и с учреждением над ними полицейского надзора. Тогда былые повстанцы перестали бояться ответственности и нахлынули массами. В 1863 и 1864 годах лиц 1-й категории (прощенных подсудимых) набралось более 4000 лиц, кроме такого же числа добровольно явившихся. Я часто смеялся, когда многие из помилованных повстанцев наивно рассказывали мне, что «имели честь видеть меня» и что я даже разговаривал с ними на гумне, в лесу и в поле, а они отвечали на мои вопросы в качестве рабочих и мирных обывателей. С другой стороны, беспрестанно прибывали благодарственные депутации от старообрядцев и от целых волостей православных крестьян, освобожденных наконец от террора и нестерпимого гнета подпольной справы. В торжественные, царские дни устраивались празднества в саду дворца, и Муравьев открыто расхаживал между депутациями, разговаривая со всеми, кто бы к нему ни приближался.
Восстание кончилось. Гвардия вернулась в Петербург. В ночь на 2-е ноября выступили из Вильны в Петербург 1 и 3 батальоны Преображенского полка. Второй батальон выступил позже всех, а именно в начале декабря, и прибыл в Петербург только 3-го числа155.
8-го февраля 1864 года я был отчислен от должности военного начальника и явился в полк 16-го числа того же месяца. Откланиваясь генерал-губернатору, я с трудом узнал в нем грозного, неумолимо строгого укротителя польского бунта. Передо мною сидел добродушный старик с лицом, светившимся доброю, широкою улыбкою. Он пожал мне руку крепче обыкновенного и стал с признательностью вспоминать заслуги 1-й гвардейской дивизии и Преображенского полка, особенно тех частей его, которые усмиряли мятеж в Августовской губернии. Потом он высказал мне лично спасибо за мою службу и труды, а я, в свою очередь, поспешил благодарить его за орден Станислава 2-й степени, полученный по его представлению. Муравьев махнул рукою и перебил меня: «Полноте, стоит ли об этом говорить! Вы больше заслужили, я и дал бы больше, да виноват ваш формуляр, молоденьки еще, батюшка, по службе и по чину!» - засмеялся он, хлопнув меня по плечу. Потом Муравьев задумался и, пристально глядя на меня, продолжал: «Мы с вами сами можем возложить на себя крест... вот этот!..». Он размашисто перекрестился и продолжал: «Да, можем сказать: слава Богу, что все счастливо кончилось, только это еще не конец, скорее начало... Много, много работы впереди! Ну, что же... даст Бог, поживем, может быть, и успеем сделать, что можем». Это были последние слова, слышанные мною от этого человека, которому теперь хотят ставить памятник. Я понял, что он говорил о крестьянской реформе, энергично начатой и направленной им к искоренению сепаратизма.
Весною 1864 года случилось мне, хотя мельком, увидать М. Н. Муравьева на дебаркадере Варшавской железной дороги, когда он приехал в Петербург по делам Северо-Западного края. Я ехал из Царского Села и услышал от спутника, графа Клейнмихеля (товарища по полку), что Муравьев сидит в последнем вагоне, сзади нас. Когда поезд остановился, мы не вышли, а стали у окна, чтобы видеть его на проходе. За ним шло много народа, кажется, то были не пассажиры, а лица, встречавшие знаменитого гостя, потому что он шел впереди всех своею тяжелой, медленной походкой, слегка пришаркивая раненной под Бородиным ногою и оживленно разговаривая с каким-то сановником. Клейнмихель взял под козырек, а я смеялся и говорил ему, что напрасно козыряешь, так как проезжему не до нашего окна. Однако вышло не по-моему. Кажется, Муравьев имел способность все замечать вокруг себя, даже и там, куда он вовсе не смотрел, потому что, поравнявшись с нами, он вдруг повернул голову в нашу сторону, и я в последний раз увидел два умных, проницательных его глаза, зорко взглянувшие из-под нависших бровей. Не прикасаясь к фуражке, он кивнул головой Клейнмихелю, ласково проговорил: «Bonjour, mon cher!»156 и прошел дальше, продолжая разговор со своим собеседником.
Этот дружеский привет напоминает благородную черту характера Муравьева: он никогда не забывал старых своих начальников и сослуживцев, когда либо оказавших ему поддержку в тяжелое время. Граф Клейнмихель (отец) в 1831 году был начальником штаба резервной армии графа Толстого, и М. Н. Муравьев, в те поры могилевский губернатор, причисленный к штабу армии, сносился с главнокомандующим через графа Клейнмихеля, помогавшего всеми силами способному и энергичному губернатору. И вот, через 30 лет, старший сын Клейнмихеля, преображенский офицер, делается постоянным ординарцем при генерале Муравьев157.
Еще один пример: вице-губернатором могилевским вместе с ним служил Григорий Сергеевич Лашкарев, впоследствии сенатор, имевший двух сыновей, таких же способных, как он сам. В 1863 году младший из них, Николай Григорьевич, был директором Межевого института, но по назначении Муравьева в Вильну поступил к нему на должность правителя канцелярии.
После случайной мимолетной встречи на железной дороге я уже больше не видел виленского богатыря, но, конечно, никогда не забывал его, как видно из настоящих моих воспоминаний. Да если бы я и захотел забыть графа Муравьева, то мне напомнили бы о нем необузданная, изуверная брань врагов русского подвижника и громкие, благодарные воспоминания друзей его. Как все необыкновенные люди, он имел и тех и других. Его друзья считаются миллионами. Это православное крестьянство и духовенство Западного края, которых он спас от работы польской. Но крестьянин или сельский священник не вращается в высших сферах, не ораторствует в публичных местах, не пишет в газетах. Враги же Муравьева, сравнительно немногочисленные, то есть поляки и полякующие русские, кричат и проклинают его устно и печатно в России и за границею, по известному иезуитскому правилу: «клевещите, клевещите, что-нибудь да останется!». Польская брань, как говорится, на вороту не виснет, но каково же встретить в распространенной русской справочной книге следующую библиографическую заметку: «В обществе и истории он (М. Н. Муравьев) слывет под именем Муравьева-вешателя и вообще известен был своею кровожадностью»158. В каком это обществе, в какой истории!
Даже в Германии судят добросовестнее о великом русском человеке. Мейер в своем энциклопедическом словаре после короткого, но дельного биографического очерка М. Н. Муравьева в конце говорит: «Когда же польское восстание все более и более распространялось и захватило Литву, император назначил его (М. Н. Муравьева) генерал-губернатором в Вильну, где он действовал с такою твердостью, даже жестокостью (приказывал вешать дворян и священников), что имя его стало ненавистным во всей Европе. Но зато ему удалось подавить восстание. Император наградил его Андреевским орденом и графским титулом»159. Мейер, по крайней мере, ссылается на Лейпцигский перевод записок Муравьева, поэтому его стереотипная фраза «но зато...» имеет смысл и верное значение. Всякий просвещенный русский мог бы сказать более. Он скажет, что даже «Записки» графа Муравьева имеют большой недостаток, а именно: автор говорит, к сожалению, в общих словах об изуверстве и кровожадности повстанцев, особенно кинжальщиков и жандармов-вешателей, но не ссылается на подлинные факты и приводит всего один пример покушения Беньковского на маршалка Домейку. Эта бездоказательность легко объясняется недостатком времени для описания подробностей, а главное, отвращением автора записок от оправданий, хотя бы косвенных. Но современники, самовидцы, сослуживцы и подчиненные покойного графа Муравьева должны бы пополнить пробелы посильными свидетельствами и разъяснениями. Вышеописанные личные наблюдения дополню и я несколькими фактами вполне достоверными. Прежде всего отмечу два примера проницательности Муравьева, доходившей до прозорливости древних мудрецов.
Генерал-губернатор получает однажды подробные сведения о складе оружия, спрятанного в усадьбе польского помещика графа Т..а. Граф Муравьев приказывает сделать обыск и расследовать дело одному из своих чиновников для поручений, человеку хорошей фамилии, отлично образованному и безукоризненно честному. Он едет к польскому графу и находит в нем истого джентльмена, умного, благовоспитанного, а главное - сердечного простодушного человека. Думал, думал следователь и решился поступить по правилу: «noblesse oblige»160. Он не обинуясь и откровенно объявил о цели своего поручения и прямо, как водится между порядочными людьми, просил графа выдать ему оружие или же дать честное слово, что он невиновен. Пан Т..., казалось, с такою же искренностью и также прямодушно протягивает гостю руку и дает честное слово, что никакого оружия у него не спрятано и что все это одна клевета.
Следователь возвращается и является к начальнику края. «Ну, что? Нашли?» - спрашивает Муравьева Спрошенный отвечает, что никакого оружия у помянутого графа не имеется. «Как нет? Да вы обыск-то делали?» При этом простом вопросе и под пристальным, упорным взглядом начальника докладчик чувствует себя нехорошо, краснеет, бледнеет и бормочет, что делать обыск он счел неудобным, но знает наверное о неимении склада в усадьбе... «А-а, понимаю, - перебил его Муравьев, - ну, так расскажите, как было дело, только все, без утайки!» Докладчик рассказал о своем поступке, как на исповеди. Муравьев встал: «Я теперь пойду принимать просителей, - сказал он, - а вы тем временем просмотрите-ка вот это»... Михаил Николаевич вынул из письменного стола связку с бумагами и положил перед чиновником. Бумаги эти заключали такие веские, обстоятельные и до мелочей подробный донесения о складе оружия в доме графа, Т. ..а, что даже неопытному дельцу не было возможности сомневаться. Оплошность не имела дурных последствий для молодого бюрократа, но он признавался, что даже и теперь, 30 лет спустя, не может вспомнить без сильного волнения об этой ошибке молодости.
Вот еще один пример. Граф Муравьев зорко следил за местным дворянством, особенно же за старожилами-помещиками из русских и православных, так как из них многие ополячились и бунтовали заодно с поляками. Один из таких русских, К.в, казалось, остался верным своему долгу и своему происхождению. О нем получались со всех сторон самые лучшие отзывы и рекомендации. «Быть этого не может! - круто порешил Муравьев. - Отец был п... и сын должен быть таким же!.. Яблоко не далеко падает от яблони!» Последствия очень скоро подтвердили такой приговор. Оказалось, что господин К...в продовольствовал и укрывал мятежников, сам ездил в шайки и проч., и проч.
Теперь насчет «кровожадности». Так как польское дело не выгорело, то поляки старательно замалчивают профессии своих Беньков-ских, Чаплинских, Ревковских и прочих кинжальщиков и жандармов-вешателей, а, напротив, тщательно выставляют имена казненных начальников шаек, обставляют жизнь и смерть их самыми трогательными подробностями, словом, из всех сил стараются затушевать вопрос о том, каких людей и за какие преступления так беспощадно казнил Муравьев. Мы, русские, должны наоборот фактически же разъ -яснять этот вопрос и дополнять «Записки» Муравьева недостающими в них подробностями. Считаю своим долгом напомнить о слышанных в 1863 году и впоследствии польских изуверствах.
Была одна помещица, графиня Забелло, имевшая мужество и силу воли не покоряться подпольному польскому Жонду. На усадьбу этой несчастной женщины перед рассветом налетели повстанцы, сняли люстру в гостиной и на ее место повесили хозяйку дома.
Русские офицеры и солдаты, забранные при нападении врасплох на кантонир-квартиры в начала повстанья, имели ту же участь. В 1863 году и долго после говорили и писали о смерти армейского капитана Никифорова, повешенного поляками с утонченною жестокостью в отместку за его геройскую твердость и презрение к смерти. Никифоров бесстрашно обличал польскую справу, грозно поносил изуверное сумасбродство повстанцев и так настращал своих палачей, что, когда повесили капитана, им мерещилось, что он, мертвый, грозит им кулаком, и действительно рука покойного замерла в этом грозящем положении. С нижними чинами наших войск поляки обращались уже подлинно с «кровожадным» варварством. Одному пленному армейскому солдату повстанцы распороли кожу на груди, вывернули ее на обе стороны, да еще приговаривали: «Вот, ты был армейским, а теперь гвардейцем! Жалуем тебе лацкана!»
Православных крестьян, священников, старообрядцев, чиновников, словом, всех русских людей, попавшихся им в руки, поляки вешали и расстреливали без всякой процедуры или избивали до полусмерти и закапывали в землю еще живыми... Я мог бы привести здесь многие примеры, если бы не опасался растянуть свой очерк, тогда как он только имеет целью вызвать более компетентные исторические исследования, а главное, рассказы очевидцев. Такие свидетельства, написанные для народного чтения и для заграничной публики, были бы не только полезны, но удовлетворили бы требованиям справедливости и уважения к славной памяти одного из замечательнейших русских людей. Такие свидетельства быстро разогнали бы туман, напускаемый на страшную эпоху Муравьевских казней, и они просто свелись бы к известной пословице: «Similia similibus curantur», или, по-нашему: «клин клином вышибают!». Польская интеллигенция обладает замечательным искусством предупреждать нападения и обличения, и делает это очень просто, сваливая, как говорится, с больной головы на здоровую. Поэтому в чужих краях, к несчастию даже в России, многие убеждены в том, что граф Муравьев казнил бунтовщиков без суда и следствия, как только кто попадался с оружием в руках, так сейчас: или голову долой, или в Сибирь! Между тем вот что говорит очевидец, служивший при Муравьеве в 1863 году, о том, с какою осторожностью начальник края рассматривал дела уголовные (о жизни человека): «Никогда не решал он таких дел по одним канцелярским докладам, а всегда такие доклады с подлинными делами оставлял у себя и прочитывал их в спокойном состоянии духа, не будучи ничем встревожен. Если же по прочтении у него являлось убеждение в виновности, то уже никакая сила, никакая протекция делу этому не помогала161.
А вот еще свидетельство из другого столь же достоверного показания: «К решению всякого дела он (М. Н. Муравьев) приступал не иначе, как обсудив его предварительно со всех сторон и выслушав различные мнения; собственное же свое - он никогда не считал безошибочным и, если встречал дельные замечания, то охотно выслушивал и применял их к делу. Но если раз принял решение, то от подчиненных своих требовал скорого и точного исполнения и неотложного одоления всех препятствий. Всякое же затем донесение о затруднениях, о необходимости отложить или невозможности исполнить его предписание влекло за собою немедленное увольнение от службы, конечно, если препятствие не принадлежало к числу неодолимых. Вообще Муравьев был враг всяких проволочек, колебаний и полумер»162.
Эти два свидетельства, почти тождественные и написанные в разное время людьми, очевидно, незнакомыми, несомненно заслуживают доверия, а в них граф Муравьев является строгим, беспристрастным судьею. Найдутся такие же и еще более убедительные доказательства, что он был неумолимым, неподкупным укротителем изуверных бунтовщиков и палачей, которых усмирил их собственным оружием -террором и казнями.
В последние 30 лет (1862-1892) Петербург очень переменился. Космополитизм и полонофильство петербургских аристократов и бюрократов, так метко и верно обрисованных в «Записках графа Муравьева», отжили свой век. Теперь разве иностранцы, живущие и наживающееся в Петербурге, или поляки будут уверять, что Западный край - польская земля, а не русская. О польской интриге, о польском влиянии нет ни слуху, ни духу; времена космополитизма и западничества, то есть благоговейного подражания европейской культуре и раболепного страха перед какими бы ни было великими державами, - кажется, прошли безвозвратно. Нынешним спокойным и независимым своим положением, усилением русской народности и укреплением ее самосознания Отечество наше обязано стойким, энергичным и даровитым русским людям, а к числу таких бесспорно принадлежит граф М. Н. Муравьев.
Он завершил свое служение председательством в следственной комиссии по Каракозовскому делу, а потом уехал в свое имение Сырец и там воздвиг памятник постройкою церкви. Она была освящена 26 августа 1866 года, а через три дня граф Муравьев скончался. Пожалованные государем бриллиантовые знаки на орден Св. Андрея не застали его в живых. Он похоронен на кладбище Александро-Невской лавры, и одно имя покойника, начертанное на мраморной плите, лучше всяких надписей говорит о великих заслугах, оказанных тем, кто его носил.
Несколько лет тому назад возникла мысль о памятнике Муравьеву, но, к сожалению, не осуществлена она и до сегодня. А пора, давно пора! Везде был бы на своем месте этот памятник: и над слишком скромною могилой в Петербурге, где усопший богатырь победоносно боролся тройною силою - полонизма, полонофильства и западничества, и в Вильне, где он раздавил гидру мятежа. Несокрушимый же и нерукотворенный мавзолей готовит ему на своих страницах русская история новейших времен.
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ БАРОНА А. И. ДЕЛЬВИГА
...1-го мая в бытность мою в Нижнем Новгороде я получил телеграмму от моей жены от 30-го апреля, в которой она извещала меня, что Пелагея Васильевна Муравьева (жена Михаила Николаевича) про -сила ее телеграфировать, чтобы я немедленно воротился в Петербург. Я терялся в догадках о значении этой телеграммы. В «Моих воспоминаниях» неоднократно было упомянуто об отношениях моих к Муравьевым. По приезде в Петербург в 1861 году я довольно часто посещал их. 1 января 1862 года я заехал поздравить Муравьева с Новым годом и застал его принимающим чиновников подведомственных ему Министерства государственных имуществ, Департамента уделов и межевой части, из которых с первыми он прощался по случаю воспоследовавшего увольнения его от звания министра. По случаю заведования Муравьева тремя ведомствами наш лондонский публицист Герцен напечатал в своем «Колоколе», что Муравьев при поездке по России получал прогонные деньги по всем трем ведомствам, и назвал его «трехпрогонным министром».
Я не имел случая проверить справедливость этого, но знаю, что прежние министры государственных имуществ испрашивали особые суммы на расходы при поездках, а Муравьев их не испрашивал. Тем не менее, он не пользовался репутацией человека бескорыстного, каким слыл и был его старший брат Николай.
М. Н. Муравьев, пройдя через многие невзгоды, помирился с существующим порядком и полюбил жизненные удобства. Публика, зная его бедным человеком, по роду его жизни в бытность министром полагала, что он получает неправильные доходы по министерству.
Действительно, до этого Муравьев жил бедно, но, начав получать большое содержание, особливо по должности председателя Департамента уделов, в доме которого имел большое помещение, он мог жить роскошнее. Конечно, для того, чтобы не потерять выгод по службе, он угождал сильным мира. Так, несмотря на неоднократные обиды, претерпенные от бывшего в фаворе у Императора Николая графа Клейнмихеля163, он не упускал случая угодить последнему, хотя принадлежал к противной ему партии. После смерти министра уделов графа Льва Александровича Перовского164 Министерство уделов было присоединено к Министерству двора в виде департамента, которого председателем назначен Муравьев, бывший до того только главным директором Межевого корпуса. С назначением Муравьева министром государственных имуществ, он сохранил и обе прежние должности, а так как назначение казенных земель и аренд, жалуемых Государем, зависит от министра государственных имуществ, то Муравьев сумел назначить при пожаловании земель графу А. В. Адлербергу, сыну тогдашнего министра двора и уделов, наилучшие земли, а когда министр двора и уделов исходатайствовал Муравьеву весьма значительное число десятин земли за службу его по званию председателя департамента уделов, то, конечно, он, как министр государственных имуществ, избрал для себя наилучшие земли. Все это весьма неблаговидно, но, к сожалению, свойственно если не всем, то большей части наших сановников. Люди же, подобные брату Муравьева, Николаю Николаевичу, были весьма редким исключением.
Живя в такой испорченной среде, достаточно оставаться строгим к самому себе и снисходительно смотреть на подобные проделки других лиц. Вот почему я, видя в Муравьеве умного и энергичного человека, продолжал мои хорошие отношения к нему.
Муравьев провел лето 1862 года в Германии, где лечился минеральными водами, а по возвращении в Петербург искал, как уверяли, иметь лично доклад у Государя по департаменту уделов, но, по нерасположению к нему Государя, не достиг этого и затем оставил все свои должности, сохранив только звание члена Государственного совета. В зиму 1862-1863 годов он купил дом на Сергиевской улице, в который полагал переехать с наступлением летнего времени. В эту зиму я у него часто обедал. Мы неоднократно обсуждали польское восстание, и он постоянно говорил, что нам и думать нечего об удержании Царства Польского, а надо употребить все средства к удержанию наших западных губерний, в которых большая часть образованного сословия состоит из лиц польского происхождения.
По-моему возвращению из Нижнего Новгорода я узнал, что 1 мая Муравьев назначен начальником Северо-Западного края, т.е. Витебской, Минской, Могилевской, Виленской, Ковенской и Гродненской губерний. Он мне объяснил, что до получения официального назначения он послал через мою жену телеграмму ко мне с просьбою скорее приехать в Петербург, так как ему необходимы разные сведения по С.-Петербурго-Варшавской жел<езной> дороге, а неоднократные его разговоры со мной о необходимости энергических мер в Северо-Западном крае, в котором ему никогда не приходило в голову быть начальником, служат ему доказательством, что я ему буду усердным помощником в деле прекращении мятежа.
С того времени мы видались почти каждый день до отъезда Муравьева в Вильну. Убийства из-за угла поляками-изуверами русских чиновников подали повод принятию мер для безопасности проезда Муравьева без всякого с его стороны в этом участия. Я приказал ко дню отъезда Муравьева приготовить вагон, в котором обыкновенно инспектировал дорогу, и распустил слух, что проеду по дороге до его выезда. По прибытии Муравьева на станцию жел<езной> дороги я посадил его в этот вагон и приказал жандармским офицерам провожать его каждому по своей дистанции и, не спуская с него глаз, оберегать от всякой опасности. Я не мог сам проводить Муравьева, так как он выехал 14 мая, а на другой день я должен был присутствовать на общем собрании акционеров главного общества жел<езной> дороги по должности главного инспектора и в качестве представителя правительственных акций. Муравьев по болезни не мог ездить в вагонах иначе, как сидя на особого рода качалке, которая и была прикреплена на скамейке вагона.
16 мая, накануне моего отъезда в Вильну, я провел вечер у П. В. Муравьевой, которая только через <некоторое время> собиралась переехать к мужу в Вильну. Все время сидел с нами Н. Н. Муравьев-Карский. Вследствие вышеупомянутых нот великих держав ожидали войны. А потому было предложено сформировать две армии, командование которыми поручить графу Лидерсу и Н. Н. Муравьеву. С этой целью они оба были вызваны в Петербург. Последний, после того как я простился с П. В. Муравьевой, провожал меня до передней, что меня весьма удивило, так как подобная вежливость не была в его обычае.
Перед самой передней он мне сказал, чтобы я передал его брату, что он по-прежнему сидит у моря и ждет погоды и не знает, когда и чем кончится его пребывание в Петербурге. К этому он прибавил, что, зная своего брата, он уверен, что последний будет бравировать опасностями, а потому просил меня посоветовать ему быть осторожнее, потому что если какой-нибудь изувер-поляк его убьет, то Россия много проиграет в польском деле. Я отвечал, что вполне разделяю его мнение, однако же, несмотря на хорошие мои отношения к М. Н. Муравьеву, не позволю себе давать ему совета, как вести себя с поляками. На это Н. Н. Муравьев возразил:
- Передайте ему этот совет от старшего брата.
Идя по Вильне из гостиницы, в которой я остановился, в занимаемый М. Н. Муравьевым генерал-губернаторский дом, я заметил в городе чрезвычайную перемену. Месяца за два виленские обыватели имели мрачный вид. Встречавшиеся со мной, в особенности женщины и духовные лица, не давали прохода по тротуару, бросали презрительные взгляды и толкали меня. Теперь же лица сделались веселее, все, и в особенности духовные лица, давали мне свободный проход, даже сходили с тротуара и низко мне кланялись.
Муравьев приехал в Вильну 16-го мая, только за два дня до меня, и не мог успеть показать свою энергию. Но имя его было страшно полякам еще со времен восстания 1831 года, и им памятны были его энергичные действия, когда он был гродненским губернатором.
Назначение его главным начальником Северо-Западного края показало полякам, что русское правительство не будет более оказывать снисхождение мятежникам, и многие из них отрезвились. В приемной зале Муравьева я застал более двадцати поляков, в разных мундирах, с прошениями и докладными записками в руках, его адъютанта и молодого гражданского чиновника. Муравьев выслал мне сказать, что он меня примет после выхода поляков. Войдя, он после обычного поклона подходил к каждому из поляков и по их прошениям давал немедленные решения, а некоторые из прошений передавал адъютанту, обещая их подробно рассмотреть.
По выходе поляков он позвал меня в свой кабинет, где я ему немедля передал совет брата его быть осторожнее, присовокупив со своей стороны, что я сам только что был свидетелем его неосторожности в обращении с поляками. Он отвечал мне:
- Брат мой большой чудак. Неужели он и вы хотите, чтобы я прятался от поляков и тем самым выказывал им свою боязнь? Но это и невозможно для начальника края: какое право имеет он не выслушивать просьбы обывателя? Впрочем, пусть брат будет покоен на мой счет: если в первые два дня моего здесь пребывания не нашлось изувера, чтобы убить меня, то его не найдется и впоследствии.
Мы занялись немедля рассмотрением разных мер, необходимых для упрочения безопасности движения по С.-Петербургской жел<езной> дороге. Между прочими мерами предполагалось вырубить леса по обе стороны дороги по ширине в 150 саж<ень> с тем, чтобы затруднить мелким мятежническим шайкам повреждение дорожного пути.
Муравьев сказал мне, что для разработки подробностей исполнения этой меры он пришлет ко мне военных офицеров, и просил для того же пригласить местных инженеров путей сообщения, а за обедом, к которому он меня пригласил, передал о результатах нашего совещания. Вскоре прибыли ко мне, между прочим, Генерального штаба полковник Свечин и начальник отделения по ремонту пути от Динабурга до Поречья инженер путей сообщения Иван Семенович Кологривов. Все собравшиеся у меня были люди русские, между тем они выказывали явное неудовольствие на Муравьева: живя в среде польских дворян, подчиняясь их псевдолиберальному направлению, они ополячились. Сверх того, многие из них опасались известной строгости Муравьева и впоследствии ее потери своих мест, в особенности за снисходительное их воззрение на проделки мятежников.
По планам местности, по которой проходит дорога, леса оказались на значительном протяжении, и мои собеседники полагали, что по малому числу войск в Северо-Западном крае не достанет средств для вырубки столь значительного количества леса, за который придется еще заплатить большие суммы.
Заявив, что воля начальника края в военное время должна быть выполнена, я немедленно послал благонадежных инженеров путей сообщения проверить планы лесных пространств между Динабургом и ст<анцией> Лапы и между ст<анцией> Ландварово и Ковно с местностью, и поручил им о последствиях своего осмотра представить мне при обратном моем проезде через Вильну. За обедом я передал Муравьеву о высказанных на совещании опасениях по вырубке леса. Он ответил, что все землевладельцы более или менее участвовали в восстании и потому принимаемая мера по порубке лесов послужит им наказанием, а насчет недостатка рук для вырубки лесов присовокупил:
- Если некем будет вырубать, я их сожгу.
<...> В Варшаве поляки все еще надеялись на успех восстания. Этот дух поддерживался в них недостаточно энергическими и даже казавшимися двусмысленными мерами наместника в Царстве, а также ходившими слухами об участии, оказываемом полякам его женой.
Наместник был очень недоволен Муравьевым, и несогласие в их направлениях много вредило в действиях последнего. Поляки продолжали в Варшаве гордо и презрительно смотреть на русских и производить разные неистовства, как в этом городе, так и в других местностях Царства. Кербедза165 я не застал в Варшаве; я встретился с ним на Виленской станции при обратном моем проезде через Вильну. Он мне говорил, что настоящие действия русского правительства делают невозможным примирение поляков с Россией, что русские солдаты бесчинствуют так, что он, из опасения подвергнуться их бесчинствам, не выезжал из Варшавы для осмотра управляемых им путей сообщения в Царстве. Я отвечал ему, что слуху о бесчинствах наших солдат не верю, а неистовства, произведенные жандармами-вешателями и другими поляками, не подлежат сомнению, и что русскому генералу нечего опасаться русских солдат, которые всегда оказали бы должное уважение к носимому им военному мундиру.
Во время моей поездки из Вильны в Варшаву была совершена первая смертная казнь над Сераковским. Он служил капитаном Генерального штаба в русской службе. Состоя на хорошем счету у военного министра, он по Высочайшему повелению был послан последним во Францию, причем снабжен на путевые издержки довольно значительной суммой. Он был представлен к Светлому Христову Воскресению в подполковники и не произведен только потому, что все производство по военному ведомству было отложено до 17-го апреля. В промежуток этого времени сделалось известным, что он предводительствует мятежнической шайкой. Когда эта шайка была настигнута русским отрядом, он при схватке убил из револьвера схватившего его солдата, но когда увидал, что не может избавиться от плена, бросив револьвер, сказал, что сдается на основании манифеста, выданного в Светлое Христово Воскресение.
В этом манифесте объявлялось Всемилостивейшее прощение тем полякам, которые до 1-го наступающего мая заявят покорность русскому правительству. Понятно, что этот манифест не мог относиться к предводительствующему мятежнической шайкой офицеру русской службы, схваченному с оружием в руках, и к убийце. Военный суд приговорил его к повешению. Муравьев утвердил приговор, который и был приведен в исполнение. Было много искательств о смягчении приговора и, между прочим, от министра внутренних дел Валуева. Говорили даже, что было дано повеление о приостановлении приговора, но его депешу, извещающую об этом, Муравьев распечатал после его исполнения.
Молодая вдова Сераковского при возвращении моем из Вильны в Петербург ехала от Динабурга в одном поезде со мной. Несмотря на болезнь, доходившую до того, что ее носили из вагона на станцию в креслах, она казалась очень красивою женщиной. По совершении казни над Сераковским многие поляки присмирели, а в Европе увидали, что энергичные люди есть между русскими сановниками.
Положение Муравьева в Вильне было весьма трудное. Ему приходилось там бороться не с одною польскою интригою. Известно, что он не пользовался расположением Государя, который, по указанию генерал-адъютанта Зеленого, назначил его начальником Северо-Западного края за неимением кого-либо, достаточно на это способного. Большая часть лиц, окружающих Государя, и в том числе и министр внутренних дел Валуев, ненавидели Муравьева и при всяком случае выказывали свою ненависть. Они, равно как и все либералы, кричали про него, что он дикий зверь. Я уже говорил, до какой степени были недовольны его назначением служившие в этом крае, которые поэтому дурно ему содействовали. Нельзя же было переменить всех местных чиновников и весьма сомнительно, чтобы новые были лучше прежних. Нельзя даже было найти хорошего непосредственного помощника Муравьеву. В эту должность назначили сначала генерал-адъютанта Крыжановского (впоследствии Оренбургского генерал-губернатора), который хвалился публично, что скоро заменит Муравьева; потом генерал-адъютанта Фролова (впоследствии сенатора), человека с нехорошей репутацией по карточной игре; и, наконец, свиты Его Величества генерал-майора Потапова (впоследствии шефа жандармов), большого интригана, противодействовавшего Муравьеву. Неудовольствие к последнему высказывалось многими высшими сановниками при торжественных случаях; так, между прочим, с.-петербургский военный губернатор князь Суворов на обеде, данном по случаю вновь выстроенных лавок Щукина и Апраксина дворов, вместо погоревших в 1862 году, громко при всех называл Муравьева зверем-разбойником.
Несмотря на все противостояния, Муравьев усмирил Северо-Западный край, а это усмирение имело сильное влияние на уменьшение беспорядков в Польше и на взгляд на польское восстание Франции и Англии, которые более в него не вмешивались. Нет сомнения, что в этом отношении Россия много обязана действиям Муравьева.
<...> В этом же месяце я получил свидетельство за подписью М. Н. Муравьева на право ношения медали, установленной 1 января 1865 года за особенно полезное участие в административных распоряжениях правительства в Северо-Западном крае во время мятежа 1863-1864 годов.
Начальник полицейского управления Петербурго-Варшавской жел<езной> дороги, жандармский полковник Житков, живший в Вильне, сумел разными проделками приобрести особенное распоряжение М. Н. Муравьева. Разные оказываемые им услуги семейству Муравьева, а в особенности сильно любимой последним дочери С. М. Шереметевой, сделали его у Муравьева своим, как говорится, человеком. Полицейские управления жел<езных> дорог были тогда подчинены инспекторам дорог, а потому Житков состоял под моим начальством. В марте 1865 года он приезжал в Петербург и передал мне о том, что Муравьев, очень недовольный своим помощником по званию главного начальника Северо-Западного края Потаповым (впоследствии шефом жандармов), намерен приехать к Пасхе в Петербург и просить об избавлении его от Потапова, который вообще действует в противоположном Муравьеву направлении, а жена Потапова, очень религиозная женщина, живет постоянно в обществе таких дам, которые по их политическим убеждениям не принимаются в доме Муравьева и которые стараются нравиться ей своею набожностью.
Муравьев выражал желание, чтобы я заменил Потапова, и надеялся меня согласить на это во время пребывания своего в Петербурге, но предварительно поручить Житкову узнать мое мнение об этом назначении.
Я просил Житкова передать Муравьеву, - постоянно в продолжение 20 лет желавшему, чтобы я служил под его начальством, - что я не считаю себя способным в смутное время занимать предлагаемую мне должность и не желаю оставлять инженерной службы, которой посвятил 35 лет моей жизни. Муравьев в конце марта приехал в Петербург, где он имел бесчисленное множество врагов, и в их числе преимущественно Великого князя Константина Николаевича, бывшего в это время председателем Государственного совета, и издавна близкого последнему министра народного просвещения Александра Васильевича Головнина, доказывающих Государю, никогда не любившему Муравьева, что управление последнего Северо-Западным краем после его усмирения вредно. Разные факты, служившие к обвинению этого управления, конечно, были доставлены Потаповым.
Государь при представлении Муравьева по приезде в Петербург поблагодарил его за оказанную России и ему службу, заявил, что он желает дать отдохнуть Муравьеву, надо было найти преемника Муравьеву, а затем предположение последнего о назначении меня к нему помощником упало само собою. Государь в это время был сильно огорчен болезнью Наследника, так что на 6 апреля был назначен его отъезд в Ниццу, где Наследник166 и Императрица провели зиму 1864-1865 года.
Несмотря на тревожное состояние Государя, надо было найти преемника Муравьеву, который не только не допустил назначение на свое место Потапова, но настоял на немедленном удалении последнего от занимаемой им должности. Все, окружавшие Государя, за исключением военного министра Милютина и министра государственных имуществ Зеленого, желали назначения на место Муравьева таких лиц, которые действовали бы в противоположном Муравьеву духе. Муравьев же и означенные два министра находили необходимым продолжить систему Муравьева, и Милютин предложил в главные начальники Северо-Западного края бывшего в это время директором его канцелярии генерал-адъютанта Константина Петровича Кауфмана.
Государь согласился, но за своим отъездом отложил увольнение Муравьева, поручив временное управление Северо-Западным краем помощнику Муравьева по званию командующего войсками Виленского округа генерал-адъютанту Александру Петровичу Хрущеву, который, по назначении Кауфмана в Вильну, был сделан генерал-губернатором Западной Сибири.
Муравьев был уволен весьма милостивым рескриптом, которым ему жаловалось потомственное графское достоинство. Я слышал из верного источника, что пожалование этого достоинства Муравьеву испросил у Государя бывший в это время директором собственной Государя канцелярии по делам Царства Польского Николай Алексеевич Милютин. Хотя по всем государственным делам он постоянно был разного мнения с Муравьевым, но находил, что после оказанных последним услуг России в деле усмирения польского мятежа Государю нельзя было его уволить, не выразив ему своей благодарности и не наградив его.
Лето 1865 года Муравьевы провели в своей Лужской деревне, а зиму 1865-1866 года в Петербурге, где очень немногие посещали его. Я же до 4 апреля 1866 года часто проводил у него вечера. Его всегда умные и дельные разговоры очень меня занимали. Он говорил много о жел<езных> дорогах и об устройстве других сообщений и неоднократно изъявлял удивление, что держат министром путей сообщения Мельникова, хотя честного и знающего свою специальность, но апатичного и недостаточно образованного, тогда как на эту должность, для придания жизни нашим сообщениям, следовало бы, по его мнению, назначить меня. <...>
<...> Варшава продолжала иметь вид мятежного города. Вильна была спокойна. В Польше продолжали бродить мятежнические вооруженные шайки с жандармами-вешателями. В Северо-Западных губерниях они появлялись уже редко. Этого не следует приписывать какой-либо особенности того или другого края или, как обыкновенно полагают, более строгим наказаниям, которым подвергались мятежники в Северо-Западном крае, а собственно мерам М. Н. Муравьева.
Перечитывая приговоры над мятежниками, он входил во все подробности произведенного над ними суда и долго их взвешивал, прежде чем решался утвердить. Несмотря на это, он умел прослыть злодеем-тираном. Впрочем, эта репутация могла содействовать скорейшему усмирению мятежа в Северо-Западных губерниях. При проезде моем в конце сентября по Варшавской железной дороге растущий около нее лес в пределах Польши еще не начинали рубить, тогда как в Северо- Западных губерниях он был уже вырублен на 150 сажень с каждой стороны дороги, и вследствие этого были прекращены повреждения пути мятежниками. <...> В Вильне я провел день, в который праздновали рождение Муравьева, и еще несколько дней. Большую часть времени я проводил в его семье, которая тогда собиралась в Вильне. Жена же его и дочь Софья Михайловна Шереметева постоянно жили в Вильне.<...>
Муравьев был примерный муж и отец. Дочь его особенно им любима, и он был очень ласков со своими внуками. Со мною он был, по обыкновению, любезен, говорил о положении наших дел в Польше и Западных губерниях, недоволен был распоряжениями в Польше и Петербурге, в который, по его словам, переселился польский Жонд.<...>
4 апреля, после обеда, один из моих слуг объявил мне о ходившем в городе слухе, что в Летнем саду стреляли в Государя.<...>
Каракозов выстрелил в Государя в исходе 4-го часа дня, а обер-полицмейстер Анненков в 5 час<ов> преспокойно шел по Большой Морской обедать в Английский клуб, когда был встречен адъютантом Великого князя Николая Николаевича, графом В. П. Клейнмихелем, спешившим о случившемся донести Его Высочеству. Анненков от него узнал о происшедшем. На место Анненкова назначен генерал-майор Фе -дор Федорович Трепов, бывший в это время генерал-полицмейстером в Царстве Польском. Это место казалось важнее места петербургского обер-полицмейстера, а потому говорили тогда, что употреблены были особые меры, чтобы уговорить Трепова принять возлагаемую на него должность. По его назначении, он постоянно не ладил с бывшим петербургским военным генерал-губернатором, князем А. Л. Суворовым. Впрочем, место генерал-губернатора в Петербурге вскоре было упразднено, а Суворов, сверх звания члена Государственного совета, назначен генерал-инспектором всей пехоты. Эта должность чисто номинальная и я, едучи с Суворовым из Москвы в смежном отделении вагона, слышал, как он громко выражал свое негодование на то, что с ним было дурно поступлено. Это не мешало ему остаться по-прежнему отчаянным царедворцем.
Предположение о том, что Каракозов был только орудием заговорщиков, побудило принять решительные меры к их отысканию посредством следственной комиссии, председателем которой общественное мнение назначило графа М. Н. Муравьева. Действительно, Государь поручил ему розыски. Петербургский Английский клуб, которого большая часть членов враждебно относилась к Муравьеву во время его управления Северо-Западным краем, избрал его в почетные члены и дал в честь его обед по подписке, в котором я участвовал. Старшина клуба Г. А. Строганов произнес речь, в которой изъяснил, что русские вполне надеются на то, что Муравьев своими действиями уничтожит всех злоумышленников. Говорили и другие, и между прочим, сколько помню, П. А. Валуев, несмотря на свою неприязнь к Муравьеву. Последний поблагодарил за оказанную ему честь, обещался исполнить выраженные ораторами надежды и кончил уверением, что для раскрытия всех злоумышлений употребит все свои силы, хотя бы для этого надо положить все свои кости.
Ему, конечно, не приходило в голову, что эти слова были пророческими.
После обеда, когда Муравьев сидел со мной и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала «Современник», известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах и просил позволения его прочитать. По прочтении он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части клуба.
Во время производства следствия я редко виделся с Муравьевым и потому мало знаю об этом производстве. Начатое с большим шумом и криком, оно почти ничего не раскрыло. Я знаю только, что в его начале Муравьев приписывал дурное поведение молодежи направлению, данному учебной части бывшим тогда министром народного просвещения А. В. Головниным и периодическими изданиями, потребовал удаления Головнина и запрещения «Современника». Его требования были исполнены.<...>
По окончании следствия над Каракозовым Муравьев уехал в свою лугскую деревню, где он устроил церковь и был 29 августа при ее освящении. Вечером того же дня он простился со своим семейством, полагая на другой день, в который празднуют память св. Александра Невского, быть у обедни и вскоре переехать в Петербург. На другое утро камердинер нашел его в постели умершим. Муравьев был больной старик, и потому смерть его была вполне естественна. Может быть, невозможность исполнить данное им торжественное обещание отыскать все нити заговора, который он представлял в обширных размерах, а также утомление от долгого, весьма ему вредного стояния во время освящения церкви были причиною столь внезапной смерти.
Когда я возвращался из Козлова в Москву по освидетельствовании Рязанско-Козловской жел<езной> дороги, П. Г. Дервиз выехал ко мне навстречу из Москвы и передал мне о смерти Муравьева, похороненного в присутствии Государя в Александро-Невской Лавре. Во время похорон меня не было в Петербурге. После смерти Муравьева его вдова посещала мою жену, и я бывал у нее, но после ее внезапной смерти в 1871 году от апоплексического удара наше знакомство с ее сыном Леонидом и дочерью Софьей Шереметевой прекратилось.
В. К. Войт ВОСПОМИНАНИЯ О ГРАФЕ МИХАИЛЕ НИКОЛАЕВИЧЕ МУРАВЬЕВЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗДВИЖЕНИЯ ЕМУ ПАМЯТНИКА В Г. ВИЛЬНЕ
Главный начальник Северо-Западного края, Михаил Николаевич Муравьев, прибыв в 1863 году, кажется, в мае месяце, приказал по телеграфу живущему в Вильне жандармскому полковнику Ж. прибыть в назначенное время в двухместной карете на Виленскую станцию железной дороги и воспретил телеграфу временно передавать частные сообщения, что обеспечило дальнейшее его путешествие.
За Динабургом тянулись до прусской и австрийской границ огромных размеров леса, о которых в настоящее время трудно себе и представить. В этих лесах гнездились банды повстанцев, вооружение которых быстро подвинулось с тех пор, как посланный за границу для казенных заказов по акцизному управлению чиновник Огрызко внес в Познанский банк значительную сумму казенных денег в депозит Народного Жонда, что подняло его кредит. Эти деньги были возвращены Огрызке из народных сборов.
В то время приходилось проезжать по большим дорогам Сувалк-ской губернии и на огромном протяжении не встречать ни одной живой души, словно все вымерло, и лишь курящиеся дымки в лесах как бы сказывали, что туда скрылось население страны.
Банды повстанцев в видах военного подготовления и для отыскания продовольствия передвигались с одного места на другое. Лю-бимейшими их притонами были усадьбы богатых помещиков. Здесь прославлялась воскресающая отчизна. Старая водка исчезала во множестве. Распевали гимны, т.е. революционные песни во славу отчизны, и, возбуждая в себе воинственность, задорно ругали москалей, тщеславно кичились будущими военными подвигами и романсовали с прелестным полом. Разгул был бесшабашный, радостный, поддерживаемый рассказами о готовящейся помощи со стороны Европы и о вымышленных победах над русскими войсками Мирославского и Лангевича с его адъютантом пани Пустовойтовой.
«Все для Отчизны!» - слышалось повсюду. Малейшее подозрение в уклонении от общего настроения и неуплаты в народный сбор влекло за собой смертные приговоры.
Народовый Жонд прессом сдавил все общество в одну массу, в которой каждый заботился только о своей жизни. Кто управлял Жондом и где он существовал - было неизвестно. Назывался же он подпольным.
Добраться до него было почти невозможно, так как он скрывался за хитро продуманной организацией, в которой каждый из заговорщиков выбирал себе двух, те опять двух и т.д., через что образовывалась сеть треугольников, члены которых только в количестве нескольких человек были известны друг другу и таким образом скрывались личности руководителей, передававших приказания от имени Жонда по протяжению треугольников, они же могли повсюду присутствовать, все обозревать и входить в личные сношения с теми, которые их и не подозревали.
Членами Народного Жонда были и ксендзы. Они предводительствовали шайками, руководили заговором и фантазировали общество. В Ченстохове говорили молящимся, что только по их просьбам Матка Боска не покинула обители в ожидании, что народ исправится и окажет рвение к восстановлению отчизны. При содействии ксендзов появились так называемые пророченцы, к лачугам которых подъезжали кареты и находящиеся в них пани ползком и на коленях достигали этих благовестительниц будущих судеб о Польше. Для фанатического воздействия на простолюдинов, ксендзы, придав фосфорическое сияние своей голове, молились по ночам в уединенных местах.
Поскребите поляка и вы откроете женщину - его властительницу. Поскребите эту женщину и откроется ксендз - владыка ее души и тела, покорнейший, послушнейший раб Ватикана, этого злейшего и непримиримого врага православия.
Припомним роковое предсказание графа Остермана, когда император Александр Павлович приехал в Варшаву в 1818 году. Для открытия первого сейма и всем сделалась известна речь его, оскорбившая русское самолюбие. В Варшаве русских держали в черном теле, вероятно, чтобы нравиться полякам, высокомерно возмечтавшим о себе. На одном из смотров подходит Паскевич к Милорадовичу и Остерману (их тоже держали в черном теле в Варшаве, чтобы привлечь любовь польских генералов армии Наполеона) и спрашивает у них: «Что из этого будет?». Граф Остерман отвечал: «А вот что будет, что ты через 10 лет со своей дивизией будешь их штурмом брать».
В то время Польша представляла самобытное царство с ее сеймом, законами, монетным двором и войском, обученным знатоком и любителем сего дела цесаревичем Константином Павловичем, находящимся в морганатическом браке с полькой. Даже офицеры получали содержание золотом, как в заграничных походах. На русские деньги проводились шоссе, тогда как из Петербурга в Москву местами проезжали по трясинам, на которые настилали бревна вроде плотов.
Назначенный в 1820 году в Вильну куратором (вроде попечителя учебных заведений) князь Адам Чарторижский, пользуясь дружбой императора, влиянием знаменитого в то время Виленского университета и ксендзов, успел ополячить близлежащие к Царству наши окраины и тем увеличить его силу.
С одной стороны, представлялось цветущее состояние Царства Польского, с другой, тишь да гладь, да Божья благодать под господством Аракчеева, у которого идеалы общественной жизни сливались с казарменными порядками. Органической связи между ними никакой не было. Кичливость поляков, тщеславие и воинственный задор вызвали революцию 1830 года, начатую юнкерами варшавского военного училища.
Братоубийственная война окончилась взятием приступом Варшавы генерал-фельдмаршалом графом Паскевичем-Эриванским, как это предсказал граф Остерман.
Репрессарии состояли чисто из одних полицейских мер. Паскевич, получивший сан князя Варшавского, сделан был наместником. Пользуясь неограниченным доверием императора Николая Павловича, он представлял могущественного сюзерена, не допускавшего какое-либо вмешательство петербургской власти. Даже подчинение нашему департаменту таможен и пограничного надзора, а равно снятие таможенной линии между Россией и Польшей были встречены враждебно могущественным наместником, давшим цветущее состояние Царству, сохранившему прежнее государственное положение, исключая сейм.
Император Николай Павлович не мог простить полякам, что они во время коронации его в Варшаве в 1830 году клялись и уверяли в безграничной преданности, а по прошествии нескольких месяцев изменили. Светлейший же наместник не только успевал обращать царский гнев на милость, но приводил в исполнение даже Высочайшие повеления, невыгодные для магнатов; так, повеление 1846 или 1848 года предоставить крестьянам в вечную аренду занимаемые ими земли без переделов - с установленной годовой платой, не было приведено в исполнение по приказанию наместника, в чем мы имели случай удостовериться, устраивая крестьянский быт с шестидесятых годов.
Цветущая Польша с прилегающими к ней ополяченными нашими окраинами, рассчитывая на брожение умов в России, вызванное новыми реформами и необычайным влиянием «Колокола», издаваемого в Лондоне Герценом, двигавшим революционными идеалами, стала проявлять враждебные чувства, подстрекаемые Наполеоном и боязнью польских магнатов и помещиков, что и к ним проникнет манифест об освобождении крестьян с землей.
В конце сороковых годов графиня Растопчина, проезжавшая Польшей, писала:
Моя коварная жена, С монахом шепчется она.И монах успел раздуть восстание. В костелах вместо молитвенного пения раздавались революционные гимны «Боже цось польска» и «С дымом пожаров», эти гимны сопровождали разные религиозные процессии, часто отправляемые повсеместно. Женщины нарядились в модный траур, не придававший им печального вида. Мужчины носили чамарки. Уличные беспорядки проявлялись всюду. Наконец, разразилась Варфоломеевская ночь, т.е. внезапное нападение и избиение наших солдат и офицеров. Войска ожесточились, но их сдерживали, и даже плевание на них оставалось без последствий.
Положение русских было в особенности печальное; в городах они ожидали ударов кинжалом, в отдаленных же местах перед казнью их истязали, обращая в польские уланы, делали отвороты из вырезанной грудной кожи. Многие священники, ведя скудную жизнь и ненавидимые панами за их влияние на крестьян, были подвергнуты смертным казням. Одни только раскольники держали себя независимо и отважно и под Динабургом отбили транспорт с оружием, принадлежащим графу Плятеру, но обвиненные в ночном разбое сидели в тюрьме.
Капля переполнила сосуд.
В Варшаве, на краковском предместье, рота солдат проходила несуществующий ныне узкий переулок, где из окон домов полились на нее разные нечистоты и бросали разную посуду и осколки; впереди толпа старалась загородить ей путь; раздались выстрелы и пало пять человек. Плач, стоны и проклятья раздались по Варшаве. «Мирных жителей убивают москали!» - кричали повсюду. Вышло так, что для умиротворения и облегчения общей скорби дозволено было похоронить торжественно пять офяр при отсутствии полиции, войск и русских. Полицейский же надзор передан жителям города.
Нужно сознаться, что учащаяся молодежь днем тщательно исполняла полицейские обязанности. Ночью же без всякого препятствия наполняла Варшаву оружием.
Начальствующие лица быстро сменялись и являлись часто с своими взглядами, непригодными для совершающихся событий. На одного наместника было сделано нападение с кинжалом по выходе его из театра, окончившееся благополучно. Другой наместник был ранен выстрелом в многолюдном собрании курзала, где он пил минеральные воды. Третий наместник сам уехал из Варшавы. В четвертого была брошена бомба и ранена упряжная лошадь. Один из близкостоящих к наместнику лиц застрелился.
При этом положении возрастала грозная и безграничная власть Народного Жонда. В Париже князь Адам Чарторижский, называвшийся крулем польским, вел дипломатические переговоры, стараясь, чтобы Европа признала возмутившиеся губернии воюющей стороной, на что последовала энергическая и достойная уважения нота нашего министра иностранных дел. В Петербурге думали о необходимости отказаться от Польши и сохранить за нами Литву.
При этих тягостно печальных обстоятельствах было предложено генералу Муравьеву главное начальство над Северо-Западным краем, и он, выезжая из столицы, заявил, что ни пяди земли, где пролита кровь русских, не должно быть отдано врагам; и в двуместной карете, ожидав -шей его на Виленской станции железной дороги, неожиданно и негаданно прибыл во дворец и принялся за свою историческую работу.
Через несколько дней по прибытии главного начальника края в Вильну с неограниченными правами я посетил этот город, и в тот же вечер отправился к одному из влиятельных лиц и увидел там отчаянную домашнюю сцену. Отец семейства был болен, маленькие дети, окружая его, находились под влиянием какого-то удручающего чувства, не свойственного их возрасту, хозяйка же дома, увидев меня, почти с воплем рассказывала о грозившей им беспощадной участи. Вчера Муравьев, говорила она, расстрелял одного помещика; хотя город волновался, но это прошло для нас благополучно; завтра же он намерен подвергнуть казни помещика с ксендзом, вследствие чего нас всех хотят перерезать. «Я не знаю, к кому обратиться, кого просить о помощи... Мы такие одинокие... беззащитные, никто не приходит, все как бы скрылись, ради Бога, похлопочите, чтобы прислали роту солдат охранять нас». На другой день утром мне говорил жандармский штаб-офицер: мундира нашего здесь боятся. Но, несмотря на это, вчера я слышал угрозы против решительных мер начальника края. Не стесняясь, громко говорили о необходимости всеобщего восстания, хотят поджечь город и перерезать русских.
За три дня до рассказанного мною совершилась первая казнь; осужденного провели кратчайшим путем от места заключения к лобному месту в 5 часов утра. В сей же день осужденные две жертвы провели по главным улицам города, и казнь совершили в 11 часов утра. Я видел это печальное шествие, сопровождавшееся перекатами барабанного боя, производившего потрясающее чувство. Две шеренги взвода Московского полка конвоировали осужденных; между шеренгами тянулись пара дрожек, сзади одних шел с поникшею головой помещик, на других же сидел осужденный ксендз, как бы потерявший сознание. Подле него тоже сидел другой ксендз, назначенный напутствовать осужденных, он, поддерживая своего несчастного товарища, шептал ему что-то на ухо. Огромная толпа народа густой шпалерой стояла по обе стороны улицы, молчаливо всматриваясь в эту дотоле невиданную процессию. Отправившись во дворец, где находился один только дежурный адъютант, я был приглашен в кабинет, где Михаил Николаевич сидел за письменным столом, на котором не было производящихся дел, в белом жилете, расстегнутом на все пуговицы сюртуке и трубкой с длинным чубуком; но как он переменился, пожелтел, осунулся, глаза потускнели, видна какая-то усталость, может быть он страдает от раны, полученной в Отечественную войну. И от недуга сердца, а ровно от одиночества в разлуке с любимой женой. Конечно, на него влияют грозные события.
Но все эти впечатления уничтожаются самообладанием, выражением непреклонной воли и нравственной силы подчинять себе людей.
Я передал виденное мною на улицах города, прибавив, что принятые им энергические меры уничтожат мятеж в три или четыре месяца. «Вы не знаете всю степень его развития, - отвечал Муравьев, - дай Бог и в год с ними справиться».
Получив приглашение каждый раз, проезжая Вильну, посещать его превосходительство, я удалился из кабинета.
Первой заботой М<ихаила> Н<иколаевича> было освобождение раскольников из тюрьмы, подтверждение графа Плятера законной ответственности, а равно прежнего крестьянина (помещицкое быдло) преобразовать в гражданина; а потому приступили к пересмотру уставных грамот, заменив русскими поляков мировых посредников, и занялись составлением выкупных актов на земли, отведенные крестьянам в надел. Волостным правлениям дано полное значение. Заметим кстати, что в некоторых местностях даже не был объявлен Высочайший манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В деревнях устроили караулы, дабы никто не проезжал без билетов. Крестьяне наблюдали, чтобы у помещиков не были съезды, а помещикам воспрещено выбывать из имений без разрешения местного начальства, чем разрушалось сношение помещиков с Народовым Жондом, так и между собой.
Приходилось несколько раз видеть мраморную залу дворца, наполненную депутатами крестьянами, которые после милостивой и внушительной беседы главного начальника края возвращались домой, внося в свою среду одухотворение новой патриотической жизни.
Священникам было назначено приличное содержание, их морально возвысили и они встали на подобающую им высоту. Православные храмы ремонтировались и строились вновь. Два из них в Вильне, бывшие закрытыми еврейскими постройками, в настоящее время представляют образцы изящества.
Повсюду стали устраиваться народные школы, и в двух губерниях (Витебской и Могилевской) в короткое время насчитывалось 560 школ. Повсюду раздавалась русская речь. Разговор по-польски в общественных местах или в служебных сношениях с чиновниками был обложен значительным штрафом. М<ихаил> Н<иколаевич>, как знаток русской истории и в особенности этого края, реставрировал многие памятники древности глубокой. Как просвещенный человек, он заботился изданием истории Литвы, трудами генерала Ратча, а равно в его управление началось приведение в порядок богатейшего Виленского архива.
Польские чиновники повсеместно были заменены русскими, приглашенными из внутренних губерний, и всем чиновникам увеличено содержание на 50 процентов. Кажется, в 1862 году государственный бюджет возрос до 120 миллионов, и было бы несправедливо большее обложение за польские грехи, а потому М<ихаил> Н<иколаевич> облагал контрибуцией польские владения для необходимых расходов.
Просеки, где проходила железная дорога, были расширены, и при каждой станции, в устроенных бараках были размещены войска, наблюдавшие за прилегавшими к ним лесами.
По всем уездам были назначены военные начальники с огромными полномочиями. Каждый из отдельных чиновников, встречая необходимость, сносился по телеграфу с начальником края и немедленно получал ответы. Телеграф за спиною кабинета неустанно действовал. Огромное пространство шести губерний как тело повиновалось душе, находящейся в Виленском кабинете, где М<ихаил> Н<иколаевич> работал без устали в продолжение 16 часов в сутки.
«Знаете ли, сколько мне прислано чиновников из Петербурга?» -спросил М<ихаил> Н<иколаевич> однажды перед обедом. Я отвечал отрицательно. «600, - сказал он. - А знаете ли сколько я отправил обратно? 400!..»
И только грязью Петербург хотел замарать патриотическое дело Михаила Николаевича.
Другой раз, также перед обедом, спросил меня М<ихаил> Н<иколаевич>, слышал ли я, что из Вильны сослан на жительство в Россию один из латинских первосвященников. «Я велел его везти не через Петербург, а через Сосницкую пристань», - прибавил он.
Петербург, получая ссыльных для дальнейшего их отправления, любезничал с ними, ублажал их, как бы протестуя против решительных мер главного начальника Северо-Западного края. Женщин позволяли даже возить по маскарадам и доставляли им разные удовольствия.
Еще до приезда Михаила Николаевича в апреле месяце генерал Иван Степанович Ганецкий разбил наголову значительную банду под начальством Сераковского, и Муравьев не дал возможности развиться новым бандам. Так что в августе вооруженное восстание окончилось.
- Теперь вы можете ездить без конвоя, - сказал мне М<ихаил> Н<иколаевич>.
Я напомнил ему о моем предсказании при первом свидании.
- Я и сам этого не ожидал, - отвечал он с торжествующей улыбкой.
Казалось бы, благомыслящие люди должны были радоваться быстрым успехам главного начальника края, даже потому, что прекращалось дальнейшее пролитие крови и восстанавливался порядок. Враги же и завистники М<ихаила> Н<иколаевича>, прислушиваясь к жалобам подсудимых, относили эти успехи к его кровожадности, дескать, его зверская натура нашла себе достойное поприще. Как помнится, смертельных приговоров в Вильне было вдвое менее, чем в Варшаве. Мы заявляем во всеуслышание, что М<ихаил> Н<иколаевич>, выслушивая подобные дела, прежде чем скрепить их своею подписью, становился на колени и долго молился. В то время даже влиятельные лица Петербурга находились в приниженном состоянии, заботясь о том, что о них скажут за границею, преимущественно во всемогущей газете «Колокол». Михаил же Николаевич, как утес, величественно и гордо стоял в открытом океане, омываемый со всех сторон разъяренною стихиею волн, состоящих из клеветы, злобы и всевозможных инсинуаций.
По семейному обычаю, превосходная, симпатичная, настоящая русская боярыня Пелагея Васильевна перед обедом наливала в стеклянную чарку водку и подносила ее супругу; М<ихаил> Н<иколаевич>, выпив и закусив, садясь за стол, спрашивал француженку, компаньонку Пелагеи Васильевны: «А что, бранят меня в газетах?». Картавя и с визгом «quelle horreur! quelle horreur!»167 - вскрикивала она. М<ихаил> Н<иколаевич>, с улыбкою обводя глазами присутствующих, говорил: «Теперь и аппетит у меня увеличится».
Обеденный стол ежедневно накрывался человек на 40 или 50, во всю длину столовой. Гостеприимством хозяина пользовались прибывшие с ним лица. Эти почетные и честные труженики собирались по вечерам в красной комнате дворца, ожидая приглашения в кабинет. Тяжела была эта ночная обязанность, не дозволявшая сношений с губернским обществом, но этой мерою предотвращались все городские сплетни. В установленное время домашний доктор, отворив дверь кабинета, провозглашал: «Три часа, пора спать», на что М<ихаил> Н<иколаевич> отвечал: «Нужно спать, приказание доктора» и выходил из кабинета.
По прошествии нескольких месяцев глубокоуважаемая П<елагея> В<асильевна> сказала мне: «Теперь друзья М<ихаила> Н<иколаевича> могут за него порадоваться, он сократил свои занятия до 13 часов в сутки. В сутки 13 часов самых разнородных и государственных занятий, отвлекаемых официальными приемами и просителями, для старика, обремененного недугами, составляет истинный подвиг.
Видя полезную сторону дела, М<ихаил> Н<иколаевич> поступил решительно, не прибегая к побочным соображениям. Так, он присоединил к своему управлению смежную Сувалкскую губернию по следующим обстоятельствам. Вержболовская таможня была единственная из всех таможен Царства, через которую безопасно проезжали пассажиры и очищалось множество товаров во избежание конфискации. В обеспечение пассажиров ставили на локомотив двух стражников с заряженными ружьями и прицепляли вагон, в котором помещались стражники, тоже с заряженными ружьями, на случай встречи с вооруженными повстанцами. Для охраны же значительных сумм у таможни имелось две роты пограничной стражи и посылались разъезды в ближайшие и дальнейшие леса для предупреждения внезапного нападения повстанцев. Из дальнего разъезда является поручик Гамербек и доносит, что в Принеманских лесах крестьяне жалуются на повстанцев и говорит, что по ту сторону Немана у генерала Муравьева все хорошо и спокойно, а их обижают вооруженные люди. Это было доведено до сведения Вильны, и М<ихаил> Н<иколаевич> приказал прислать ему крестьян, по просьбе которых и присоединил к себе Сувалкскую губернию. Через несколько времени пришел к нам, в Ломжу, с отрядом Иван Степанович Ганецкий, приказал вырыть крест, поставленный в конце площади в память восстания; причем всех находящихся на площади поставил на колени, и когда крест был внесен на церковь, то он вразумительно посоветовал образумиться, и возмущение прекратилось, что подействовало благоприятно и на соседнюю губернию, в чем мы удостоверились, проезжая по ней с комиссарами по крестьянским делам после введения реформ, составленных знаменитым Николаем Алексеевичем Милютиным, находившимся в отличных отношениях с главным начальником Северо-Западного края. Навстречу к нам выходили крестьяне с радостными приветствиями. Они были вооружены против помещиков и ксендзов. Некоторые из них просили поместить их детей в школы таможенной стражи и говорили, что детей их следует воспитывать с русскими, а не у ксендзов.
О Михаиле Николаевиче распускали слух, что он до того проникнут деспотизмом, что малейшее раздражение возбуждает в нем гнев и опалу противнику, не согласному с его мнением.
Так ли это?
Однажды получаю предписание явиться к главному начальнику края. Я всегда радостно входил в кабинет, но в этот раз неровно билось мое сердце, и я думал: должно быть, случилось что-нибудь неладное. М<ихаил> Н<иколаевич> встретил меня благосклонно, но сдержанно, проговорив начальническим тоном: «Ваши чиновники Вержболовской таможни передают из заграницы тайную корреспонденцию». - «Не может быть», - отвечал я решительно. - «На чем же это основано?» - спросил он, озирая вопросительным взором. - «Вашему Высокопревосходительству может быть небезызвестно, что я строг к службе». - «Да, я это знаю», - отвечал он. - «А потому можно ли предположить, чтобы при моей строгости и строгости Вашего Высокопревосходительства, имеющего неограниченную власть, могло бы явиться подобное безумие, тем более, что прежние чиновники-поляки заменены офицерами пограничной стражи и в таможне значительно преобладает русский элемент?»
Подумав немного, М<ихаил> Н<иколаевич> отвечал: «Да, это правда».
Впоследствии оказалось, что тайную заграничную корреспонденцию передавали телеграфные чиновники.
М<ихаил> Н<иколаевич> умел одним словом охарактеризовать человека, употребляя для этого простонародные выражения. Он владел юмором. Однажды зашла речь, в какой форме следует быть на церковном параде. В то время часто меняли форму. Одни говорили одно, другие другое. Выслушав их, М<ихаил> Н<иколаевич>, махнув рукой, сказал: «Отправляйтесь к Пелагее Васильевне, она вас рассудит».
На каждое заявление М<ихаил> Н<иколаевич> отвечал немедленно с утонченною вежливостью. В Вержболове после общественного обеда была отправлена главному начальнику края сердечная телеграмма, на которую он отвечал телеграммою же от 17 октября 1863 года: «Начальнику Вержболовского таможенного округа Войту. Искренно благодарю вас и всех вместе с вами выразивших сочувствие к моей деятельности за лестное для меня заявление. Надеюсь, что вскоре польская земля будет пользоваться тем же спокойствием, как и здешний русский край, восстановленный с содействием доблестного войска нашего и моих почтенных русских сотрудников, которых еще раз благодарю».
Один из прусских штаб-офицеров, занимаясь на границе геодезическими работами, просил позволения явиться к Его Высокопревосходительству. Пробыв в кабинете довольно долгое время, он вышел оттуда, повторяя восторженно: «Какой ученый человек. Подобного профессора я слышал первый раз».
Какая-то пани обратилась с просьбой ускорить ее дело. М<ихаил> Н<иколаевич> приказал это дело доставить к нему, лично просмотрел и дал благоприятное заключение. Пани не столько радовалась счастливому для нее исходу, как удивлялась редкой способности сановника к пересмотру канцелярской письменности.
С поездом Великого князя Константина Николаевича, возвращавшегося из заграницы, я прибыл в Вильну, где в пассажирском зале отыскал меня камердинер его высочества, сказав, что Великий князь требует капель, которые находятся в багаже под таможенными пломбами, ибо досмотр багажа предполагался в Петербурге. Проходя платформу, я увидел вагон Великого князя с опущенными шторами, а перед ним кучу военных, впереди которых стоял граф Муравьев, опираясь на костыль. Сняв пломбы и удаляясь оттуда, я услыхал оклик и ко мне навстречу шел М<ихаил> Николаевич. Эта беседа была последняя с этим знаменитым человеком, пробуждающим во мне, 87-летнем старике, юношеское чувство любви и беспредельного уважения.
М<ихаил> Н<иколаевич> часто говорил, что в его деятельности одни только цветки, когда созреют ягоды, то потребуется много ума, знания, опыта и предусмотрительности. Совсем созревших ягод не пришлось увидеть графу Муравьеву. Предположение же его к обрусению края, между прочим, состояло в следующем.
Образовать сильный помещичий класс, раздавая русским на льготных правах казенные и конфискованные земли, а равно предоставить им выкупку от польских владельцев при содействии государственного земского банка, учрежденного в Вильне и долженствующего снабжать ссудным капиталом за 5 проц<ентов> годовых.
Купцы, приобретавшие имения, получали звания почетных граждан.
Русские помещики обязаны были жить в имениях и занимать места чиновников по гражданскому ведомству. Им не дозволялось держать поляков управляющими имений.
Польские имения могли переходить к полякам только по прямому наследству.
Полякам и русским, женатым на польках, не дозволялось здесь служить.
Не доказавшая свои дворянские права шляхта была приписана к волостям.
В каждом костеле полагалось не менее 500 прихожан; меньшее же число их вело к закрытию костела, так как поляки количеством костелов и католическими эмблемами, выставленными на перекрестках дорог, старались доказать, что этот край был польский.
Учреждена постоянная контрибуция с польских имений в возмещение увеличенного содержания духовенству и чиновникам, а равно для покрытия расходов, потраченных на усмирение восстания.
Русские люди издавна своим богатырям труда и разума провозглашали славу. Провозгласим же и мы: Слава тебе, государственный муж, граф Михаил Николаевич Муравьев! Слава!
КОММЕНТАРИИ
Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева
Впервые опубликовано: Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева (Ко дню открытия ему памятника в г. Вильне 8 ноября 1898 г.). Вильна: Издание Виленского уездного комитета попечительства о народной трезвости, 1989.
Ар. Турцевич. Краткий очерк жизни и деятельности графа М. Н. Муравьева
Впервые опубликовано: Краткий очерк жизни... / Составил Ар. Турцевич, Преподаватель Виленской 1-й гимназии. Вильна, 1898.
Турцевич Арсений Осипович - виленский преподаватель, автор ряда учебников по истории западнорусских земель (Сборник документов, касающихся административного устройства Северо-Западного края при императрице Екатерине II. Вильна: Вилен. комис. для разбора древ. актов, 1903; Краткий учебник русской истории. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1913; Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши. Вильна: Тип. А. Г Сыркина, 1911).
Р. Сорокин. Муравьев в Литве в 1831 году
Впервые опубликовано: Р. Сорокин. Муравьев в Литве в 1831 году // Русская старина. 1873. В. 7. Т 8. С. 114-118.
М. Н. Катков. Польский вопрос
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Польский вопрос // Русский вестник. 1863. Т 43. № 1. С. 471-482.
М. Н. Катков. Что нам делать с Польшей?
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Что нам делать с Польшей? // Русский вестник. 1863. Т. 44. Март. отдел «XII. Отзывы и заметки». С. 469-506.
М. Н. Катков. Истинный либерализм, меры, принимаемые властями в Царстве Польском, и старообрядцы в Западном крае
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Истинный либерализм... // Московские ведомости. 1863. № 103, 12 июня.
М. Н. Катков. Польское восстание не есть восстание народа, а восстание шляхты и духовенства
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Польское восстание. // Московские ведомости. 1863. № 130. 15 июня. С. 1.
М. Н. Катков. Проект польского восстания, подписанный Мерославским и найденный у графа Андрея Замойского
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Проект польского восстания. // Московские ведомости. 1863.13 ноября. № 247.
М. Н. Катков. Вред примирительной политики с польской национальностью. Заслуга М. Н. Муравьева. Недостаток в русских людях
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Вред примирительной политики. // Московские ведомости. 1864. 8 марта. № 54.
М. Н. Катков. Заслуга графа М. Н. Муравьева (краткий очерк положения северо-западного края)
Впервые опубликовано: М. Н. Катков // Заслуга графа М. Н. Муравьева. // Московские ведомости. 1865. 2 мая. № 94.
М. Н. Катков. Кончина графа Муравьева
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Кончина графа Муравьева // Московские ведомости. 1866. 1 сентября. № 182.
М. Н. Катков. Причины приостановки русского движения в Западном крае
Впервые опубликовано: М. Н. Катков. Причины приостановки. // Московские ведомости. 1870, 2 апреля. № 72.
М. Н. Катков. <«Были готовы планы раздробления России...»>
Впервые опубликовано: Московские ведомости. 1882, 25 мая. № 143.
А. Мосолов. Виленские очерки. 1) (1863-1865 гг.). (Из воспоминаний очевидца)
Публикуется по: А. Мосолов. Виленские очерки... // Русская старина. 1883. Т XL, декабрь. С. 623- 628).
Сохранены примечания автора и редакции.
Мосолов Александр Николаевич (1844-1904), государственный деятель, в период пребывания М. Н. Муравьева в Вильне работал у него в качестве своего рода «гражданского адъютанта», в дальнейшем - директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий, занимал ряд губернаторских постов.
Е. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. 1848-1896. (Отрывки)
Текст печатается по: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848-1896. М.: Новости, 1991. С. 145-161
Феоктистов Евгений Михайлович (1828-16[28].06.1898), государственный деятель и публицист. Родился в Москве в семье офицера. Учился в Московском университете, принял участие в деятельности кружка Петрашевского и в 1849 он привлекался к следствию по делу петрашевцев. К счастью, юношеские увлечения западными теориями быстро прошли. По окончании университета Феоктистов открыл в себе талант публициста, дебютировав в «Современнике» рецензиями и переводами. Какое-то время он был редактором журнала «Русская речь», однако подлинное свое призвание нашел в «Московских ведомостях» М. Н. Каткова. С авг. 1871 по янв. 1883 Феоктистов редактировал «Журнал Министерства народного просвещения». Феоктистов сыграл большую роль во внедрении в русской школе системы классических гимназий и прогимназий. С 1 янв. 1883 Феоктистов возглавил Главное управление по делам печати, став начальником русской прессы. Твердой рукой Феоктистов навел порядок в периодических изданиях, жестко пресекая публикацию клеветы и оскорблений в адрес России, ее народа и властей. При этом Феоктистов за 13 лет своего управления прессой закрыл лишь 2 журнала - либеральный «Голос» и леворадикальные «Отечественные записки». 23 мая 1896, сразу после коронации Николая II, Феоктистов подал в отставку и через 2 года скончался. Он оставил после себя не только «русифицированную» прессу, но и ряд исторических сочинений и ценные мемуары. В них он порой очень зло и иронично характеризовал многие влиятельные фигуры тогдашней России. В приведенном отрывке из его мемуаров Е. М. Феоктистов описывает свои субъективные впечатления о Северо-Западном крае времен польского мятежа.
В. В. Розанов. Был ли жесток М. Н. Муравьев-Виленский?
Впервые опубликовано: В. В. Розанов. Был ли жесток М. Н. Муравьев-Виленский? // Русское слово. 1896. 24 сент. № 257.
Розанов Василий Васильевич (1856-1919) - видный русский философ и публицист.
Л. А. Тихомиров. Варшава и Вильна в 1863 г.
Впервые опубликовано: Тихомиров Л. Варшава и Вильна в 1863 г. // Северный вестник. 1897. № 12.
Тихомиров Лев Александрович (1852-1923) - русский социальный мыслитель и публицист. В молодые годы был революционером, одним из руководителей «Народной воли». Однако тесное общение с кругами революционеров привело его к убеждению, что не революция, а опирающееся на народ самодержавие способно стать основной движущей силой русского развития. Получив прощение от императора Александра III вернулся в Россию из эмиграции и стал одним из основных мыслителей национального направления.
Н. К. Имеретинский. Воспоминания о графе М. Н. Муравьеве
Впервые опубликовано: Н. К. Имеретинский. Воспоминания... // Исторический вестник: ежемесячный историко-литературный журнал. Санкт-Петербург, 1892. В. 12. Т 50. С. 603-643.
Имеретинский Николай Константинович (30 декабря 1830 - 24 октября 1894 года) - светлейший князь, военный и государственный деятель. Происходил из рода грузинских князей, один из внуков имеретинского царя Давида Георгиевича, царствовавшего в Имеретии. Воспитывался в Пажеском Его Величества корпусе, по окончании курса в котором поступил на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Прослужив в полку 13 лет и будучи в чине штабс-капитана ротным командиром, Николай Константинович поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, где с успехом кончил курс. Назначенный сперва помощником военного начальника, затем военным начальником Виленского уезда, он принимал деятельное участие в усмирении польских мятежников. В дальнейшем князь занимал ряд административных и дипломатических постов. Выйдя в отставку в 1874 году, князь Имеретинский посвятил свою жизнь литературному труду, опубликовав, помимо воспоминаний о М. Н. Муравьеве, историю Преображенского полка и ряд сочинений по социально-политической проблематике.
Из воспоминаний барона А. И. Дельвига
Текст печатается по изданию: Готов собою жертвовать... М.: Пашков дом, 2008. С. 311-331.
Барон Андрей Иванович Дельвиг (1813-1887 гг.) - видный инженер, занимал ряд высших постов в Министерстве путей сообщения и много сделал для улучшения отечественного железнодорожного дела: ввел сохранявшееся долгое время деление на «службы», организовал первые съезды представителей железных дорог, по его инициативе были созданы технические железнодорожные училища и т.д. Председательствовал в Совете Министерства путей сообщения. Помимо М. Н. Муравьева Дельвиг пишет в своих мемуарах также и о А. С. Пушкине, А. А. Дельвиге, Н. В. Гоголе, П. Я. Чаадаеве, А. И. Герцене и других выдающихся людях, с которыми был знаком.
В. К. Войт. Воспоминания о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве по случаю воздвижения ему памятника в г. Вильне
Впервые опубликовано: Воспоминание о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве. По случаю воздвигаемого ему памятника в Вильне. (Рассказ очевидца). Спб.: Тип. В. В. Комарова, 1898.
Войт Владимир Карлович (1814-1900) морской офицер, русский прозаик, писатель.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие......................................................................................................................................................... 5
Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева (ко дню открытия ему памятника в г. Вильне 8 ноября 1898 г.)................................ 31
Жизнь и деятельность графа М. Н. Муравьева до назначения виленским генерал-губернатором................................................... 31
Краткий обзор главных исторических событий Северо-Западного края.................................................................................. 41
Деятельность графа Михаила Николаевича Муравьева, как генерал-губернатора Северо-Западного края........................................ 52
А. Турцевич.краткий очерк жизни и деятельности Графа М. Н. Муравьева ............................................................................ 68
Глава I. Время рождения графа М. Н. Муравьева. - Родители и братья его. - Первоначальное воспитание. - Поступление
в университет и основание Общества математиков.......................................................................................................... 68
Глава II. Поступление графа Муравьева в свиту Его Величества по квартирмейстерской части. - Пребывание его в Вильне.
- Служба его при штабе 5-го гвардейского корпуса. - Участие графа Муравьева в Бородинском сражении. - Возвращение
его в армию и служба в Генеральном штабе. - Женитьба графа Муравьева и выход в отставку..................................................... 72
Глава III. Жизнь графа Муравьева в деревне. - Арест его. - Записка об улучшении административных и судебных учреждений.
- Назначение гр. Муравьева вице-губернатором в Витебске. - Северо-Западный края в первой четверти текущего столетия.
- Воззрение гр. Муравьева на прошлые судьбы Северо-Западного края. - Назначение гр. Муравьева губернатором Могилевской
губернии. - Участие его в усмирении польского восстания 1831 года. - Управление Гродненской губернией. - Служба графа
Муравьева в Петербурге........................................................................................................................................... 78
Глава IV. Меры правительства к охранению русской народности от польского влияния. - Отношения Александра II к полякам.
- Отношение польского дворянства к крестьянской реформе. - Виновники польского восстания 1863 года.
- Начало вооруженного восстания. - Амнистия................................................................................................................ 87
Глава V. Назначение графа Муравьева Виленским генерал-губернатором. - Состояние Северо-Западного края до прибытия
графа Муравьева. - Приезд графа Муравьева в Вильну. - Первые распоряжения графа Муравьева. - Уничтожение вооруженных
банд военною силою. - Введение военно-полицейского управления. - Меры для умиротворения края. - Меры по отношению
к римско-католическому духовенству........................................................................................................................... 90
Глава VI. Восстановление спокойствия в крае. - Празднование дня тезоименитства Государыни Императрицы. - Всеподданнейший адрес
Виленского дворянства. Всеподданнейшие адре- сы дворян других губерний. - Депутация крестьян Августовской губернии.
- Покушение на жизнь вилен. предв. дворянства Домейко. - Статья «Виленского вестника» в день 1 января 1864 г.
- Начало нового периода в управлении краем гр. Муравьева. - Значение мер строгости гр. Муравьева...................................... 102
Глава VII. Временнообязанные крестьяне. - Прекращение обязательных отношений крестьян к помещикам в западных губер - ниях.
- Выкупная операция. - Меры графа Муравьева к обеспечению безземельных крестьян.
- Общественное крестьянское управление................................................................................................................. 109
Глава VIII. Заботы графа Муравьева о построении православных церквей. - Судьба древних виленских церквей.
- Восстановление Пречистенского собора. - Восстановление Пятницкой церкви. - Возобновление Николаевской церкви.
- Виленские часовни. - Пожертвования. - Православное духовенство во время польского восстания 1863 г. - Заботы графа
Муравьева об улучшении быта православного духовенства. - Заботы графа Муравьева о народном образовании............................ 117
Глава IX. Значение деятельности графа Муравьева. - Отношение к графу Муравьеву Императора Александра II.
- Отношение к графу Муравьеву русского общества. - Отставка и смерть графа Муравьева...................................................... 128
Рафаил Сорокин.Муравьев в Литве в 1831 году............................................................................................................. 137
М. Н. Катков.Польский вопрос................................................................................................................................. 141
М. Н. Катков.Что нам делать с Польшей?.................................................................................................................... 159
М. Н. Катков.Истинный либерализм, меры, принимаемые властями в Царстве Польском, и старообрядцы в Западном крае................ 198
М. Н. Катков.Польское восстание не есть восстание народа, а восстание шляхты и духовенства................................................. 204
М. Н. Катков.Проект польского восстания, подписанный Мерос- лавским и найденный у графа Андрея Замойского.......................... 213
М. Н. Катков.вред примирительной политики с польской национальностью. Заслуга М. Н. Муравьева. Недостаток в русских людях...... 218
М. Н. Катков.Заслуга графа М. Н. Муравьева (краткий очерк положения северо-Западного края)................................................ 224
М. Н. Катков.кончина графа Муравьева....................................................................................................................... 231
М. Н. Катков.Причины приостановки русского движения в Западном крае............................................................................. 234
М. Н. Катков.<«Были готовы планы раздробления России...»>. 237
А. Мосолов.Виленские очерки (1863-1865 гг.) (Из воспоминаний очевидца)........................................................................... 242
Часть первая. 1863 год............................................................................................................................................ 244
I. Положение Северо-Западного края во время назначения ге
нерала Муравьева виленским генерал-губернатором. - Признаки мятежа до 1863 года.
- Приказ о назначении ген. Муравьева в Вильну. - Мое определение в его канцелярию.
- Состав походной канцелярии. - Приемы генерал-губернатора. - Отъезд из Петербурга.
- Посещение Динабургской крепости. - Полковник Павлов о событиях последнего мятежа. - Вильна............................................ 244
II. Первые впечатления, производимые Вильной. - Город и окрестности. - Прибытие ген. Муравьева в Вильну. - Общий прием. - Прием православного духовенства. - Прием римскокатолического духовенства. - Первые дни и главные сотрудники генерал-губернатора. - Распределение привезенных чиновников. - Дела политического отделения. - Небольшой кружок русских, собиравшихся в Европейской гостинице. - Первые казни. - Воспрещение траура. - Полицейские меры. - Казнь Ко- лышко и Сераковского. - Перемена характера в преследовании
мятежников. - Ссылка еписк. Красинского в Вятку.......................................................................................................... 253
III...................................................................................................................................................................... 262
IV. Лица, стоявшие во главе управления Сев.-Зап. краем ко вре -
мени прибытия в Вильну М. Н. Муравьева. - Виленский театр. - Туристы-англичане. - Францисканская тюрьма. - Андрей Ник. Муравьев. - Адрес дворян государю. - Адресы Муравьеву. - Обложение помещичьих имений процентным сбором. - Отъезд из Вильны некоторых русских чиновников. - Гвардия. - Высочайший рескрипт.................................................................................................................................................................... 273
V. Выражения М. Н. Муравьеву сочувствия русских в день его именин - Распределение занятий Муравьева по управлению Северо-Западным краем. - Положение дел в Ковенской губернии. - Ксендз Мацкевич. - Конфискации. - Возрождение сельского населения в Северо-3ападном крае........................................................ 290
1864-й год.......................................................................................................................................................... 302
VI. Адрес римско-католического духовенства. - Прелаты Немекша, Жилинский и Тупальский. - Жандармский полковник Лосев.
- Арест Калиновского и его казнь. - Назначение в Вильну ген.-ад. Крыжановского. - Старообрядцы. - Учебная часть.
- Церковно-строительное дело. - Двадцатипятилетняя годовщина воссоединения унии.
- Представления М. Н. Муравьева в Петербург по вопросам об устройстве крестьян и о ссылке.
- Поездка Муравьева в Петербург.............................................................................................................................. 302
VII. Встречи Муравьева по пути из Вильны. - Встреча в Пе
тербурге. - Представление государю Александру II. - Записка М. Н. Муравьева об устройстве Северо-Западного края в Комитете министров.
- А. Л. Потапов. - Возвращение М. Н. Муравьева в Вильну................................................................................................ 323
Е. Феоктистов.За кулисами политики и литературы. 18481896 (Отрывки).............................................................................. 329
Глава четвертая.................................................................................................................................................... 329
В. В. Розанов.Был ли жесток М. Н. Муравьев-Биленский?.................................................................................................. 346
Л. А. Тихомиров.Варшава и Бильна в 1863 г.................................................................................................................. 349
Н. К. Имеретинский.Воспоминания о графе М. Н. Муравьеве............................................................................................. 370
Из воспоминаний барона А. И. Дельвига...................................................................................................................... 420
В. К. Войт.Воспоминания о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве по случаю воздвижения ему памятника в г. Бильне.................... 434
Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала ХХ! века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).
Редактор Д. В. Орлов Корректор Г А. Островская Компьютерная верстка Е. Е. Поляков Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35
Подписано в печать 26.02.2014 г. Формат 70 х 90 1/16. Гарнитура «Times». Объем 22,57 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».
ИНСТИТУТ русской цивилизации выпускает БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА
Главный редактор О. А. Платонов Энциклопедия включает следующие тома:
Русская цивилизация (вышел) Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел) Русский патриотизм (вышел) Русское мировоззрение (вышел) Русский образ жизни (вышел) Русская география Русское хозяйство (вышел) Международные отношения Национальные отношения Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная
живопись в двух томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации
Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.
К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.
Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.
Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@ rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: .
вышли В СВЕТ книги, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ институтом русской ЦИВИЛИЗАЦИИ:
СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя - русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход - твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 - 704 с.; т. 2 - 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с. Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 - 688 с.; т. 2 - 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с. Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с. Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 - 800 с.; т. 2 - 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с. Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII - начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 - 804 с.; т. 2 - 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 - 720 с.; т. 2 - 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, ), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, )
1
А. С. «Бранка» (рекрутский набор) в Царстве Польском в 1863 году (рассказ очевидца) // Русская старина. 1897. Том 92. Вып.10. С. 93.
(обратно)2
Московские ведомости. 1869, № 250.
(обратно)3
История народов Северного Кавказа. М., 1988. С. 200.
(обратно)4
Любимов Н. А. Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889. С. 276.
(обратно)5
Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. М.: Новости, 1992. С. 340
(обратно)6
Московские ведомости. 1863, № 109.
(обратно)7
Гильфердинг А. Ф. Собрание сочинений: В 3 тт. Т 2. С. 323.
(обратно)8
Кулаковский П. А. Польский вопрос в прошлом и настоящем. СПб., 1907. С. 26.
(обратно)9
История Белорусской ССР. Минск, 1961 г., Т. 1. С. 311
(обратно)10
Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., М., 1958 г, с.401
(обратно)11
Станкевич А. Очерк возникновения русских поселений на Литве. Вильна, 1909. С. 31-34.
(обратно)12
Татищев С. С. Император Александр Второй. Его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 2. С. 241
(обратно)13
История Белорусской ССР. Минск, 1961. Т 1. С. 363.
(обратно)14
Восстание 1863 года. Материалы и документы. Восстание в Литве и Белоруссии 1863— 1864 гг. М, 1963. С. 78.
(обратно)15
Русский инвалид. 2/14 мая 1863. № 95. С. 408.
(обратно)16
Коялович М. Народное движение в Западной России // Русский инвалид. 27 апреля/9 мая. 1863. № 91. С.392.
(обратно)17
Муравьев М. Н. Всеподданейший отчет графа М. Н. Муравьеву по управлению Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 по 17 апреля 1865 г.) // Русская старина. 1902, т. 6 (110). С. 501.
(обратно)18
Там же. С. 504.
(обратно)19
Сборник памяти Каткова. М., 1897 г. С. 15-16.
(обратно)20
Смолин М. Б. Очерки имперского пути. М., 2000 г.. С. 84-85.
(обратно)21
Ф. И. Тютчев. На гробовой его покров. - Здесь и далее в тексте примечания автора.
(обратно)22
Chtop - холоп (польск.) - Здесь и далее перевод иноязычных слов и выражений выполнен составителем.
(обратно)23
Bydto - общее название животных семейства полорогих.
(обратно)24
Panszczyzna - феодальная повинность (польск.).
(обратно)25
Chtopska - холопска (польск.).
(обратно)26
Wojt - войт (польск).
(обратно)27
Ttoka (польск), талака (белорус). - совместная работа, добровольная в своей основе, взаимопомощь.
(обратно)28
Szarwark (польск), шарварк (белорус). - повинность, заключающаяся в постройке и ремонте дорог, мостов, имений.
(обратно)29
В воскресенье спозаранку Во все колокола звонят, -Экономы с кнутами
На панщину гонят (белорус.).
(обратно)30
Ojczyzna - Отчизна (польск.).
(обратно)31
Sprawa - дело (польск.).
(обратно)32
Rz^d Narodowy - Народное Правительство (польск).
(обратно)33
В доме Стаховского была первая квартира в Вильне будущего графа Виленского. Н. Н. Муравьев, находясь в 1851 г. в Вильне с гренадерским корпусом, старался найти этот дом, но не нашел. «Дома все перестроились, - говорит он в своих записках, - и Стаховского имени никто не помнит».
(обратно)34
Записки Н. Н. Муравьева // Русск. арх. Т. 3. Стр. 341-343.
(обратно)35
Письмо из Троппау от 11 ноября 1820 года. См. у Кропотова: Жизнь графа Муравьева. Стр. 114.
(обратно)36
Русск. старина. Т. 36. Стр. 627.
(обратно)37
В начале своего царствования Наполеон Шпровозгпасил «принцип народностей», в силу которого каждая народность должна составлять особое государство, а затем в 1861 г. помог итальянцам объединиться под властью одного короля.
(обратно)38
Русск. старина. Т. 36, стр. 395-396.
(обратно)39
Бутковский. Из моих воспоминаний // Историч. вестн. Т. 14. Стр. 94.
(обратно)40
Виленские очерки // Русск. старина. Т. 40. Стр. 185.
(обратно)41
Зап. гр. Мур. // Русск. старина. Т 36. Стр. 399.
(обратно)42
Н. Цылов. Собр. распорядительных грамот Муравьева. Стр. 306-311.
(обратно)43
Русск. старина. Т. 36, стр. 402.
(обратно)44
Виленские очерки // Русск. старина. Т. 40. Стр. 193.
(обратно)45
Русск. Старина. Т. 336. Стр. 406.
(обратно)46
Русск. стар. Т. 96. Стр. 407.
(обратно)47
Циркул. от 26 мая 1863 г.
(обратно)48
Циркул. от 11 июня 1863 г.
(обратно)49
Из письма Муравьева епископу Красинскому от 26-го мая 1863 года. Цылов: Сборник распоряжений графа Муравьева. Стр. 32.
(обратно)50
Из письма Муравьева епископу Красинскому от 26 мая 1863 года.
(обратно)51
Виленские очерки // Русск. стар. Т. 40. Стр. 193.
(обратно)52
Цирк. от 22 июня 1864 г.
(обратно)53
Цирк. от 11 июля 1864 г.
(обратно)54
Цирк. от 24 июля 1864 г. № 62.
(обратно)55
Цирк. от 11 июля 1864 г. № 73.
(обратно)56
Цирк. от 11сентября 1864 г. за № 2865.
(обратно)57
Циркул. от 22 ноября 1864 г. за № 3727.
(обратно)58
Цыплов. Сбор. распоряж. гр. Муравьева. Стр. 66.
(обратно)59
Русск. старина. Т. 36, стр. 418-420.
(обратно)60
Бутковский. Истор. вестн. Т 14, стр. 103.
(обратно)61
Ив. Арс. Митропольский. Повстание в Гродне 1863-1864 г. // Русск. арх. 1895. № 1, стр. 138.
(обратно)62
Русс. стар. Т 36, стр. 409-410.
(обратно)63
И. Н. Захарьин. Воспоминания о Белоруссии // Истор. вест. Т 160, стр. 68.
(обратно)64
Циркулярное предпис. главного начальника края начальникам губерний от 14 августа 1863 г.
(обратно)65
Циркул. предпис. главн. нач. края гг. начальникам губерний от 11 марта 1865 года.
(обратно)66
Журнал гродненского губернского по крестьянск. делам присутствия от 8 августа 1863года.
(обратно)67
Циркулярное предложение главнаго начальника края от 8 августа 1863 г., 15 марта 1864 г., 13 февраля, 10 и 11 марта1865 г.
(обратно)68
Циркуляр от 23 июня 1863 г.
(обратно)69
Циркул. предп. от 15 октября 1864 г.
(обратно)70
Виленский вестник. 1864 г., № 83.
(обратно)71
Отзыв минист. внутр. дел от 17 июня 1852 г.
(обратно)72
Циркул. Муравьева от 12 ноября 1864 г.
(обратно)73
Проф. В. Г Васильевский. История города Вильна.
(обратно)74
Литовские епархиальные вед. за 1864 г., стр. 519.
(обратно)75
Виленский вестник. № 16 за 1864 г.
(обратно)76
Циркуляр 10 октября 1864 г.
(обратно)77
С. Т. Славутинский. Гродно во время польского мятежа // Истор. вестн. Т 37. Стр. 285.
(обратно)78
Русск. архив. 1897 г. Стр. 392.
(обратно)79
Русск. архив. 1897 г. № 11, стр. 393.
(обратно)80
Из речи, произнесенной 3 октября 1897 г. в Виленском военном собрании.
(обратно)81
Князь И. К. Имеретинский. Воспоминания о Муравьеве // Историческ. вестн. 1892 г., № 12. Стр. 605.
(обратно)82
Виленск. вестн. 1863 г., 30 августа.
(обратно)83
Всеобщее избирательное право (фр.).
(обратно)84
Отданное на хранение (лат.).
(обратно)85
Великая Хартия (лат.).
(обратно)86
«Ежеквартальное обозрение» (англ.).
(обратно)87
Право единоличного запрета (лат.).
(обратно)88
«Videant consules, ne quid respublica detriment capiat - пусть консулы смотрят чтобы республика не понесла ущерба (лат.). Формула чрезвычайного сенатского постановления, означавшая введение чрезвычайного положения с предоставлением консулам диктаторских полномочий.
(обратно)89
Теперь благодаря изменившимся обстоятельствам малороссиянизм в большом ходу у польских интриганов и по ту сторону Днепра и употребляется ими как орудие для их целей.
(обратно)90
См. «Записки графа М. Н. Муравьева Виленского» и прилож. к ним в «Русской старине»: изд. 1882 г., т. XXXVI, ноябрь, стр. 387-432; декабрь, стр. 623-644; изд. 1883 г., т. XXXVII, январь, стр. 131-166; февраль, стр. 291-304; март, стр. 615-630; т. XXXVIII, апрель, стр. 193-230; т. XL, октябрь, стр. 181-200; ноябрь, 389-406.
(обратно)91
Лишь по прибытии графа Муравьева в Вильну гр. Старженский был арестован, судим военным судом и, по выдержании одного года в Бобруйской крепости, сослан в отдаленные губернии.
(обратно)92
1794 г. Игельстром в Варшаве был опутан Залускою; Арсеньев в Вильне Незабитовскою; государю Александру Павловичу в 1812 г. подставлена была в Вильне гр. София Тизенгауз (см. ее «Memoires» (Paris, 1833); перев. напечатан в «Русской старине» (изд. 1877 г., декабрь)). Алексей Петр. Ермолов определял эти явления так: «польские Юдифи находили себе в среде русских - Олофернов».
(обратно)93
Ныне (1867 г.) министр путей сообщения.
(обратно)94
Полковник П. С. Лебедев, оставшись в Петербурге, прибыл в край лишь через несколько месяцев.
(обратно)95
Печать Народного Правительства. Литовский отдел.
(обратно)96
Город (польск).
(обратно)97
Я не выставляю здесь имени, так как В. был впоследствии помилован.
(обратно)98
Дисненский помещик, постоянно будировавший за преобразования в условиях крестьянского быта. В 1864 в кабинете его деревенского дома видел я чамарку, которую он снял с плеч родной племянницы.
(обратно)99
Вас. Ив., быв. деж. генер. при кн. Горчакове в Варшаве. Предупреждал о развитии мятежа. Первый приказал стрелять по мятежникам. Был жестоко изранен камнями в спину. Уволен. Отдан под следствие, но впоследствии, в 1870 г., был в Варшаве членом Учредительного комитета.
(обратно)100
Содействовал оправданию предводителей мятежа в Дисненском уезде Деспот-Зеновича и Куровского; защищал полякофилов Кириенка Волошина и Богуславского, которые в поверочной комиссии обделывали дела помещиков в ущерб крестьян; и когда уличенные были уволены М. Н. Муравьевым, Ковалевский стал обвинять Л. В. Рачинского, обнаружившего полонизм в Дисненском уезде.
(обратно)101
Поляк-исправник Вержбицкий твердо убедил шляхту сидеть смирно, обещая ей благодушное отношение властей к крестьянской реформе.
В 1867 г. Вержбицкий тайно в среде духовных присоединился к Православной церкви, будучи оршанским исправником. Тип весьма любопытный в отношениях своих к староверам.
(обратно)102
Зимою 1863-1869 года по стараниям г.-а. Потапова Ратч получил служебную неприятность, заставившую его прервать работы по собиранию и изданию сведений о польском мятеже 1863 г. Удар был силен; быстро развился аневризм сердца и 2 янв. 1870 г. бедный страдалец скончался в своем имении в Тамбовской губернии в Козловском уезде.
(обратно)103
Инспектором хозяйственной части в Белостокском институте благородных девиц. Жена его была урожденная Павлова.
(обратно)104
Кружок (фр.).
(обратно)105
См. статью об этом в газете «День», октябрь 1863 г.
(обратно)106
Между прочими кальвинский суперинтендант Липинский, обнимавший своего невольно раскаявшегося сына.
(обратно)107
Замечательнейшие слова М. Н. Муравьева к депутации могилевской, предводительствуемой князем Любомирским: «для меня отрицательное положение дворянства во время мятежа равняются положительному в нем участию».
(обратно)108
Чтобы дополнить поэтическое описание ксендза-довудцы, сообщу слышанное от полк. Божерянова, командира того полка, к которому принадлежал шт.-кап. Озерский.
Н. М. Муравьев устроил у себя свидание схваченного ксендза с его отцом, простым крестьянином-однодворцем. Когда старик бросился к сыну, упрекая его в том, что он не последовал его советам, а увлекся советами неразумных мятежников, губящих народ и костел, - сын остановил распростертые объятия отца, сказав:
- Старик, ты знаешь ниву и посев на ней; ты знаешь мирный плуг, коим рыхлится земля: но тебе не дан меч духовный, врученный мне главою костела, для защиты его всеми и всяческими (wszystkiemi i wszelkiemi) средствами.
(обратно)109
Под этим я разумею гражданский союз обывателей против правительства, гораздо более опасный, чем шайки мятежников; образчик: под видом научных стремлений - устраивались музеи и археологические общества... Для удовлетворения целям педагогическим - открывались при костелах училища, при присутственных местах читальни... Под видом экономических обществ образовывались сельскохозяйственные склады земледельческих орудий и земледельческие съезды. Под видом единообразного развития крестьянского дела назначались по губернии и уездам члены-надзиратели за действиями мировых учреждений, и каждое из этих учреждений легальностью своего происхождения, а иногда и Высочайшим покровительством, прикрывало общую всем цель освобождения шляхетской отчизны от русских правды и законности.
(обратно)110
Слезы участия, горячее участие, поцелуи - вот средства Ал. Мих. Лосева. Помню одно его выражение после допроса упорного мятежника: «Шесть раз его поцеловал, и каков? -ни слова мне не сказал».
(обратно)111
К этому обстоятельству относится весьма важное для дела по своим последствиям разделение нас, собранных в виленском губернском правлении членов его и поверочных комиссий. Ровно половина всех членов, 24 русских, заявили о необходимости наделять из обезземеленных трехдесятинным наделом все наличные семьи; другая половина, 21 русский и три поляка (Домейко, Гедройц и Тизенгауз), стояли за наделение лишь трех десятин всем наличным семьям, происходящим из инвентарной семьи. И здесь (как и в мест. Полож. 19 февр.) предлог до трех десятин дал оппонентам право низводить норму надела на инвентарную семью до 111/4 десятины. Граф Тизенгауз особенно отличился своими доводами. Пользуясь заявлением А. П. Попова, что современные крестьяне слабы телесными силами, он нашел тому причиною то, что крестьяне со времени их освобождения стали есть чистый хлеб без мякины, лишая себя таким образом фосфорина, заключающегося в мякине и заменявшего для них мясо!!?
(обратно)112
Сокращения действительно последовали.
(обратно)113
Ныне (1867 г.) попечитель Московского учебнаго округа.
(обратно)114
Слышно было, что дом Махмаура куплен казною и приступлено к его сломке. В 1870 году на месте дома я видел уже площадь, отделенную от улицы легкою, изящною решеткою.
(обратно)115
С 1863 г. преосвященный Антоний переселился в Пожайский монастырь близь Ковны.
(обратно)116
Гр. Муравьев выражался, что там, где он не видел возможности разрешить вопрос при себе, он закидывал лишь якорь, к которому рано или поздно возвратятся.
(обратно)117
Встреча М. Н. Муравьева довольно верно описана в известной статье «La Russie apres I'insurrection Polonaise» par Charles de Mazade («Россия после польского восстания» Шарля де Мазада), напечатанной в 1-й книжке «Revue des deux mondes» за 1866 г. и наделавшей столько шуму в Петербурге. Гр. Муравьев читал эту статью с живым интересом.
(обратно)118
Мы чрезвычайно обижались, когда кто-нибудь из русских и просителей по невежеству называл северо-западные губернии Польшею, и делали вид, что не понимаем просителя и отвечали, что генерал Муравьев управляет лишь в северо-западных губерниях России.
(обратно)119
С объятиями (фр.).
(обратно)120
Компаньонка (фр.).
(обратно)121
И вы видите, что в данный момент мне не на что жаловаться (фр.).
(обратно)122
Он предоставлял ему свободу действий (фр.).
(обратно)123
Великий князь говорил мне много хорошего о вас (фр.).
(обратно)124
И друзья моих друзей - до сих пор мои друзья (фр.).
(обратно)125
Весь польский народ против нас, и самые преданные те, которые молчат; это лучшие и наиболее к нам расположенные (фр.).
(обратно)126
Что вы хотите, мой дорогой... мы ничего не можем предпринять, но мы желаем, чтобы вы их всех перебили (фр.).
(обратно)127
Нам нужно учитывать мнение Европы, мы не должны раздражать европейские правительства... (фр.).
(обратно)128
Наше положение драматично и может стать трагическим (фр.).
(обратно)129
Вчера как человек я был прав, но как архиепископ - неправ! (фр.)
(обратно)130
трусость (фр.).
(обратно)131
После нас хоть потоп (фр).
(обратно)132
по преимуществу (фр.)
(обратно)133
В истории русско-польских отношений 1863 год занимает одно из самых видных мест.
Это был год кульминационного развития польского мятежа и год, когда мятеж сразу рухнул, как только выступил на историческую арену действия М. Н. Муравьев-Виленский.
(обратно)134
Любовь к человеку (фр.).
(обратно)135
Братство (фр.).
(обратно)136
Вечный мир (фр.).
(обратно)137
Не нужно мечтаний (фр.).
(обратно)138
История л.-гв. Преображенского полка 1683-1883 гг. СПб., 1888, т. 3, часть первая. С. 296-297
(обратно)139
Отец Муравьева - известный основатель училища колонновожатых. Это первый зародыш русского Генерального штаба. Сыновья старика, Николай Ннколаевич (Карский) и Михаил Николаевич (Виленский) служили преподавателями в том же училище.
(обратно)140
Этого не следует понимать буквально. Ему не было времени читать все газеты, а при нем состоял особый чиновник, читавший самые интересные выдержки из всех газет.
(обратно)141
Полк вступил в Вильну поэшелонно: 1-й эшелон - 12-го июля; 2-й и 3-й - 13-го и 4-й - 14го числа того же месяца («История Преображенского полка», стр. 314).
(обратно)142
Об экспедициях Преображенского полка в Августовскую губернию см.: История Преображенского полкаю. Т III, стр. 321-383.
(обратно)143
«Иосафат Огрызко и петербургский революционный жонд», составил Н. В. Гогель. Виль-на, 1866 г. Стр. 12-26.
(обратно)144
При Назимове.
(обратно)145
Местным крестьянам, старообрядцам, разрешено было иметь оружие. Поляки их называли «кацапами».
(обратно)146
Граф Муравьев отзывается о Мацкевиче так: «человек необыкновенно ловкий, деятельный, умный и фанатик. Он пользовался большим влияниен в народе, беспрестанно формировал шайки и появлялся в разных местах губернии (Ковенской). Хотя шайки его были неоднократно разбиваемы нашими отрядами, но он умел сам ускользать от преследования и формировать новые» (Записки графа М. Н. Муравьева. Глава I. Вступление).
(обратно)147
Домейко исходатайствовал себе позволение приехать в Петербург чтобы избавиться, как он говорил, от преследования мятежников (Записки гр. М. Н. Муравьева. Глава 1-я. Вступление).
(обратно)148
Мацкевич и Товкевич.
(обратно)149
«Злодей, подавая левою рукою просьбу предводителю, правой выхватим из кармана кинжал и стал наносить им изменнически раны в живот, но острие кинжала, встречая на пути вату (стеганного халата), скользило и нанесло предводителю лишь слабые раны» (История Преображ. полка. Том III. Стр. 332).
(обратно)150
27-го июля, в день рождения императрицы, Беньковский пробирался на паперть собора, чтобы убить Муравьева, но не мог близко подойти по огромному стечении служащих я народа (Записки гр. М. Н. Муравьева. Глава I. Вступление).
(обратно)151
«Иосафат Огрызко» Н. В. Гогеля, Вильна, 1866, стр. 72-73; Истор. вестн. Декабрь, 1892 г. Т 5.
(обратно)152
Впоследствии шталмейстер и один из видных деятелей тюремного управления. Скончался в Петербурге в 1890 году.
(обратно)153
В «Истории Преображенского полка» (том III, часть I, стр. 318) сказано: «Капитан князь Имеретинский сперва состоял при военном начальнике Виленского уезда, затем был его помощником и наконец назначен начальником уезда». Первого не помню. В моем формуляре прямо сказано о зачислении «помощником» приказом по войскам Виленского округа за № 410.
(обратно)154
Эта 10-я Преображенская рота отлично сослужила свою службу в Виленском уезде, и я повторяю теперь только то, что сказал о ней официально 30 лет назад В «Истории Преображенского полка» (том III); на странице 386 сказано: «Капитан князь Имеретинский, быв назначен военным начальником Виленского уезда, вошел с представлением “об отличном содействии чинов 10-й роты делу общей пользы в усмирении враждебных нам местностей” и выхлопотал для чинов этой роты, не в пример прочим, награду за представленное оружие по 1 рублю 50 копеек за каждую штуку».
(обратно)155
Раньше всех выехала в Петербург помянутая 10-я рота, конвоируя партию пленных мятежников, высланных туда же из Варшавы. См. «Историю лейб-гвардии Преображенского полка» (том III, стр. 838).
(обратно)156
«Здравствуй, мой дорогой» (фр.)
(обратно)157
История Преображенского полка. Т. III. С. 318
(обратно)158
Русская библиография Межова. Том II. Стр. 292.
(обратно)159
Меуег ^ve^ations-Lexicon. Том 3. Стр. 902.
(обратно)160
Положение обязывает (фр.).
(обратно)161
Виленский вестник. 1866. № 184. Стр. 19.
(обратно)162
Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева. Петербург, 1874. Стр 362-363.
(обратно)163
Клейнмихель Владимир Петрович (1839-1882) - граф, генерал-майор, командир гвардейского семеновского полка.
(обратно)164
Перовский Лев Алексеевич (1792-1856) - министр внутренних дел в 1841-1852 гг., в 185256 гг. - министр уделов.
(обратно)165
Кербедз Станислав Валерианович (1810-1899), поляк по происхождению, генерал-лейтенант, крупный инженер, построивший ряд мостов в Петербурге, член совета Министерства путей сообщения.
(обратно)166
Великий князь Николай Александрович.
(обратно)167
Какой ужас! Какой ужас! (фр.)
(обратно)
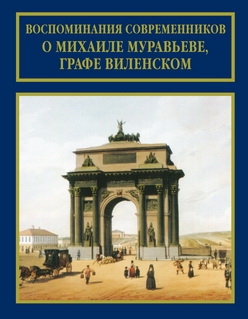



Комментарии к книге «Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском », Коллектив авторов -- Биографии и мемуары
Всего 0 комментариев