Татьяна Вирта Моя свекровь Рахиль, отец и другие…
© Вирта Т.Н., 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Чёрные глазки, как две маслины, скользнули по мне беглым, но придирчивым взглядом, и засветились лаской и одобрением. Это была первая моя встреча с моей будущей свекровью Рахилью Соломоновной. Юра Каган привел меня в свою семью на самом раннем этапе наших отношений, когда все дальнейшее еще таилось в тумане.
Собственно говоря, мы пришли в гости к Юриной сестре Елене Ржевской, у которой собралась небольшая компания «физиков и лириков», но мать с отчимом, как выяснилось, к ней не были приглашены, а потому нам с Рахилью Соломоновной в тот вечер удалось перекинуться лишь парой слов.
Меня представили и отчиму.
– Проходите, пожалуйста! Борис Наумович, – сказал он, такой большой, немного угловатый, наголо обритый по тогдашней моде. Смотрит как будто исподлобья, но рукопожатие приятное, – он задержал на мгновение мою ладонь в своей в знак закрепления нашего знакомства.
И, подавшись к Юре, прильнул к нему, неловко обхватив обеими руками. Этот невольный порыв красноречиво свидетельствовал о тех чувствах, которые Борис Наумович питал к моему будущему мужу. Он знал его с самого рождения и был к нему привязан, как к младшему, по-видимому, больше, чем к старшим детям Рахили – Бобе и Лене.
Борис Наумович и Рахиль Соломоновна выглядели вполне благополучной парой пожилых людей. И только потом я узнала их историю, узнала, что пришлось им вынести прежде, чем они могли соединиться и теперь отсчитывать вехи мирно текущей жизни и радушно встречать гостей в прихожей. Воображение рисовало страдания Рахили, нравственные и физические мучения Бориски, как называли его все домашние, – калейдоскоп этих трагических и трогательных картин постоянно крутился у меня в голове, не давал покоя. Необходимо было этим поделиться, рассказать об этом людям, если найдутся подходящие слова.
А тогда, в тот вечер моего первого знакомства с этой семьей все шло своим чередом. Нас проводили в комнату Лены.
* * *
Сейчас, издалека, то маленькое общество, сидевшее у Лены за столом, мне кажется мини-моделью общества шестидесятников, которое зародилось в конце пятидесятых и окончательно сформировалось во времена перестройки.
Муж Лены, Исаак Крамов, эрудит, известный литератор, считавшийся в писательских кругах своеобразным камертоном художественного вкуса в оценке тех или иных явлений московской культурной жизни. Его авторитет, как человека твердых морально-нравственных убеждений, был непререкаемым среди близких и не особенно близких друзей и знакомых. Приспособленчество в те мрачные времена борьбы с «космополитизмом» было ему просто не по силам, и для того, чтобы как-то выжить среди сплошных запретов и ограничений, он уходил в литературоведение, издавал антологии современной прозы, и даже для самоутверждения написал две пьесы в соавторстве со своим знаменитым братом Л. Волынским, спасителем Дрезденской галереи. Одна из этих пьес была поставлена в театре. При таких своих качествах, казалось бы человека жесткого и неуступчивого, Изя обладал удивительной способностью со своей неотразимо обаятельной улыбкой сгладить в споре острые углы и восстановить среди собеседников атмосферу мира и доброжелательности.
Никто не знает, как и по какой причине между совершенно разными людьми возникает взаимная симпатия. Возможно, столь же необъяснимо и то, почему Изя Крамов, впервые увидев молодую особу, – я была заметно моложе всех сидевших тогда у Лены за столом, – из чуждых ему писательских кругов, – мой отец Николай Вирта, хотя в то время и впавший в немилость, все еще считался обласканным властью и преуспевающим советским автором, – еще бы! – четыре Сталинские премии, – проникся ко мне добрыми чувствами, и, поняв, что на первых порах мне непросто освоиться в новой для меня среде, взял меня под свое покровительство и опеку. До сих пор с благодарностью вспоминаю, как он приходил мне на выручку в трудную минуту и своей поддержкой внушал мне уверенность в себе.
Мы находились в тесной шестнадцатиметровой комнате, едва вмещавшей в себя стеллажи с книгами, диван и обеденный стол под матерчатым старинным абажуром. Я все это обозревала с отстраненным интересом, абсолютно не подозревая, что всего через несколько месяцев из большой родительской квартиры в Лаврушинском переулке, где был дом писателей, перееду вот сюда, как говорится, на ПМЖ. Но до этого было еще далеко.
А между тем из этой самой комнаты совсем недавно, получив своё жильё, выехала другая пара, пришедшая в гости к Лене. Это был её старший брат Борис Каган с женой Зоей Богуславской. Во-первых, Боба Каган по сию пору красавец, – высокий, спортивного сложения, с лицом, повторяющим правильные черты матери. А во-вторых, он и характером больше походит на свою мать, – никакой этой еврейской склонности к рефлексии и озабоченности по любому поводу, а часто и без всякого повода. И больше внимания к самому себе и своим собственным делам. Это не обозначало глухоту к чужим проблемам, но без навязчивости или чрезмерного любопытства. Просто Боба так считал, что, вступая на территорию внутренней жизни даже близкого тебе друга, современный человек должен соблюдать дистанцию. Не в его правилах было лезть кому-то в душу, – Боба, как старший Юрин брат, всегда был с нами рядом, но уважал нашу независимость и суверенитет, и я не помню ни единого случая размолвки между нами, хотя мы очень тесно с ним общались.
Борис Каган уже в то время был известным ученым в области автоматики и вычислительной техники, то есть в той области научных исследований, которые были и остаются наиболее перспективными и востребованными. За разработку новых технологических систем дистанционного управления пушечными установками туполевской «летающей крепости Ту-4» в 1949 году он получил Сталинскую премию.
В 1958 году ВАК присвоил Борису Кагану без защиты диссертации ученую степень доктора наук за усовершенствование приборов, обслуживающих нужды космоса. Долгие годы он возглавлял в МИИТе кафедру «Электронные вычислительные машины и системы» и за это время подготовил более сорока кандидатов и докторов наук, многие из которых стали потом профессорами, руководителями крупных научных коллективов. Он издал несколько монографий и учебных пособий по проблемам автоматики и вычислительной техники, которые получили широкое распространение как у нас в стране, так и за рубежом, поскольку его труды переведены на китайский, английский, немецкий и другие языки.
Однажды мы с Юрой испытали за границей, в Германии, момент незабываемого торжества, связанного с нашим старшим братом Бобой. Мы были в Мюнхене, где Юра, получивший премию имени Гумбольдта, работал приглашенным профессором в Мюнхенском техническом университете.
И вот мы в гостях у одного известного немецкого ученого, осматриваем его дом под Мюнхеном, и нам показывают не только гостевые апартаменты, но также и комнату сына, студента, будущего физика. В комнате, как это водится у молодежи, кавардак, а на письменном столе среди тетрадок, теннисных ракеток и мячей я вижу какой-то зеленый толстый том. Беру в руки из любопытства, – оказывается книга: «Б. Каган. Вычислительная техника». Понятное дело, в переводе на немецкий язык. Мы были просто в восторге!
Наш Боба, мне кажется, вообще запрограммирован какой-то высшей электронной техникой на процветание и успех. Развод с Зоей Богуславской, которая ушла от него к Андрею Вознесенскому, не пошатнул его обычного состояния благополучного и уверенного в себе человека. Очень скоро после разрыва с Зоей Борис снова был женат.
Сильно забегая вперед, скажу о его новой жене. Была у него давняя, тайная любовь, и вот теперь они могли жить вместе, открыто. Недавно у Наташи Валентиновой трагически погиб муж, – скоропостижно скончался после испытаний на военном полигоне, – и она осталась одна с маленькой Машей и мамой. Новая жена Бориса очень ему подходила, – блондинка, неизменно обращавшая на себя внимание всех окружающих мужчин, что безусловно составляло предмет особой гордости. Деловая дама с успешной карьерой, Наташа обладала редким жизнелюбием. Её бодрый настрой способствовал приобщению ко всевозможным радостям жизни, – теннис, горные лыжи, театр, концерты, заграничный туризм. Пример этой пары служил для нас с Юрой живым укором, заставлявшим нас тоже подтянуться и активизироваться. Вслед за Бобой мой муж стал водить машину, но это было только начало. Потом последовало многое другое, – мы тоже встали на горные лыжи и, наконец, отправились с ними в поход по Кавказу с рюкзаками через перевалы, ущелья, горные потоки. Это была уже целая эпопея, – но об этом я еще расскажу.
По возрасту оставив работу, Борис Каган со своей новой женой уехал к дочери Маше в США, где американская медицина тщательно следит за его здоровьем и где он благоденствует до сих пор. Занимается спортом, делает ежедневные пешие прогулки вдоль океана, плавает в бассейне, много путешествует, – где только они не побывали с Наташей! Но оторваться от России не может. Все его интересы сосредоточены на наших российских новостях, которые он регулярно обсуждает с Юрой по телефону. Он поучает младшего, как надо решать насущные проблемы, как личные, так и общественные, но и это кажется ему недостаточным. Борис считает своим долгом высказать свое мнение по разным вопросам внутренней и внешней политики непосредственно президенту РФ, и с этой целью пишет письма в правительство, и даже получает на них ответы. Может быть, вот так всем миром мы и поймем, как нам лучше всего «обустроить Россию».
* * *
Да, но вернемся, однако, на вечер к Елене Ржевской. До сих пор вспоминаю робость и стеснение, которые я испытала, впервые попав в этот дом, в эту семью, тогда еще не подозревая, что вскоре она станет мне близкой и родной.
Старший брат Борис был у неё в тот вечер со своей женой Зоей Богуславской. Блондинка в его вкусе, она вся какая-то лучезарная, оживленно-активная, после окончания ГИТИСа уже проявившая себя как театральный критик и вот теперь, кажется (что она пока еще держит в секрете), написавшая свою первую повесть. Вскоре Зоя станет постоянно печатающимся автором в журналах «Юность», «Знамя», «Новый мир», у неё появится своя аудитория преданных читателей, её проза будет переведена на многие иностранные языки. Сейчас все знают Зою Богуславскую, как выдающуюся женщину, почетного члена многочисленных российских и зарубежных литературных объединений. В течение длительного времени Зоя Богуславская с блеском вела церемонию награждения деятелей искусства премией «Триумф», учрежденную по её идее и щедро финансируемую недавно скончавшимся Борисом Березовским. Но все это было много позже, когда Зоя Богуславская была в браке с Андреем Вознесенским.
В этот узкий домашний круг, собравшийся у Лены с Изей, органично вписывалась одна пара их друзей, – знаменитого физика Якова Смородинского с женой Фирой.
Прежде всего внешность Смородинского, – сначала бросалась в глаза взъерошенная копна неуправляемых волос совершенно необыкновенной буйности, а потом уже улыбающееся лицо и пытливый взгляд, устремленный на нас, – а вот и Юра, интересно, кого же это он с собой привел? Мы потом со Смородинскими дружили всю жизнь и очень любили и его самого, и его жену Фиру. Но та первая моя встреча с этой парой была для меня все равно что экзамен, – выдержу или нет? А вдруг – провал, и что же тогда меня ждет?
Яков Абрамович Смородинский родился в 1917 году в городе Малая Вишера Новгородской губернии и после окончания физического факультета ЛГУ в 1939 году переехал в Москву и поступил в аспирантуру к академику Л. Д. Ландау. Этот самородок – Смородинский, происходивший из города Малая Вишера, одним из первых сдал экзамены легендарного теорминимума Ландау, которые, как известно, не шли ни в какие зачеты, но служили путевкой в большую науку.
Не могу не заметить, что впоследствии Юрий Каган, как физик-теоретик, тоже прошел горнило этих испытаний «на прочность», однако он – 17-й по счету, тогда как Яков Смородинский был в первых номерах.
После окончания аспирантуры Яков Смородинский был зачислен в Институт физических проблем, где работал до 1944 года. Как и его руководитель Ландау, он был вовлечен в Атомный проект и перешел на работу в Институт атомной энергии, тогда называвшийся Лабораторией № 2. В то же время Смородинский начал активно сотрудничать с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне. Его поразительная память и научный темперамент позволяли ему совмещать не только эти две формальные должности. Яков Смородинский читает курс лекций в Специализированной физико-математической школе при МГУ, является заместителем главного редактора журнала «Ядерная физика» и журнала «Наука и жизнь». К тому же он – один из организаторов физико-математических олимпиад для школьников. Казалось бы, на этом месте рука устала вносить в список все те ипостаси, в которых предстает перед нами Яков Смородинский. Однако, скажу напоследок, – он автор комментариев к книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Обыкновенному человеку невозможно себе представить, как он все это успевал. Ведь рядом – жена Фира. Её тоже надо как-то развлекать…
Всезнающий Интернет называет Смородинского «ученым-энциклопедистом». Между прочим, не каждому присваивают этот титул. Но поскольку Интернет – глас народа, значит, так оно и есть.
Знакомство Юры Кагана со Смородинским состоялось, когда он студентом МИФИ слушал лекции по теоретической физике молодого профессора и чем-то его заинтересовал. Яков Абрамович становится рецензентом дипломной работы Ю. Кагана и дает ей, как он пишет, – «самую высокую оценку…». «Кроме того, – говорится далее в рецензии, – считаю необходимым опубликовать результаты диплома в физическом журнале». И подпись – доктор физ. – мат. наук Я. Смородинский.
Дипломная работа Ю. Кагана никогда не была опубликована, но дружба с Яковом Абрамовичем продолжалась и на объекте «Свердловск-44», когда он там бывал в командировках, а потом и в Москве. В доме у Смородинских обычно собиралась компания физиков, каждый из них был личностью, далеко известной за пределами профессиональных научных кругов. И только наша крайняя молодость позволяла нам с Юрой так раскованно и свободно с ними общаться.
Но и они, не смущаясь нашим присутствием, вели себя, как старые друзья, которые могут себе позволить и поострить, и основательно позлословить, откровенно высказываясь по поводу своего ближнего окружения, невзирая на авторитеты и лица.
Особенно любили мы приезжать к Смородинским в Дубну. В те времена Дубна была своеобразным культурным центром и местом сборищ научной и художественной интеллигенции. Там создалась особая атмосфера, располагающая к общению. Заселившись в гостинице, на берегу Волги, мы целой толпой отправлялись гулять по лесной, живописной дороге, летом купались и часто посещали невероятно популярные в шестидесятые годы вечера, проходившие в местном Доме ученых. Кто только там не выступал: Высоцкий, Вознесенский, Евтушенко. Яков Абрамович, как член правления Дома ученых, принимал самое активное участие в планировании и проведении всех этих мероприятий, часто подавая самые блестящие и неожиданные идеи.
Как-то раз, скорее всего в конце шестидесятых годов, на подъеме настроения, мы все решили объединиться и устроили в ресторане гостиницы «Дубна» грандиозную встречу Нового года. Это была поистине историческая встреча, на которой присутствовали со своими женами: академик Гинзбург, будущий лауреат Нобелевской премии, критик Бен Сарнов, сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид, писатель Изольд Зверев, Смородинский и мы с Юрой. Было невероятно весело и дружественно. Казалось, в таком настроении мы пребудем теперь до конца своих дней. Но вслед за оттепелью, как известно, часто наступают заморозки, и климат резко меняется.
Действительно, многое изменилось после встречи того памятного Нового года в конце шестидесятых годов. И только отношение Смородинского к Юре оставалось всегда неизменным. Он по-прежнему следил за его работой и поддерживал на всех этапах его научной жизни. А для Юры Яков Абрамович навсегда остался старшим товарищем, которого он называл не иначе, как по имени и отчеству, и так и не перешел с ним на «ты».
…С первых минут общения со Смородинским в тот вечер у Лены можно было понять, что Яков Абрамович поразительно яркая личность. Про что бы ни заходила речь, – он демонстрировал свою осведомленность и знание предмета. Он помнил годы создания картин Дрезденской галереи с выставки, недавно прошедшей с грандиозным успехом в музее им. Пушкина, читал в подлиннике и в переводах Э. Хемингуэя, посещал премьеры в театре «Современник», тогда еще расположенном на площади Маяковского в старом здании, где шли самые популярные в то время спектакли. Словом, это была невероятно просвещенная пара, по поводу чего Л. Д. Ландау – «Дау», как по настоянию Льва Давидовича все его называли, известный деспот в своем узком кругу, отпускал язвительные остроты. Иной раз с перехлестом и даже с раздражением. «Мол, кто ты, Яша, на самом деле – гуманитарий или физик?»
Некоторое время Смородинский, Боба и Юра занимали площадку, затеяв бурное обсуждение какой-то сильно взволновавшей их научной проблемы, а мы, непосвященное большинство, притихнув, наблюдали за ними, поражаясь юношескому азарту, с которым каждый из них отстаивал свои аргументы. Возможно, в таких вот спорах и рождалась научная истина?
Это была эпоха всеобщего увлечения научными открытиями и всеобщего восхищения подвигами ученых, совершенных во имя познания всего, нас окружающего.
Как писал наш друг Даниил Данин, знаменитый автор книг о науке («Неизбежность странного мира», «Резерфорд», «Бор»), в своих недавно опубликованных дневниках:
«Завидую Юре Кагану, Мише Певзнеру, Яше Смородинскому, Вите Гольданскому – всем физикам-приятелям, которых кличу по именам, точно пребываю с ними в общем детстве, – они современники современности в физике.
Да и многим ближним завидую по другим эталонам сопричастности последней новизне происходящего в мире…» (Д. С. Данин. «Нестрого как попало. Неизданное». М., 2013 г., публикация Э. П. Казанджан.)
Что-то физики в почете, Что-то лирики в загоне, Дело не в сухом расчёте, Дело в мировом законе.Может быть, эпоха приоритета науки в интеллектуальной жизни человечества уже миновала, и людей будут занимать другие проблемы? Вот, например, веры?
Как бы то ни было, но вскоре мы на этих «физиков» зашикали и перешли к обсуждению сенсаций в литературе, а ею по-прежнему оставался роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», после его выхода в свет в 1956 году все еще вызывавший оживленные дискуссии.
* * *
Самой молчаливой в тот вечер была Лена. Сидя во главе стола, она в роли хозяйки мирно разливала чай, и, наблюдая за ней, я думала про себя: неужели она и есть та самая легендарная женщина, героиня войны, которой судьба назначила быть непосредственной участницей великих исторических событий, вырваться без единой царапины из самого пекла кровопролитных сражений, чтобы потом в своих книгах с дневниковой достоверностью отразить все, что происходило у неё на глазах?
Улучив момент, когда она была чем-то занята, я старалась получше её разглядеть, да и на себе иной раз ловила порхающий взгляд этих серых глаз, воспетых в поэзии её первого мужа Павла Когана, – он называл её «моя сероглазиха» и писал в «Бригантине» о её «усталых глазах»… В этом взгляде я поневоле улавливала изучающий интерес и, пожалуй, какую-то настороженность – видимо, ко мне, молодой особе из несколько чуждой среды, имеющей к тому же литературные поползновения и – подумать только! – уже печатающейся, которую Юра как-то заявочно привел к ним в дом, надо было долго приглядываться, чтобы окончательно признать меня своей…
И еще один взгляд ловила я постоянно на себе. Жена Смородинского, Фира, с явным любопытством разглядывала моё платье, – в те годы тотального дефицита в наших магазинах чего бы то ни было из одежды или тканей оно, наверное, и в самом деле выглядело как бы занесённым случайно в наши пенаты из какого-то дальнего зарубежья, хотя в действительности было создано из обивочного черного репса на курсах кройки и шитья, которые мы с моей студенческой подругой усердно посещали. Платье было почти уже готово, и тут начались мучения с застежкой, – в те годы застёжку-молнию было днем с огнем не сыскать! Мне на выручку пришла моя находчивая бабушка. Она вспомнила про вещевой мешок, который один раз для полёта на фронт выдали в комплекте обмундирования моему отцу, военному корреспонденту «Красной звезды», «Известий» и других газет. Бабушка выпорола эту длинную молнию из вещевого мешка, и когда мы вшили её в платье, оно приобрело законченный заграничный вид. Вообще из старого военного обмундирования у нас в доме было произведено множество полезных вещей. Из унтов, входивших в комплект снаряжения еще в ту, Финскую, кампанию, один местный умелец стачал мне неслыханной красоты сапожки с меховыми отворотами, которые я носила, не снимая, до самой весны. А из овчинного тулупа бабушка сшила моему брату Андрюше передовой по тем временам и очень удобный для малыша комбинезон.
Итак, платье, как оказалось, я сшила сама, – конечно же, самодельное платье был несомненный плюс в мою пользу! А вот насчет очерков, которые к тому времени были опубликованы в журналах «Смена», «Вокруг света», «Огонек», «Знамя», мне больше всего хотелось отшутиться со смущенной улыбкой. Что из той моей журналистики могла я предъявить друзьям нашей Лены, собравшимся у неё за столом?! Хотя к тому времени я и была принята в Союз журналистов, как молодая, начинающая и подающая надежду, и, наверное в моих очерках была какая-то теплота, когда речь шла о людях, которых я встретила на Дальнем Востоке, на Сахалине, в Сормове, в Забужье, во Владимире, где я побывала в командировках, возможно в них была также искренняя интонация, с которой я о них писала. Но в целом это была поверхностная картина того, что я видела, сглаженное отражение действительности без всякой попытки заглянуть в глубину и рассмотреть проблемы, встающие на каждом шагу перед теми самыми людьми, изображенными в моих очерках бодрыми, улыбчивыми и благополучными.
Бог ты мой, сколько лет прошло с той поры и сколько воды утекло! Как хотелось бы снова побывать в тех краях и взглянуть на них глазами женщины, прожившей долгую жизнь, в которой было так много всего… Кем я была тогда, то юное существо с неукротимой жаждой счастья, перед которой открывались лазоревые небеса с изредка набегавшими на них темными тучами?
Нет, давать на прочтение эти очерки ни Изе, ни Лене, и никому другому из присутствующих здесь их друзей, не было никакого желания. Мой будущий муж Юра мои очерки, конечно, прочитал и, похвалив меня со слегка ироничной улыбкой, спросил:
– Ну, ты и сейчас написала бы все точно так же?
Он уже тогда, как я подозреваю, по каким-то своим соображениям поставил крест на моей журналистской карьере.
Поглядывая на Юру со стороны, я видела, что он был совершенно счастлив, – он снова оказался в кругу своих близких после долгой разлуки, длившейся целых шесть лет. Закончив с отличием в 1951 году Московский инженерно-физический институт, он сдал лично самому Ландау все десять экзаменов теорминимума и был приглашен к нему в аспирантуру, но вместо этого Госкомиссия распределила его на одно из секретных предприятий на Урале – в шутку его называли «город Сингапур», а в действительности это был закрытый объект Свердловск-44, занимавшийся важнейшими проблемами Атомного проекта. В эпоху оголтелой дискриминации людей с еврейскими фамилиями Юре Кагану нечего было и думать попасть в аспирантуру и остаться в Москве. Так, едва распрощавшись со студенческой скамьей, Юра оказывается вдали от дома, один, без семьи, и должен был сам каким-то образом налаживать свое существование. Для него это было тяжелое испытание, начиная с быта – к нему он совсем не приспособлен, – но главная трудность, конечно, состояла в том, чтобы избрать то направление, в котором должны были продвигаться его исследования. Ключевым моментом для молодого ученого стала встреча с академиком Исааком Константиновичем Кикоиным, – он сразу же поверил в возможности Кагана и с тех пор оказывал ему всемерную поддержку на всех этапах его научной жизни. В различных справочниках и энциклопедиях можно прочитать статьи о том, что Ю. М. Каган внес существенный вклад в развитие теории разделения изотопов урана, – научной составляющей, необходимой для промышленного разделения урана, – чем и занимался огромный комбинат, на котором он проработал шесть лет.
И вот он здесь, в Москве. Усилиями двух выдающихся академиков – Игоря Васильевича Курчатова и Исаака Константиновича Кикоина, он был переведен с Урала в Москву, в институт, позже получивший имя Курчатова, где по сию пору работает в качестве руководителя теоротдела. Из нашего сегодняшнего далека мой муж вспоминает «город Сингапур», а ныне совершенно открытый город Новоуральск, скорее всего с теплотой и даже какой-то ностальгической нежностью, – там у него сложились дружеские отношения с его сверстниками и со многими людьми старшего поколения, которые никогда не забываются, как фронтовая дружба, как окопное братство.
Недавно мы посетили этот город в связи с получением Ю. Каганом Демидовской премии. Городок в окружении прекрасной природы, с его помпезным зданием клуба, доставшимся в наследство от советских времен, стадионом, проложенной и освещенной лыжной трассой, и главное, строительством домов, – выглядит местом, приятным для жизни. А бесперебойно действующий комбинат своими гигантскими масштабами невольно напоминает о том, что Россия является великой державой.
Конечно, нас порадовало и то, что со стенда местного музея, рассказывающего об истории создания объекта, на посетителей смотрит улыбающееся лицо молодого Кагана, которому в то время было чуть больше двадцати…
В тот вечер мы допоздна засиделись у Лены, и каково же было наше удивление, когда оказалось, что ни мать, ни отчим до сих пор не ложились спать, ждали, когда мы выйдем в прихожую, чтобы нас проводить. Рахиль Соломоновна, выпорхнув из своей комнаты, в искреннем порыве кинулась ко мне, чтобы сказать на прощание какие-то тёплые слова. При этом в её чёрных глазах загорелись лукавые озорные огоньки, – её всегда вдохновляла перспектива романтических отношений, – может быть, у этих молодых и правда любовь?! Не то чтобы она уж так пеклась о будущем сына, – наверняка все как-нибудь устроится, – но просто интересно было посмотреть, что из всего этого выйдет и не получится ли так, что её младший Юрка, которому, между прочим, уже сравнялось тридцать, тоже окажется женатым?!
* * *
Моя будущая свекровь, как в воду глядела, – в скором времени после этого визита мы и правда объединились с её сыном на совместное житье. И я, покинув родительский дом в Лаврушинском переулке, переехала к Юре, в его семью, в ту самую комнату, где мы сидели в гостях у его сестры в тот вечер.
Вот здесь я и узнала ближе свою уже состоявшуюся свекровь.
Рахиль Соломоновна происходила из рода Хацревиных, – по всей видимости, это были потомки сефардов, изгнанных из Испании, во внешнем облике унаследовавшие их характерные черты, – смуглая кожа, карие глаза, волнистые темные волосы, долго не поддающиеся седине, и ослепительная улыбка, по крайней мере у моей свекрови, не нуждавшаяся до самого конца во вмешательстве дантиста. К тому же Рахиль вообще была красавица, чему имелось – и это главное – как письменное, так и вещественное подтверждение. Все дело в том, что юная Рахиль на выпускном балу в Санкт-Петербургском университете, который окончил с отличием её муж Моисей Александрович Каган, получила первый приз за красоту, и в ознаменование этого выдающегося события ей была вручена грамота на гербовой бумаге и медаль. Фотография с того самого выпускного бала запечатлела Рахиль в белом кружевном платье, с кружевным тюрбаном на гордо поднятой головке, – стройная, с высокой грудью и точеным профилем, – прекрасная дочь Сиона в расцвете молодости. Казалось бы, это неоспоримое свидетельство её избранности должно было обещать ей безоблачный жизненный путь и служить охранной грамотой от всевозможных напастей. Однако участь каждого из нас, скорее всего, решается где-то не здесь, и никто не знает, что ждет нас за поворотом и какие сюрпризы готовит нам Судьба.
В минуты грусти, отыскав с великим трудом куда-то запропастившийся золоченый ключик от буфета черного дерева, Рахиль отмыкала им заветный ящик, извлекала свою реликвию из плоской красной бархатной коробочки, и я в очередной раз выслушивала волнующую сагу о триумфальной победе Рахили на Санкт-Петербургском балу. Тут были и слёзы, и сетования на несправедливость распределения в мире Зла и Добра, но все кончалось нашей с ней задушевной беседой за долгим чаепитием с вишневым вареньем, которое Рахиль доставала все из того же буфета. Заниматься домашним хозяйством, а тем более следить за кипящими кастрюлями дочери или невестки, – нет, на это она была совершенно не способна. Зато приготовление диетического меню лично для себя, необходимого для поддержания здоровья и красоты, было предметом её постоянных забот. К тем продуктам, которые больше всего подходили для этой цели, Рахиль относила прежде всего живую рыбу. И была одна палатка в начале Тверской, тогдашней улицы Горького, где можно было захватить момент, когда там «давали» живого карпа. Рахиль закупала сразу несколько таких трепещущих рыб и несла их поскорее домой, чтобы выпустить в ванну с водой. Пусть плавают там и ждут своего часа, когда они отправятся в кастрюлю и максимально свежими попадут на стол к моей свекрови. Это запускание карпов в ванну, единственную в перенаселенной квартире, доставляло её обитателям большие неудобства. Но переубедить Рахиль не удавалось, и карпы все плавали и плавали в ванне.
Приходилось отказываться от привычных вещей, например, от такого излишества, как утренний душ. Или там, допустим, стирка рубашек. Мелкие вещицы можно было, конечно, постирать и в раковине под краном, ну, а крупные, – а что, разве невозможно сдать белье в прачечную?
Когда у Лены бывали гости и кому-то из них надо было посетить совмещённый санузел с рыбами в ванне, Рахиль выскакивала из своей комнаты, сопровождая гостей с объяснениями, а в случае, если это была женщина, нередко и заходила с ней вместе в этот домашний аквариум и задерживалась там на некоторое время, обсуждая разные наболевшие вопросы семейной и личной жизни. По этому поводу Леонид Волынский, частый гость в доме своего брата, как-то заметил:
– Представляете, сколько секретов знают эти рыбы! Хорошо, что они умеют молчать!
Наверное, рыбы и правда, чтобы лишнего не болтать, в рот набирают воды!
* * *
Для правдивости картины надо заметить, что временами Рахиль взбадривалась, например в свои именины, и в ней пробуждался древний инстинкт её витебских бабушек. Тогда она отправлялась на рынок, покупала щуку и создавала такой вкусноты рыбу-фиш, какой могли бы гордиться профессиональные кулинары. Также по этому поводу обязательно выпекался маковый рулет. Мак для рулета хранился весь год в полотняном маленьком мешочке. Рулет пекся и для любимой соседки по праздникам. Тогда Рахиль открывала шифоньер, доставала оттуда котиковую шубу, тщательно оберегаемую от моли, а также и от возможных грабителей, в связи с чем дверь своей комнаты она всегда держала запертой, и, надев эту котиковую шубу, с рулетом на блюде, завернутом в полотенце, отправлялась в гости.
Вероятно, секрет варки вишневого варенья без косточек был записан у Рахили в том же генетическом коде, – вишневое варенье без косточек могло стоять у неё в буфете годами и не покрываться никакой подозрительной корочкой.
Рахиль родилась в 1890 году в Витебске, где семья её отца Соломона Хацревина жила в черте оседлости и кормилась кое-какой мелкой торговлей, имея свою небольшую лавчонку.
Но какие еще были возможности для честного еврея содержать семью в этой пресловутой черте оседлости, когда он был замурован в замкнутом пространстве, без права выезда за его пределы и владения землей, и ему оставалось только заняться торговлей или овладеть каким-то ремеслом. Всем известно, что вне черты оседлости имели права жить лица, получившие высшее образование, купцы первой гильдии, а также некоторые уникальные мастера, необходимые в сфере повседневных услуг. Февральская революция 1917 года одним из своих первых указов упразднила этот позор царской России и дала равноправие еврейскому населению. Разлетевшись по свету, род Хацревиных проявил себя людьми, которые прославились в самых разных областях научной и культурной жизни страны того времени.
Один из племянников Рахили, сын её старшего брата, Захар Хацревин, был талантливым писателем и журналистом, погиб под Киевом, выходя из окружения в 1941 году. Писал в соавторстве с Борисом Лапиным, также погибшим под Киевом. Незадолго до собственной гибели Хацревин и Лапин опубликовали пророческие стихи «Погиб репортер в многодневном бою». Захару Хацревину было в то время всего 38 лет.
Сыновья сестры Рахили также были заметными людьми.
Захар Роговин, известный учёный, химик, создатель искусственного волокна, основы «капрона», который шел нарасхват как в промышленное производство, так и в ширпотреб. Был награжден двумя Сталинскими и одной Государственной премиями.
Его младший брат, Наум Роговин, занимал высокий пост начальника Главэнергостроя.
А с 1958 по 1964 год руководил строительством одной из первых крупнейших промышленных атомных станций СССР (Нововоронежская АЭС).
Племянница Рахили, Валентина, приняв фамилию Вагрина, стала актрисой Вахтанговского театра и блистала в заглавных спектаклях, запомнившись всем, кто видел её на сцене, своей необычайной красотой и яркостью дарования. Однако её карьера внезапно оборвалась, когда её мужа, крупного начальника Наркомвнешторга, в 1937 году вскоре после ареста расстреляли, а её отправили в ссылку. Накануне Валентину вызвали куда следует и сказали:
– Отречешься от мужа – оставим в покое, нет – поедешь в места не столь отдалённые!
Разводиться с мужем она наотрез отказалась и пробыла в ссылке до 1946 года.
Из лагеря несчастная женщина вернулась сильно постаревшая, сломленная и, несмотря на все участие коллектива Вахтанговского театра к их всеобщей любимице «Вавочке», не смогла больше выходить на подмостки.
Итак, Рахиль, едва окончив гимназию в Витебске, в 1911 году вышла замуж за Моисея Кагана (в то время именовавшегося «Мишей», но об этом речь впереди) и последовала за ним в Санкт-Петербург, поскольку он, закончив школу с золотой медалью, попал в 3-процентную норму для абитуриентов еврейского происхождения и был зачислен на юридический факультет.
По поводу своего медицинского образования, которое в Санкт-Петербурге она вроде бы пыталась получить, Рахиль, лукаво играя глазками, объяснялась весьма туманно, однако ясно, что законченного образования, как терапевт, к чему лежала её душа, она не получила.
Семейная жизнь, рождение первого ребенка, – образ этого мальчика Илюши, первенца, всю жизнь преследовал и мучил Рахиль, потому что в отношении к нему была допущена врачебная ошибка, и в результате этой ошибки ребенок умер.
Словно бы замаливая этот свой грех, – недосмотр, профессиональная неподготовленность, наконец, легкомыслие молодости, – Рахиль, как бы сразу после этой трагедии повзрослев, кидалась спасать своих и чужих при малейших симптомах заболевания или обыкновенной жалобе. При этом моя свекровь совершенно преображалась, – куда девалось только что изнурявшее её недомогание или просто усталость, – она вся как-то подбиралась и, мобилизовав инстинктивное чутье на распознание болезни, нередко ставила правильный диагноз ещё до прихода врача из поликлиники и оказывала адекватную первую помощь.
В конце концов, Рахиль получила диплом врача, закончив стоматологические медицинские курсы, но эти стоматологические корочки ей так никогда и не пригодились, потому что зубоврачебное дело было совершенно ей не по нутру. Самое смешное заключается в том, что она на всякий случай купила стоматологическое кресло, и этот громоздкий и неудоботранспортабельный предмет совершал переезды вслед за своей хозяйкой с квартиры на квартиру, и там стоял где-нибудь, задвинутый в дальний угол и практически никем не используемый, кроме кошки – свернувшись в клубок, кошка нежилась там целыми днями, иногда сладко позёвывая.
Рахиль вышла замуж за Моисея Александровича Кагана, который был в неё без памяти влюблен, двадцати одного года от роду. И как ей было не откликнуться на столь пламенное чувство со стороны весьма перспективного жениха, сулившего ей блистательную жизнь в столице!
– Ах, – рассказывала мне Рахиль во время наших нескончаемых чаепитий, – как он красиво ухаживал! Цветы, конфеты, а после отъезда в Санкт-Петербург – письма, письма, письма… Как жаль, что они не сохранились, – вот бы показать сейчас ему, неверному, чтобы напомнить о той страстной любви, которую он некогда ко мне питал…
Моисей Александрович, изначально названный Моисеем, в детстве переболел опасной болезнью и, по еврейскому обычаю, после выздоровления, от сглаза, чтобы болезнь не возвращалась, был переименован в Михаила, поскольку имя должно было начинаться на ту же букву, и так в семье его и называли «Мишей».
По складу характера он был во всем противоположен Рахили, – типичный ашкенази, голубоглазый, слегка склонный к полноте, светловолосый и рано облысевший, – это был уравновешенный, деликатный и мягкий человек с необычайно приятной улыбкой. С этой не сходившей с его лица улыбкой он встречал всех своих многочисленных невесток и зятьев, – они у него нередко менялись, но неизменно находили со стороны Моисея Александровича радушный прием и доброжелательность.
Моисей Александрович Каган родился в Витебске в 1889 году в зажиточной семье владельцев двухэтажного кирпичного дома, в нижнем этаже которого размещался самый большой в городе магазин тканей.
Основателем торгового дела был его дед, Самуил Вульфович Каган, 1842 года рождения, переехавший в Витебск с семьей из Горецкого уезда Могилевской губернии. Сохранилось свидетельство в Актах гражданского состояния города Витебска, подтверждающее переезд этой большой семьи на новое место жительства и датированное 9 января 1888 г. актом № 115.
Старший сын Самуила, Александр, должен был распрощаться со своими замыслами получить высшее образование и приобрести какую-то перспективную профессию. Семейная традиция призывала его продолжить торговое дело, которое он с успехом вел до прихода Октябрьской революции 1917 года.
А когда она произошла, Александр Каган, считавшийся местным богачом, поскольку был купцом второй гильдии, проявил поразительную дальновидность, еще до всякой конфискации добровольно расставшись со всем своим имуществом, – дом, магазин, столовое серебро, – и безвозмездно передав все это в пользу большевистским властям. Взамен он получил возможность продолжать трудовую деятельность, теперь уже в новом качестве, – бухгалтера потребсоюза. Насколько можно понять из семейных преданий, деда не особенно расстроило то обстоятельство, что он был полностью разорен, и из купца второй гильдии превратился в рядового служащего. А между тем с увеличением капитала, при прежней власти он приобретал и некоторые права, о чем в тех же Актах гражданского состояния города Витебска имеется соответствующая справка:
«Список лиц, имевших право участия в выборах в Государственную думу на 1-м съезде городских избирателей по г. Витебск, 1912 г., 2-я часть города.
№ 302. Каган Александр Самуилович, исповедание – иудейск., ценз – по недвижимости.
№ 303. Каган Самуил Вульфович, исповедание – иудейск., ценз – по недвижимости.
НИАБ, ф. 2496, оп. 1, д. 1820, с. 7.»
Наличие капитала также подтверждалось в документах городской управы, сохранившихся в местном архиве и относивших семью Каган к купцам 2-й гильдии по г. Витебск на 1917 г.
Видимо, Александр Каган не испытывал ни малейших комплексов даже от того, что теперь вынужден был ютиться с женой в одной из комнат огромной коммуналки, в которую превратился его конфискованный дом. Ведь взамен былого благосостояния он получил равноправие и почувствовал себя таким же человеком, как и все остальные, – а это было для него бесценно.
Вырваться из черты оседлости с правом проживания в любом российском городе, включая столицы, как его старший сын, Моисей, было дано лишь единицам. Но получить образование и приобрести достойную профессию стремились все. Средний сын Александра, Яков, становится врачом, младший, Вольф, – инженером-строителем. Оба они были всеми уважаемыми и известными в Витебске людьми.
Однако еще раньше, в поколении Александра Кагана, его сестры, старшая Эсфирь (по метрике Эстра) и младшая Маня (Малка-Рейза) в борьбе за свои гражданские свободы проявляют чудеса предприимчивости и бесстрашия. Будучи незамужними девушками, они покидают родительский дом и пускаются в бега куда-то за границу с сомнительными и совершенно непонятными целями. Какими-то правдами и неправдами еще до революции они перебираются в Швейцарию и здесь получают Высшее медицинское образование, – это были первые женщины города Витебска, отмеченные таким бесспорным признаком эмансипации.
Старшая сестра, Эсфирь, бежала за границу, надеясь соединиться там со своим возлюбленным, к несчастью обремененным семьей. Вскоре она от него родила, но младенец, едва появившись на свет, погиб от асфиксии. Вслед за этой бедой приходит и другая – союз с возлюбленным Эсфири после смерти ребенка распался. Получив медицинское образование, Эсфирь становится детским врачом-психиатром высокой квалификации и, вернувшись в Россию после революции 1917 года, основывает и возглавляет детское отделение психиатрической клиники «Канатчикова дача» в Москве. Эсфирь Каган руководит им до конца своих дней.
Вторая сестра, Маня, как её называли близкие, также нелегально выезжает за границу, однако не вслед за возлюбленным, а вывозит подпольную типографию, издававшую революционную литературу в Швейцарии вплоть до свержения самодержавия в России. Маня получила диплом педагога по дошкольному воспитанию детей и, после возвращения на родину, по зову сердца стала работать воспитателем в детдоме.
А Моисей Каган, окончив Петербургский университет, переезжал с места на место вслед за своими служебными назначениями, – Баку, Гомель, Харьков, – пока окончательно не осел в Москве. Так Каганы встретили новый век, разлетевшись по разным городам и весям из родного города Витебска…
Последнее поколение этой семьи давно живет в Москве, и безусловно считает её своей родиной. Но всё-таки, наверное, существует зов крови или нечто подобное, – как бы то ни было, но в 1971 году, на двух машинах, – наш старший брат Боба со своей женой Наташей и дочерью Машей на «победе» и мы с Юрой и нашим сыном Максимом на красном «москвиче», по пути на отдых в Литву на озеро Свента, где располагался спортивный лагерь Дома ученых, заехали в город Витебск, с надеждой отыскать дом прадеда Самуила и деда Александра по адресу Канатная улица № 9.
Едем, и вот она, Канатная улица, перед нами, и вот он дом № 9 – стоит, как стоял, – поразительно, как он уцелел в разрухе войны, почти тотально сровнявшей с землей центральную часть старинного города Витебска, расположенного на берегу полноводной Западной Двины. К тому, что город изменил свой облик с тех дедовских или прадедовских времен, мы были, конечно, подготовлены. Вот что пишет об этом в своем эссе Андрей Вознесенский в каталоге к выставке Марка Шагала, издания 1987 года (М., «Советский художник»):
«Приехав, (имеется в виду – в Москву. – Т. В.) Марк Захарович мечтал о встрече с Витебском и боялся её. Конечно, Витебска его детства и след простыл. Война разрушила многое, а в 50-х годах уничтожили знаменитый соборный силуэт города».
Какой именно собор имеет в виду А. Вознесенский, сейчас уже выяснить невозможно, однако на фотографиях 2000-х годов оба собора, – Свято-Покровский кафедральный и Успенский собор предстают перед нами во всем своем блеске и величии. Они-то и составляют неповторимый силуэт Витебска, отличающий его от других городов Белоруссии.
А вообще-то бывают и другие города, – как бы лишенные профиля. Впервые я обратила на это внимание, когда молодой журналисткой в конце пятидесятых годов по заданию одного молодёжного журнала из Хабаровска, где я тогда находилась, направлялась в город Комсомольск-на-Амуре. Сотрясаясь всем корпусом и пыхтя, пароход с натугой продвигался вверх по реке, преодолевая мощное течение и не чая добраться до пристани. И вот с палубы парохода открылся вид на город Комсомольск-на-Амуре, – тогда там не возводили ни храмов, ни высоток, а построили в самом начале 30-х годов этот населённый пункт на месте бывшего села Пермское. Территорию для будущего города расширили за счет спалённой тайги, так что лопата по самый черенок уходила в тех окраинных районах города в слой черной гари. А сам город, как ни напрягался, так и не сумел подняться над уровнем бывшего села и не имел в своем силуэте ни единой возвышенной точки, – все крыши да крыши приземистых построек, обрамленные плотным кольцом черной тайги. Незабываемое впечатление!
Современные справочники дают сведения о том, что Комсомольск-на-Амуре является ныне портовым городом с развитой индустрией, – судостроение, чёрная металлургия, нефтепереработка, лёгкая и пищевая промышленность. Возможно, он теперь и профиль приобрел в связи с возведением церкви, комплекса современных многоэтажек или телебашни?!
Между тем дом прадеда Самуила Кагана, нисколько не поврежденный, был перед нами. Красный, сложенный из узкого особого формата кирпича, с отчетливо видными ровными швами некогда голубовато-белого раствора. Двухэтажный, с заложенной чужим кирпичом двухстворчатой дверью бывшего магазина, вытянутый в длину, наподобие базилики. Этот дом был построен стараниями прабабки Хвалисы, весьма энергичной дамы, матери восьмерых детей, которая при возведении дома исполняла роль прораба, карабкаясь в штанах, – шокирующее зрелище для местных обывателей! – по лесам и отдавая указания рабочим. Её муж, занятый усердным изучением Талмуда, чему он предавался изо дня в день, был далек от практических забот своей супруги и во всем на неё полагался.
«Но муж любил её сердечно, В её затеи не входил, Во всем ей веровал беспечно, А сам в халате ел и пил…»Ну, а этот изучал Талмуд. А как же торговля и магазин? Неужели и это лежало на его жене, матери восьмерых детей?! Вполне возможно, что подтверждает еще одно красочное семейное предание. Оно повествует о том, что будто бы однажды, оторвавшись от изучения Талмуда и взглянув из своего окна на противоположную сторону улицы, прадед, к своему удивлению, увидел какое-то новое, видимо недавно возведённое, строение и воскликнул:
– Хвалиса! Скажи, пожалуйста, что это такое я вижу перед собой? Или это какой-то новый дом?
– Совершенно правильно, так оно и есть! И дом этот – твой, это я его построила тебе!
Не зря все же в нарушение всех правил приличия прабабка Хвалиса, облачившись в штаны, самолично руководила строительством – новый дом Каганов оказался на редкость основательным и прочным, и простоял, получается, более ста лет и, надеюсь, по сию пору благополучно стоит.
Воочию представшее перед ним родовое гнездо поневоле вызвало в нашем старшем брате Бобе душевное волнение. Он стал вспоминать дошедшие до него семейные предания о своей прабабке Хвалисе и прадеде, – крупном, как сам он, красавце Самуиле, – с ним было связано множество разных историй. Одна из них, специально сочиненная для успокоения прабабки и оправдания непомерных трат, произведенных прадедом в ту ночь, повествовала о том, какие треволнения пришлось пережить ему в доме терпимости, куда его якобы загнало преследование жандармов, когда он, вопреки строжайшему запрету лицам еврейской национальности оставаться на ночь в столицах, задержался по неотложным делам в Москве… Прадед входил в роль и, патетично воздевая руки к небу, охал и ахал, в красноречивых выражениях описывая, что ярко-алый фонарь публичного дома явился ему знаком спасения, когда его, правоверного еврея в кипе и длиннополом сюртуке, жестокие жандармы уже готовы было схватить и бросить за решетку. Пришлось у мадам, содержательницы притона, нижайше просить о пристанище и откупаться от домогательства соблазнительных девиц легкого поведения, – а там были такие, особенно одна! – солидными деньгами… Прабабка сочувственно вздыхала, и прадед был прощён…
* * *
Род Каганов, помимо долголетия (говорю это, а сама стучу по дереву от сглаза), отличается еще и завидной, как бы это выразиться, юношеской прытью, которая сохраняется у них до преклонных лет.
Известна история про деда Александра. Его жена, Раиса, родив шестерых детей и перетрудившись на земном поприще, раньше своего мужа покинула этот мир, оставив его безутешным вдовцом, когда ему было прилично за семьдесят. Через некоторое время дед объявил о своем намерении жениться. На него, ясное дело, посыпался град насмешек и упреков.
– Вы что же, хотите, чтобы я по девкам пошёл?! – резонно возразил на это дед. Ну, а вожделения детишек относительно наследства разрушены были еще раньше, не угрозой появления молодой жены, которая может все это захватить, а с приходом Великой Октябрьской революции.
– Это верно, греховодник был дед. А с детьми он был исключительно ласков, – продолжал рассказывать нам Боба. – Во всем потакал, баловал, задаривал. Однажды купил мне дорогую лошадку с витрины магазина. До сих пор помню эту лошадку-каталку…
Словом, Боба страшно растрогался, вспоминая свое детство, и в этом приподнятом настроении мы двинулись на поиски еще одного исторического места, связанного с нашей семьей. Дело в том, что существует легенда о том, что Моисей Каган, родившийся в 1889 году, и Марк Шагал, 1887 года рождения, оба выросшие в черте оседлости города Витебска, учились в одной и той же гимназии, хотя и в разных классах. Гипотетически это вполне возможно, но правда ли это, или просто красивая сказка, – кто знает?
И вот для прояснения этого вопроса мы стали колесить по Витебску в поисках какой-нибудь школы (какие же могли быть гимназии в нашей советской стране?!) или хотя бы строения с соответствующей мемориальной доской.
– Скажите, вы не знаете, не сохранился ли дом, где жил Шагал, или школа, где он учился? – спрашивали мы у приветливых и отзывчивых на наше любопытство прохожих.
– Шагал?! Ну да, Марк Шагал… Художник, – нередко получали мы вполне просвещённый ответ. – Только никакой мемориальной доски я не видел… Но может быть, я просто не знаю, и она где-то есть…
Увы! Вероятно, в тот год, когда мы посетили город Витебск, там не было ни одного памятного знака, свидетельствовавшего о том, что здесь жил, работал, создавал свои полотна великий гений нашей эпохи, унесший с собой в мир прекрасного искусства видения, образы, краски этого самого города, где он вырос. А между тем это было накануне единственного приезда после эмиграции в 1922 году Марка Шагала в Москву, на выставку его картин, состоявшуюся в Третьяковской галерее. До Витебска, который он так жаждал посетить, Марк Шагал из-за внезапной простуды тогда, в 1973 году, так и не доехал, но что из этого?! Витебск навсегда остался увековеченным в его творчестве и стал достоянием мировой культуры, наравне с другими уникальными памятниками цивилизации.
Поразительно пренебрежительное отношение к нашему национальному богатству официальной культурной политики бывшего Советского Союза. В Энциклопедическом словаре издания 1980 года Марк Шагал называется… французским художником. И все. И точка.
Почему, отчего в его полотнах запечатлена глубинная быль российской жизни, – остается абсолютной загадкой. Следующее издание Советского Энциклопедического словаря уже более милостиво отзывается о художнике и аттестует его как «французского живописца и графика» с добавлением: «Выходец из России». Это говорится о состоявшемся мастере, выехавшем из России двадцати восьми лет от роду и имеющем за плечами следующий послужной список:
В 1906 году начинает заниматься живописью в Витебской художественной школе у И. Пэна. Переезд в Петербург и занятия в Обществе поощрения художеств под руководством Н. Рериха, затем Л. Бакста и М. Добужинского. Первая выставка двух картин в помещении редакции журнала «Аполлон». В Париже знакомится с художниками Ж. Браком, П. Пикассо, Ф. Леже, А. Модильяни, поэтом Г. Аполлинером. Выставка в Салоне Независимых. Выставка в Москве с группой «Ослиный хвост». Выставка в галерее «Штурм» в Берлине. Возвращение в Витебск накануне войны. Принимает участие в выставках «Бубновый валет» в Москве и «Современное русское искусство» в Петербурге. В 1918 году назначается Полномочным Комиссаром по делам искусства в Витебске, где становится основателем местного художественного училища и музея. Приглашает на работу в Витебск, помогая тем самым пережить голодные годы, своих учителей – Пэна, Добужинского, знаменитых современных художников: Малевича, Лисицкого, Татлина, Фалька. На какое-то время Витебск становится средоточием художественной жизни России. И снова Москва. Работа в Еврейском Камерном театре – оформление спектаклей, создание настенных росписей. И еще одна героическая страница в биографии мастера накануне окончательного прощания с родиной – Шагал преподает рисование в трудовых колониях для беспризорных – «Малаховка» и «III Интернационал». Невозможно пройти мимо одного уникального свидетельства, сохранившегося в архиве Андрея Вознесенского, которое он приводит в том же каталоге выставки «Марк Шагал».
А. Вознесенский пишет:
«После опубликования одного из моих эссе о художнике пришло письмо:
«Хочу сообщить Вам о Марке Шагале то, что Вы, возможно, не знаете. Он был в 1922 г. нашим учителем рисования в Малаховской трудовой колонии, где мы, дети, вместе с воспитателями мыли полы, пекли хлеб, дежурили на кухне, качали воду из колодца, и вместе с нами трудился М. Шагал. Нас, детей, приобщили к труду и искусству и воспитали порядочных людей. Шагал относился ко мне тепло, я дружила с его дочкой Идой. Она тоже воспитанница Малаховской колонии. Нас, колонистов, осталось в живых очень мало, но мы будем помнить нашего дорогого учителя всю жизнь. К 90-летию М. Шагала мы, колонисты, послали ему фотографии, где он снят с нами. Он был тронут нашим поздравлением и ответил, что всех нас помнит, что сейчас богат и знатен и никогда не забудет нашей Малаховской колонии, где жил на 2-м этаже со своей Беллой и спал на железной кровати… Я ветеран труда. Еще раз благодарю за Вашу заметку о нашем дорогом учителе и великом художнике. И. Фиалкова».
Вот что, оказывается, стояло за идиллической голубизной великих полотен! Работа в колониях «Малаховка» и «III Интернационал». И вот что таилось за загадочной золотоволосой Идой, в салоне которой собирался «весь» Париж от Андре Мальро до мадам Помпиду – трудное малаховское детство и друзья-детдомовцы в «цыпках»! И вот откуда выстраданные глобальные видения художника – не смесь французского с нижегородским, а всечеловеческого с витебским, с голодом малаховских огольцов».
Потрясающие слова сказал выдающийся Поэт нашего времени о выдающемся Живописце!
В 1922 году Шагал навсегда уезжает за границу. Он подолгу живет в Берлине, Нью-Йорке, Швейцарии, и везде отмечает свой приезд персональными выставками, неизменно пользующимися огромным успехом. Но своим «вторым Витебском» он считает Париж, и в 1937 году принимает французское гражданство. В то же время Шагал никогда не отказывался от своих корней, и писал в 1936 году:
«Меня хоть и во всем мире считают «интернац.» и французы рады вставлять в свои отделы, но я себя считаю русским художником, и мне это приятно».
Позднее, из своего парижского далека, в феврале 1944 года, он шлет на родину исполненное горечи письмо под названием «Моему городу Витебску»:
«Давно, мой любимый город, я тебя не видел, не упирался в твои заборы.
Мой милый, ты не сказал мне с болью: почему я, любя, ушел от тебя на долгие годы? Парень, думал ты, ищет где-то он яркие особые краски, что сыплются, как звезды или снег, на наши крыши. Где он возьмет их? Почему он не может найти их рядом?
Я оставил на твоей земле, моя родина, могилы предков и рассыпанные камни. Я не жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль. Все эти годы меня тревожило одно: понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане? Когда я услышал, что беда стоит у твоих врат, я представил себе такую страшную картину: враг лезет в мой дом на Покровской улице и по моим окнам бьет железом.
Мы, люди, не можем тихо и спокойно ждать, пока станет испепеленной планета. Врагу мало было города на моих картинах, которые он искромсал, как мог, – он пришел жечь мой город и дом. Его «доктора философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, теперь пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, стрелять, жечь…»
Фашизм не пощадил творчества Марка Шагала, и в 1933 году на площади в Мангейме при стечении народа молодчики со свастикой на нарукавных повязках бросали в костер полотна мастера…
Андрей Вознесенский, близкий друг Марка Шагала, в связи с открытием первой выставки мастера в Москве в 1973 году, с грустью замечает в своем эссе «Гала-ретроспектива Шагала»:
«…как получилось, что родина художника оказалась единственной из цивилизованных стран, где не издано ни одной монографии художника, не было ни одной ретроспективы его живописи?! Имя его и произведения были долгие годы абсурдно запрещены. Во всем мире знают Витебск по картинам Шагала и по тому, что он в нем родился, а в городе нет ни музея, ни улицы его имени».
Этот больной и по сию пору острый вопрос может задавать себе каждый. На него пытались ответить лучшие умы первой волны российской эмиграции. Так, сидя в Париже, Д. Мережковский в тридцатые годы кратко сформулировал свои сомнения:
«Что дороже – свобода без России или Россия без свободы?» Неизвестно, был ли у него загодя продуманный ответ на этот вопрос. Ведь подавляющее большинство литераторов из окружения Мережковского считало, что участь их уже предрешена: им суждено вернуться в свое отечество только стихами. За редким исключением история это подтвердила.
Позднее Георгий Иванов, поэт первой волны российской эмиграции, сделает в своих стихах потрясающее по своей откровенности признание:
Четверть века прошло за границей, И надеяться стало смешным. Лучезарное небо над Ниццей Навсегда стало небом родным.Значит, все же до пятьдесят первого года, когда были написаны эти строки, они надеялись?!
Тщетно пытаюсь я вызвать в своей памяти какие-нибудь виды города Витебска, который мы посетили в те далекие годы.
В памяти встает совсем другая картина. Амстердам, Штеделик-музей и там полотно Марка Шагала «Автопортрет с семью пальцами», помечено 1912 годом и представляет собой первую картину парижского периода. Тогда еще мастер уехал в Париж не навсегда.
В состоянии крайней разнеженности Шагал наслаждается Парижем. Он млеет. За спиной у него Эйфелева башня, а перед ним мольберт с картиной «Россия. Ослы и другие». Хотя почему «ослы» – остается тайной, поскольку на полотне изображен родной Витебск с несколько покосившейся церквушкой, и на фоне этого городка бабка, которая спешит доить сильно рогатую козу и летит к ней с ведром в пронзительно-синих василькового цвета небесах…
Васильково-синего цвета небо над Витебском, васильково-синие цветы, васильково-синие глаза самого творца этих полотен…
«…Гениальный голубоглазый мастер, с белоснежной гривой, как морозные узоры на окне, разрыдался над простым букетиком из васильков – это был цвет его витебского детства, нищий и колдовской цветок, чей отсвет он расплескал по витражам всего мира от Токио до Метрополитен», – так пишет о Марке Шагале, получившем в подарок от одного из поклонников его таланта букетик васильков, и сам такой же голубоглазый, поэт Андрей Вознесенский в своем уже упоминавшемся выше эссе.
Ровно через сто лет после его создания нам с моим мужем посчастливилось увидеть это полотно на стенах музея в Амстердаме и снова встретиться с Витебском. Видения этого города возникают на картинах художника как бы выхваченными из жизни ярким солнечным лучом. Так, в очередной раз, фантазия, воображаемое, заменив собой реальность, становится для нас явью.
Между тем город Амстердам имеет для нас с моим мужем особое значение. В 1985 году Ю. Каган получил почетное звание Ван-дер-Ваальс профессора Амстердамского университета. На дворе стояла Горбачевская эпоха, и нас с ним впервые выпустили вместе за границу. Не то чтобы мы до этого нигде не бывали, но Амстердам – это уникальное место на свете. Правильно его называют северной Венецией. Вода как бы вторгается в город. Дыхание моря промывает насквозь все набережные и сухопутные улицы с трюхающими по ним трамваями. Здесь мы осваивали с Юрой азы голландского образа жизни. И многое узнали впервые. Например, что гараж создан в основном не для машины. А для катера или, в крайнем случае, для шлюпки. Нас так и поселили на Херенграхт, – нижнее помещение представляло собой ангар для катера, а наверх в жилые помещения вела невероятно крутая винтовая лестница, по которой хорошо взбегать молодым и здоровым. А как же на старости лет? Этот вопрос остался для меня непроясненным, тем более что уже в те годы Нидерланды лидировали в Европе по продолжительности жизни. Для подъема мебели снаружи предусмотрен блок с канатами, лифты есть только в современных домах. Катера, кораблики и шлюпки в изобилии снуют по каналам. А утром, проснувшись и выглянув в окно, ты видишь у причала «Бригантину», оснащенную парусами и уже готовую сорваться с якоря, чтобы уплыть в «дальнее синее море». Море – и друг, и недруг, невероятное количество плотин и откачивающих насосов удерживают его в своих границах, отстаивая сушу для проживания людей. С морем здесь связано все. И прежде всего ежедневный рацион, который трудно себе представить без морепродуктов и рыбы. Оказалось, что селёдка вовсе не закусочное блюдо, – этот самый «херинг» продается в каждом уличном ларьке на каждом углу и представляет собой самую настоящую еду. Схватил сандвич с «херингом», – и это по местному обычаю – «ленч», и никакого тяжеловесного обеда. Мы слишком много пищи поглощаем. Амстердам – это город проживания бесчисленных кошек и собак. Кошки здесь носят ошейник с бляшкой, где написан номер дома, а собак, по-моему, не меньше, чем жителей. Если на вывеске кафе написано: «Дринк энд Смок», – это значит, верное дело, тут можно и «травку» покурить. Кто хочет, может попробовать, но нам не захотелось. В магазинах продаются какие-то экзотические и доселе невиданные нами фрукты, их доставляют сюда из Суринама, бывшей колонии Королевства Нидерландов, хотя и ставшего с 1975 года самостоятельным государством, однако сохранившим самые тесные связи с Амстердамом.
Ну и, конечно, кварталы красных фонарей. Возможно, это и правильно, чтобы в портовом городе имелись подобные совершенно легальные и находящиеся под медицинским контролем заведения. Но как быть местным родителям, когда маленькое дитя спрашивает у своего папы или мамы: зачем эта тётенька стоит в окне совершенно голая? Какие ответы должны готовить своим детям взрослые? Тут уж каждый должен проявить свой педагогический талант.
Поражают окрестности города. Ветряные мельницы и бескрайние поля тюльпанов… Словом, для приезжего – сплошная экзотика и красота. С проблемами, а их тут великое множество, – на каждом шагу сталкиваются те, кто тут постоянно живет.
Пока мы кружили по Витебску в поисках дома Шагала или школы с мемориальной доской, наши дети, Маша и особенно Максим, сильно проголодались, и нам пришлось направить поиски совсем в другом направлении. Мы стали искать ресторан или какое-нибудь кафе, но из всех возможных точек общепита в Витебске той поры действовала лишь бочка с разливным квасом. И мы, с грустью дожевав свои бутерброды, распрощались с городом детства нашего брата Бобы и продолжили свое путешествие на озеро Свента.
* * *
Давно уже, 2 августа 1957 года, состоялся мой переезд из родительского дома в Лаврушинском переулке к Юре на Ленинградское шоссе в шестнадцатиметровую комнату. Она оказалась на редкость вместительной и все моё имущество – портативная пишущая машинка «Erika» и низкорослый холодильник «Север» – прекрасно в неё вписалось. Постепенно я привыкала к жизненному укладу моей новой семьи. Ни о каких совместных обедах здесь не было и речи. Каждый существовал тут в своей автономной ячейке, и на нашей общей кухне, являя собой образец классической коммуналки советских времен, на четырехкомфорочной плите клокотали три кастрюли – по числу семейств, – которые нередко оставались без присмотра и вели себя весьма взрывоопасным образом. К тому же бывало и так, что моя свекровь, поглощенная своими переживаниями или срочно вызванная на дачу по телефону из конторы, поскольку у дачной соседки что-то там такое стряслось, бросала все дела и мчалась к ней на выручку. При этом в раковине на кухне оставалась груда немытой посуды. Зато в ней не было ни грана мелочной обидчивости, и, приехав домой и найдя посуду вымытой и расставленной по местам, Рахиль на меня нисколько не сердилась, – мол, все это делается ей в укор, – а, напротив, бывала очень довольна и благодарила за доброе к ней отношение.
Связующие скрепы этой семьи находились где-то вне бытовой сферы, и отдельные домашние нестыковки не мешали ей ощущать себя единым кланом, объединённым любовью и доверием.
Наши чаепития с Рахилью продолжались и нередко затягивались до позднего вечера, пока Юра не приходил домой из института.
– Что это наш Юрка так в вас влюблен? Ведь он и раньше приводил домой девушек, и очень даже красивых! – простодушно спрашивала меня моя свекровь Рахиль, при этом совершенно невозможно было заподозрить её в том, что она хотела меня как-то уязвить, просто ей интересно было наблюдать, как развиваются отношения недавно соединившейся молодой пары.
Сама она ко времени моего появления в этой семье была в разводе со своим первым мужем, отцом семейства Моисеем Александровичем Каганом, которому родила четверых детей (первенец, как я уже писала, умер младенцем) и прожила с ним тридцать лет.
Моисей Каган после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета сделал блестящую карьеру, с первых шагов своей деятельности в качестве юриста занимая высокие должности в различных организациях. Первое назначение он получил в Баку в нефтяную компанию на пост главного юридического консультанта. Здесь он с большим успехом трудился несколько лет, и немало способствовал процветанию и расширению компании.
После революции 1917 года его жизнь резко меняется. Он переезжает в Гомель и включается в работу земской управы, которая в то время обладала заметными полномочиями и занималась самыми важными проблемами региона, такими, как строительство, прокладка дорог, просвещение и здравоохранение. Это были, по сути дела, те самые земства, за которые в своем очерке «Как нам обустроить Россию» ратовал А. И. Солженицын, считая местное самоуправление единственно эффективным способом наведения порядка в России.
Активная деятельность Моисея Кагана в качестве ведущего сотрудника городской управы не осталась незамеченной, и он назначается городским головой города Гомеля. В этой должности Моисей Александрович отвечал своей собственной головой за нормальное функционирование всего разветвленного городского хозяйства. Надо заметить, что в то время ему не было еще и тридцати лет, – это поистине была эпоха выдвижения талантливых и молодых. И молодые трудились не за страх, а за совесть, не заботясь о личном обогащении и думая лишь об общем благе. Они на практике приобретали опыт регионального руководства, контролируя расход бюджетных средств и выполнение намеченных работ.
Для семьи Каганов это был один из самых счастливых периодов их жизни. У них уже был маленький Боба, в Гомеле на свет появилась дочка Лена. К этому времени относится их знакомство с Борисом Наумовичем Липницким, который работал в той же городской управе под началом у Моисея Александровича. Здесь же их жизненные пути пересеклись и с Беллой Григорьевной Лейтес, – впоследствии, по прошествии многих-многих лет она станет второй женой М. Кагана, но до этого было еще очень далеко, – это произойдет в 1941 году.
Вскоре М. Кагана ждет новое продвижение по служебной лестнице. В начале 20-х годов его переводят в Харьков, где он становится председателем правления Всеукраинского Государственного банка.
И, наконец, Москва, – здесь он назначается на должность члена правления Государственного банка Советского Союза, – это был, несомненно, ответственный пост с большими полномочиями.
Моисей Александрович получает отдельную квартиру на Ленинградском шоссе, дети растут, благосостояние семьи, хотя и скромное, ограниченное «партминимумом», но все же достаточное, отношение к нему сослуживцев самое дружественное. Но по-другому и быть не могло. Моисей Александрович по характеру был человек доброжелательный, интеллигент, готовый выслушать мнение других, и если что-то отвергнуть, то неизменно с мягкой улыбкой. Резко отчитать кого-нибудь из своих подчиненных, особенно в присутствии других, – на это он был просто не способен. Его ценили, как профессионала высокого уровня и любили, как товарища, сослуживца, начальника, – чего еще, казалось бы, желать от судьбы?!
И снова – повышение, его переводят на высокую должность в Наркомзем (Наркомат земледелия). Однако покой нам только снится…
В стране начинаются партчистки, и бывший член Комбунда, каковым когда-то в молодости являлся М. Каган, не мог не поплатиться за свое прошлое. Исключение из партии в 1933 году – за «пассивность» – было для него еще не худшим наказанием, вскоре следует и другое. Его с понижением направляют на другую работу – начальником финансового отдела управления Кинофото-промышленности.
Наступает 1937 год, и его как «заблуждавшегося и не справившегося» увольняют. После этого оставалось ждать неминуемого ареста, чтобы разделить участь большинства его сослуживцев, подвергшихся едва ли не поголовным репрессиям. Под письменным столом в кабинете Моисей Александрович прятал от детей предусмотрительно купленный рюкзак с шерстяными носками и сменой белья и вздрагивал при каждом нежданном звонке в дверь квартиры. Это уже за мной? И рука автоматически тянется под стол за рюкзаком. Или еще пронесло? Вздох облегчения – это Лена, где-то задержавшись, явилась домой. И сама обмерла от ужаса, встретив устремленный на неё взгляд отца, исполненный немого укора. Он никогда не скажет ей ни слова упрека, но этот его затравленный вид…
– Папа, прости, я забыла взять с собой ключи! Прости меня, пожалуйста, прости!
В таком состоянии постоянного страха ему теперь предстояло жить долгие годы, – хотя он был сравнительно еще молодым, не достигшим пятидесятилетнего юбилея мужчиной. Некоторое время он оставался безработным, а в дальнейшем работал юрисконсультом в разных учреждениях.
Произошло еще и другое. Совместная жизнь с моей свекровью Рахилью у них как-то постепенно разлаживалась, трещина во взаимоотношениях все расширялась, и её нечем было заполнить. Бог ты мой, видимо, и Красота может кому-то надоесть! Новый брак Моисея Александровича был основан на старой, еще с тех, гомелевских времен, взаимной симпатии, возникшей между ним и Беллой Григорьевной, но тогда так и не переросшей в любовь.
Его вторую жену при всем желании нельзя было назвать особенно привлекательной внешне, но надо было посмотреть, с какой нежностью он к ней относился! Их союз можно было бы считать счастливым и удачным, если бы не внезапная смерть Моисея Александровича, – он умер в 78 лет от сердечной недостаточности, – так и не смирившись с теми гонениями, которым он в тридцатые годы незаслуженно подвергся.
Как-то мы ехали с его новой женой, Беллой Григорьевной, в такси, и водитель, обращаясь к ней, спросил:
– Бабушка, а вас где прикажете высадить?
Белла Григорьевна страшно оскорбилась и с гордостью отрекомендовалась:
– Я никакая не бабушка, я – профессор и доктор медицинских наук!
Это была святая истина – Белла Григорьевна Лейтес, профессор, известнейший детский врач, была светило в области детской ревматологии, к ней обращались, как к последнему прибежищу за помощью и спасением. Она откликалась на беспрерывные телефонные звонки, когда мы бывали у них, и назначала прием на следующее утро. И так – изо дня в день.
Дети и внуки Моисея Александровича с ней быстро примирились, с готовностью принимая приглашение Беллы Григорьевны посетить их гостеприимный дом. Там их неизменно ждал невероятно обильный ужин, и все просили Беллу Григорьевну:
– Ой, а нельзя ли заранее узнать меню, чтобы получше рассчитать свои силы?
Моя свекровь Рахиль вскипала негодованием всякий раз, когда это запретное имя произносилось при ней вслух. Не могла простить своей бывшей подруге, еще с гомелевских времен, такого коварства – войти к ней в доверие, если не употреблять более грубого слова, увести из семьи отца троих детей, обмануть её, отдавшую всю свою молодость и красоту этому слабохарактерному, подверженному влиянию человеку! Воспользоваться его пошатнувшимся служебным положением, неуверенностью в себе…
– И как только Миша мог променять меня на эту каракатицу?! Неужели она ему нужней, чем его семья и, наконец, своя исконная жена?! Подумаешь, какая невидаль – доктор наук и профессор! Он же не в диплом её будет смотреть, – говорила Рахиль, томно закатывая свои черные глазки и кокетливым движением поправляя уложенную короной роскошную косу, – наверное, дома перед ним сидела не какая-то уродина! – уязвленное самолюбие покинутой женщины терзало душу Рахили, хоть, может быть, она и не очень любила своего мужа Моисея Александровича и при ней почти всю её замужнюю жизнь находился другой, Бориска, как она его называла, и в настоящее время она была… его женой…
Видимо, она готова была принимать пожизненное рабство Бориски, оставаясь при этом законной супругой Моисея.
* * *
И вот на страницах книги снова появляется это имя – Борис Наумович, Бориска. Кто же такой и откуда он взялся?! Собственно говоря, Бориска был рядом всегда. А сейчас он как раз вернулся в Москву из своей последней ссылки, из Сибири, и эта его последняя ссылка по формулировке соответствующих документов значилась как «бессрочная».
Полную реабилитацию после арестов, ссылок, поселений он получил после смерти Отца всех народов, и эта пожелтевшая бумажка, которая сейчас передо мной, с полнейшей небрежностью к судьбе человека и поразительным лаконизмом сообщает:
«Главная военная прокуратура.
Липницкому Борису Наумовичу.
г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 20, кв. 5
26 апреля 1955 года.
Ваши жалобы удовлетворены. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 9 апреля 1955 года за № 44-02353/55 Ваши дела, по которым Вы были осуждены 27 февраля 1940 года и 18 мая 1949 года, прекращены за отсутствием состава преступления.
Военный Прокурор отдела ГВПВ Майор юстиции /Химич/»Как заметил на это мой пятнадцатилетний внук Саша, им только не хватало сделать приписку – «извините за доставленные неудобства».
На самом деле этот уникальный документ порождает множество вопросов. А как же предыдущий срок? Прикажете вообще выбросить его из жизни?
В первый раз Борис Наумович Липницкий был арестован в августе 1937 года, находясь на весьма ответственном посту управляющего Куйбышевской областной конторой Госбанка и удостоившись чести быть делегатом с решающим голосом VIII Чрезвычайного Съезда Советов, принимавшего Конституцию СССР. Взяли его по доносу о «вредительской деятельности в области кредитования». Его, кристальной честности члена партии, свято верившего в непогрешимость нашего советского строя, такое обвинение оскорбляло до глубины души. Такие чувства были недоступны его мучителям, и на первых же допросах, на которых он не взял на себя никакой вины и никаких бумаг не подписал, его так били, что у него отнялись ноги. Дело оказалось настолько серьёзным, что было непонятно, как доставлять его на следующие допросы. Несмотря на все угрозы, Борис Наумович продолжал упорствовать, возведённой на него клеветы не подписал и поэтому получил срок в пять лет, который давали для отмашки таким вот строптивцам, типа Липницкого, для которых честь была превыше всего. Пусть хоть ноги потом будет таскать, но признать себя «врагом народа, занимавшимся вредительской деятельностью», – нет, на это он никогда не пойдёт…
Полученный им срок в пять лет истекал во время войны и был продлен, как и всем «врагам народа», находящимся в заключении, до конца войны.
В результате Б. Липницкий пробыл в лагерях девять лет.
Но вот – Победа. А с ней и недолгий перерыв на вольное поселение (с 1946 по 1949 год), когда Борис Наумович жил на Украине в городке Ракитино. Он был готов до конца своих дней задержаться в этом заштатном углу. Кругом цветущие фруктовые деревья и работа по его исконной профессии – фотографа, столь желанного для того, чтобы местное население могло запечатлеть на фотоснимках торжественные моменты своей жизни – юбилеи, свадьбы, рождение детей. Приобрести оборудование помог ему старший брат, – он всегда приходил ему на помощь, поддерживая своего младшего, попавшего в беду, материально и морально.
Здесь, в Ракитино, он успел принять свою Рахиль с её детьми, которые для него были все равно что «свои», и подкормить их натуральными деревенскими продуктами в скудные послевоенные годы.
Здесь, наконец, Бориска обрел свое счастье, соединившись с Рахилью, – ведь теперь она была свободна и могла после стольких лет платонического обожания принадлежать ему.
Она решилась на эту поездку, хотя было известно, что в краю орудуют банды недобитых бандеровцев. Они отличались особой жестокостью, нападая на беззащитные деревни, жгли, грабили, убивали, и снова скрывались в лесах. Тревожные сообщения об этих бесчинствах то и дело появлялись в газетах. Но он просил, рвались к нему дети. Её судьба определилась – отныне она была неразрывно связана с ним, и новое чувство закружило Рахиль в своем водовороте.
Но счастье это промелькнуло, как единый миг, – в конце лета Рахиль с детьми должна была возвращаться домой, и потянулись нескончаемые дни ожидания писем – как-то он там один, опять в тоске и разлуке… И Рахиль проливала горькие слёзы, страдая без него в одиночестве… Но худшее было еще впереди.
Вместо мирного существования в Ракитино Борису Наумовичу было приуготовлено совсем другое, – и также пожизненно. В мае 1949 года его, как и многих других бывших заключенных, забирают во второй раз и выносят определение – «бессрочная ссылка» в Сибирь, а точнее в Сиблагерь, Баимское отделение Кемеровской области. Как писал Мандельштам:
Запихай меня лучше как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
В своей книге «Дом поэта» Л. К. Чуковская называет таких людей, как Липницкий, «повторниками», – «потому что их сажали вторично за преступления, не совершенные и впервые».
Видимо, это был простейший способ для «окончательного решения вопроса» с Б. Н. Липницким и великим множеством ему подобных. Сибирь, навечно, – что могло быть надежнее для местонахождения сотен тысяч граждан, попавших под укат тотальных репрессий?!
Рахиль рассказывала мне, что этот его второй арест производился в весьма «гуманной» форме, – Бориске разрешили собраться, и при этом настоятельно советовали: мол-де, берите с собой валенки. Ну ещё бы – ведь его забирали навсегда, а Сибирь, – это вам не курортная зона… (К этому незабываемому эпизоду я еще ниже вернусь.)
И только в 1955 году Липницкий получает реабилитирующую его справку…
Много ли подобных справок приходилось подписывать т. Химичу. И что же выходит?!
Что майор юстиции т. Химич – вестник добра?!
Пересмотр его дела, – так сказать, исправление допущенной в отношении Б. Н. Липницкого ошибки, – последовал в ответ на его «жалобу», в действительности представляющую собой плач (традиционный для русской словесности жанр) Бориса Наумовича по своей загубленной жизни.
Читать этот документ (его копия каким-то чудом сохранилась в семейном архиве) невозможно без слез.
Направляется «жалоба» Генеральному прокурору СССР Руденко Роману Андреевичу и гласит следующее:
«Категорически заявляю, что никогда, нигде, ни прямо, ни косвенно, я никакого отношения к антипартийным или к антигосударственным группировкам не имел… Достаточно беглого ознакомления с моим следственным делом, чтобы убедиться, что выдвинутое против меня обвинение является бездоказанным и произвольным…
Я родился и вырос в трудовой семье… Свою трудовую жизнь я начал в раннем возрасте…
Прошу Вас затребовать мое дело, проверить его, восстановить истину и реабилитировать меня.
Повторяю, я ни в чем не повинен, ни перед партией, ни перед Советским государством.
В своей работе, как и раньше, так и теперь, я всегда руководствовался исключительно интересами партии и Советского государства.
Мне сейчас 65 лет. Прошу дать мне возможность закончить свою жизнрь полноправным гражданином СССР, честно трудящимся на благо нашей Советской родины.
Липницкий.
Едва вырвавшись на волю, Бориска бросается в Москву, к Рахили, и после чуть ли не тридцати лет ожидания получает её в жены. Свою любовь он пронес через все испытания, выпавшие ему на долю, через тюрьмы, допросы, унижения, и вместе с этим чувством к единственной для него женщине на свете, пронес он святую веру в справедливость Советского строя и непогрешимость верховной власти – свою же судьбу считая случайной ошибкой…
И если в разговорах домашних Борис Наумович улавливал малейший скепсис по этому поводу, он одаривал всех нас тяжелым взглядом из-под сдвинутых бровей, полным укора, замыкался в себе и удалялся в свою комнату, и там часами сидел в одиночестве.
Как в капле воды, когда сверкнет луч солнца, иной раз вспыхивают все цвета радуги, так в этой судьбе отразились страдания, лишения, муки, а вместе с тем стоическая приверженность идее коммунизма, которая должна была вывести нашу Родину в светлое будущее, сотен тысяч наших сограждан, о чем написаны также сотни тысяч страниц. Но эта индивидуальная судьба еще и тем отличается от других, что её окрашивает чувство, сравнимое разве что с библейской историей любви Иакова к Рахили.
* * *
История Рахили и Бориски началась еще в Гомеле, когда оба были совсем молодыми. Любовь к Рахили поразила Бориса с первого взгляда, но в это время она была женой Моисея Кагана. Известно, что библейский патриарх Иаков должен был отслужить своему дяде Лавану семь лет, пася овец, чтобы получить в жены Рахиль. Иаков увидел её у колодца и воспылал к ней непреодолимой страстью. Однако хитрый Лаван во время брачного пира подсунул Иакову под покрывалом свою старшую некрасивую дочь Лию, а Рахиль вскоре после этого отдал Иакову в качестве второй жены, но с условием, что Иаков будет батрачить на него даром еще столько же, – то есть семь лет.
Ах, Бориска! Страстно влюбленный в жену своего товарища, покровителя и, можно так сказать, начальника по службе, он должен был долгие годы, как Иаков, довольствоваться ролью близкого друга дома, всегда готового прийти на помощь в трудную минуту и заменить детям собственного отца, перегруженного служебными обязанностями…
Борис Наумович Липницкий 1888 года рождения происходил из бедной семьи и, так и не получив законченного среднего образования, был отдан подмастерьем в провинциальном украинском городке в местное фото-ателье. Он усердно овладевал профессией фотографа и вскоре получил диплом фото-художника и ретушера с повышенной и по тем понятиям вполне приличной зарплатой. Помимо этого, он усиленно занимался самообразованием и пришел к выводу, что наибольшую пользу своему отечеству он может принести, состоя в рядах партии и выполняя её задания. Как сам он пишет в своей автобиографии:
«…по поручению Партии работал на различных хозяйственных участках социалистического строительства», меняя должности, пока не попал в торготдел городской управы Гомеля под начало Моисея Александровича Кагана, бывшего тогда городским головой. Исполнительный, толковый и преданный делу подчиненный сразу же обратил на себя внимание городского головы, и в самом скором времени сотрудничество в одной организации переросло в настоящую дружбу. Моисей Каган, в роли старшего по чину, всячески способствовал продвижению Бориса Липницкого по службе, настаивая на продолжении образования. С подачи Моисея Кагана Липницкий был направлен на двухгодичные торгово-банковские курсы, после окончания которых перед Б. Н. Липницким, верным членом партии, открывалась дорога на руководящие посты. Сначала он был назначен управляющим Восточно-Сибирской краевой конторой Госбанка, вскоре по решению ЦК ВКП(б), – управляющим Северной краевой конторой Госбанка, а затем с 1934–1937 Куйбышевской областной конторой Госбанка.
Когда в 1937 году, на пике своей карьеры, Липницкий был снят со своего высокого поста, брошен в тюрьму, а потом отправлен в ссылку, он, конечно, не мог предположить, что путь к восстановлению справедливости затянется на долгие годы. И что вся его тюремно-лагерно-ссыльная эпопея продлится восемнадцать лет…
Все это время он оставался формально холостым, однако в душе своей был связан нерасторжимыми узами со своей единственной и незаменимой Любовью, считая семью Рахили – своей семьей, и её детей – «своими» детьми. Когда он был на свободе, он появлялся в доме Каганов, как только представлялась возможность вырваться с работы хотя бы на несколько дней, и в их семье начинался праздник. Старшие дети Рахили – Боба, родившийся в 1918 году, и Лена, родившаяся через год, в 1919 году, кидались к нему навстречу и висли на Бориске, предвкушая какие-то невероятно интересные походы, например в зоопарк с непременным мороженым «Эскимо» на палочке, или просто прогулкой к стадиону «Динамо». Младший Юра, родившийся через десять лет, в 1928 году, также застал сложившуюся ситуацию, когда, кроме отца с матерью, был еще Бориска, которого он знал с малолетства и считал его своим родным. А как же иначе! Борис Наумович забирал его, младенца, с Рахилью, тяжело перенесшей эти её последние роды, из роддома, заменяя отца, занятого в тот момент неотложной работой.
Детские воспоминания Юры рисуют ему трогательную картину – вот в прихожую, такой неловкий, наголо обритый, в вышитой, возможно его собственными руками украинской рубашке, немного сумрачный, как-то боком протискивается Бориска и мать, оживленная и принаряженная, вылетает к нему из своей комнаты:
– Ой, Бориска, вечно ты со своими подарками! – лепечет она с напускным возмущением, кидая на него пламенные взгляды и разворачивая очередную шаль или принимая корзину с фруктами.
При этом щечки её вспыхивали яркой краской польщенного самолюбия и гордости – все же в этом мире кто-то по сию пору ценит её неотразимую красоту, – недаром же она получила в Санкт-Петербурге на выпускном балу первый приз! А вместе с ним и обещание усыпанного розами пути женской судьбы…
Однако бодрость Рахили длится недолго. Накал эмоций почти ощутимо сгущается в атмосфере дома, как надвигающаяся гроза, и окончательно подкашивает её силы. И Рахиль, рухнув в постель с сильнейшей мигренью, лежит с полуприкрытыми глазами, между тем как Бориска, застыв в скорбной позе, часами не отходит от постели, тяжко вздыхая и временами поглаживая её слабую руку. Он ей ничего не говорит, и только его умоляющие взгляды, устремленные на неё, свидетельствуют о той буре чувств, которая творится в его душе. Отец семейства в это время допоздна задерживался в своем финансовом Главке, а возможно, и где-то ещё…
К каким только ухищрениям не прибегала Рахиль, чтобы возбудить ревность в своем муже: она принималась примерять перед зеркалом новую шляпку с вуалью, подкрашивать в передней губки, как будто бы собиралась на какую-то якобы назначенную встречу, – все было напрасно, Моисей Александрович оставался глух ко всем её стараниям. Да и к кому, скажите на милость, испытывать столь пошлые чувства, как ревность, – к своему старинному товарищу, фанатично преданному его семье и детям?! Что же делать, раз он остался одинок и они для него, как родные? Нет, до этого он ещё не дошел, пусть всё остается, как есть…
В конце жизни любовь Бориски к Рахили, внушенная ему из каких-то высших сфер, обрела законную форму. Но для этого в их судьбу должны были вмешаться глобальные катаклизмы, подготовленные самой Историей.
* * *
А пока что, перед войной, в доме на Ленинградском шоссе текла повседневная жизнь. Старшие дети определялись до войны с высшим образованием. Боба поступил в Московский энергетический институт по специальности «Автоматика», а Лена, начавшая рано писать, в ИФЛИ.
Младший Юрка учился в школе и не помнил такого случая, чтобы кто-нибудь из его родителей когда-нибудь показался в школе. Этот способный ребенок очень часто ставил в тупик свою мать, поскольку на вопросы знакомых о том, в каком классе учится сейчас младший сын, Рахиль с ответом затруднялась. Все дело в том, что этот шустрый мальчишка абсолютно самостоятельно справлялся со своими занятиями в школе и перескочил из первого класса сразу в третий. Так что мать, по горло занятая своими заботами, уже сбилась со счета, в какой именно класс он ходит теперь?! Он успевал всё на свете, был страстным болельщиком команды «Динамо» и часто бегал на стадион, – благо они жили рядом. Денег на билеты мать ему, разумеется, не давала, но среди посетителей футбольных матчей всегда находился кто-то отзывчивый, и для этого «отзывчивого» слова: «Дяденька, проведи!» действовали, как своеобразный пароль, – видно, парнишка тоже из настоящих болельщиков, а своим надо помогать! И «дяденька», взяв Юрку за руку, проводил его на стадион, а там уж можно было как-то устроиться и всласть поболеть за свою команду.
Ю. Каган и по сей день является футбольным болельщиком и, наблюдая за ним, постоянно вскрикивающим перед телевизором, я думаю про себя, сколько же детского должно остаться в человеке, чтобы с такой страстью переживать за этих здоровенных парней, гоняющих по полю мяч. «Ну, бей!», «Давай быстрее!», «Куда ты бьешь, не видишь, что ли!» – то и дело доносятся ко мне на кухню возбужденные возгласы. При этом проигрыш любимой команды приводит к истинному расстройству и долгому разбору полётов с жестикуляцией и вздохами.
Однажды мне пришлось наблюдать за этим «болельщиком» на стадионе. В компании академика Ильи Михайловича Лифшица и его жены Зои, моей подруги, мы находились в Киеве, где проходила конференция по физике. Скорее всего это было в начале семидесятых годов. И вот объявление – завтра состоится какой-то выдающийся матч. Ну, Юра, конечно, весь затрепетал и стал нас уговаривать купить, пока не поздно, билеты и идти на матч. Мы с Зоей значительно переглянулись, – нам этот поход сулил захватывающее зрелище. И не потому, что мы болельщики, в футболе мы с ней исключительные профаны. Нам было интересно посмотреть на наших мужей в такой непривычной обстановке. Илья Михайлович просто опешил от столь странного предложения. Его спортивные занятия ограничивались собиранием марок, – на разные аукционы он готов был мчаться на другой конец Москвы и там приобретать все самое интересное. Он был филателист международного масштаба и неоднократным победителем в общесоюзных соревнованиях частных коллекционеров. Но всякие там пешие походы с рюкзаком, туризм и даже пребывание с семьей на подмосковной даче, – все это было для него глубоко чуждо. Городской обитатель, типичный интеллектуал, он предпочитал своё жизненное пространство ограничить заасфальтированным тротуаром, а в общении – московской творческой элитой. Знаменитый академик, он не так давно переехал из Харькова в Москву и занял в научном мире подобающее ему место. И тут вдруг обнаруживается, что у его младшего коллеги и соавтора по недавно опубликованной работе, посвященной одной актуальной проблеме современной теоретической физики, имеется столь низменное увлечение, как футбол. Илья Михайлович с недоумением взглянул на Юру, – но тот был непреклонен.
– Для вас это экзотика, Илья Михайлович! А вы сами любите парадоксы в науке!
Одним словом, назавтра мы оказались на стадионе. Вокруг взъерошенная публика, и наша группа, в особенности мужчины, была, как инородное тело в общей массе.
– Ну, ты тут за кого? – подтолкнул под локоть Лифшица кто-то сидящий справа. Нас с Зоей наши мужчины предусмотрительно посадили между собой посередине.
– Да я, наверное, за наших! – находчиво ответил Лифшиц и сразу же вошел в доверие своего соседа, который отныне с ним объединился и уже до самого окончания матча «болел» с ним вместе. Это был мужчина средних лет, по виду рабочий, общительный и добродушный, готовый взять этого новичка, сразу видать, интеллигента, под свое покровительство, чтобы и он нормально отдохнул на стадионе. Прежде всего сосед предложил Лифшицу немного отхлебнуть «из горла» и протянул ему початую бутылку, но тот отказался, выразительно показав большим пальцем на жену, «мол-де, ты-то один, вырвался на волю, а моя тут со мной рядом». Однако в остальном у них установилось полное согласие и через некоторое время они уже в один голос орали, так что звенело в ушах: «идиот!», «лопух!» и все такое прочее. Между тем Юра братался со своим соседом слева, молодым парнишкой, которому он что-то с невероятной яростью доказывал, размахивая руками и не отрывая в то же время глаз от футбольного поля. В самые критические моменты мой муж вскакивал с места, и они с этим парнишкой, стоя, бурно выражали свой восторг или, напротив того, возмущение, находя поддержку в окружающей публике.
На нас с Зоей никто не обращал ни малейшего внимания, и мы, сознавая всю свою никчёмность, с большим любопытством наблюдали за своими мужьями, – а мы-то думали, что, прожив с ними в тесном общении довольно много лет, мы их неплохо узнали. И вот вам, пожалуйста! Все-таки внутренний мир человеческой личности, видимо, область неведомая, непознаваемая и безграничная.
* * *
Было у школьника Юры Кагана и еще одно увлечение – шахматы. Он посещал известный клуб «Крылья Советов» и занимался в шахматной секции для подростков, которых тренировали мастера спорта, а иной раз показательные уроки давали и гроссмейстеры. Огромным событием для шестиклассника Юры Кагана стал «Матч-турнир шести» на звание абсолютного чемпиона СССР, состоявшийся в марте-апреле 1941 года. Все дело в том, что Юру, как одного из самых активных ребят, посещавших шахматную секцию, в качестве поощрения выдвинули волонтёром присутствовать на матче, где ему давалось «важное» поручение – подготавливать доски для сеансов одновременной игры, передвигать специальной указкой фигуры на демонстрационной шахматной доске. Матч проходил в Доме Союзов по вечерам, и родители отпускали туда своего сына с условием, что он днем два часа будет спать. Юра это условие добросовестно выполнял и, окрыленный, мчался в переполненный публикой Дом Союзов. Билетов в кассе, естественно, нет – а у него был туда пропуск, и он, конечно, страстно болел за Ботвинника. В матче участвовали ведущие гроссмейстеры: М. Ботвинник, П. Керес, В. Смыслов, Н. Бондаревский, И. Болеславский, А. Лилиенталь. Юра следил за каждым движением руки Ботвинника. Очередной ход, – и Юра замирал в ожидании. Куда Ботвинник двинет фигуру? Неужели он угадал?
Но вот близость победы! И вот – мат. Ура! Ботвинник выиграл. Он абсолютный чемпион СССР. Юра до сих пор помнит свои переживания, свое волнение и свой восторг, когда победа состоялась!
К сожалению, война прервала это увлечение. И вместо спортивных занятий, тренировок, показательных игр и соревнований ему предстояло пережить полное лишений военное детство с бомбёжками, ночёвками на рельсах в метро, эвакуацией, похоронным извещением и жесточайшим недоеданием.
Но шахматы навсегда остались для Ю. Кагана любимой игрой… Игрой?! А может быть, умственным разогревом, тренировкой для мозгов?! Во всяком случае, мой муж всегда не прочь был сразиться в шахматы с нашим сыном Максимом, а вот теперь уже и с внуком Сашей!
В своей большой семье Юра рос как-то наотшибе. Отец, по обыкновению сталинских времен, приходил домой после полуночи, и вообще своего младшего сына не видел, – ночью Юрка уже спал, а утром убегал в школу. Не то чтобы чем-нибудь с сыном заняться, отец с ним иной раз и поговорить не успевал. Хотя во время традиционных воскресных прогулок иной раз начинал о чем-нибудь расспрашивать. Большей частью во исполнение своего отцовского долга, конечно, про учебу. Как правило, интерес Моисея Александровича к сыну не выходил за рамки типично родительского вопроса:
– Ну, как там у тебя в школе дела?
На этот вопрос следовал столь же тривиальный ответ:
– Да вроде всё в порядке, – на этом они снова расставались, так ничего, по сути, друг о друге и не узнав.
Отцовская нежность и любовь пришли к Моисею Александровичу много позже, когда они давно уже были в разводе с Рахилью, а Юра был взрослым человеком. При виде Юры он весь расплывался в блаженной улыбке, не сходившей у него с лица все время, пока мы сидели у них с Беллой Григорьевной в гостях. Возможно, это было запоздалое раскаяние, что он пропустил без внимания детство своего младшего сына и к тому же бросил семью в начале рокового сорок первого года, предоставив им с Рахилью самим выбираться, как знают, из трудностей военного лихолетья. Уходя из дома к новой жене, Моисей Александрович сказал своей дочери Лене: библиотеку я хотел бы передать Юре. Все-таки считал себя перед ним виноватым. Библиотека так и осталась в квартире на Ленинградском шоссе. Но когда Юра уезжал в далекий город «Сингапур 44» (так его тогда шутливо называли), на Урал, отец проявил о нем заботу и купил ему синее стёганое одеяло. Этим одеялом Юра пользовался все шесть лет, проведённых на объекте, и, укрываясь им, вспоминал своего отца.
Почему-то одеяло играло символическую роль в семье Каганов. Но об этом речь впереди.
Старшие брат и сестра были поглощены своей интенсивной жизнью, – тут и учеба, и ранние влюблённости. До того ли им было, чтобы обращать внимание на младшего братишку, который вечно крутился под ногами и жаждал добиться от них какого-нибудь дружеского участия. Боба был женат, а Лена, выйдя замуж за поэта Павла Когана, уже и родила. В связи с этим юношеским браком дом наводнили такие же молодые, как её муж Павел, начинающие поэты и прозаики, пока еще нигде не печатающиеся и на ежедневных шумных сборищах читавшие друг другу свои новые произведения. Тут собирались будущие звезды послевоенной поэзии, – Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов. Школьник Юрка проскальзывал в пятиметровую каморку при кухне, куда набивались друзья Павла, чтобы никому из домашних не мешать, и жадно слушал их споры, рассуждения, стихи.
Образ Павла Когана целиком овладел воображением подростка. Теперь, женившись на Лене, он переехал от своих родителей к ним, на Ленинградское шоссе, и Юра мог наблюдать его в повседневной жизни.
Судьба Павла Когана, как вспышка молнии, прочертила на горизонте яркий след, – этот след по сию пору горит в сознании людей. Безудержный мечтатель, в своих стихах он уносился в просторы космоса, – «сквозь вечность кинутые дороги,/ сквозь время брошенные мостки»; и в дальние края, – «но мы еще дойдем до Ганга»; и уплывал в синюю даль флибустьерских морей… Когда они поженились с его Еленой, «как Парис в старину, / ухожу за своею Еленой…/ Осень бродит по скверам/ по надеждам моим, по пескам…», у них, кроме этой самой «надежды» и таланта, и правда не было за плечами ничего, – но какой еще может быть багаж у столь юной пары, какой они были в то время. В декабре 1940 года, не ведая о том, что это злое пророчество коснется его собственной участи и что жить ему осталось меньше двух лет, Павел пишет о своем поколении:
В десять лет мечтатели, В четырнадцать – поэты и урки, В двадцать пять — Внесенные в смертные реляции.Он пошел на фронт добровольцем, как только разразилась война, о чем свидетельствует следующая выписка:
«Из приказа № 171 от 10.10. 41 г. По Литературному Институту.
№ 6
Студента 4-го курса КОГАНА П. Д. числить в отпуске до возвращения из Красной Армии.
Директор Института – Г. Федосеев. Зав. Секретариатом – неразборчиво».– Бедный, бедный мальчик! – вздыхала Рахиль, горюя о безвременной смерти поэта. – Такой молодой и красивый. Совсем не успел пожить. А ему так всего хотелось… И девочка крошечная осталась.
Сейчас, конечно, невозможно было и словом обмолвиться о прежнем отношении Рахили к этому раннему браку. Они как будто бы спешили взять от этой жизни все с опережением. Но сейчас можно было только вспоминать и скорбеть. И Рахиль, погруженная в свои невеселые мысли, вынимала платок и, утирая невольные слезы, долго молча сидела, качая головой. Упрекала ли она себя? Кто знает.
Но может быть, все-таки и на его долю выпало счастье – писать стихи, любить, стать отцом, услышать писк ребенка. В поэзию П. Когана врывается новая струя, – повседневная жизнь, со всей её требовательной суровостью. Взрослеют юные поэты, и в их стихах появляются такие мотивы:
Этот год перезяб, Этот год перемёрз до предела. В этот год по утрам Нам с тобою рубля не хватало, Чтоб девчонке купить молока, Чтоб купить папирос. Ты снимала с ресниц Подозрительные кристаллы, И, когда не писалось, Примерзало к бумаге перо.Перед школьником Юрой образ Павла представал исключительно в романтическом ореоле.
Черноволосый красавец, порывистый, восторженный, он сознательно формировал свой имидж вожака и уже тогда ходил с татуировкой в знак протеста против какого бы то ни было официоза во внешнем виде и даже носил с собой финку. Он увлекал за собой в романтику, в мечту, в отрыв от будничной жизни:
Пьем за яростных, за непокорных, За презревших грошевый уют. Бьется по ветру веселый Роджер, Люди Флинта песенку поют.Пятиметровая каморка, вмещавшая в себя столько разнообразных талантов, единодушно признавала за Павлом Коганом безусловное лидерство поэта-трибуна, пока еще не вырвавшегося на просторы широкой известности, но, конечно, одаренного свыше несравненно более щедро, чем все остальные, а потому сейчас, вот здесь перед ними, стоящего на пороге Славы. Несколько поколений молодежи, жаждавшей возвышенных подвигов, бредило его стихами:
И в беде, и в радости, и в горе, Только чуточку прикрой глаза — В флибустьерском, в дальнем море Бригантина поднимает паруса…Никто тогда, перед войной, не знал, что Слава действительно придет к Поэту, однако посмертно. Ему не суждено было увидеть ни одной строчки своих напечатанных стихов, все сборники стали выходить потом, после его ранней гибели. Никто не мог знать и того, что Павел может увлечь за собой не только в романтику и мечту, но и героически закончит свою невероятно короткую жизнь «верный воинской присяге», как сказано в похоронном извещении, и будет погребен на той же сопке «Сахарная», где попал под обстрел. Он сам вызвался идти в разведку, и там, где надо было ползти, шёл в полный рост. Потому что ползать не умел.
Это случилось 23 сентября 1942 года под Новороссийском. И на щите над высокой грудой камней надпись: «Автору песни «Бригантина» Павлу Когану».
Еще раньше он писал:
Если я умру этой синей порой. Ты меня пойдешь провожать?Иногда Юрка болел, и тогда в Рахили взыгрывали с новой силой материнские инстинкты, призывавшие её спасать своего ребенка. Она действовала немедленно, все бросала и принималась лечить по своему разумению. Эта отзывчивость к заболеваниям, надо отдать ей должное, была одной из сильнейших свойств натуры моей свекрови Рахили. Она вся преображалась и, вооружившись мужеством и терпением, обходила все торговые точки вокруг Белорусского вокзала, пока ей не удавалось достать импортную курицу в целлофановой обложке. Вернувшись домой со своим трофеем, Рахиль сейчас же начинала готовить из этой слегка уже посиневшей курицы бульон, который должен был, по её мнению, послужить вернейшим средством излечения при любом заболевании. Приходилось признавать, что так оно и было, – под воздействием съеденного бульона и самой вареной курятины больной вскоре поправлялся, и этот акт самопожертвования со стороны Рахили долго еще вспоминался и самим поправившимся больным, и всеми домашними… И жизнь в квартире на Ленинградском шоссе входила в нормальное русло.
Однако же ненадолго. Через два-три дня на пороге квартиры появлялась заплаканная соседка. У неё несчастье – дети разводятся. Что же будет с малолетними внуками?! А сама она страдает сильнейшей бессонницей и нервным расстройством. Рахиль приглашала соседку к себе, поила её неизменным чаем и часами вела с ней успокоительную беседу, пока соседка, снабженная длинным списком всяческих целебных трав, которые следовало закупить в аптеке и потом заваривать по указанному в записке рецепту, заметно приободрившись, не отправлялась домой. Сама Рахиль после этих визитов в полнейшем изнеможении до всякого ужина закрывалась в своей комнате и укладывалась в постель, благо о семье могла позаботиться верная домработница тётя Мотя.
Надо сказать, среди окружавших её людей и в городе, и на даче в Дорохово Рахиль, как советчица и целитель, пользовалась непререкаемым авторитетом, а её снадобья – отвары, настойки и примочки, которые она рекомендовала своим многочисленным пациентам, действовали безотказно. По этому поводу в доме всегда водились коробочки конфет или какого-нибудь дефицитного печенья, которые ей приносили в качестве заслуженного гонорара.
* * *
Война ворвалась в жизнь семьи на Ленинградском шоссе, и в мгновение ока её мирное течение было прервано.
При этом вместе с началом войны на мою свекровь Рахиль обрушилась личная трагедия. Моисей Александрович, со своей обезоруживающей улыбкой и ясным взглядом голубых глаз, бросил семью и соединился с его новой женой Беллой Григорьевной, – как говорится, нашел подходящее время и место. Борис Наумович находился в ссылке. Лена добровольцем ушла на фронт, Боба в это время также был призван в действующую армию и пока еще не был отозван на военный завод, где потом работал до конца войны.
Рахиль с Юрой каждый раз при очередной бомбежке спасались в метро на станции «Белорусская». Вскоре было принято решение всех детей вывезти за пределы столицы.
И Юру вместе со школой отправляют в один из подмосковных совхозов, так сказать, на трудовой фронт. В это время он учился в шестом классе. В совхозе подростки работали на подсобных работах – прополка, связывание сена в снопы, сбор травы тимофеевка на корм скоту.
Очень скоро начались серьезные проблемы. Кормежка, которую совхоз мог предоставить юным труженикам тыла, была для них категорически недостаточной. Тринадцати-четырнадцатилетние подростки испытывали сильнейший голод. Юра писал домой, своим родным, отчаянные письма.
«…У меня все ничего, но только тут неважно кормят… Если можно, пришлите хотя бы немного сухарей…»
«…Я здоров, но с едой тут неважно. Не могли бы вы прислать мне немного денег, потому что тут можно кое-что из продуктов купить?»
Эти слезные мольбы странным образом остаются без ответа, хотя сохранившиеся листки, вырванные из школьной тетрадки, неопровержимым образом свидетельствуют о том, что до адресатов они доходили.
…Мы с моим мужем прожили вместе больше пятидесяти лет, но у меня при чтении этих писем ком подкатывается к горлу, и я совсем по-детски начинаю всхлипывать и переживать давно прошедшее, – как это так получилось, что никто из этой большой семьи не кинулся ему на выручку? А я была от него так далеко, и вообще ничего не знала о его существовании…
«Голод» – моей бабушке, Татьяне Никаноровне, это ужасное слово было знакомо с 1922 года, когда жесточайший голод охватил все Поволжье. Её муж, Иван Иванович Лебедев, из Костромы, где они жили, на пароходе решил добраться до Нижнего Новгорода в надежде раздобыть там что-нибудь из продуктов. По дороге он заразился сыпным тифом и умер, и моя бабушка больше своего Ивана так никогда и не видела, не знала, где он похоронен, и есть ли у него вообще могила…
Моя дорогая, любимая бабушка! Какие героические усилия пришлось ей приложить, чтобы в те годы жуткой бескормицы выжить, сберечь своих детей, отваривая им картошку, выкопанную на поле после сбора урожая, а самой при этом питаться очистками…
Оставшись молодой вдовой, моя бабушка так больше замуж и не вышла, хотя, судя по дошедшим до нас фотографиям, в то время была еще очень привлекательной, и к ней сватались многие. Всю свою оставшуюся жизнь она посвятила нашей семье – сначала растила меня, свою Танюшку, как она меня называла, потом моего брата Андрюшу, и у неё еще достало сил вынянчить и довести до школьного возраста нашего сына Максима, и отдать ему последнее тепло своего сердца.
И вот голод снова стучит в наши двери. Из осажденного Ленинграда до нас доходят сведения о том, что близкие друзья моих родителей, Лев Левин и семья Иосифа Гринберга, находятся в последней стадии истощения и погибают от дистрофии. Мой отец по заданию Совинформбюро вылетел в осаждённый Ленинград и сумел каким-то образом организовать эвакуацию нескольких писательских семейств. Не знаю, на чем и как их вывозили из замерзающего Ленинграда в феврале 1942 года, однако в марте они уже были в Ташкенте, и первое время семья Гринбергов жила в нашей квартире вместе с нами. Как я понимаю, это было серьёзное испытание для мамы и бабушки. Жена Гринберга, Лариса, и её мать Ольга Онфилохиевна не так пострадали от голода, как сам Иосиф Гринберг, в литературных кругах известный, как добросовестный и справедливый критик, к оценкам которого с уважением относилась общественность. Катастрофически похудев, этот ранее полный, добродушный человек был совсем не похож на прежнего неутомимого балагура, – он постоянно сыпал остротами, и сам же первый начинал над ними смеяться своим характерным дробным смехом, от чего колыхалось все его дородное тело. Теперь ему было не до шуток, – он долго ещё не мог избавиться от навязчивой потребности делать запасы еды, потихоньку рассовывая куски по карманам, а по ночам прокрадываясь на кухню в поисках чего-нибудь съестного. Мы отводили глаза, боясь застать его на месте преступления и тем самым еще больше травмировать его психику. Моя бабушка нарочно стала «забывать» что-нибудь из еды на кухонном столе, чтобы помочь ему в его поисках…
Помню, с каким испугом наблюдала я за страданиями этих измученных голодом людей.
С видимыми усилиями воли стараясь сдержать за столом свой аппетит, они припадали к тарелкам, но что могла предложить им моя бабушка, кроме сугубо постного подобия настоящего обеда, который она умудрялась ежедневно готовить?
Сама я голода не испытывала, – худенькая, как тростинка, я вполне могла бы довольствоваться местными персиками – самым популярным товаром знаменитого ташкентского Алайского базара – плоские, сочные и сладкие, каких никогда и нигде я больше не ела, они могли бы составить мой рацион на весь день, если бы бабушка не стояла над душой с какой-нибудь кашей или супом. Но вот в один прекрасный день все изменилось. Это было уже в Москве, куда мы вернулись из Ташкента в феврале 1943 года. Помню, мне вдруг ужасно захотелось есть, и из каких-то дальних кладовых моей памяти вдруг выплыл соблазнительный бутерброд с любительской колбасой – но где её было взять?! Мы все уповали тогда на американскую тушенку из гуманитарной помощи, которую мой отец привозил из очередной поездки на фронт, куда он регулярно выезжал по заданию Совинформбюро и привозил оттуда паёк командировочного. Запах этой жареной тушенки до сих пор ассоциируется в моем сознании с праздником жизни. Вот что достойно быть воспетым в торжественной оде – Тушенка из американской гуманитарной помощи, приходившая к нам из-за океана!
Рахиль с Юрой были в это время в эвакуации в городе Бугуруслане. Там им пришлось нелегко. По счастью, Рахиль получила должность санитарного городского врача, – это была высшая точка медицинской карьеры моей свекрови. Теперь она могла в своей столовке подкармливать недоедающего сына. В столовке давали похлебку с куском суррогатного хлеба, обладавшего странным свойством оставлять человека голодным, какую-нибудь жидкую кашу и стакан несладкого чая…
Вечером, ложась в кровать, Юра предавался несбыточным мечтам: «Был бы у меня настоящий хлеб и чай с сахаром, – а больше мне ничего и не надо», и с этими мыслями засыпал.
Военные годы лишений не прошли для него бесследно. По росту Юра недотянул до своего старшего брата и даже до сестры, правда, постарался не разочаровывать их во всем остальном.
Деятельность Рахили Соломоновны на поприще городского врача, ответственного за санитарное состояние подведомственных учреждений, была оценена по достоинству, и она получила грамоту и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Рахиль очень гордилась этой наградой и в праздничные дни прикалывала медаль на грудь пониже кружевного воротничка, так удачно оттеняющего свежесть её лица.
Вскоре Борис Каган, понимая, что мать и младший брат находятся в критическом положении, вызвал их в Москву и устроил Юру к себе на военный завод, где он стал получать рабочую карточку. Параллельно он учился в школе рабочей молодежи. Летом 1944 года Юра был откомандирован на подготовительное отделение Московского авиационного института. Сдав экзамены экстерном за десятый класс, он осенью 1944 года поступил на первый курс этого института.
Близился конец войны. Рахиль работала сестрой-хозяйкой в больнице. И вот свершилось главное – Лена, героически пройдя весь путь войны в прямом смысле слова от Москвы до Берлина, целая и невредимая, осенью 1945 года вернулась домой. Она была переполнена впечатлениями своей фронтовой эпопеи, и уже первые опыты её рассказов свидетельствовали о том, что Елена Ржевская – псевдоним, который она взяла после тяжелейших боев под Ржевом, – войдет в историю русской прозы, как летописец Великой Отечественной войны.
У них в семье с её мужем Исааком Крамовым, за которого она вышла замуж вскоре после возвращения с фронта, было решено – Лена садится писать свою военную Одиссею, а Изя, как все его звали, поступает работать в журнал или издательство.
Конечно, это было разумное решение – у Лены уникальный опыт непосредственной участницы войны. А Изе, который в своем кругу профессиональных литераторов считался экспертом по установлению той самой невидимой планки, отделяющей все подлинное от фальшивки, с его уникальным талантом общения, казалось бы, сам Бог велел заведовать отделом прозы в солидной московской редакции, – определять направление литературного процесса, открывать и поддерживать таланты. Однако ничего подобного с ним не произошло. Все эти радужные семейные планы разбивались о бетонную стену отказа, как только дело доходило до его «пятого пункта». Выяснялось, что отделы кадров крепко держали оборону, не давая возможности «сионистскому влиянию» проникнуть в идеологическую сферу советской действительности, каковыми, несомненно, были литература, журналистика, изобразительное искусство, музыка, а также архитектура, кино, театр, радио, телевидение и пр.
Так, Изя Крамов, если оценивать жизненный успех мерками обывательского благополучия, оказался на обочине, вынужденный довольствоваться неверными гонорарами, быть постоянно в долгах и с нервотрепкой пробивать каждую новую публикацию. А тут еще болезнь, туберкулез. Предстояло удаление легкого.
Да и у Лены дела обстояли не лучше. Она закончила ИФЛИ, но с публикацией первых литературных опытов пока не получалось. Чаще всего окончательный вердикт очередного журнала, в который она приносила свою рукопись, гласил: «К сожалению, Ваша повесть редакцию не заинтересовала».
Надо было искать какой-то выход. Семья задыхалась в финансовой блокаде, – необходимо было всеми правдами и неправдами добывать для Изи невероятно дорогой по тем временам пенициллин, заботиться о подрастающей Олечке, поддерживать родителей Павла. И Лена решила: ну, ладно, раз Изю на работу не берут, я сама пойду на какую-нибудь штатную должность. Всё-таки участница Великой Отечественной войны, должна же фронтовая биография произвести на людей впечатление. По свидетельству дочери писательницы, Ольги Павловны, её мать заполнила 28 (двадцать восемь) анкет в разнообразные органы печати и литературные редакции, однако везде получила отказ. Вот так-то, Елена Моисеевна, – вам тоже никакого снисхождения не будет!
Все эти мытарства её первых шагов в литературе, как и вообще в послевоенной действительности, подробно описаны в книге Елены Ржевской «За плечами ХХ век». Они продолжались до тех самых пор, пока Твардовский в «Новом мире» в 1958 году не опубликовал её повесть «Спустя много лет», после чего Елена Ржевская стала знаменитым автором, каждую новую публикацию которого с нетерпением ждали читатели.
Посреди всех этих домашних невзгод моя свекровь Рахиль порхала помолодевшая и оживленная. Ещё бы: в городке Ракитино на Украине с пылкими чувствами её ждал к себе Бориска.
И при одной только мысли о скорой встрече щечки Рахили вспыхивали румянцем, а глазки начинали блестеть. Стоял май 1949 года, на дворе весна, и Рахиль уже собиралась к нему, как вдруг на неё обрушился новый удар.
Из Ракитино дошли сведения о том, что Бориску забрали и увезли неизвестно куда. Сказали только – в Сибирь, навечно. От него никаких вестей не было. Это что же, – без права переписки?
А как же обещание безоблачной женской судьбы, и путь, усыпанной розами? Ведь все это подтверждено в грамоте, полученной ею на Санкт-Петербургском балу! Однако пока что на этом пути мою свекровь Рахиль ждали одни шипы.
Как раз в это время Юра с отличием закончил МИФИ и, сдав неформальные экзамены академику Ландау, был приглашен к нему в аспирантуру. Но вместо этого, как я уже писала раньше, его распределили на закрытый объект по названию «Свердловск-44», входивший в огромную монополию Атомного проекта, и потому строго засекреченный.
Перед отъездом он сдал вступительные экзамены в заочную аспирантуру, но на все просьбы Ландау зачислить в неё Юрия Кагана последовал категорический отказ.
Дом на Ленинградском шоссе погрузился во мрак.
Рахиль метнулась в Ракитино. Однако ничего там толком не узнала, а в Москве навести справки о местопребывании Бориса Наумовича нигде не удавалось. Рахиль простаивала в бесконечных очередях к заветным окошкам, и все домашние замирали в ожидании, – может быть, на этот раз ей что-нибудь скажут?! Ведь не может пропасть человек в безвестности и мраке, как будто бы его и не было совсем?!
Лена то и дело подбегала к дверям, – не идет ли мать. Наконец, Рахиль появлялась, – изможденная, постаревшая, коса кое-как замотана сзади узлом. Они с Леной кидались друг другу в объятия и так безмолвно стояли в передней.
– Ничего?!
– Ничего.
И снова молчание. Но какими словами могли они выразить свои чувства? Сердце сжималось от жалости к Бориске, – такой большой и сильный, но что он может сделать против беспощадного деспотизма, против этого Молоха, пожирающего собственных детей… И каких детей, – самых верных и преданных.
«А мать, – думала Лена, поглаживая волнистые волосы Рахили и не зная, чем можно утешить её, растерянную и беспомощную, – за что посылает ей судьба такие мучения?!»
За свое счастье Рахили приходилось платить очень высокую цену.
«Где он теперь, – и днем и ночью изводила её одна и та же неотступная мысль. – Жив или нет?»
И вдруг – в почтовом ящике записка, – нацарапана карандашом на какой-то оберточной бумаге, но почерк, несомненно, его: «Сиблагерь, Баимское отделение, Кемеровская область, жду, приезжай, Б.».
Такие истории бывают лишь в романах, и сейчас вообразить себе, что моя свекровь Рахиль, изнеженная и совершенно непрактичная, из домашнего уюта и тепла, скрытно от сыновей, чтобы не повредила им связь матери с репрессированным, ринулась в эту поездку по адресу «на деревню дедушке», просто невозможно. Но она решилась.
Лена была посвящена в эту тайну. С одной стороны она всей душой сочувствовала матери в её любви к Бориске. Но как отпустить её одну в эту неизвестность и даль… Они долго, шушукаясь, обсуждали, как лучше всего ей снарядиться в дорогу, чтобы ничем не привлекать к себе внимания окружающих. И вот собрали все необходимое, – поношенное старое пальтишко, коса замотана сзади узлом, на голове платок. В руках чемоданчик, – тот самый, с которым Лена вернулась с фронта. Постарались набрать кое-какие продукты. Теперь оставалось уповать на везение, на какую-то счастливую звезду, покровительницу всех влюбленных…
Самое поразительное заключается в том, что это свидание состоялось. Он жил тогда в зоне, и лагерное начальство, разжалобившись (бывает же такое!), выделило им, не имеющим штампа в паспорте, какую-то отдельную клетушку, с условием, что постель Бориска перетащит из своего барака, а его дневное довольствие они будут делить пополам. И он перетащил из своего барака подушку, а также суровое одеяло, в головах которого невесть где раздобытой красной пряжей было вышито имя – «Рахиль». Они прожили так около трех недель, и эти три недели и были тем временем, которые отвела им судьба для любви, пока его окончательно не отпустили на свободу в 1955 году.
Эту поездку в неведомый Сиблагерь, по следам декабристок, моя свекровь даже и потом, по прошествии многих лет, когда мы в её комнате мирно пили чай, а Бориска сидел тут же неподалеку на кухне, занятый своими делами, старалась не вспоминать, – можно представить себе, что пришлось ей перенести, чтобы до него добраться и увидеть эту вышитую на его одеяле красную надпись: «Рахиль»…
И снова одеяло вплетется в летопись рода Каганов.
У меня есть цветная фотография в альбоме. На зелёной траве голубое стёганое одеяло, и по нему ползает внук Сашка. А теперь Сашка вырос, ему пятнадцать лет и рост у него метр восемьдесят пять сантиметров. Так что голубое стёганое одеяло стало ему коротко, но я с ним расстаться не могу. Держу его в доме. Сашка, Сашка, пожалуйста, не забывай голубое стёганое одеяло!
Бориска и Рахиль после всего пережитого наслаждались тихой семейной жизнью. Временами из их комнаты, особенно под вечер, доносился возглас: «Ой, Бориска, отстань!» Слышно было, как что-то там с грохотом падало, похоже было, что это стул, нечаянно задетый ею, пока она бегала вокруг стола, стараясь от него увернуться. Но вскоре все затихало, и мы с Юрой переглядывались друг с другом.
И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал.В наших чаепитиях Бориска никогда участия не принимал. При своей деликатности боялся, Боже упаси, быть навязчивым, да к тому же на кухне у него всегда были дела. То какая-нибудь мелкая починка, например тапки подшить. То затевалась генеральная чистка нашей допотопной утвари и её с помощью песка, принесенного со двора из детской песочницы, надраивали так, что она, давно уже отслужившая свой век, снова начинала сверкать боками. Печальный опыт одинокой жизни оказался полезным ему и в Москве.
Бывали у Бориса Наумовича и моменты торжества. Так, в 1955 году он был восстановлен в партии, в которую вступил в 1920 году, и теперь гордо носил имя «старого большевика». Его автобиография красноречиво свидетельствует о том, с каким энтузиазмом трудился он, по его выражению, «на различных участках социалистического строительства», а именно:
«В 1918–1922 гг. – зам. зав. Гомельским Губкоммунотделом и зав. Торготделом.
В 1922–1923 гг. – предправления Гомельского рабочего банка.
В 1923–1924 гг. – управляющим Полтавской конторой Госбанка.
В 1924–1925 гг. – директором хлебного отдела Всеукраинской конторы Госбанка.
В 1925–1928 гг. – управляющим Одесским отделением Госбанка…»
Небольшой перерыв на двухгодичные торгово-банковские курсы, после чего:
«Решением ЦК партии был назначен / 1930 г./ управляющим Восточно-Сибирской краевой конторой Госбанка, а вскоре тоже решением ЦК – назначен управляющим Северной Краевой конторой Госбанка.
В 1934–1937 был управляющим Куйбышевской областной конторой Госбанка».
Окончание карьеры Б. Н. Липницкого известно – в августе 1937 года, после стольких лет безупречной службы на благо Родины, – арест и ссыльные мытарства вплоть до весны 1955 года.
Самое поразительное, что при восстановлении в партии один из его сослуживцев дает ему нижеследующую характеристику:
«В Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС.
…Считаю своим долгом сообщить следующее.
Липницкого Б. Н. я знаю примерно с 1925 или 1924 года. За все время нашего знакомства я знал его как честного, весьма скромного человека, идейного и убежденного коммуниста».
Но должны же были во что-нибудь верить эти люди, сметённые революцией со своих мест, лишенные корней и привычного образа жизни, когда у них была отнята религия?!
В дом на Ленинградское шоссе пришел вызов из Областного Комитета Коммунистической партии Советского Союза г. Куйбышева, где Бориска работал последнее время, и он поехал по вызову, и справедливость была восстановлена.
Вскоре за этим торжеством последовало и второе. Как «старый большевик» Б. Н. Липницкий пользовался теперь некоторыми привилегиями, и в начале шестидесятых годов получил участок в посёлке Дорохово неподалеку от Звенигорода под строительство дачи. Это был прелестный уголок подмосковной природы, представлявший собой зеленую луговину на лесной опушке с несколькими старыми дубами. Борис Наумович вложил все свои сбережения, и частично своими руками возвёл на участке скромный щитовой финский домик с террасой, который полюбили все домашние. Лена с Изей, никогда не имевшие дачи, – не заслужили! – нередко осенью, когда Бориска с Рахилью перебирались в город, любили забиться в этот домик, чтобы там побыть в уединении и погрузиться в работу. Ничего, что воду приходилось носить из водокачки, а отопление было печное, зато какая тишина и спокойствие! Они любовались дубами, еще не сбросившими окончательно листья, кормили белок и птиц. На клумбе доцветали, источая терпкий запах, фиолетовые осенние флоксы, не поблек еще зеленый луг, и временами на сероватом безоблачном небе светило тускло солнце. Им тоже временами выпадала возможность наслаждаться идиллией.
Ну, а старшее поколение взбодрилось и помолодело с приобретением дачи. Самолюбию Бориса Наумовича льстила мысль о том, что он оказался таким полезным для своей семьи. К тому же на даче его выбрали председателем кооператива, что сильно укрепило его жизненные позиции и было достойным завершением его трудовой биографии. Борис Наумович принимал решения по разным хозяйственным делам, улаживал конфликты и общался с районным начальством.
Таким образом, его стремление к активной деятельности было удовлетворено, – а он неустанно заботился о том, чтобы быть востребованным членом общества, и этим своим беспокойством даже поделился в письме в редакцию газеты «Известия», которое сохранилось в семейном архиве. Привожу его полностью:
«В газету «Известия», от пенсионера Б. Н. Липницкого, 25.ХI.60 г.
Пенсионеры и их участие в общественно-созидательном труде.
В нашем Советском государстве человек, достигший определенного возраста, материально обеспечивается путем установления ему пенсии, что является нашим большим достижением.
Пенсионер, будучи материально обеспеченным, одновременно фактически оказывается вне общественного процесса труда.
Для человека, который всю свою жизнь трудился, на склоне лет оказаться вне общественного процесса труда, без преувеличения, тяжело, а в ином случае – катастрофично.
Нередко встречаешься с таким мнением:
«Государство тебя материально обеспечивает, что тебе еще надо, живи и наслаждайся жизнью».
Такое мнение безусловно ошибочно, ибо только в здоровом, осмысленном, общественно-созидательном труде заключается смысл жизни человека.
Конечно, многим из числа пенсионеров по своей личной инициативе удается поддерживать связь с предприятиями, учреждениями, где они до перехода на пенсию работали, и так или иначе участвовать в трудовом процессе, но этого недостаточно.
Мне кажется, что в данном случае требуется государственный акт. Пенсионеры, которые в состоянии физически трудиться, должны на добровольных началах привлекаться к труду. Для этой цели при органах Министерства социального обеспечения должны быть созданы специальные отделы трудоустройства пенсионеров, которые должны решать все вопросы, связанные с этой жизненно важной задачей.
Пенсионер Б. Н. Липницкий».Должно быть, мне не повезло, но что-то в своем окружении я не встречала таких людей, как Борис Наумович, а может быть, они просто вымерли, как динозавры, поскольку им не подошел климат нашей планеты.
Это страстное воззвание Бориса Наумовича к человеческому участию и добру наткнулось на стену полнейшего равнодушия, и на него последовал казённый ответ:
«Уважаемый тов. Липницкий!
Ваше письмо получили. На эту тему «Известия» уже выступали. Если представится возможность выступить ещё, учтём и Ваши соображения.
Литсотрудник отдела писем, — /подпись/, – неразборчиво».Рахиль на даче процветала, у неё появилось новое хобби – садоводство. Она разбила красивую клумбу с георгинами и флоксами, и завела с помощью одной соседки две грядки с клубникой. Конечно, и на даче, как и в Москве, она сейчас же стала центром целого кружка соседок с их детьми и невестками, которых она лечила от всевозможных недугов, а при необходимости проводила с ними длинные успокоительные беседы, как первоклассный психолог. Возможно, кто-то из домашних и был разочарован отсутствием у моей свекрови инстинкта наседки, неустанно пекущейся о своих птенцах, – с годами она не стала домовитой хозяйкой или самоотверженной бабушкой. Но стоило только отрешиться от тщетной надежды получать от неё повседневную помощь, как отношения с ней приобретали тёплый и доверительный характер.
– Танечка! Я вами недовольна! – бывало, заявляет мне моя свекровь.
– Что такое, Рахиль Соломоновна?
– Вот наша Зоя, она все время меняет кофточки. Вчера она у нас опять была в новой кофточке. Вы должны обращать на себя больше внимания, вы же знаете, какие мужчины эгоисты! И наш Юрка, мне кажется, точно такой же, как они все! – к такому выводу приходила Рахиль, ставя мне в пример свою старшую невестку Зою Богуславскую и томно закатывая чёрные, как маслины, глазки.
Где вы, моя дорогая свекровь? Откликнитесь! Ау! Подайте мне, пожалуйста, ещё какой-нибудь столь же бесценный совет!
Вся моя семья обожала Рахиль. Бабушке она давала рецепт изготовления рыбы-фиш, правда, так ею и неиспользованный, поскольку у бабушки было другое кулинарное направление – пирожки с капустой, картофельная запеканка с мясом, грибная лапша. Но подлинной заботой Рахили была моя мама и её судьба. Невероятно отзывчивая к чужой сердечной боли, Рахиль, и сама не так давно очутившаяся в положении покинутой женщины, искренне сочувствовала моей маме, которая всё ещё остро переживала развод с моим отцом. Нам всем в семье было тяжело. Наш дом как-то сразу опустел. Зачем нужен стол в кабинете, когда за ним большее никто не сидит. Не слышится больше заразительный смех отца, никто не затевает с нами какую-нибудь игру, не награждает забавными прозвищами. Но больше всех страдал от отсутствия отца мой младший брат. Его понурый вид приводил нас всех в отчаяние, и мы не знали, что бы нам такое предпринять, чтобы ребёнок отвлекся и развеселился. Андрюша так и не смог пережить уход отца из семьи и, кажется, так его и не простил.
Когда мама приходила навестить нас с Юрой на Ленинградское шоссе, Рахиль спешила встречать её в дверях и, осторожно поддерживая под руку, как подбитую птицу, немедленно проводила к себе. Усаживала в кресло у стола и все свои душевные силы употребляла на то, чтобы настроение моей мамы поднялось хотя бы на несколько градусов. Ведь она ещё такая молодая, ей нет и пятидесяти, да к тому же хороша собой. И Рахиль осторожно подбиралась к главной волнующей её теме:
– Ирина Ивановна! Вот вы всё беспокоитесь о детях, а надо позаботиться о себе. Ирина Ивановна, я хочу вас спросить: у вас есть что-нибудь положительное? – и Рахиль с таким участием заглядывала маме в глаза, что она поневоле пускалась с ней в откровенный разговор, и выяснялось, – у неё и правда намечалось что-то «положительное».
Как это мы не замечали раньше, с каким обожанием смотрел на неё Михаил Берестинский еще тогда, когда мы были в эвакуации в Ташкенте и жили с ним в одном дворе?!
Почему-то он всегда оказывался возле мамы, этот очаровательный, рыжий Миша, и не мог отвести от неё грустного взгляда из-за толстых стекол своих очков, № 7, что и привело его сюда, в эвакуацию, к его негодованию, где он, драматург и сценарист, трудился на местной киностудии документальных фильмов. Тогда с ним была его молодая жена Маша, но, видимо, не зря он заглядывался на мою мать. После войны в 1953 году М. Берестинский по какому-то вздорному обвинению был арестован, но вскоре, в 1956 году, с полной реабилитацией вышел на свободу, и к этому времени был холостым. Они встретились с моей мамой, и старое чувство превратилось в любовь.
Мише уже было около шестидесяти, но у них все было, как у молодых, – пожимание ручек в кино под Мишиной пыжиковой шапкой, полученной по распределению в Литфонде. Это приводило нас просто в восторг с одной моей подругой, с которой мы все это наблюдали. Бесконечные разговоры с недомолвками по телефону. Мамины «тайные» свидания с Мишей у него дома на Аэропортовской, где он жил в писательском кооперативе.
– Ирочка, я ни в чем не могу быть уверенным, пока мы с тобой не зарегистрируем наши отношения. Я, знаешь ли, человек старорежимный, и для меня сей документ все еще что-то да значит. Ну, и потом мы должны подумать о нашей семье – как я буду смотреть в глаза Танюшке с Андрюшкой и нашей дорогой Никаноровне (это моей бабушке), если мы с тобой будем жить вместе, но не оформим это, как положено?!
Все это говорил моей маме её новый муж, – Михаил Исаакович Берестинский, когда они соединились окончательно – мама переехала к нему на Аэропортовскую, а бабушка с Андрюшей остались на Лаврушинском.
«Сей документ» оказался у меня на руках и подтверждал брак двух уже немолодых, но совершенно счастливых людей. По случаю этого события нами была сочинена ода «Падение крепости Берестинской». В ней в красочных тонах было описано, как простуда подорвала силы защитников крепости, в результате чего она была штурмом захвачена противником.
Мама с Мишей прожили короткую, но яркую и полноценную жизнь. На Аэропортовской они были окружены друзьями – Алексины, Штоки, Березко, походы в театр, поездки за границу. Ну, и, конечно, тесное взаимодействие с семьей.
К М. Берестинскому приходит известность. На экранах демонстрируется фильм по его сценарию «Грешный ангел»: девчонка, у которой арестован и сослан отец, оказывается совершенно бесправной, – трагедия, коснувшаяся тысяч и тысяч наших сограждан, заплативших своей сломанной судьбой за применение на практике сталинского постулата о том, что «сын за отца не отвечает».
Во время войны, работая на Ташкентской студии документальных фильмов, М. Берестинский выпускает на экраны киноэпопею «Белорусские новеллы», затем «Боевой кино-сборник». В 1957 году – пьеса по мотивам повести В. Пановой «Метелица» по названию «Право на жизнь». В 1960 году выходит фильм «Люблю тебя, жизнь».
И вот настоящий успех – автор картины «Грешный ангел» берет на себя смелость затронуть в своем произведении одну из болезненных проблем, стоящих перед обществом.
И это вызывает горячий отклик зрителей и прессы. М. Берестинский пишет пьесу на ту же тему, и она ставится знаменитым в ту пору ТЮЗом. Театр был постоянно переполнен – аншлаг. В спектакле были заняты известные артисты: Ольга Красина, Николай Волков, Галина Волчек. Роль Веры Телегиной, дочери репрессированного отца, играла будущая звезда театра и кино, выпускница ГИТИСа Евгения Симонова. Это был едва ли не дебют молодой актрисы в роли главной героини пьесы, и её искренность, юность и красота глубоко трогают сидящих в зале людей. Автора пьесы и артистов многократно вызывают на сцену, признательная публика награждает их аплодисментами, дарит цветы.
А наутро, развернув газеты, Миша и мама находят, к своему удовольствию, самые благожелательные отклики столичных критиков.
Одно постоянно беспокоило мою маму – заядлый курильщик, Миша стал часто жаловаться на недомогание, и вот после обследования самый страшный диагноз – задеты легкие, онкология. Великий хирург Перельман делает Мише операцию. Надежда не покидала нас до самого конца. Друзья, которые его навещали, успокаивали нас. Вот что писал о его состоянии Даниил Семёнович Данин:
«Вчера был в Боткинской у Миши Берестинского. Он не похож на умирающего, хотя ему очень худо. Со странным каким-то удивлением я подумал, что у меня уже намётанный глаз – нет, он не похож на умирающего. Один только дурной знак: внезапная тяжелая чёрная вода в светлых глазах. Но может быть, это – не физиология, а только психология». (Д. С. Данин, «Нестрого как попало. Неизданное», М., 2013 г.) Эта запись сделана десятого декабря 1967 года, когда Михаилу Берестинскому оставалось жить всего несколько недель.
Он буквально сгорел на глазах, и его не стало. Он скончался в возрасте 63 лет, – его смерть была для нас неожиданной и ужасной потерей, что уж говорить о моей маме…
Наша жизнь с моим мужем на Ленинградском шоссе в семейной «коммуналке» протекала под постоянный стрекот пишущей машинки за тонкой стеной, отделявшей нашу выгороженную из бывшей проходной комнату от комнаты Лены с Изей. Не успела эта маленькая комната освободиться, когда из неё выехали Боба с Зоей, как её оккупировала новая пара – мы с Юрой. И в нашей «коммуналке» снова образовался дефицит рабочих мест. Основным хозяевам квартиры, Лене с Изей, приходилось снова делить на двоих одну комнату, которая одновременно служила им спальней, столовой и кабинетом. При этом Изе отдан был в полноправное владение письменный стол, а Лена работала за круглым, обеденным, и при каждом новом обеде или ужине вынуждена была перекладывать свои бесчисленные бумажки на тахту. Могу себе представить, как мешала им я со своей машинкой, – по утрам мы с Леной стучали на них в унисон… Покончив с журналистикой, я теперь занималась переводом произведений югославских (сербских, хорватских, словенских и македонских) писателей, срок договора с издательством сильно поджимал, и я каждое утро садилась за работу. Боже мой! – думаю я задним числом, – ведь они могли бы меня просто возненавидеть! Однако я никогда не замечала с их стороны и тени недовольства, в этой семье не было никаких двойных стандартов, и в быту они неукоснительно соблюдали те же самые морально-нравственные принципы, которые исповедовали.
Временами машинка за стеной замолкала, это Лена из сочувствия к Изе бралась за перо. Она знала – он срочно готовит к печати очередную монографию, надо создать условия, чтобы он мог сосредоточиться…
К обеду, просидев за машинкой часа три-четыре, я совершенно выдыхалась и во второй половине дня читала или отдыхала. А Лена за стеной начинала с новой силой терзать свою машинку. Она, как и многие литераторы, зарабатывала тем, что давала внутренние рецензии на так называемый «самотек» в разные редакции, куда наши граждане неустанно присылали свои произведения – и в прозе, и в стихах. На каждое из них редакция должна была ответить самым серьезным образом. «Уважаемый такой-то! Редакция ознакомилась с Вашей повестью… Она показалась нам несколько схематичной… Сюжет о происках шпионов в нашей стране довольно избитый и банальный… Обращают на себя внимание многочисленные погрешности в правописании… Страдает также синтаксис… Хотелось бы посоветовать Вам… Литературный консультант журнала… Фамилия, имя и отчество».
Получив из заветного шкафа в какой-нибудь редакции несколько подобных повестей или даже романов, Е. Ржевская приносила их домой и по вечерам писала на них свои отзывы. (Замечу в скобках, что среди этого потока иногда мелькало что-то настоящее. Главное было – не пропустить!)
Складывалось впечатление, что Лена работает, не отвлекаясь ни на что другое, всегда, до глубокой ночи, если только у них с Изей не собирались друзья. Обед она готовила, что называется, между строк, урывками выбегая на кухню к клокочущей кастрюле. Цель её перемещений по жизненному пространству квартиры определялась скоростью шагов – неторопливых, если она шла открывать дверь на двойной, условный, звонок Рахили, не любившей рыться в сумке в поисках вечно где-то терявшихся ключей; поспешных, если трезвонил телефон; и совсем уже спринтерского рывка, если она, опомнившись, опрометью кидалась на кухню.
Но встречи с друзьями – это было святое. В этом они себе никогда не отказывали, невзирая ни на какие финансовые затруднения. Иной раз на эти посиделки в самом узком кругу близких людей приглашали и нас с Юрой, и мы, изредка подавая свой голос, слушали их споры, шутки и, конечно, чтение новых произведений и в прозе, и в стихах.
В то время (примерно полтора года), когда мы с мужем жили с Леной бок о бок, мы понятия не имели о том, под каким занесённым над ней мечом она существовала, вернувшись со своим чемоданчиком с фронта. Войдя в прихожую отчего дома после четырехлетнего пребывания на фронте, Лена бросилась с объятиями к своим родным – к матери, к младшему брату Юрке, к невестке. А чемоданчик соскользнул у неё с руки и с тихим стуком упал на пол. Военные трофеи гвардии лейтенанта Елены Ржевской состояли из куклы для шестилетней дочери и двух домашних халатов – для себя и для матери. Но самым тяжелым грузом, который она привезла с собой сюда, в московскую жизнь из Берлина, была тайна, – и в эту тайну никто, кроме её мужа и, вероятнее всего, Бориса Слуцкого и Виктора Некрасова, не был посвящен. Обо всех этих событиях Елена Ржевская подробно пишет в своей книге «За плечами ХХ век», и я лишь кратко коснусь здесь того, что мы узнали много лет спустя.
Всё дело в том, что в составе разведгруппы из трех человек: полковника Горбушина, майора Быстрова и её самой в должности переводчика, Елена Каган участвовала в обнаружении и идентификации трупа Гитлера. Задание, полученное полковником Горбушиным, исходило с верха, от «Самого», и потому было строго засекречено. В разрухе и хаосе только что занятого нашими войсками Берлина, группе полковника Горбушина в воронке от бомбы возле рейхсканцелярии удалось обнаружить обгоревшие останки Гитлера и его жены Евы Браун, с которой он обвенчался в подземелье перед тем, как они оба покончили жизнь самоубийством. Лицо Гитлера было неузнаваемым, но челюсть сохранилась. Невероятной удачей становится нахождение разведчиками в медчасти рейхсканцелярии рентгеновских снимков зубов Гитлера, полностью подтверждающих принадлежность изъятой из трупа челюсти фюреру.
8 мая 1945 года бордовая бархатная коробочка из-под какой-то дешевой парфюмерии вручается переводчице Елене Каган, и она должна быть при ней постоянно. Приходилось с ней спать, держа где-то под рукой, и весь день носить с собой, – Горбушин сказал, что за эту коробку Лена отвечает головой.
«Вручена была эта коробка мне, потому что несгораемый ящик отстал со вторым эшелоном и её некуда было надёжно пристроить. И именно мне по той причине, что группа полковника Горбушина, продолжавшая заниматься изучением всех обстоятельств конца Гитлера, сократилась к этому времени, как я уже сказала, до трех человек.
Остальные наши товарищи по долгому пути до Германии, встречая меня в этот день с коробкой и в столовой, и на работе, не догадывались о её содержимом. Всё, что было связано с установлением смерти Гитлера, держалось в строгом секрете».
Так переводчица Елена Каган становится хранительницей главного вещественного доказательства смерти Гитлера, о чем необходимо было оповестить жаждавшие мира народы.
В своей книге Елена Ржевская, в память об изнурительных боях за Ржев, взявшая этот литературный псевдоним в качестве своей новой фамилии, пишет:
«…Мы думали, если не сейчас, по горячим следам событий, а лишь в какие-то отдаленные годы, в каком-то неясном будущем будут представлены миру, нашим потомкам, добытые доказательства, окажутся ли они достаточно убедительными? Всё ли сделано для того, чтобы факт смерти Гитлера и факт обнаружения его трупа оказались бесспорными спустя годы?
Полковник Горбушин в этих сложных обстоятельствах решил добыть бесспорные доказательства».
Когда эти доказательства были найдены, полковник Горбушин, майор Быстров и переводчица Каган подписали акт о завершившемся расследовании, касающемся последних дней и обстоятельств кончины Гитлера. Доклад был направлен непосредственно Сталину, минуя штаб фронта и самого командующего фронтом маршала Жукова, остававшегося в неведении относительно столь важного исторического факта, как физическая смерть Адольфа Гитлера. Можно было бы сказать, что недоверие к людям было типичной чертой советской действительности, однако в случае с маршалом это носит, как бы это выразиться, – вопиющий, шокирующий, неправдоподобный, – скорее всего парадоксальный характер. О подвиге разведчиков, совершенном в мае 1945 года в Берлине, освобожденном его же войсками, Жуков узнал в 1961 году из «Записок переводчицы» Елены Ржевской. Георгий Константинович предложил ей встречу и полностью согласился с доводами писательницы, изложенными в её книге.
Ну, а как же доклад разведчиков о выполнении ими правительственного задания? Надо полагать, генералиссимус с докладом ознакомился, после чего этот важнейший документ, свидетельствующий о полном крахе фашизма, был похоронен в тайных архивах и никогда нигде не упоминался.
«…в нашем обществе нередко властвовал абсурд. Так, волей Сталина было запрещено предать огласке, что советскими воинами обнаружен покончивший с собой Гитлер, и этот важный исторический факт был превращен в «тайну века». Как очевидец событий, сделать эту тайну достоянием гласности я смогла только после смерти Сталина», – так пишет Елена Ржевская в предисловии к своей книге «Геббельс, портрет на фоне дневника».
А между тем активно муссировались слухи о том, что Гитлер, изменив внешность, скрывается где-то. Таким образом, была достигнута главная цель – теперь можно было продолжать борьбу с фашизмом, используя призрак фюрера для устрашения и подавления.
По счастью, по великой случайности никто из участников сверхсекретной операции по установлению факта смерти фюрера не пострадал. В тоталитарном режиме бывали свои проколы и упущения. Однако можно себе представить, что испытывает беззащитный перед произволом властей человек, обремененный тяжестью информации, абсолютно достаточной для того, чтобы быть устранённым.
Лишь в 1961 году Елена Ржевская вздохнула с облегчением. В «Воениздате» вышла её книга «Весна в шинели», и там, в очерке «Записки военного переводчика», каким-то чудом просочившись сквозь все рогатки цензуры, сообщались данные о последних днях ставки Гитлера, о его самоубийстве и главное – об обнаружении обгоревшего трупа фюрера, которого опознали по его зубным протезам. Виктор Некрасов написал тогда Елене Ржевской: «Прочитал взахлёб. Чёрт его знает, как это прошло».
Книга «Весна в шинели», с фотографией в военной форме Елены Ржевской, запечатлевшей всю её неповторимую прелесть и женственность, стала подлинной сенсацией. Не только литературное сообщество, не только читатели, но и мы, домашние, как бы другими глазами взглянули на нашу сестру Лену и еще раз поразились её мужеству, самоотверженности, её героизму. Какой выдержкой надо было обладать, чтобы, находясь под постоянной угрозой расплаты за свою чрезмерную осведомленность, продолжать напряженно работать, заботиться о близких, быть центром притяжения для друзей и подруг, приобретенных в ИФЛИ и на фронте, для которых общение с Леной и Изей было неотъемлемой частью их жизни.
Постоянно бывали у них: старший брат Изи писатель Леонид Волынский, – оба они до сих пор пребывали под гнетом страшной трагедии, которую им пришлось пережить, – их родители погибли в Бабьем Яру. Это ему, Леониду Волынскому, цивилизация обязана спасением собрания картин Дрезденской галереи, которые должны были быть взорваны фашистами. ИФЛИ-йская подруга, литератор, Вика Мальт; фронтовая подруга, юрист, Ляля Ганелли. Пётр Горелик, преподаватель Петербургской военной академии, – кадровый военный, полковник, командир бронепоезда, он совершал героические рейсы под обстрелом и бомбёжкой, доставляя на фронт технику, вооружение, продовольствие. Пётр Горелик, – ближайший друг Бориса Слуцкого, после его смерти ставший издателем его стихов, биографом и автором нескольких книг.
И, конечно, сам Борис Слуцкий, – в военные годы он нередко останавливался в квартире на Ленинградском шоссе, когда там обитали только Юра с Рахилью. У них он чувствовал себя, как дома, подолгу засиживался с ними на кухне, вёл с Юрой назидательные беседы, – он всегда относился к нему покровительственно, как старший товарищ к младшему, и жаждал внушить ему что-нибудь светлое, доброе. Вспоминал свою юность, шумные сборы друзей, переживал гибель Павла… Они были разбросаны по разным участкам фронта и подолгу не получали друг от друга никаких вестей. Слуцкий пытался узнать что-нибудь о Павле и писал его матери, у которой росла и воспитывалась дочка Лены и Павла, маленькая Оля:
«15. IV.42.
Уважаемая Фанни Давидовна!
Вот уже полгода, как я сантиментально распрощался с Павлом Коганом, и с тех пор он ни разу не дал знать мне о способах своего существования в новых условиях. Это большой срок даже для военного времени. Прошу Вас написать мне, где Павел, и сообщить ему мой адрес.
Привет Ольге Палне.
Уважающий Вас Борис Слуцкий».(Замечу, что, во-первых, сохраняю его орфографию. И во-вторых, – Слуцкий спутал отчество матери Павла, которая была в действительности «Фанни Моисеевной», и создал некий симбиоз из имени его отца, – Давида Борисовича и её собственного имени, – но это недоразумение, понятно, не снижает ценности письма, в котором Борис Слуцкий выражает свою сердечную тревогу за друга.)
Через несколько месяцев после отправления этого письма до него дошла весть о трагической гибели Павла. А вслед за тем и о других ближайших друзьях, талантливых и молодых, так и не вернувшихся домой.
Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая, Я сам теперь от них завишу, Того порою не желая.Так написал об этом Давид Самойлов, также близкий друг Лены и Павла, – до войны он был уже известен в литературных кругах, как одаренный поэт со своим узнаваемым голосом, но ещё, как и все они, не печатался.
Это о нем с товарищеской заботой говорил Павел:
«Дезика на фронт не пускайте! Это не для него!»
И вот мы читаем у Д. Самойлова:
А это я на полустанке В своей замурзанной ушанке, Где звездочка не уставная, А вырезанная из банки. Да, это я на белом свете Худой, веселый и задорный, И у меня табак в кисете, И у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, И больше нужного хромаю, И пайку надвое ломаю, И всё на свете понимаю.После ранения и недолгого пребывания в госпитале, – «а от пули два малых следа», – снова в строй, – и так до Победы…
Потому что этого требовал от них долг. Потому что патриотизм, не показной, а подлинный, был в их среде потребностью души и совести, и они жили с предчувствием подвига, который им предстоит совершить. Это было то поколение, о котором Давид Самойлов писал:
Что в сорок первом шли в солдаты И в гуманисты в сорок пятом…Свою личную биографию на фоне потрясений начала ХХ века поэт описал в трёх строках:
Я любил, размышлял, воевал. Кое-где побывал, кое-что повидал, Иногда и счастливым бывал.С некоторыми друзьями Лены с Изей нас также связывали самые нежные отношения. Моего мужа Юру Дезик Самойлов полюбил с детства, когда он мальчишкой присутствовал на их поэтических сборищах еще до войны. А потом принял в свою орбиту общения и меня, – бывал у нас дома с его первой женой Лялей, и всегда веселил нас шутками и остротами. Особенно любил он подтрунивать надо мной:
– Напрасно ты со мной не посоветовалась, выходя замуж за какого-то кандидата наук. Я бы тебя успокоил. Я бы тебе сразу сказал, что Юрка будет академиком! Этого парня я вычислил еще тогда, когда он у нас с Павлом под ногами крутился! – уплетая бабушкины пирожки, на полном серьезе говорил мне Дезик, хотя Юра в то время был членкором и о выборах в академики никто не думал.
Возможно, мой муж Юра своими дальнейшими успехами обязан этим честолюбивым замыслам Давида Самойлова!
На этом вечере у нас был кто-то еще из наших друзей. И Дезик согласился почитать нам стихи. Беспечная молодость, – почему мы тогда ничего не записывали, или хотя бы не делали фотографий на память? Но бархатный голос Самойлова все равно не забыть:
Сорок лет. Где-то будет последний привал? Где прервется моя колея? Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал. И не допита чаша сия.Мы от него на память получали книжки с такой, например, надписью:
«Дорогому и уже старому другу Юре и его молодой жене с любовью. Д. 3.11. 63.»
Борис Слуцкий также дарил нам книги с автографами.
«Тане и Юре – дружески, от нянчившего их автора, – Борис Слуцкий», – это надпись на сборнике стихов «Время» издания 1959 года. Потом персонально Юре, при выходе в свет сборника стихов Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова и Николая Отрады в 1964 году: «Юрию Кагану – стихи угнетавших его Павла и Миши. Борис Слуцкий».
Затем, видимо, посчитав, что мы достаточно подросли, типично в духе Слуцкого автограф на сборнике стихов «Работа»: «Тане и Юре – величественно, но дружественно. Борис Слуцкий, 22.11.1964 г.»
Странные, мистические бывают в жизни совпадения. Такое совпадение было у меня в моей работе с Борисом Слуцким. Я заканчивала перевод романа югославского, а точнее, черногорского писателя Михаило Лалича, «Свадьба», который вышел в издательстве «Художественная литература» в 1964 году. Узнав о том, что роман готовится к выпуску, Борис Слуцкий вызвался написать к нему предисловие. Это произведение заинтересовало Слуцкого по той причине, что, закончив войну в 1945 году в Югославии, он познакомился там с Михаило Лаличем и проникся к нему необычайной любовью и уважением, и как к писателю, и как к герою Сопротивления свободолюбивого горского народа, веками отстаивавшего свою родину от иноземных захватчиков. Война с фашизмом осложнялась еще и внутренним предательством четников, продавшихся итальянским наймитам, также воевавшим на стороне нацистов. Казалось бы, положение было безнадежным, но вера в Справедливость и поддержку России не позволяла партизанским соединениям сложить оружие. И в тяжелейших условиях, в снегах, при отсутствии централизованного командования и средств связи, при недостатке всего необходимого для продолжения борьбы, и прежде всего продовольствия и боеприпасов, они выстояли, – выстояли ценой огромных жертв, – в Черногории погиб чуть ли не каждый десятый мужчина. Обо всем этом говорится в предисловии к роману «Свадьба» Бориса Слуцкого, а сам роман является ярким свидетельством подвига, который совершили все люди – женщины, дети, старики, – населяющие эту маленькую страну, во имя Независимости и Свободы.
«Эта книга написана просто и прозрачно, – пишет Б. Слуцкий. – Величественная простодушность эпической песни сохраняется в сербской литературе и по сегодняшний день. Михаило Лалич ведет свое повествование о событиях 1943 года, о борьбе с немецкими и итальянскими фашистами с той же простотой, с какой безымянные гусляры сочиняли свои песни о том, что было в пятнадцатом веке, о борьбе с турками».
Однажды, когда Михаило Лалич с его женой Миленой были гостями в Москве по приглашению Союза писателей, мы с мужем повели их в ресторан ЦДЛ. И вдруг встречаем Бориса Слуцкого – какая радость! Старые вояки обнялись и долго хлопали друг друга по плечам:
– Добар дан! Здраво!
– Привет, – вот это встреча!
Переводчика им не требовалось, хоть я и стояла тут рядом, все было ясно и так: фронтовая дружба – это навсегда, и для понимания не надо знать другой язык.
Между тем Слуцкий не мог упустить случая, чтобы не сделать Юре соответствующее наставление:
– Имей в виду, сегодня ты принимаешь великого человека, так что не подкачай!
Услышав слово «великий», что по-сербски значит всего лишь «большой», Лалич запротестовал:
– Ти си велики, нисаiа! – и показал на разницу в росте между ним и Борисом Слуцким, который и правда был намного крупнее этого выдающегося писателя, автора романов «Злая весна», «Облава», «Разрыв», «Лелейская гора», «Свадьба», а также многочисленных повестей и рассказов.
Что же касается замечания Бориса Слуцкого относительно того, чтобы мы не поскупились на угощение этого «великого» человека, то тут надо с грустью заметить: во-первых, Михаило Лалич ничего спиртного не пил, а свои гастрономические притязания предпочитал удовлетворять у нас дома, на нашей кухне. Моя бабушка старалась ему угодить и готовила простую обыкновенную еду – то, что любил Лалич. А в ресторан, после долгих уговоров, мы его затащили исключительно для того, чтобы он почувствовал атмосферу тогдашнего нашего клуба писателей.
Погружаясь в работу над каким-то значительным произведением, переводчик начинает жить как бы двойной жизнью: с одной стороны, он по-прежнему находится в реальной действительности, а с другой – его окружают миражи – видения и облики того мира, который воссоздан в авторском оригинале. Необходимо мобилизовать свои внутренние ресурсы и вести нить повествования, не упуская её из сознания, до самого конца. Этот непрерывный монолог длится иной раз и год, и два, не давая возможности отвлекаться на что-то другое. Мешают бытовые заботы, отпуск, поездки, контакты и телефонные звонки. Но вот из типографии приходит сигнальный экземпляр книги, и тут уж можно и передохнуть.
Примерно такие ощущения испытывала я, работая над переводом произведений Михаило Лалича.
Вслед за «Свадьбой» я взялась за его роман «Лелейская гора», мою заявку на перевод этого романа одобрило и приняло к работе издательство «Прогресс» (впоследствии «Радуга»).
Роман вышел в Белграде в 1957 году, а в 1964 году Михаило Лаличу присуждается за него премия имени Негоша, – Пётр II Петрович Негош (1813–1851), владыка Черногории, великий поэт и просветитель.
Символично, что именно М. Лаличу первому вручается эта премия, учрежденная в 1963 году Черногорией и присуждаемая литераторам Югославии за высшие достижения один раз в три года, и что его имя первым выбивается золотыми буквами на стене мемориального дома Петра II Петровича Негоша в Цетинье.
Вспоминаю волнение, с каким я шла на подписание договора в издательство. Мне предстояло проделать большую работу. Объемная книга (около 30 печатных листов) лежала передо мной, и срок сдачи рукописи был уже обозначен. В то время трудно было вообразить, сколько раз придется пролонгировать договор, сколько раз предстоит еще вернуться к отдельным страницам и главам текста, сколько проблем возникнет в процессе работы.
Что представляет собой это сочинение писателя? Философско-психологический роман, где автор изучает возможности человека, его воли и стойкости в обстановке партизанской войны, когда главный герой повествования оказывается в суровых горах Черногории в замкнутом кольце преследования, одиночества и жесточайшего голода. Как удержаться на высоте нравственных норм, не поддаться малодушию и страху? Не пойти на преступление против своей совести, когда изнуренное голодом нутро требует: убей, укради, ограбь? Искушение ходит за ним по пятам, является в образе Мефистофеля, и этот дьявол нашептывает на ухо блуждающему в горах партизанскому связному, находящемуся на грани выживания, что низость и подлость в характере рода людского и не надо этому противиться.
Линия внутреннего диалога с совратителем-дьяволом дает дополнительные возможности писателю для анализа моральных качеств несгибаемой личности главного героя, выдерживающего тяжелейшие перегрузки, позволяет найти убедительные аргументы в пользу философской концепции романа, провозглашающего принципы гуманизма, как абсолютного идеала. Вплетаясь в общую полифоническую структуру романа, эта линия как бы раздвигает возможности художественной прозы М. Лалича, вмещающей в себя беспредельный действительный мир вместе с широкими просторами авторского воображения, фантазии, мечты.
Между тем сама природа родного края не даёт пропасть Ладо Таёвичу, – на его пути попадаются ягоды, птичьи гнезда с яйцами, а не то он слышит журчание ключа, выбивающегося из-под валуна и, приникнув к нему, напивается целебной водой. Он отгоняет от себя призрак совратителя-дьявола и, укрепившись в своем сознании свободной личности, находит в себе внутренние силы, чтобы верить в прекрасное будущее, где нет места насилию и предательству, порабощению и вражде. Ладо Таёвич не тот человек, чтобы сдаться. Он выживет и продолжит борьбу до конца.
* * *
…И вот я снова в Херцег-Нови, в этом старинном городке на берегу Адриатического моря.
И снова передо мной Боко-Которский залив с величественным Ловченом вдали. На вершине этой горы мавзолей Негоша, святыни Черногории, и не знаменательно ли то, что гора эта с мавзолеем, чьи контуры едва угадываются в туманной дали, – смотрят на тот самый дом Михаило Лалича, в который я приехала.
Мы поднимаемся с ним по крутым лестницам старого города, построенного на горном склоне на разных уровнях и потому соединенного бесконечными переходами. Лалич знает тут историю каждого камня, источника, колодца и тем более каждого старинного здания или храма. Он живет здесь большую часть года, живет уединенно, рано вставая и самозабвенно предаваясь работе, чтению, размышлениям. Нередко с рюкзаком за плечами, – в нем фляга с водой, блокнот, ручка, – он отправляется в горы и проводит на облюбованном им месте долгие часы.
– Оттуда, с высоты, как-то понятнее все, что происходит внизу, – говорит он с застенчивой улыбкой. Немногословный, он все же иногда не прочь поговорить со мной о своих литературных пристрастиях, узнать, кто из его любимых авторов переводится у нас в стране, и что особенно нравится мне. К счастью, нас не разделяет языковой барьер, так как стараниями нашего преподавателя И. И. Толстого я довольно сносно освоила сербскохорватский язык, да к тому же Михаило Лалич немного понимает по-русски. У нас все-таки одни славянские корни. Он достает с ближней полки «Казаков» или «Братьев Карамазовых» и, зачитывая нам с Миленой куски из них по-сербски, делает закладки, чтобы они были у него под рукой, когда понадобится. Тут же рядом стоит «Тихий Дон» – любимый роман Лалича, к которому он также постоянно возвращается. «Тихий Дон» Шолохова и «Сто лет одиночества» Маркеса он относит к «локальным» явлениям литературы, кровно связанным с той землей, чья судьба стала главной темой творчества писателя и, в конечном счете, судьбой его собственной жизни.
И еще одно имя занимает особое место в творческой лаборатории писателя, остро чувствующего тенденции современной художественной прозы. Это Т. Манн, – несомненная перекличка художественных приемов в «Докторе Фаустусе» и «Лелейской горе» говорит о том, что оба эти писателя черпают идеи из одного и того же источника, питающего их вдохновение.
Случается, я провожу в гостеприимном доме Лалича и его жены Милены по несколько дней, стараясь не мешать ему работать и всё же используя каждую свободную минуту для общения. Поводом для нашего, сначала письменного, знакомства явилась публикация небольшого рассказа Михаило Лалича «Пастушка» в журнале «Огонек», которую мне удалось осуществить где-то в конце пятидесятых годов. С этого рассказа все и началось. История партизанской связной, о которой писатель повествует с такой затаённой тревогой, с таким любованием гордой и отважной девушкой, что она поневоле волнует и захватывает читателя. В редакцию журнала «Огонёк», тираж которого составлял около трех миллионов, стали приходить письма читателей с просьбой напечатать что-то еще из творчества этого писателя. И таким образом никому не известное до той поры имя Михаило Лалича перекочевало в редакции крупнейших столичных издательств и заняло там прочное место. Тиражи его книг зашкаливали за сотни тысяч экземпляров, соответственно и читательская аудиторая была довольно обширной.
А сам Михаило Лалич стал желанным гостем в нашей стране. Он получал приглашения от Союза писателей СССР, которые в те годы щедро рассылались дружественным нам авторам, печатавшимся в СССР. Прием по высшему классу обозначал: заселение в одной из престижных гостиниц, машина с водителем на весь день, суточные и непременный визит к кому-нибудь из секретарей СП. Беседа с помощью переводчика, кофе, чай, не менее тридцати минут. Личность Михаило Лалича вызывала искренние симпатии. Он был известен у нас не только, как автор нескольких книг, но и как участник партизанской войны, имевший в ней и героический и горький опыт.
Михаило Лалич родился в октябре 1914 года (в этом году будет столетний юбилей со дня рождения писателя) в Черногории, в селе Трепча под Андриевицей. После окончания гимназии поступил на юридический факультет Белградского университета, и здесь примкнул к революционному движению, за что несколько раз подвергался арестам. С первого дня войны в рядах народно-освободительной армии сражался с немецкими захватчиками. В безвыходной ситуации окружения, практически безоружный, попал в плен… Это произошло в 1943 году.
Сейчас, когда Михаило Лалича давно уже нет в живых и прах его, по его завещанию. развеян над Адриатическим морем, я с содроганием пишу эти строки, зная, какую боль причинил писателю этот вынужденный шаг. В нем он каялся всю свою жизнь, стараясь искупить его праведной жизнью и самоотверженным трудом.
Но в чем, собственно, должен был каяться этот уникальный человек? В том же году, перемещенный в лагерь для военнопленных в Салониках, он совершает фантастический по своей дерзости побег из лагеря и, каким-то чудом пробившись в горы, соединяется там с греческими партизанами. В 1944 году ему удается переправиться в Черногорию и снова взяться за оружие.
После окончания войны он был директором «ТАНЮГа», вещавшего на Черногорию, потом редактором газеты «Борба» и, наконец, редактором издательства «Нолит».
Печататься начал ещё во время войны. Наравне с такими писателями, как Иво Андрич, Мирослав Крлежа, Милош Црнянский, Бранко Чопич, он был признанным классиком в Югославии (как называлась эта страна до распада), однако же надувать щёки и делать важный вид было ему совершенно не свойственно. В массивную дверь начальственного кабинета у нас в Союзе писателей со смущенной улыбкой входил невысокий, худощавый человек, чем-то с первого взгляда располагавший к себе собеседника. После протокольных, впрочем, вполне сердечных, рукопожатий и краткого разговора о том, как он устроен у нас тут в Москве и нет ли у него каких-нибудь желаний, Михаило Лалич покидал кабинет с видимым облегчением, и мы с ним направлялись по делам.
В тот день ему предстояло получить гонорар в бухгалтерии издательства «Прогресс». Приезжаем, Лалич подает свою платёжную квитанцию в окошечко, и вдруг я чувствую, что там начинается какая-то паника. В чём дело? Оказалось, в конце рабочего дня у кассира осталась одна мелочь. Была у нас такая валюта – рубль наших советских времен. И вот в них-то кассир и намеревался отсчитать Лаличу довольно-таки солидный гонорар за весьма увесистый том только что вышедшего романа.
Как быть? Отступать было некуда, поскольку все следующие дни были расписаны по минутам напряженным графиком программы. Благо у меня в сумке оказался целлофановый пакет, и вся эта немыслимая груда денег в него вместилась. Садимся с ним в машину. Лалич в отчаянии.
– И куда мне всё это девать? – кивает он на пакет, наполненный рублями. Делать покупки Лалич не собирался, тем более что никаких семейных заданий он не получил.
– У тебя есть по этому поводу какая-нибудь мысль?
– Есть! – говорю я, и мы подъезжаем к магазину «Русские самоцветы» на Арбате. Здесь Михаило Лалича, как почетного гостя, усаживают в кресло у антикварного столика, а я тем временем произвожу краткий обзор ослепительных витрин. Примерно представляю себе вкус его жены Милены. Зову Лалича – одобрит ли он мой выбор? Но он на все заранее согласен. Когда мы высыпали содержимое пакета на прилавок, оказалось, что полученных в издательстве «Прогресс» рублей как раз и хватило на то, чтобы приобрести небольшое ювелирное украшение, сверкавшее всеми цветами радуги. Лаличу подали маленькую синюю коробочку с покупкой, я сложила в сумку целлофановый пакет, и мы, с чувством исполненного долга, покинули магазин.
Самое замечательное заключается в том, что Милена была счастлива, когда Лалич преподнес ей эту самую брошку. Главным образом потому, что она прекрасно поняла – её мужу не пришлось потратить много времени на какие-то практические дела.
Михаило Лалич побывал не только в Москве. Его приглашали на отдых с женой в Дом творчества писателей «Пицунда», он также отдыхал в Прибалтике, в Дубултах.
Своим привычкам он не изменял и на отдыхе. Он был как страус, – в день ему требовалось прошагать столько-то километров, иначе он просто умер бы в своей позолоченной клетке.
Старый партизан, он не боялся неизведанных троп, и Абхазию облазил, кажется, вдоль и поперек. В этом прекрасном краю он увидел не только буйство цветущих олеандров, море и горы. Он побывал также по приглашению в соседнем с нашим Домом творчества писателей «Пицунда» санатории ЦК КПСС, а также ЦК Украины и поразился царящей там роскоши. Своими впечатлениями об этих визитах он поделился со мной, когда я приехала в Белград.
И вот в моем дневнике появляется запись нашей беседы с Лаличем, датированная 7 июня 1987 года, и в этой записи возникает тогда еще редко употреблявшееся слово «коррупция».
Михаило Лалич мне так и говорит:
«– Всё для прохода закрыто. Можно себе вообразить, какая вообще в стране коррупция».
От пребывания в Прибалтике у него осталось грустное воспоминание о встречах со случайными людьми. С иностранцем они охотно общались, любезно показывали, как куда пройти, но только когда убеждались в том, что попавшийся им встречный – не русский.
– Не любят они вас, ты знаешь об этом? – спрашивал меня Лалич с тревогой в голосе.
Ещё бы не знать!
Для него вместе с писательницей Роксандой Негуш Союз писателей организовал путешествие по маршруту: Санкт-Петербург – Псков – Михайловское. Мне предложили сопровождать их в поездке. Сама по себе эта поездка была незабываемой, но у меня в памяти особенно ярко запечатлелся один эпизод.
Из Пскова на машине, которую нам предоставили в местном «Интуристе», мы с ними отправились осматривать Пушкинские места.
Роксанда Негуш родилась в 1915 году в семье, относящейся к боковой ветви царского рода Петровичей-Негошей. Эта героическая женщина, прошедшая весь путь партизанской войны с первого дня до последнего, европейски образованная, переводчица современной литературы с итальянского и словенского языков, а также автор прозаических произведений, рассказов, повестей.
С Михаило Лаличем они большие друзья, и я с ней уже успела подружиться и оценить её, как независимо мыслящую личность, нелицеприятную, а иной раз и резкую в общении. Мы познакомились с ней несколько дней назад. На своем красном «москвиче» подъезжаем за ними к гостинице «Россия», и из неё выходит Михаило, а рядом с ним решительно шагает высокая прямая женщина, сразу же обращающая на себя внимание достоинством и величавостью осанки и всего облика. «Черногорец, – что такое?» А это вот и есть Роксанда Негуш, – кстати говоря, светловолосая с пристальным взглядом голубых кристально чистых глаз.
…Пока мы едем в машине из Пскова в Михайловское, она рассказывает мне о характере черногорской женщины. Приводит хрестоматийные слова её венценосного предка Петра II Петровича-Негоша о том, что «тот, кто умер не будучи рабом, прожил достаточно», – и в этом, мол, ключ к разгадке натуры черногорцев, которых никто и никогда еще не мог завоевать и покорить.
– Получив известие о гибели сына, – повествует Роксанда, – черногорская женщина не прольет ни единой слезинки. Ведь он погиб героем…
Слушаю её рассказ, и что-то у меня все плывет перед глазами. Ну да, я помню, – «со щитом или на щите?» Чувствую, что у меня какая-то неадекватная реакция на её слова о невероятной стойкости черногорских женщин. Не могу я себе этого представить.
По пути в Михайловское посетили Святогорский монастырь и могилу Поэта.
«Ну, – думаю, – Роксанда меня сейчас осудит, – но ведь я не черногорская женщина, а над этой могилой редко кто может сдержать слёзы…» Смотрю на неё с опаской. Но она, поглощённая своими мыслями, не обращает на меня внимания. И Михаило потупился с отрешенным видом и бормочет себе что-то под нос, беззвучно шевеля губами, как будто читает стихи. Потом вдруг взглянул на меня:
– Скажи, как будет правильно по-русски: «Нет, весь я не умру…»
И повторил вслед за мной несколько раз: «Нет, весь я не умру…»
Им ничего не надо рассказывать о последних днях и погребении Пушкина, для них это – своё, глубоко пережитое. Достаточно того, что они теперь сами увидели и эти окрестности, и этот сверкающий куполами монастырь, и старое надгробие на могиле. Уходить не хотелось. Но все же мы сошли с холма, сели в машину и поехали дальше.
В Михайловском нас предоставили заботам экскурсовода. И вот перед нами появляется молоденькая девушка, студентка, проходящая здесь практику, и при виде её я понимаю, что нахожусь в бреду. Голова кружится. Или это призрак? Или мне кажется что-то? Возможно, окрестности Михайловского населены отражением Того, кто тут гулял, дышал, писал? Снова приглядываюсь к этой девушке. Её профиль, приплюснутый нос, разрез глаз, очертания губ, крутые завитки волос, – сомнений не было… Это же просто-напросто юный Поэт явился нам в облике белокурой волшебницы. А может быть, русалки…
– Откуда ты, прелестное дитя?
Совершенно не помню, как мы закончили эту поездку и как вернулись обратно. В машине я лежала на заднем сиденье, положив голову на колени Роксанды. Я вся пылала, как в огне. Когда мы приехали в Псков и пришел врач, он констатировал, что у меня корь, которой я не переболела в детстве и которой заразилась от соседского мальчика, приятеля моего сына. Температура – выше 40. Последнее, что я помнила, – машина «скорой помощи», в которую меня погружали на носилках, и рыдающую в голос, всю в слезах Роксанду с Лаличем, провожающих меня на улице перед гостиницей.
Все обошлось благополучно. На следующий день прилетел мой муж. Сквозь стекло изолятора инфекционного отделения я увидела его улыбающееся лицо. Он объяснил мне, что Михаило с Роксандой ко мне не пускают. Их опекает райком, – еще бы! ЧП! Иностранная делегация осталась без переводчика. Конечно, их хотели бы поскорее отправить в Москву. Но они уезжать наотрез отказались, пока не приедет Юра. Встретились с ним, успокоились, и он проводил их на вокзал.
Мы еще много раз встречались с Роксандой Негуш и Михаило Лаличем после того незабываемого путешествия по Пушкинским местам. И у нас происходили разные интересные истории, но это уже тема другого рассказа, и я к этому еще как-нибудь вернусь.
Скажите, кто не любит путешествовать?! Наверное, путешествовать любят все. Но при этом маршруты надо выбирать с осмотрительностью. Даже самый безобидный маршрут, как оказалось, может стать для вас рискованным, но то, на что решились мы когда-то в молодости, кроме как непростительным легкомыслием назвать никак нельзя.
Всю жизнь мы дружили с нашим старшим братом Бобой и его женой Наташей. Не склонный к сентиментальности, Боба трогательно гордился успехами своего младшего брата в науке (в 1984 г. Ю. Каган избран академиком РАН), но по жизни всегда оставался для нас лидером. Мы шли за ними вторым эшелоном. Сначала вождение машины. Затем теннис. Затем горные лыжи. И вот они увлекают нас в пеший поход по Кавказу. Наметили путь – из ущелья Чегем, где была расположена база Дома ученых, через перевал спускаемся в долину реки Теберды. У нас в группе четыре женщины и трое мужчин, все рядовые, необученные. Проводник из местных жителей обещал присоединиться к нам в пути на следующей ночевке, – мы должны были подняться на высоту примерно полторы тысячи метров и здесь, в хижине, ждать проводника. Но он нас предал и не явился. Как же так, – ведь слово горца, как нерушимая скала?! Тем более что он прекрасно знал, какой опасности нас подвергает?! Мы просто не представляли себе, что это такое – преодолеть перевал на высоте вечных снегов без инструктора и оборудования. Ночью, на наше счастье, нас нагнали два заядлых туриста с ледорубами, багром и веревками. Они уговорили нас идти вперед на перевал Килар по карте. Мол-де, подъем остался небольшой, около километра, а спуск обратно для вас еще больший риск. И мы решились – пойдем с ними.
Вышли в четыре утра после ночевки в хижине, пока под солнцем не обледенела каменистая и скользкая тропа. И тут началось. Какое солнце, какое обледенение! На горы наползли черные тучи и завыла метель. Снежная буря, – ничего страшнее в горах не бывает. Мы оказались в ловушке без каких-либо примет, которые указывали бы, в каком направлении искать проход. Наши попутчики, связавшись веревкой и нащупывая багром твердый путь под ногами, отправились на поиски.
Ветер дул с неистовой силой. Метель кружила, завывала, швыряя в лицо заряды снега. Вокруг сплошная плотная завеса, и не видно, где земля и где начинается небо. Мы почти не различаем друг друга. Стоим, не шевелясь, ни шагу в сторону, так как огромный риск провалиться в трещину, а это равносильно гибели.
Вся засыпанная по самую макушку снегом, я тупо думала о собственной преступной безответственности, – ведь у меня в Москве маленький ребёнок, Максим, мой Масик, ему было тогда шесть лет, моя бабушка, мама, младший братишка. Что это я, – с ума сошла какие-то подвиги совершать? Что с ними будет, если не дай Бог… Ужас и холод сковали все тело, казалось, я никогда больше не смогу пошевелиться.
Но вот кто-то постучал по ногам багром, кивнул головой, – вперед, и мы пошли, след в след, чтобы не провалиться. Кажется, тут есть проход. Замечаем какие-то отметки – горкой друг на друга поставленные камни, остатки пирамид, отмечающих путь. Движемся гуськом, впереди мужчины, женщины сзади. Замыкает цепочку один из наших попутчиков с веревкой.
Ледник, сползавший с вершины широким языком, остается в стороне. По всей видимости, мы спаслись, под ногами ощущается некоторый уклон. Действительно, мы явно теряем высоту. Наши попутчики – слава им! – вызволили нас из снежного плена. И нам предстояло теперь всего лишь преодолеть морену, чтобы выйти в долину, к реке.
Морена! Поясом не менее пятисот метров шириной она окружала горы на пути к зеленой зоне альпийских лугов. Кто и зачем навалил эти гигантские глыбы величиной с канцелярский стол в таком хаотическом нагромождении, оставалось только гадать. Вероятно, по мере продвижения вниз их оттеснил сюда ледник и сам же себе устроил преграду, не дающую ему возможности захватить альпийские луга.
На этом спуске мы с Юрой отстали от всех. Надо было прыгать с камня на камень, то повернутый боком, то выставивший острое ребро, то устрашающе скользкий, то завалившийся куда-то вниз. Колени не слушались, тормозная система постоянно давала сбой, нарушилась координация движений.
Но и задерживаться было нельзя – снег прошел, скоро начнет смеркаться.
Без помощи Юры я бы никогда не слезла с этой морены. Села бы тут на какой-нибудь камень и так, утирая слезы, и сидела до скончания века.
Когда мы с ним вышли к лугам, мы обнаружили себя на небольшом участке суши, с обеих сторон окруженной бушующими потоками, вырывавшимися с яростной силой из-под морены и устремившимися вниз, в ущелье. Вся наша группа уже забилась в палатки и, видимо, спала. Мы быстро поставили свою палатку на неудобном клочке земли, – однако и выбирать более удачное место было не из чего. Наскоро поели и, едва коснувшись головой рюкзаков, сейчас же заснули непробудным сном под рёв и грохот потоков.
Под утро мы пробудились от страшного гула. Вскочили на ноги, выбрались из палатки и видим: вода в потоках угрожающе прибыла. И нас с нашими палатками каким-то чудом не смыло за ночь. Недаром весь предыдущий день в горах валил снег. Надо было срочно перебираться на противоположный берег, – бревно, переброшенное через самый мощный поток, указывало нам путь. Это был единственный выход из западни, в которой мы оказались. Поток бесился, грохотал, ворочая и таща за собой огромные валуны. Вниз было страшно смотреть, – казалось, там в гигантском котле клокочет кипящая вода и над ней вздымаются клубы пара. Бревно, перекинутое через эту адскую пропасть, было мокрым и круглым. Кто-то должен был первым, обмотавшись для страховки веревкой и оставив её конец в надёжных руках, перелезть по бревну на тот берег. Сделать корабельную петлю и, накинув её на какой-нибудь каменный выступ, создать подобие перил, за которые смогут держаться остальные, когда поползут за ним. Кто это будет? И разве вообще возможно такое?
Ну, а вдруг кто-то сорвётся… Это конец. Совершенно точно, – конец. Его невозможно будет вытащить из этой клокочущей бездны…
К счастью, ничего подобного не произошло, хотя и героизма никто из нас не проявил. Судорожно вцепившись в веревку и обдирая колени, мы друг за другом каким-то чудом переползли на тот берег и долго еще лежали, распластавшись на камнях и унимая страшно колотившееся сердце.
На сей раз судьба смилостивилась над нами и для нашего спасения послала нам попутчиков, которые отделились от нашей группы, лишь приведя нас к стеклянным дверям гостиницы «Теберда». Не появись они у хижины ночью из мрака, неизвестно, какая участь постигла бы нашу группу. Но предупреждение нам было дано, и вполне серьезное. Для меня это был последний поход, – больше в горы я никогда не ходила.
* * *
Бог ты мой, как давно это было и сколько всего еще предстояло пережить…
На равнине дела шли своим чередом и временами даже с успехом. В 1973 году меня приняли в Союз писателей. Приемная комиссия СП с большой подозрительностью относилась к писательским детям, претендующим на то, чтобы их признали профессиональными литераторами. Но куда нам было деваться от генетически переданных нам способностей? Каждый старался их как-то реализовать, проявляя себя в разных жанрах.
Поступив на филфак МГУ (1949 г.), я попала в группу к Илье Ильичу Толстому, внуку великого Толстого, преподававшего нам сербскохорватский язык и литературу. Он только что вернулся из Югославии, где провел в эмиграции более двадцати лет, и сейчас, когда закончилось затяжное противостояние с «кровавой кликой Тито – Ранковича» и югославы снова стали нашими ближайшими друзьями и братьями, готовил специалистов, владеющих сербскохорватским языком. Нам, небольшой группе выпускников уникального курса, который вел И. И. Толстой, предстояло познакомить русского читателя с поэзией и прозой писателей разных регионов Югославии, имеющих свои национальные языки, – сербский, хорватский, словенский, македонский. До этого времени их произведения практически на русский язык не переводились, и мы могли в своей работе обращаться к современной литературе, а также к наследию классиков.
Я начала заниматься переводом на третьем-четвертом курсе и тогда же опубликовала свою первую «пробу пера» в журнале «Смена». К моменту приема в СП я довольно активно печаталась, как в периодике, так и в издательствах – «Детгиз», «Прогресс», «Художественная литература». Рекомендацию в СП мне дали Н. Гребнев и Д. Данин.
И вот, 20 мая 1977 года получаю из Югославии телеграмму: «Поздравляю с присуждением нашей высшей литературной награды. Эрих Кош».
Эрих Кош – известный современный писатель, сатирические произведения которого в переводах на русский язык (в том числе и моих) многократно издавались в нашей стране большими тиражами. У меня установились с ним и его семейством самые добрые дружеские отношения, он бывал здесь в Москве гостем в нашем доме, я бывала у них в Белграде и на море, на Адриатике, в деревне Пржно. А поздравлял меня Эрих Кош с присуждением действительно почетной награды ПЕН-центра Сербии: «За многолетнюю плодотворную работу в области перевода произведений писателей Югославии на иностранные языки Татьяне Вирта присуждается премия ПЕН-центра Сербии за 1977 год. (Далее приводится список писателей, произведения которых в моем переводе на русский язык выходили в нашей стране.) 19.V.1977 года».
Церемония вручения происходила в Белграде в Клубе писателей в торжественной обстановке. Особняк на улице Французская, 7, заполнила оживленная публика, всегда готовая отмечать какое-нибудь событие. А вручение премии ПЕН-центра при стечении кино– и телеоператоров, с цветами и бокалом шампанского, несомненно, было событием в культурной жизни столицы Югославии. Я оказалась в центре внимания, принимала поздравления, чокалась и едва сдерживала слезы от переполнявших меня чувств. Наверное, я была счастлива в то время, но почему-то к этому счастью примешивалась необъяснимая печаль.
Так что в биографии переводчика тоже бывают яркие моменты.
В своей книге «За плечами ХХ век» Е. Ржевская пишет о таком эпизоде. До перестройки они с мужем вместе никогда не пытались выехать с писательской группой куда-то за границу, – понятно, им был бы дан отказ, но подозрение, что у них есть намерение остаться, прорвавшись за рубеж вдвоем, тянулось бы за ними, как длинный шлейф, еще долгие годы.
И вот в 1976 году Лена с группой писателей, одна, оказалась в Париже.
Там жил в то время Виктор Некрасов, знаменитый автор романа «В окопах Сталинграда» и не менее знаменитый диссидент: на Родине, которую он вынужден был покинуть в 1974 году, его имя запрещалось упоминать где бы то ни было, – в печати, в кино-титрах и пр. Вероятно, он чувствовал себя здесь весьма неуютно. И это было заметно окружающим.
В своих дневниковых заметках, относящихся к 1967 году, Даниил Данин пишет:
«4 июня. Ялта. Как зримо стареет Виктор Некрасов!… В его облике появилась несчастливость. И видно, что он – писатель драматической судьбы. И видно, что денег нет.
Но ещё виднее другое: он сознаёт, что его репутация – прекрасная репутация смелого вольнолюбца – далеко обогнала его творческие дела.
Представляю, как он мысленно – и постоянно! – примеряет свой рост по Солженицыну и мучится этим сравнением». (Д. С. Данин, «Нестрого как попало. Неизданное». М., 2013 г.)
Так казалось Д. Данину в то время, но кто знает, что было на душе у В. Некрасова, и с кем он хотел бы соотносить свою собственную роль в истории общественной мысли догорбачевской эпохи. Известно также и то, что именно в Ялту к В. Некрасову пришло письмо от А. И. Солженицына и как острит по этому поводу все тот же Данин, – это простое письмо в простом конверте, адресованное не одному лишь автору «В окопах Сталинграда», но всему открывшемуся в Москве IV Съезду писателей, на самом деле «сверхзаказное и бесценное». Оно одно может что-то сказать нашей интеллигенции больше, чем все директивы официального съезда писателей, из которых своим единомышленником Солженицын считает Виктора Некрасова и делится именно с ним своими сомнениями и раздумьями.
Понятно, что общение с политическими эмигрантами в те времена было чревато серьёзными неприятностями для всех советских людей, выезжавших за границу. Наказание было предопределено – ты становишься «невыездным», а возможно, попадаешь в черные списки запрещенных к печати авторов. Но, едва дорвавшись до телефона в гостинице, Лена назначила встречу. Может быть, это последний шанс увидеться с Викой, и Лена не могла от него отказаться. Ночью они пошли бродить по Парижу, – и вот, на Монмартре, лицом к лицу сталкиваются с Костюковским и его женой… Безмолвно проходят мимо.
Яков Костюковский – руководитель группы, он отвечает за все, что с ней происходит…
Ну, вот, Елена Моисеевна, забудь о зарубежных поездках, а если к тому же из партии выгонят, тогда вообще обвал. Однако надо было знать Якова Костюковского. В Москве он позвонил Лене по телефону:
– Привет, привет! Как поживаете? Как вам понравилась наша поездка? Мой отчет Иностранная комиссия Союза писателей приняла без всяких замечаний! Но иначе и быть не могло – у нас в группе не было никаких нарушений!
С Некрасовым Изю и Лену познакомил Леонид Волынский, – они оба родом из Киева, и с юности знали друг друга. Мне неизвестны обстоятельства знакомства Некрасова с Леной, но я верю в то, что их пути обязательно должны были пересечься, потому что это были поистине родственные души. Общность взглядов, жизненных установок, просто личная симпатия друг к другу, и еще их роднило одно, исключительно важное для них обстоятельство – пройдя войну, оба они искали возможность воссоздать в своих произведениях её подлинный образ, увиденный их собственными глазами непосредственных участников исторических событий, происходивших на передовой, в тыловых обозах, в только что освобожденных от немцев селах и городах… Вся эта Правда Великого сражения нашего народа должна была быть запечатленной на страницах их повестей и рассказов и стать Памятником для потомства о том, как это на самом деле было.
Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», написанная им по горячим следам только что отгремевших боев, не сразу появилась в печати. Как-то непривычно показана была там реальность окопной войны. Атаки во тьме и в пургу без поддержки огнем, без связи с флангами, при недостатке боеприпасов, с неясной задачей, – а может быть, указанную высоту просто невозможно было взять под обстрелом у немцев, засевших где-то там, впереди, наверху. Огромные потери, бойцы на пределе сил, а подвоза боеприпасов всё нет. Хотя бы глоток воды, хотя бы две-три затяжки от бычка, всунутого в рот кем-то, прижавшимся к твоему боку, – свои-то руки заняты, – одна на спусковом крючке, другой опираешься о землю, чтобы не рухнуть в грязь… Но вот приказ, и снова – в бой!
Понятно, что для опубликования подобного произведения, где под сомнение ставится боевая мощь Советской армии, и вся надежда возлагается на поразительную стойкость и героизм наших людей, кто-то бесстрашный и сильный должен был взять на себя всю меру ответственности. И вот, с подачи А. Твардовского, который ознакомился с рукописью повести Виктора Некрасова, тогда называвшейся «В окопах», главный редактор журнала «Знамя» В. Вишневский берет на себя смелость и публикует повесть в двух номерах за 1946 год, – тот самый год зловещих идеологических Постановлений ЦК ВКП(б).
Повесть буквально ошеломила читателей. Она доносила до них неприкрытый ужас и ад окопного существования простого солдата, тяготы и муки, выпавшие на его долю на пути к завоеванной ими Победе. «Остервенение народа» в очередной раз спасло Россию, и мы выстояли. Выстояли, но ценой каких жертв и усилий…
Проза В. Некрасова была пионерским открытием так называемой «новой волны» в советской литературе послевоенного периода, когда начинают печататься военные произведения Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова. К ним, безусловно, примыкает и проза Е. Ржевской, также вышедшая из горнила войны и основанная на её героической фронтовой биографии.
«Горячий снег» Бондарева, «Пядь земли» Бакланова, «Мертвым не больно» Быкова говорят с читателем на языке правды, касаясь нравственных проблем ведения войны и поведения в ней человека. Многие из этих произведений не утратили своей художественной ценности и по сей день, и до сих пор читаются с захватывающим интересом.
В то же самое время, в 1949 году, на экран выходит двухсерийный фильм «Сталинградская битва», снятый по сценарию моего отца Николая Вирты. Заказ был получен им свыше в 1946 году, он исходил от самого Сталина. Что это было? Приказ? Как бы там ни было, однако справедливости ради надо сказать – взяться за написание сценария к фильму о Сталинградском сражении отец имел полное моральное право.
В качестве военного корреспондента Совинформбюро с самого начала войны он вылетал на разные участки фронта и давал репортажи с места ожесточенных боев, которые печатались в центральной прессе, передавались по радио… Всю страшную зиму 1942–1943 года, когда происходила беспримерная битва на Волге, он провел в осажденном городе, и личные впечатления переполняли его. Нередко свои репортажи отец сопровождал фотоснимками, – неразлучная «Лейка» вечно болталась у него на груди.
Не знаю точно, сколько их, бесстрашных корреспондентов газет и журналов, сколько фотокорреспондентов погибло во время войны. Однако то, что они ради выполнения профессионального долга рисковали своей жизнью, очевидно. Не раз рисковал и мой отец. Уже после войны генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин, начальник штаба в армии В. И. Чуйкова, рассказывал нам о том, как однажды он сдернул за полу овчинного тулупа на дно траншеи фотокорреспондента, высунувшегося над бруствером в поисках нужного кадра. Вместе с ним на дно траншеи посыпались комья земли, а снайперская пуля прожужжала над головой не в меру ретивого корреспондента. Когда они познакомились, оказалось, что этот корреспондент был мой отец, Николай Вирта. Впоследствии его знаменитую «Лейку» я передала Тамбовскому музею, на родину писателя, когда они собирали для экспозиции раритетные вещи. Надеюсь, «Лейка» находится там и по сей день.
Война была временем огромных потерь для моего отца. Погибли два его ближайших товарища – Евгений Петров и Александр Афиногенов, которых он не переставал оплакивать до конца своих дней. Хотя у него потом и были душевные друзья – Павел Нилин, Константин Финн, Тихон Хренников, Лев Левин, Иосиф Гринберг.
А сам он из той зимы, проведенной в блиндажах командующего 62-й армии генерала В. И. Чуйкова, вынес жесточайшую язву желудка, мучившую его до конца дней и безвременно сведшую его в могилу, не дав дождаться семидесятилетнего юбилея.
Получив заказ, отец погрузился в работу. Ему понадобилось изучить колоссальное количество документов, относящихся к тем великим событиям. Наша дача в Переделкино, где он писал, превратилась в филиал военного архива и была завалена грудами топографических карт, схем, планов, донесений, оперативных сводок, приходивших прямо с места боевых действий, вырезками из газет с указами Верховного главнокомандования, дипломатической перепиской, трагической статистикой тех лет.
Свою задачу писатель видел в том, чтобы создать произведение, отражающее могущество и величие нашей страны, принесшей человечеству освобождение от фашизма. Создавался сплав документалистики и художественной прозы, дающий масштабную картину Сталинградской эпопеи и подвига народа, совершенного на полях сражений и в глубоком тылу.
…Грохочет бой, вперед рвутся танки, за ними пехота. Вспышки ракет освещают лица солдат, кругом дым пожаров, остовы разрушенных зданий. Битва шла за каждую улицу, за каждый дом. С передовой действие переносится в тыл, здесь круглосуточно работают на пределе физических сил – «Все для фронта! Все для Победы!». Вот Молотов ведет дипломатические переговоры с главами великих держав, с Черчиллем и Рузвельтом, они решают судьбы Европы и мира.
Одной из центральных фигур в сценарии «Сталинградская битва» предстает перед нами генералиссимус Сталин. Ему отводится определяющая роль в завоевании Победы нашего народа над фашистской Германией.
Известный кинорежиссер В. Петров, воплотивший литературную версию сценария в киноленту, впоследствии писал о своем творческом методе при создании двухсерийного фильма «Сталинградская битва»:
«Правда жизни, правда истории – вот из чего надо исходить в поисках стиля фильма.
В фильме не будет ни одного кадра документалистики, но весь он от начала до конца должен восприниматься как документ… Авторы фильма собрали и изучили огромный материал оперативных сводок, донесений, планов, карт, рассказов участников, ознакомились с ценнейшими документами, предоставленными Генеральным штабом Советской армии, и с иностранными источниками, в результате чего и появился экранный образ великого события» («Советское искусство», 28 марта 1948 года, статья «Фильм о великой победе»).
В прессе после выхода фильма на экраны публиковались восторженные отклики, отмечавшие работу постановщика «Сталинградской битвы» В. Петрова, а также главного оператора Ю. Екельчика, воссоздавших зримый образ Войны. Отдельно отдавалась дань таланту выдающегося композитора нашей современности А. Хачатуряна, чья музыка звучала в фильме, как гимн во славу русского оружия. Отмечалась также игра знаменитых актеров – А. Дикого в роли Сталина, Н. Симонова в роли Чуйкова, Б. Ливанова в роли Рокоссовского, Н. Черкасова в роли Рузвельта, В. Станицына в роли Черчилля.
Фильм шел по всей стране и пользовался огромным успехом у зрителей. Нередко после сеанса весь зал вставал и устраивал продолжительную овацию. Это был наш первый фильм, в котором в художественной форме воспроизводилось ключевое сражение Великой Отечественной войны, ставшее провозвестником нашей Победы. Он долго не сходил с экранов, обошел едва ли не всю послевоенную Европу и везде был встречен с сочувствием и одобрением.
Между тем литературная общественность воспринимала этот фильм далеко не однозначно.
С одной стороны, в печати появились рецензии, в которых высоко оценивались художественные достоинства сценария, как самостоятельного литературного произведения, об этом писали К. Симонов, Б. Полевой, В. Кожевников, Д. Данин. Но существовало и другое мнение – преувеличив роль Сталина в войне, отец, по мнению многих, поддерживал миф о том, что Сталин является едва ли не главным творцом Победы, которую одержала наша страна над гитлеровской Германией.
В своей книге «Родом из Переделкино» я писала, что, возможно, отец и верил в этот миф сразу после окончания войны, в эйфории Победы. Тем более жестоким было очень скоро наступившее разочарование. За фильм «Сталинградская битва» Н. Вирта получил наряду с другими его создателями Сталинскую премию первой степени. Щедро награждая тех, кого она считала полезным и нужным, Власть манипулировала ими по своему усмотрению и не выпускала из своего поля зрения. Кем они были, – фаворитами? Или поднадзорными, которых водили на коротком поводке, временами одергивая так, что ошейник впивался в горло? Каждый волен судить об этом по-своему…
Отношение Елены Ржевской, как и её ближайшего окружения, к творчеству моего отца было двойственным. С одной стороны, ему отдавали должное, как автору романа «Одиночество», с которым он вошел в литературу, заявив о себе, как о талантливом и самобытном писателе.
Но вот Елена Ржевская в качестве внутреннего рецензента одного из солидных издательств знакомится с военными произведениями Н. Вирты, и в ней возникает протест. Она должна была взять на себя смелость дать в издательство негативный отзыв на повесть известного писателя, в данном случае речь идет о повести «Катастрофа», посвященной разгрому немецких войск под Сталинградом и пленению фельдмаршала Паулюса, которую мой отец предложил для печати. Собственно говоря, дело было не в отдельных замечаниях, как я понимаю, повесть в целом активно не понравилась Е. Ржевской. Пытаясь как-то сгладить ситуацию, моя будущая золовка, сестра мужа, обитавшая в то время в доме творчества писателей в Переделкино, пригласила моего отца к себе на беседу. Но личная встреча не только не развеяла взаимную неприязнь, а лишь её усугубила. Негативный отзыв был направлен в редакцию.
(Замечу в скобках, что, невзирая на отрицательную рецензию Е. Ржевской, повесть «Катастрофа» была издана и многократно переиздавалась, и хотя не имела такого резонанса, как другие его произведения, всё же нашла своего читателя.)
А нам с Леной пришлось в дальнейшем приложить немало усилий к тому, чтобы преодолеть неприятный осадок, оставшийся у неё после той, единственной, встречи с моим отцом.
Однажды мне пришлось присутствовать на просмотре документальной ленты о Сталинградском сражении. Не могу себе простить, что не записала тогда фамилии её создателей, – кинооператоры совершили подвиг, буквально ложась под гусеницы танков, чтобы запечатлеть лицо войны, что называется, крупным планом.
Это было в конце семидесятых годов, когда я по поручению Иностранной комиссии Союза писателей в качестве переводчика и сопровождающей выехала с группой из трех югославских писателей, участников партизанского движения, на очередной юбилей в Сталинград. Днем нас повезли на экскурсию: вид с Мамаева кургана на волжские просторы, скульптура Вучетича «Родина-мать», размах города, протянувшегося на километры вдоль берега Волги, – все это производило незабываемое впечатление. А вечером нас, как почетных гостей, пригласили в местный Планетарий на просмотр фильма. В огромном зале, кроме нас, сидели еще две-три группы людей столь же малочисленные, как и наша. И начался показ. Не знаю, как я его высидела до конца. Это было кино не для слабонервных. Мои югославы, повидавшие на своем веку немало всяких ужасов, содрогались и тихо стонали. А на экране ненавистные танки с черным крестом все ползли и ползли на наши траншеи. Проползали сквозь груды павших на поле боя солдат, сотрясались всем корпусом, зарывались в трупах и буксовали. Танковая атака захлебнулась…
Смотреть на это было просто невозможно. Мои югославы впали в уныние и мрак. Когда сеанс окончился и в зале зажегся свет, мы еще долго сидели в молчании, потрясенные увиденным и не могли прийти в себя. Потом мои подопечные, конечно, выпивали, но и это не помогло. Надо было срочно сменить обстановку.
Наутро, возложив охапку роз к Мемориалу Героев Сталинградской битвы, мы покинули славный город Царицыно – Сталинград – Волгоград…
Обыкновенно друзья собирались у Лены в скромно обставленной, с книжными полками до потолка комнате, служившей одновременно столовой и кабинетом, и после традиционного застолья с двумя-тремя рюмками водки все начинали просить Лену, как хозяйку дома, почитать что-нибудь новое, можно сказать, только что сошедшее с кончика её пера. Слушать Лену мы все любили больше всего. В её чтении слушателей завораживало буквально все. Её внешность как будто бы подсвеченная изнутри духовным светом и теплом. Голос Лены с легкой картавинкой, унаследованной от отца, – мать была этого совершенно лишена. Ну, и конечно, сам текст читаемых произведений, – проникновение в такие подробности военного быта, которые мог приметить наблюдательным взглядом лишь тот, кто сам побывал в этом кромешном аду и чудом вырвался из него невредимым.
Проза Е. Ржевской тяготеет к документальности, потому что выверяется достоверностью всего, воссозданного ею в рассказах и повестях. И вместе с тем это эмоционально напряженный, художественный текст, в котором нет штампов и общих слов, повествование ведется от лица лирического героя, лично пережившего грандиозные исторические события и заслужившего право стать их летописцем.
Возможно, у каждого есть заранее запланированное кем-то свыше предназначение, и предназначением Елены Ржевской, студенткой ИФЛИ добровольно ушедшей на фронт, и было – оставить в своих книгах для будущего правдивое свидетельство о Великой Отечественной войне.
Когда-то в далёком прошлом мне приходилось нередко бывать на литературных чтениях. Детство и юность я провела на даче моего отца Николая Вирты в писательском поселке Переделкино. В те времена было принято ходить в гости к соседям, где устраивались читки только что написанных и еще неопубликованных вещей. Помню, довоенные многолюдные собрания на даче у Афиногеновых, Тренёвых, Чуковских. Жена Афиногенова, американка Дженни, была убеждённой вегетарианкой и нам, детям, чтобы мы не скучали, пока взрослые что-то там умное слушали наверху, в кабинете Александра Николаевича, приносила угощение – салаты из разной листвы, включая свекольные, с красными черенками, печёные яблоки и огромное блюдо ассорти – изюм, грецкие орехи, курага. Замечу попутно, что, несмотря на всю свою любовь к своей молодой и очень хорошенькой жене Дженни, Александр Николаевич так и не смог приобщиться к вегетарианству и, пресытившись дома капустными оладьями и прочим, забегал к нам в Москве, или на даче и молил моего отца:
– Коля, пожалуйста, поехали со мной в «Националь»! Мне не терпится съесть огромный-преогромный бифштекс!
И они отправлялись вдвоем пировать – друзья, ровесники, соседи… Красавец, знаменитый драматург, чьи пьесы «Страх» и «Машенька» с большим успехом шли по всей стране, Афиногенов, как известно, погиб в октябре 1941 года в Москве в здании ЦК при бомбежке.
И, конечно, я помню наши послевоенные детские сборы на большой террасе у Корнея Ивановича Чуковского. Своим зычным, с невероятными модуляциями голосом он с таким азартом и воодушевлением читал «Бибигона», что дети подпрыгивали на своих местах, и изо всех сил били в ладоши, не зная, как выразить свой восторг.
Иной раз чтение прерывалось – в калитке показывался Пастернак. Обычно нелюдимый, Борис Леонидович ходил по переделкинским аллеям, как и положено гению – закинув голову к небу и не всех встречных замечая, но к Корнею Ивановичу нередко заходил в конце своей прогулки. Чуковский спускался к нему в сад, и они начинали с жаром что-то обсуждать, так что протяжно-тягучий, густой голос Пастернака долетал до терраски и казалось, что это гудели провода, или сосны в вершинах тревожно шумели.
Во мне, как я подозреваю, имеется какое-то хранилище знакомых с детства и некогда звучавших голосов. Вот, например, ни с чем не сравнимый голос Веры Инбер, или Павла Нилина, или Вениамина Каверина. Катаева, Кассиля, Фадеева. Но словом голос не разбудишь и не заставишь его звучать. Слава Богу, часть из этих голосов записана на плёнку, а если нет, то это огромная потеря для нашего культурного наследия.
Однажды сидим мы у Лены узким кружком и слушаем её чтение.
Она уже была одна. И. Крамов скоропостижно скончался в Ялте в 1979 году. Сказалась болезнь лёгких, быть может, тогда не умели еще её лечить, а может быть, просто судьба…
В тот вечер Лена читала нам отрывки из книги «Геббельс, портрет на фоне дневника». Трудно было себе вообразить, что эта самая женщина, освещаемая мягким светом настольной лампы, в уютной домашней обстановке сидящая сейчас перед нами, первая взяла в руки дневники рейхсминистра пропаганды, гауляйтера Берлина Геббельса, к которым до неё еще никто из советских людей не прикасался. Два чемодана с этими бесценными историческими документами на следующий день после падения Берлина, то есть 3 мая 1945 года, передал ей старший лейтенант Л. Ильин, одним из первых обследовавший подземный кабинет Геббельса в фюрербункере.
«Дневники Геббельса оказались в круговерти тех же тайн, что факт обнаружения Гитлера, и только после смерти Сталина я смогла впервые рассказать также и о том, что нами были найдены дневники Геббельса…», – пишет Е. Ржевская в том же упомянутом выше предисловии к книге «Геббельс, портрет на фоне дневника».
И вот она держит в руках «десяток толстых тетрадей, густо исписанных, – латинский шрифт с примесью готических букв… текст очень туго поддавался прочтению… неразборчивый почерк… многословие…» – начало записей относится к 1922 году и заканчивается 8 июля 1941-го, через 17 дней после нападения Германии на Советский Союз, свидетельствует Е. Ржевская о найденных дневниках.
* * *
…В эти часы лихорадочных поисков трупа Гитлера, сделав наспех какие-то выписки, Лена вынуждена была от дневниковых записей оторваться. Она сложила их обратно в чемоданы и много лет ничего об их судьбе не знала. Скорее всего, эти чемоданы затерялись где-то в фюрербункере среди перевернутой мебели и ворохов разных вещей и бумаг, оставленных там разбежавшимися в панике людьми. Но вот в 1969 году сообщение в западногерманской прессе – при посещении Восточного Берлина Л. И. Брежнев передал Германии бесценный подарок – микрофильмированные дневники Геббельса. Оказалось, они хранились в секретном архиве страны-победительницы, где до сих пор лежали мертвым грузом никем не изученные и не представленные миру.
Немецким ученым потребовалось восемь лет упорного труда, чтобы в 1987 году усилиями Мюнхенского института современной истории в сотрудничестве с Федеральным архивом дневники Геббельса были изданы в полном объеме. Половину издания составляли тетради, найденные в те горячие дни окончания войны в бункере.
Все эти события за недостатком информации у нас были неведомы широкой общественности, а потому впервые о существовании дневниковых записей одного из главарей фашизма читатели узнали из журнального варианта книги Е. Ржевской «Берлин, май 1945 года», опубликованного в «Знамени» в период «оттепели» в 1965 году. Это было своего рода открытие. Наконец-то, спустя двадцать лет после окончания войны нашим людям стало известно о том, как выглядел в лицах и образах крах нацизма, увлекший за собой в бездну небытия миллионы человеческих жизней и оставивший после себя лишь пепелища на месте сожженных городов и деревень.
Самым подробным образом о дневниках Геббельса читатели узнали из книги Е. Ржевской «Геббельс, портрет на фоне дневника», изданной в 1994 году в издательстве Советско-Британского предприятия «Слово». Переводчица Любовь Сумм, родная внучка писательницы, проделала огромную работу по отбору и переводу наиболее значимых кусков немецкого оригинала, которые дополняют и иллюстрируют авторский текст произведения.
Эта книга, написанная отнюдь не с развлекательной целью, а для предупреждения и в назидание, бередит душу, не даёт заснуть, заставляет еще раз задуматься о том, как это все произошло с народом, давшим столько гениальных имен цивилизации. Дневники показывают, как на пути к фашизму деградирует личность, отмечая свой путь предательством родных, близких, отрекаясь от своей любви, юношеских устремлений и, наконец, всего человеческого в самом себе. В том же духе гитлеровской пропаганды взвинчиваются массы, – расизм и антисемитизм начертаны на её знаменах, захватнические планы кружат головы. Объявляется война всему чуждому примитивной демагогии нацизма, – и вот уже в костер летят книги, произведения искусства… Когда-то Гёте сказал вещие, пророческие слова: «Сжигающий книги будет сжигать и людей». Именно к этому пришел фашизм, но его главари сгорели в том же огненном котле. Жуткий конец самого Геббельса и его жены Магды превосходит все представления нормальных людей о Добре и Зле. О той нравственной черте, которую, казалось бы, невозможно перейти. Оказалось, – возможно. И вот, мать собственноручно отправляет шестерых своих детей на тот свет, – она родила их для рейха, объявляет Магда Геббельс, – если рейх пал, значит, и им нет места в жизни. Символично еще и другое – на шее обгоревшего трупа Геббельса, который вместе с его женой был выставлен на обозрение на Вильгельмплаце, рядом с Рейхстагом, болтался, как удавка, желтый галстук, – его, изобретателя желтой звезды Давида, которой метили евреев, как в стаде овец, и после смерти преследует этот желтый цвет.
Еще одна гримаса Истории, всегда готовой посмеяться над глупостью рода человеческого…
Наряду с этой книгой у Е. Ржевской выходит целая серия повестей и рассказов о войне, но также и о мирном времени, поражая своей глубиной, прозорливостью взгляда писательницы на окружающую её жизнь, на отношения людей с проникновением в самую суть их психологии: «От дома до фронта», «Февраль – кривые дороги», «Ближние подступы», «Ворошенный жар», «Далёкий гул», «Знаки препинания», «Домашний очаг». Но книга «Геббельс, портрет на фоне дневника», мне кажется, занимает особое место в этом ряду.
Женщина-легенда наших дней, Елена Ржевская всю свою долгую жизнь прожила в квартире своих родителей, не имея ни машины, ни дачи, в ожидании вечно где-то задерживавшихся мизерных гонораров, не позволяя себе выходить в своих тратах за рамки самого необходимого. Всячески старалась не поддаваться давлению быта, а свои личные потребности свести к такому минимуму, без которого просто невозможно обойтись.
Что касается признания её заслуг, то нельзя сказать, что награды обошли её стороной.
У Лены не так, как у того солдата:
Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт…У неё на груди довольно густо светятся ордена и медали: два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», а также медали: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Особенно щедро она осыпана грамотами, сохранившимися в семейном архиве. Текст этих грамот стереотипный, однако впечатляет обилие населенных пунктов и городов, взятых с боями нашей армией. Привожу одну из них полностью:
«Грамота. Тов. Лейтенанту Каган Елене Моисеевне. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 6 марта 1945 г. № 292 за отличные боевые действия при овладении городами Западной Померании Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Камин, Гюльцов и Плате, всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность. Командир части, Гв. Генерал-майор Букштынович».
Подобные грамоты Лена получила также за взятие городов: Даугавпилс и Резекне; затем: Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин; затем Идрица; затем Голлиов, Штепенитц, Массов.
Но самой почетной её наградой, мне кажется, надо считать премию имени академика А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя», которую Е. Ржевской в торжественной обстановке в «Фонде Сахарова» вручили в 1996 году.
К сожалению, когда-то полученные ордена, медали, а также благодарственные грамоты не оказывают никакого влияния на материальное благосостояние, которое оставляет желать много лучшего…
– Что это наша Лена, – гневно восклицала Рахиль, – опять она без денег! И зачем только она связалась с этими редакциями, если ей там ничего не платят. Лучше бы куда-нибудь сходила! Можно с ума сойти от этой работы, – нельзя же целыми днями за машинкой сидеть!
Сама Рахиль не имела особой склонности к чтению и вряд ли способна была оценить по достоинству творчество своей дочери. Уж слишком все это тяжело. Рахиль предпочитала, по свидетельству домашних, время от времени возвращаться к своему любимому роману «Анна Каренина», и в нём искать ответа на свои душевные запросы, и вновь и вновь переживать и плакать… Вот она, трагическая судьба женщины, но все, что происходило с героиней этого произведения, так близко и понятно!
Возможно, Рахиль была права в своем постоянстве при выборе чтения. Недаром один наш замечательный телеведущий постоянно внушает – читайте и перечитывайте классику!
Елена Ржевская, несмотря на свой преклонный возраст, продолжала изо дня в день трудиться, пока окончательно не слегла… Сейчас она прикована к постели, и в часы просветления горько сетует на то, что не успела дописать, не успела рассказать все, что видела на фронте, не успела поделиться мыслями, которые теснятся и не дают покоя. Чаще всего она вспоминает свои фронтовые дни. Она ушла на фронт двадцатидвухлетней молодой женщиной, оставив на попечении родителей Павла, своего первого мужа, с которым к тому времени рассталась, свою двухлетнюю дочку Олю. Там, на войне, она ежедневно подвергалась смертельной опасности. В октябре 1942 года до неё дошла весть о гибели Павла Когана. На фронте она встретила любовь, но любовь закончилась разлукой. Он был семейный человек и не мог бросить жену и детей. Этот разрыв Лена перенесла молчаливо и стоически, но долго потом плакала по ночам от томившей сердце тоски.
Как гениально сказал в конце своей трагической жизни поэт:
Я верю не в непобедимость зла, А только в неизбежность пораженья… /Г. Иванов/.Неужели все-таки никакой надежды нет? И каждая биография неизбежно заканчивается «пораженьем»?!
Рахиль с Бориской на склоне лет благоденствовали. Его пенсия старого большевика стабильно приносила какие-то крохи, дававшие возможность оплатить ежедневные траты.
Ну и дети подбрасывали им со всех сторон. Бориска не переставал любоваться своей женой, и юношеский пыл в нем еще не угас. Она временами грустила о прошедшей молодости, но при этом не забывала подкрашивать щёчки и кокетливым жестом поправлять все еще смоляно-черную косу, уложенную короной. К своим внучкам Оле и Маше, а также к троим своим внукам, Коле, Лёне и Максиму, никаких особенных чувств Рахиль не испытывала и вечно путалась в именах.
Но по-прежнему была утешительницей соседок и в городе, и на даче.
А вот Борис Наумович на склоне лет испытал еще одну нежную привязанность. У нас родился сын Максим, и в Борисе Наумовиче всколыхнулись такие чувства к этому младенцу, что он готов был хоть каждый день приезжать к нам домой и прогуливать его в коляске по парку.
Он выезжал с коляской на аллею и имел при этом такой гордый и счастливый вид, что все должны были видеть – вот, мол, смотрите, – и мне доверили ребенка, и я, как положено всем старикам, катаю коляску с бесценным маленьким существом, самым дорогим на свете. Когда я прибегала за ними к условленной клумбе, младенец спал, а Борис Наумович, с блаженной улыбкой слегка покачивая коляску, с лицом, обращенным к верхушкам сосен, мечтательно думал о чем-то…
О чем он думал, после всего перенесённого… О плохом и страшном Бориска никогда не вспоминал, на здоровье не жаловался. Каким-то чудом он уберегся от каторжных работ на каком-нибудь лесоповале или строительстве в тайге железной дороги. В последнее время в Сиблагере он работал швеёй-мотористкой, строчил на машинке бушлаты, быть может, для таких же зеков, каким был он сам. Работа была изнурительная и требовала огромной концентрации внимания. Секундная забывчивость стоила Бориске насквозь простроченного второго пальца правой руки, подправлявшего грубую ткань возле самых лапок машинки. Иной раз выручала и его исконная профессия фотографа, – можно было немного подработать. Но это и все. А больше ничего он о себе не рассказывал. Свою настоящую судьбу Бориска считал исключительно счастливой, – ведь он соединился с ней, со своей возлюбленной.
Интересно было бы знать, из чего, из какого материала были вылеплены эти люди, не сломленные ссылками и тюрьмами, не озлобившиеся от совершенной по отношению к ним несправедливости, не утратившие веры во что-то светлое и все еще жаждавшие счастья и любви?!…
И вдруг все это рухнуло.
Мы с Юрой получили известие из Дорохова: Рахиль умерла, приезжайте! Мы с мужем кинулись к ним на дачу, был сияющий летний день, гроб еще не привезли, и моя свекровь Рахиль лежала на кровати. Лежала, как живая, – свежее лицо, темные волосы без седины.
Шел 1967 год. Ей было всего лишь 77 лет…
Что же такое произошло?
Она потеряла очки, и в поисках этих очков осмотрела все ящики, все закутки, осталось заглянуть на верхнюю полку шкафчика, где она держала белье. Подставив табуретку, Рахиль потянулась к верхней полке, ветхий шкафчик покачнулся, опрокинулся и острым углом ударил её в висок. Она упала. Показалось немного крови, на какое-то время Рахиль потеряла сознание, но потом пришла в себя.
Быстро приехала «Скорая помощь». Врач обработал рану и велел лежать, но для госпитализации оснований не нашел.
А к вечеру Рахиль скончалась.
Мы были просто в шоке. Никаких болезней, завидная физическая сохранность.
Как будто бы кто-то невидимый преследовал её по пятам и только и ждал момента, чтобы накрыть её своей тенью и утащить в темноту. В этот сияющий летний день смерть казалась столь неуместной и столь неприменимой к моей свекрови Рахили, такой открытой ко всем проявлениям жизни и все еще готовой воспринимать её радости и невзгоды.
Рахиль продолжила список насильственных смертей, которые постигли в свое время моих славянских предков. Мой прадед со стороны матери, Никанор Семенович Березин, замерз в степи в сильный мороз и пургу, возвращаясь домой, порожняком, после очередной поездки с грузом, – лошадь привезла его, мёртвого, к воротам; дед со стороны матери, Иван Иванович Лебедев, погиб в голодный 1922 год, когда мор косил людей по всему Поволжью; второй дед, со стороны отца, священник Евгений Степанович Карельский, расстрелян красными как заложник при подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине в 1921 году.
Гражданская панихида по Рахили Соломоновне проходила в Москве, в ритуальном зале одной из городских больниц, и мы поразились тому, какое количество народа собралось, чтобы её проводить. Казалось, все население дачного поселка Дорохово и дома на Ленинградском шоссе столпилось в этом большом траурном зале, чтобы выразить свое сожаление об этой утрате. К кому теперь идти со своей сердечной болью, к кому обратиться, если и не за советом, то по крайней мере за поддержкой и пониманием?!… Панихида затягивалась, и не иссякала очередь желающих сказать последнее слово, поделиться своими чувствами искренней и глубокой скорби по поводу внезапного ухода Рахили. Многие женщины не могли сдержать слез, кто-то называл её целительницей душ, кто-то доброй феей…
Все это время, пока шла панихида, Борис Наумович неподвижно стоял у края гроба с отрешенным видом, как бы не осознавая происходящего и вряд ли слышал прощальные слова, которые произносили люди.
После похорон он неотлучно жил при Лене, избегал любого общества и все чаще запирался у себя в комнате, чтобы всецело предаться своей печали. Казалось, он погрузился в какую-то тьму, – как будто бы кто-то выключил рубильник, и все краски мира разом для него померкли.
На исходе лета Бориска все же собрался на дачу. Пополнил запас дров, принёс в дом полные ведра воды из водокачки, вымел крыльцо, – а вдруг кто-нибудь из семьи решит провести на природе неделю-другую. На прощание покормил синиц и белок. И уехал, и больше никогда сюда не возвращался, – не мог видеть этого места, где так внезапно ушла из жизни его любимая Рахиль.
P.S. Печальная новость пришла к нам из-за океана. В Лос-Анджелесе скончался патриарх нашей семьи, девяностопятилетний Борис Моисеевич Каган. Он просил похоронить свой прах на родине, в России. Так что душа его, видимо, витает где-то здесь, рядом с нами.
Москва, 2013–2014 гг.В поисках истины
Хотелось бы рассказать историю, не омраченную разными бедами и несчастьями, но мы живём в определенную эпоху и видим ее такой, какова она есть.
В советское время репродукторы звали нас в светлое будущее: «Над Москвой весенний ветер веет, с каждым днём всё радостнее жить!»
А дома мама и бабушка, запершись в ванной и открыв кран на полную катушку, рыдали, – ночью был арестован дядя Митя, мамин брат. И у папы на душе тяжелым камнем лежала трагедия, пережитая им в ранней юности и наложившая отпечаток на всю его дальнейшую жизнь… От меня всё это держалось до поры до времени в глубокой тайне.
Но было и другое. Осуществлялись грандиозные стройки, огромная страна делал рывок навстречу прогрессу, навстречу цивилизации, навстречу современности, и главное в людях был энтузиазм и была вера.
Как в нас все это сочеталось? Судьба моего отца – яркий тому пример.
Большинству современников мой отец, писатель Николай Вирта, запомнился как автор главной своей книги – романа «Одиночество». Хотя были люди, которые также ценили его романы «Закономерность» и «Вечерний звон», пьесы «Земля» и «Клевета, или Безумные дни Антона Ивановича», кинофильмы, снятые по его сценариям: «Сталинградская битва» и «Заговор обреченных». Он был свидетелем и участником исторических событий, таких как антоновский мятеж на его родине, Тамбовщине, Гражданской войны, Сталинградской битвы. Он жил на гребне успеха: орден Ленина, четыре Сталинских премии, переиздания, премьеры, материальное благополучие. Но так ли безоблачно было у него на душе? И так ли просто складывались у него отношения с пригревающей его властью?
По прошествии лет у меня возникла настоятельная потребность в этом разобраться, и вот я сижу за письменным столом.
Происхождение моего отца прослеживается в семейных хрониках всего лишь до третьего поколения.
Мой дед со стороны отца, Евгений Степанович Карельский, был потомком переселенцев из Карелии, чем и объясняется его фамилия, которым за какие-то заслуги императрица Екатерина II пожаловала земельные наделы в центральной плодородной части России. Давно уже за оградой старого погоста, заросшего сиренью, сровнялась с землей его могила. Развалилась церковь, где он служил, от варварского обращения и старости.
Евгений Карельский окончил духовную семинарию в Тамбове и, покружив несколько лет по губернии в поисках подходящего прихода, осел окончательно в селе Большая Лазовка. Было это примерно в 1911 году. По мнению моего отца, это, не самое завидное место службы, было выбрано о. Евгением по двум причинам – быть подальше от церковного начальства, с которым у него были постоянные противоречия, а заодно и от грозного родителя. Свои обязанности он выполнял добросовестно, однако особым религиозным фанатизмом не отличался. Достаточно сказать, что собственных детей о. Евгений не принуждал к соблюдению поста или регулярному посещению церкви.
Побывав уже взрослой в тех краях, где он когда-то служил, я улавливала в воспоминаниях старых крестьян почтительное преклонение перед его трагическим образом.
По всей видимости, людей привлекали в нем его отзывчивость к человеческим невзгодам, искренность, теплота и какая-то природная мягкость в обращении. Он был истинным пастырем своих прихожан, и нередко видели батюшку, который, присев на первое попавшееся бревно и не спуская с лица собеседника своих внимательных глаз, терпеливо выслушивал его, стараясь вникнуть в суть очередной крестьянской драмы, понять его заботы и беды.
По свидетельству моего отца, он был весьма серьезно занят изучением трудов по истории религии, философии и постоянно пополнял свою и без того обширную библиотеку.
В новом добротном, только что отстроенном доме у деда собирались просвещенные люди со всей округи: учителя, политические ссыльные, кое-кто из прихожан. Долго спорили, расходились за полночь: время было тревожное, надвигалась революция.
Дед, как считал мой отец, по своим политическим убеждениям, скорее всего, относился к кадетствующим эсерам. Будущее устройство России представлялось ему в виде резко ограниченной монархии с представительством из «образованных классов» и с непременным участием в управлении государством депутатов из крестьянской среды.
Октябрьскую революцию о. Евгений, известный своими либеральными воззрениями и независимым нравом, принять не мог, и оказался, если применить современную терминологию, в молчаливой оппозиции.
В лесных массивах Тамбовщины, начиная с 1918 года, стали собираться разрозненные остатки белогвардейских соединений, откатившиеся сюда с юга, дезертиры и дружины крестьян, восставших против большевистского деспотизма. Во главе движения встал Александр Антонов, бывший эсер-террорист, отбывавший бессрочную каторгу за налеты и «эксы» и освобожденный в феврале 1917 года.
О. Евгений сочувственно относился к восставшим крестьянам и самому их лидеру Александру Антонову, видимо, с этим движением связывая свои надежды на будущее. Село Большая Лазовка, ставшее прообразом села Дворики во многих произведениях моего отца, находилось едва ли не в центре ожесточенных боев восставших и регулярной армии под командованием Тухачевского.
Документы, опубликованные в последнее время, проливают свет на то, к каким жестоким мерам прибегало командование Красной Армии для подавления восстания и устрашения местных жителей. На борьбу с «мятежниками» было брошено огромное количество бронетехники, бронепоезда, авиация и сорокатысячная регулярная армия. (Использованы документы из тома «Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. «Антоновщина», Тамбов, 1994 г.) Появился приказ полномочной комиссии ВЦИК № 116 о взятии в селах «настроенных особенно бандитски» заложников с последующим обязательным их расстрелом перед жителями села, согнанными на сход, если они не выдадут антоновцев. «Настоящее полномочная комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению». И подписи: Антонов-Овсеенко, Тухачевский.
Во время одного налета красных на село дед был захвачен в заложники и на глазах односельчан и семьи расстрелян в упор. Мою бабку, попадью, с тремя малолетними детьми и сыном Коленькой, которому было четырнадцать лет, приволокли на площадь и поставили впереди толпы. Таким образом, мой отец стал непосредственным свидетелем этой бесчеловечной расправы.
В том же сборнике документов приводится длинный список произведенных расстрелов заложников, относящихся к тому времени. Среди прочего находим следующие строки: «Политсводка у. политкомиссии 2-го боевого участка о состоянии борьбы с повстанцами. Ст. Сампур, 12 июля 1921 г. Больше-Лазовский район.
5/7 при проведении приказа № 171 в селе Большая Лазовка расстреляно 5 заложников, в том числе священник Карельский. Предуполиткомиссии Смоленский».
До меня дошли сведения, что в селе Большая Лазовка на месте этой публичной и столь бесчеловечной казни жители хотели бы установить памятный камень. Ну что ж, будем надеяться…
О дальнейшем отец рассказывал скупо. Казненных разрешили похоронить за оградой кладбища, но без всяких надгробий и без соблюдения обряда гражданской панихиды или, тем более, церковного отпевания. Поистине большевики той поры совершенно не боялись Бога. Интересно было бы знать – во что верят нынешние наши коммунисты, столь истово осеняющие себя крестным знамением перед телекамерами и чьи доходы измеряются миллионами долларов?
О том, что пережила семья Карельских после всего произошедшего, можно только догадываться. Как моя бабушка, Елизавета Васильевна, вернулась в опустевший дом с тремя дочерьми мал мала меньше, как переступил порог опустевшего жилища мой отец? Тяжкий груз ответственности падал ему на плечи: трое маленьких сестер и мать, которая из волевой и властной женщины сразу превратилась в растерянную и беспомощную вдову «из бывших».
Некоторое время они продолжали жить в своем доме, вплоть до его конфискации. Большой и удобный, он резко выделялся на фоне всеобщей бедности и запустения. Избы, сложенные в основном из самана, под соломенными крышами, к весне прораставшими мхом, быстро оседали, заваливаясь набок, и, если бы не подпорки, грозили рухнуть на землю. Прочные и основательные дома были лишь у немногих зажиточных крестьян, их усадьбы были обнесены высокими заборами и охранялись сторожевыми собаками. Село так и делилось по признаку достатка: Большой Порядок, Нахаловка и Дурачий Конец. «На Дурачьем Конце бедность была извечной. Люди как бы отдались в ее полную власть: ужасная нужда породила в здешних обитателях робость, похожую на тупость, отчего, вернее всего, и родилось название этой вечно униженной и оскорбляемой части села» – так писал позднее Н. Вирта в своей автобиографической повести «Как это было и как это есть».
С грустью должна сказать, что, навещая своего отца в пятидесятые годы, когда тот на какое-то время поселился в своих родных краях, я наблюдала ту же самую картину: избы-развалюхи из самана, крытые соломой. На обед из русской печи вытаскивалась вечная картошка и пареная репа. И в отместку советской власти, ничего не платившей за трудодни, воткнутые в землю вверх корнями саженцы, предназначенные для лесозащитных полос, которые, согласно сталинской воле, должны были появиться по всей стране. В данном случае этот русский бунт был совершенно бессмысленным, и я никогда в такое не поверила бы, если бы не видела это своими собственными глазами.
Когда я узнала до тех пор тщательно хранившуюся в тайне историю моего деда, я как бы новыми глазами взглянула на мою бабушку, попадью Елизавету Васильевну. Хорошо помню ее облик – статная, дородная, с голубыми пронзительными глазами, она происходила из состоятельной купеческой семьи и кроме немалого приданого принесла в дом жизненную энергию, трудолюбие, преданность долгу жены и матери. Евгений Степанович воспитанием детей занимался как-то вскользь, видимо, и это дело предоставив своей жене.
«Моими занятиями вне школы и вне дома отец не интересовался совершенно, не мешал дружить с сельскими ребятами и проводить время, как мне вздумается. Не было случая, чтобы меня не пустили в ночное или на ночевку в поле. Когда приходили сроки уборки подсолнечника, я помогал своим приятелям; уезжали мы в поле недели на полторы», – писал отец о своем детстве.
На даче в Переделкино, где наша семья обитала с 1937 года по 1957 год, мы с отцом заложили и вырастили огромный сад. Саженцы отец привозил из Мичуринска, и так как это были отборные сорта, а уход за ними был грамотным, то с некоторых пор сад из радости становится обузой, потому что одной семье невозможно было употребить все это немыслимое количество ягод, сливы, яблок. Мы все это собирали в корзины, начиная с клубники, потом шла смородина, потом яблоки «Московская грушовка» и посылали в Москву своим близким и не близким знакомым. «Примите, ради Бога, плоды земли. Ведь не пропадать же им. Просто как-то неудобно перед садом!»
Взаимосвязь с природой служила отцу утешением и отрадой до конца его дней. Недаром лучшие страницы его произведений связаны с землей. Образ земли-кормилицы, образ «малой родины» будет впоследствии с большой художественной силой воссоздан в его романах «Одиночество», «Вечерний звон», в его рассказах.
Но вернемся в школьные годы Н. Е. Вирты. Подлинной его страстью с тех пор, как он научился читать, были книги. Благо батюшка Евгений Карельский пополнял свою библиотеку книгами светского содержания. В своей сельской глуши в те годы он выписывал журналы «Нива», «Огонек», «Мир приключений», «Вокруг света». Собирал русскую и зарубежную классику. Естественно, маленький Коля, как любознательный подросток, проглатывал все подряд. Все доступные в переводах (мой отец, к сожалению, не знал иностранных языков) произведения Джека Лондона, Жюля Верна, Майн Рида, Брета Гарта поглощались подростком за один присест. Жгучий интерес к российской истории пробудили в нем книги полулегального издания «Донская речь». Скорее всего отец не получил какого-то систематического образования, но что было видно любому непредвзятому человеку при общении с ним, так это его удивительная осведомленность в области истории, религии, политики и прочих общественных наук.
Школьная учительница Ольга Михайловна, не раз упомянутая под своим истинным именем в произведениях отца, завершала неформальную часть его образования. Из ее уст он узнал о многих вещах – о классовом расслоении крестьянства, о положении его беднейших слоев. Прототипы будущих произведений писателя были тут же, рядом, – Андрей Андреевич, по прозвищу Козёл, не вылезавший из нужды, безлошадный, перебивавшийся на обрезках пахоты бедняк, и Сторожев, крепкий хозяин, которого, казалось, никому не под силу было свалить, оторвать от собственности. Но все получилось по-другому.
Отрочество отца было грубо прервано. Личная трагедия семьи, потеря отца, совпала с разгромом антоновского мятежа, произведенного армиями печально прославившихся на этом поприще Тухачевского и Антонова-Овсеенко (какое символическое совпадение фамилий!). После этого на Тамбовщине окончательно установилась советская власть. Отец некоторое время работал пастухом, потом писарем в сельском Совете, однако вскоре дом деда со всем хозяйством был конфискован, и моей бабушке с детьми ничего не оставалось, как податься в Тамбов. Там она за-ради Бога ютилась у каких-то родственников, до дна испив чашу лишений, выпадающих на долю беженцев, каковыми они в то время и были, если только не отнести их к погорельцам или пострадавшим от стихийного бедствия. Трудно вообразить себе, на какие средства они существовали. Отец вспоминал, что он подрабатывал, где только мог, но все же посещал школу. В Тамбове сохранилась памятная доска: «В этом здании учился писатель Вирта (Карельский) Николай Евгеньевич (1906–1976 гг.)»
Писать Николай Вирта начал рано. Первые его литературные опыты, рассказы, были опубликованы в 1923 году в газете «Тамбовская правда», где он работал некоторое время репортером. Его заметили, поддержали, советовали писать обо всем, чему он был свидетелем в своем родном краю. Однако оставаться на Тамбовщине ему, сыну расстрелянного красными священника, по всей видимости, становилось опасно. Его судьба могла сложиться самым трагическим образом, – в неразберихе Гражданской войны все же было широко известно в тех краях, что о. Евгений Карельский пострадал, как пособник мятежника Антонова.
И начались скитания Николая Евгеньевича Карельского, как тогда он официально назывался, по России. Он менял псевдонимы, профессии, переезжал из города в город: Саратов, Кострома, Махачкала. В Костроме, в редакции местной газеты он встретил мою маму, – после окончания гимназии она пришла туда в поисках какой-нибудь работы. Это была любовь с первого взгляда, и молодые люди вскоре обвенчались.
Отец сотрудничал в местных многотиражках, журналах. Когда они с мамой в поисках заработков очутились в Махачкале, отец организовал Театр Рабочей Молодежи и был по совместительству актером, режиссером и автором реприз. Актерские склонности были в нем очень сильны. У нас дома всегда был театр одного актера. Особенно любил отец изображать царя-батюшку, императора Всея Руси, и все знакомые с удовольствием ему подыгрывали. Так драматурга Константина Финна, ближайшего своего друга, он назначал первым советником, Юзю Гринберга, как критика, делал главным казначеем, а поэта Володю Курочкина превращал в шута. Иногда целый вечер в нашем доме в Лаврушинском шел этот импровизированный спектакль, и при этом все жутко веселились. Ну, а уж если роль шута отец брал на себя, тут он вытворял такое, что все просто сползали на пол со стульев от смеха. Впрочем, нередко бывало и так, что среди всеобщего веселья и застолья, а мои родители отличались хлебосольством неиссякаемым, отец вдруг замыкался в себе и, к величайшему смущению моей мамы, удалялся к себе в кабинет.
В 1931 году, имея на руках семимесячного ребенка, т. е. меня, с бабушкой Татьяной Никаноровной, матерью моей матери, и кое-каким скарбом мои родители переезжают в Москву. Отец в Москве перебивается журналистскими заработками, печатает приключенческие романы с продолжением, рассказы. Но отсветы пережитого, громовые раскаты тех страшных времен Гражданской войны не утихают в его сознании, не дают покоя. Он сел за книгу. Писал одержимо, ночами, на кухнях снимаемых квартир при свете керосиновой лампы. Я помню одну из таких коммуналок в Кунцеве, где мы тогда ютились. В особенности не забыть мне запаха не то керосинок, не то примуса, и ощущение шершавости от дощатого, не гладко оструганного пола. Кормилицей семьи была тогда мама, она работала редактором в одной заводской газете.
Но вот роман «Одиночество» закончен. В нем нашла отражение одна из трагических страниц истории Гражданской войны – история крестьянских волнений на Тамбовщине в 1918–1922 годах. Непримиримая ненависть к большевикам согнанного со своей земли Петра Ивановича Сторожева, жаркая любовь батрака Лёшки и дочери крепкого хозяина-середняка Наташи Баевой, неудержимая ярость в борьбе с красными Александра Антонова, провозгласившего себя защитником крестьян, и простодушная вера в него обездоленного народа… Все это в органическом сплаве составляет основное содержание романа. Начинается он с описания Тамбова в преддверии Гражданской войны:
«…Холод, мерзость, трусливый шепоток – губернский город Тамбов. Март восемнадцатого года… <…> Непогода и страх загнали обывателей в дома. На тяжелые щеколды заперли люди двери, дубовыми ставнями закрыли окна».
Однако никакие запоры не могли спасти обывателя от надвигающейся бури. Мятеж, как пламя пожара, распространился по всей Тамбовской губернии и перекинулся на сопредельные с ней регионы. В романе даётся картина разрухи, обнищания, голода, которые обрушились на Тамбовщину в результате революции и Гражданской войны. И хотя это произведение и писалось по законам советского времени, оно далеко выходит за рамки идеологических канонов той поры: и в обрисовке объективных обстоятельств противостояния восставшего народа и всей мощи государственной машины подавления, а также в изображении злейших врагов коммунистов, какими были Сторожев и Антонов. Как писал впоследствии маршал М. Н. Тухачевский: «Крестьяне доброжелательно относились к партизанам. Однако по отношению к красноармейцам проявляли поголовную ненависть и открытую вражду… Мы вели войну не против бандитизма, а против народа». («Холокост российского крестьянства, или Правда о народном восстании 1918–1921 гг.», информационный портал «Пенза—онлайн», -online.ru.) Такое запоздалое прозрение посетило маршала Тухачевского накануне собственной гибели.
В начале 1935 года никому не ведомый автор Николай Вирта, взявший себе этот псевдоним, как основную фамилию, переступил порог журнала «Знамя», где главным редактором был Всеволод Вишневский, и вручил ему рукопись романа «Одиночество».
Много позднее отец писал в дневнике, что тогда он главным образом надеялся на чудо. И оно произошло.
Всеволод Вишневский первым прочитал роман и сразу оценил новое сильное дарование, появившееся на литературном горизонте. Он одобрил роман, в котором автор с подлинной страстью сказал слово правды о страданиях и надеждах русского крестьянства, о трагедии Гражданской войны. Все это требовало от писателя, помимо глубинного понимания изображенных в романе событий, еще и большого гражданского мужества.
Роман «Одиночество» вышел в № 10 журнала «Знамя» за 1935 год. Уже на следующий год он публикуется отдельной книжкой в серии «Роман-газета». Вот она у меня в руках, я держу ее перед собой. Собственно, это небольшая тетрадка в мягкой, пожелтевшей от времени бумажной обложке с портретом автора.
Роман был сразу замечен критикой и читателями, оценившими точность психологического анализа, достоверность и остроту изображаемых событий, документальную правдивость романа. Но праздновать победу было явно преждевременно. Отношение к роману Николая Вирты, в особенности в официальных кругах Союза писателей, было далеко не однозначным. В образе главного героя романа Петра Сторожева, подлинного хозяина земли, в буквальном смысле слова политой его потом и кровью, возделанной его руками и не желавшего с ней расставаться, многие усмотрели апологетику кулачества, или, иначе говоря, моральную поддержку враждебной идеологии. Одному маститому критику, В. Ермилову, исправно выполнявшему любые заказы литературных властей, было поручено написать разгромную рецензию, целый «подвал» для «Правды». Такая публикация означала бы если не физическую расправу с автором романа, то уж наверняка загубленную литературную судьбу. Но тут случилось невероятное событие, о котором часто рассказывал Н. Вирта.
Его вызвал Мехлис, в то время главный редактор «Правды». Найти отца было не так просто, – ведь мы ютились на окраине Москвы, в Кунцеве, квартира была без всяких удобств и уж тем более без телефона. Однако нас разыскали. Это было сильной стороной тогдашнего режима: если надо – достанут из-под земли. Перед семьей встал вопрос – в чем идти к высокому начальству. Благо, как я понимаю, была летняя пора, и рубашка с брюками нашлись. Но вот как быть с обувью? Пришлось белые парусиновые полуботинки посильнее начистить зубным порошком, имевшим обыкновение распространять вокруг себя белое облако при энергичных движениях, и в них шагать по вызову. Когда отца ввели в кабинет великого партийного босса, Мехлис сидел за столом и что-то читал, по обыкновению тех времен, не сразу подняв на вошедшего свой начальственный взор. Когда же он его поднял, переждав несколько мучительных для посетителя мгновений, он с неподдельным изумлением окинул тощую фигуру отца и грозно воскликнул:
– Зачем пожаловал? Мы вызывали не тебя, а твоего родителя!
Уразумев, что стоящий перед ним в начищенных зубным порошком полуботинках молодой человек и есть автор нашумевшего романа, Мехлис взялся за телефон.
– Товарищ Сталин! – сказал он в трубку. – Вы-то думали, что «Одиночество» написал старый эсер. Ха-ха-ха, автор, оказывается, просто юнец!
Разговор этот, нигде не зафиксированный, кроме как в памяти нашей семьи, решил судьбу отца. Оказалось, что Сталин прочитал роман. Пристрастие вождя к чтению литературных произведений – общеизвестный факт. Поразительно, однако, то, что, как выяснилось впоследствии, он запоминал текст целыми кусками и при личной встрече с отцом процитировал дословно особенно поразившее его место из романа. Парадоксально, что вождю понравилось именно то, что могло послужить главным обвинением против начинающего писателя, а именно – образ сильного, восставшего против советской власти «кулака», который остался несломленным до конца. Сталин высказался в том духе, что нам, мол, еще предстоит жестокая борьба с контрреволюционными элементами, с такими не разоружившимися врагами, как Сторожев. Вместе с тем Сталин обращался к писателю с вопросом: почему автор «Одиночества» не отразил в своем романе тот отпор, который был дан мятежникам как со стороны государства, так и снизу, со стороны народа?! И предлагал как следует подумать об этом.
Действительно, в первоначальном варианте романа история подавления и разгрома антоновского мятежа остаются как бы за кадром, эту историю, страница за страницей, Николаю Вирте еще только предстояло вписывать во все последующие переиздания романа.
Вся дальнейшая жизнь моего отца, по моему представлению, происходила в расщепке между двумя этими репликами высочайшего цензора: первой – одобрительной и второй – предостерегающей. Можно лишь догадываться, какие картины вставали перед внутренним взором отца, когда он воображал себе мимику вождя и рокот вкрадчивого голоса:
– Как же это вы погрешили против истины, товарищ Вирта, и не описали в своем романе победоносное шествие советской власти?!
Никакие компромиссы здесь были невозможны. Надо было сделать свой выбор. Отец выбрал путь славы и успеха.
Итак, через год после журнальной публикации «Одиночество» выходит отдельной книгой в серии «Роман-газета». По совету Всеволода Вишневского отец подвергает роман существенной правке. Он вносит значительные изменения в композиционную и психологическую структуру романа, в характеристики персонажей. Разрабатываются более подробные мотивировки поступков и умонастроений центральных героев романа: Петра Ивановича Сторожева, его брата, революционного матроса Сергея, Лёшки, Андрея Андреевича «Козла». Основное направление авторской редактуры, проведенной над стилем романа, состоит в обогащении речевых характеристик персонажей, освобождении от беллетристических штампов, типа «лицо, изборожденное морщинами», «жестокие страдания» и прочее. Произведение обретает сюжетную и стилевую завершенность и в этом виде представляет собой наиболее полное воплощение авторского замысла.
Можно сказать, что роман «Одиночество» имел счастливую судьбу. При жизни Н. Вирты он издавался множество раз, был переведен едва ли не на все европейские языки, издан в Америке, в Японии. Практически в каждой крупной библиотеке мировых столиц можно найти в переводе на соответствующий язык том «Одиночества». В дальнейшем по роману была создана опера «В бурю», на Одесской студии снят двухсерийный фильм с одноименным названием. Однако сама история создания «Одиночества» была так же непроста, как и судьба его автора.
В результате многочисленных доработок роман приобрел другую структуру, сильно увеличился в объеме. Если первые его издания не превышали 7 печатных листов, то последнее прижизненное, завизированное автором издание подходило к 22-м. Можно по-разному относиться к такого рода капитальной переработке художественного произведения. Вопрос заключается только в том, насколько искренним было намерение автора переосмыслить первоначальную версию романа и в какой мере это было навязано ему внешними обстоятельствами. Возможно, следует признать, что окончательный вариант «Одиночества» приобретает большую масштабность, ближе подходит к исторической реальности в обрисовке обстоятельств Гражданской войны. В нем автор дает освещение всему происходящему как бы с обеих сторон, так как несомненно, что в событиях на Тамбовщине было два аспекта – восстание и его подавление.
В конце жизни Н. Вирты я вела от его имени переписку с американским словарем «Who is who» (1975 г.). Надо было указать наиболее значительные, с точки зрения самого автора, произведения для включения в библиографию, а также отметить издания, текст которых мог бы служить эталоном. В последнем письме, которое я получила от отца из Тамбова, где он тогда лежал в больнице, его рукой написано распоряжение: «Таня, я хотел бы опереться в ответном письме «Кто есть кто» на: «Вечерний звон», «Одиночество», «Закономерность», «Катастрофу»».
Но главной мечтой Н. Вирты, которой он делился со мной незадолго до смерти, было опубликование «Одиночества» в первоначальном виде, в том виде, в каком этот роман был напечатан в «Роман-газете» за 1936 год. Это было как бы духовным завещанием моего отца, но я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь его выполнить…
В 1937 году в жизни начинающего писателя происходит еще одно значительное событие. Николая Вирту приглашает к себе В. И. Немирович-Данченко и предлагает написать пьесу для МХАТа по роману «Одиночество». Можно себе вообразить волнение молодого автора, когда в назначенный час он предстал перед великим преобразователем театра. В тот вечер они долго сидели в кабинете Владимира Ивановича, разговаривали, размышляли о том, что же главным образом хотел показать Николай Вирта в своем произведении. Отец запишет потом в своем дневнике:
«Я хотел показать мир деревни в драматический момент крушения старых устоев, я хотел показать человеческие страсти, которые кипят на селе вокруг земли…
– Ну, вот и найдено название, – заметил Немирович-Данченко, – совершенно ясно: «Земля»».
Так родилось название будущей пьесы.
Отец с энтузиазмом взялся за работу. В его дневниковых записях есть признание о том, что писать свой первый роман он сел под впечатлением постановки во МХАТе, которую они с мамой смотрели после переезда в Москву. В результате невероятных усилий были получены билеты на спектакль «У врат царства», главную роль в этой пьесе играл Качалов. «Спектакль произвел на меня потрясающее впечатление. Трудно передать словами душевный сдвиг, совершившийся во мне» – так пишет отец в дневнике. Импульс был столь велик, что заставил его взяться за перо. И вот теперь – пьеса. Работа над ней идет нервно, привлекаются опытные драматурги – А. Файко, О. Леонидов, и, наконец, пьеса принимается театром. В. И. Немирович-Данченко сам ставит спектакль и занимает в нем плеяду блестящих актеров. Главного героя, Сторожева, играет Хмелёв, красавица Андровская – Наташу, Грибов создает яркий образ хитроватого, смекалистого крестьянина-середняка Фрола Баева, отца Наташи, неподражаемый Топорков выступает в роли Антонова.
5 ноября 1937 года состоялась премьера, приуроченная к очередному юбилею Великой Октябрьской революции.
Действие развивалось в стремительном темпе: крестьянские сходки, пьяные загулы в штабе Антонова, любовные сцены и, наконец, одинокие скитания Сторожева, – и вот уже он, то ли убив, то ли ранив Лёшку, как волк, скрывается в ночи. Концовка спектакля по тем временам была нетривиальная: выходило, что классовый враг, избежав заслуженной кары, уходит от возмездия. Впечатление было буквально ошеломляющим. Зрительный зал на несколько мгновений замирал в настороженной тишине, и только потом были аплодисменты, вызовы на сцену автора пьесы, постановщика, режиссера и, конечно, актеров. Словом, успех!
Постановка пьесы «Земля» во МХАТе, несомненно, вписала яркую страницу в историю театра. Спектакль долгие годы входил в репертуар театра и пользовался неизменным успехом у зрителей. Афиша спектакля по сию пору украшает фойе на Тверском бульваре. Рецензии посыпались со всех сторон. «Этот образ (Сторожева. – Т. В.) – то принципиально новое, что внес Вирта в художественную советскую литературу… Вирта сумел создать полноценный образ нашего классового врага, не поступившись ни граном правдивости и житейской убедительности», – писал известный критик А. Тарасенков («Статьи о литературе». М., Худ. лит., 1958 г.). Другие критики ставили пьесу «Земля» в один ряд с классикой советской драматургии, произведениями К. Тренева, Н. Погодина, А. Корнейчука, Вс. Иванова (Я. Варшавский. «Новое и старое в Художественном театре», журнал «Театр». 1937 г., № 9). Восторженные отзывы в прессе вызывала игра актеров, создавших на подмостках театра незабываемые крестьянские типажи, словно бы перенесенные сюда прямо с деревенской завалинки.
Отец неоднократно признавался, что некоторые персонажи его произведений взяты им непосредственно из жизни и нередко с сохранением подлинных фамилий. Однажды судьба свела его с Петром Ивановичем Сторожевым. Вот как это было.
Творческая бригада МХАТа в составе автора пьесы Николая Вирты с его женой, помощника режиссера Н. М. Горчакова, помощника художника и администратора была командирована на Тамбовщину для сбора материала, необходимого для воссоздания на сцене деревенской среды. Их интересовало буквально все – местный фольклор, бытовые детали, пейзаж, дома и, конечно же, люди. Известно, что достоверность во всем, вплоть до мельчайших примет окружающей обстановки, была краеугольным камнем новаторского метода МХАТа. Сохранился рукописный рассказ Н. Вирты об этой поездке, которая сама по себе была весьма примечательной. От Тамбова творческая бригада тряслась в полуторке и пока доехала до села Большая Лазовка, названного в пьесе Двориками, отбила себе все бока. Маме уступили место в кабине водителя, мужчины ехали в кузове. Особенно страдал при этом Николай Михайлович Горчаков, облачившийся в экспедицию в элегантное городское пальто, никак не приспособленное для сидения в кузове сомнительной чистоты грузовика. Ночевка в каком-то селе по пути, отсутствие нормальной еды, после того, как домашние припасы были очень скоро уничтожены, – словом, бригада МХАТа сполна насладилась «местным колоритом». Наконец, они достигли цели своей поездки и, к удивлению своему, обнаружили, что при въезде в село их встречает вооруженный верховой в милицейской форме. Им оказался начальник районного отдела НКВД.
– Товарищ писатель, тут вас Сторожев видеть добивается!
Отец был совершенно сражен.
– Как Сторожев? Ведь он где-то срок отбывал?
– Правильно, отбывал, а теперь вышел и работает вольнонаемным на конном заводе на севере губернии, и вот приехал сюда по делам.
В реальной жизни Сторожев не был столь зловещей фигурой, какой он предстает перед нами в романе.
– Так можно, он к вам зайдет?
И, к невероятному изумлению членов творческой бригады, главный герой пьесы «Земля» и романа «Одиночество» воочию предстал перед ними. Огромный, в каких-то немыслимых штанах и в рубахе, он ввалился в избу, где расположилась на постой бригада МХАТа, и, окинув собравшихся сумрачным взглядом исподлобья, сейчас же выделил отца – они были соседями, и Сторожев помнил его мальчишкой.
«Все это произошло через шестнадцать лет после того, как я видел Сторожева в селе. Но в те годы не было писателя Вирты, а был пятнадцатилетний парнишка, сын сельского священника, и звали его Коля Карельский» – это запись из дневника. Сторожев спросил отца:
– Ну что, писателем заделался? В Москву подался?
Получив на все эти вопросы утвердительные ответы, Сторожев подвел итог беседы:
– Удостовериться хотел! – И добавил важно: – А роман твой я прочитал, ты там, в общем и целом, правильно всё описал.
На расспросы о своей собственной судьбе Петр Иванович отвечал уклончиво. Как уцелел он в бойне Гражданской войны, где отбывал наказание, – распространяться об этом не стал. Одним махом выпил стопку водки, от закуски отказался, мол, непривычные мы. Не обошлось и без просьбы, – мол-де подкинь немного денег, нужда одна есть! Получив желаемое, Сторожев попрощался и ушел. Н. Вирта, по своему журналистскому обыкновению, прежде всего воспользовался своим неразлучным фотоаппаратом «Лейка» и успел сфотографировать Сторожева, – по этому снимку потом гримировался Хмелёв.
Вскоре после столь невероятной, неожиданной встречи в декабре 1937 года до отца доходит трагическая весть о том, что решением тройки УНКВД Сторожев П. И. приговорён к высшей мере наказания и расстрелян.
Узнаваемые персонажи литературных произведений нередко доставляют авторам множество неприятностей.
С прототипами отца дело обстояло не лучше. Для обострения ситуации Н. Вирта в романе, как и в пьесе, развел братьев Бетиных, Листрата и Лёшку, по разные стороны баррикад, – поначалу один из них был антоновцем. И вот, когда роман «Одиночество» дошел до их родных мест, районное начальство, будучи убежденным в том, что написанное пером не вырубишь топором, исключило «бывшего мятежника» из колхоза. По тем временам такое отлучение означало полнейшее бесправие. Отцу пришлось рассылать множество бумаг в разные инстанции, в которых он убедительно просил не смешивать литературный вымысел с реальностью и, в конце концов, добился того, что пострадавший был принят обратно в колхоз и восстановлен в правах лояльного члена общества.
Между тем в судьбе моих родителей происходили перемены, больше похожие на волшебный сон, чем на действительность. Из подслеповатой комнатушки с окнами, глядящими на тротуар, на окраине Москвы они переехали в квартиру в Лаврушинском переулке, где только что был выстроен один из первых домов писателей. Окнами она выходила на кремлевские звезды и церковь в Кадашах. В 1937 году отец получил дачу в Переделкино по нынешней улице Серафимовича 19, нижняя половина дачи принадлежала нам, верхняя – Леониду Соболеву и его супруге Ольге Иоанновне. Соболевы появлялись на даче лишь изредка. А наша семья поселилась на даче основательно. Вначале у нас был огромный участок в два с половиной гектара, частично занятый лесом, частично тогда еще невозделанным лугом. Впоследствии дальний конец участка отошел Серафимовичу. Когда мы получили нашу дачу, она была последней в посёлке. Но потом все вокруг стало быстро застраиваться, так что за нами появился посёлок Госплана, потом «адмиральские» дачи и прочее.
Николай Вирта был страстным садоводом. Цветники из флоксов, георгинов, пионов, табака, золотых шаров поражали всех наших соседей. Но и мы ходили к ним смотреть, что и как у них произрастает, – к Кассилям, к Катаевым, к Чуковским. Однако в любви и чуткости к природе с моим отцом мог сравниться только Леонид Леонов, автор «Русского леса».
Помимо очевидных материальных благ изменения в судьбе родителей предопределил на всю дальнейшую жизнь их круг общения. В Лаврушинском переулке ближайшими соседями и друзьями отца оказались Константин Финн, Всеволод Вишневский, Александр Афиногенов, Семен Кирсанов, Евгений Петров. Папа очень любил Афиногенова. Он был женат на хорошенькой американке Дженни. Говорили, что она коммунистка, но что совершенно точно – она была вегетарианка. У Дженни был девиз: «В доме должен быть легкий атмосфэр!», а своего Сашу она кормила исключительно морковными котлетами. Насладившись ими, Афиногенов появлялся у нас дома, высокий, светловолосый, с внешностью киногероя, и просил отца:
– Коля, поедем со мной в «Националь», что же я должен один там обедать?!
Афиногенов погиб при одной из первых бомбежек Москвы в 1941 году. Его тело, извлеченное из-под развалин, идентифицировали по руке с одной недостающей фалангой большого пальца. Через несколько лет после войны Дженни сгорела во время пожара на теплоходе «Победа», плывшем по Черному морю. Такая вот выпала им судьба.
Мои родители дружили с семьей Е. Петрова. В жену Петрова, красавицу Валентину Леонтьевну, был пылко влюблен Ю. Олеша, и это о ней написал он знаменитую фразу: «Она прошелестела, как ветвь, полная цветов и листьев». Ну, а я очень дружила с Петей, носившим свою природную фамилию Катаев (Петров – это псевдоним, чтобы отличаться от брата В. П. Катаева). Впоследствии Петя приобрел «всесоюзную» славу, поскольку был главным оператором любимой народной эпопеи «Семнадцать мгновений весны». Петя с детства был увлечен кинематографом, джазом и мог говорить об этом часами. Я была чуть моложе его, а ближайшим другом Пети был Алеша Баталов, они обсуждали все новости кино и джаза взахлеб. В доме Петровых еще до войны появились невиданные тогда вещи: холодильник, радиола, сама менявшая пластинки, – все это Евгений Петров им привез из своей поездки в Америку…
Николай Вирта на всю жизнь сохранил благодарность Всеволоду Вишневскому, рискнувшему опубликовать никому не известного автора, что называется, «из потока». Вишневский всегда был его первым читателем и критиком. Моя мама дружила с женой Вишневского Софьей Касьяновной, изысканной дамой, художницей, много работавшей в качестве художника-декоратора в театрах Москвы. Софья Касьяновна оформляла некоторые спектакли моего отца. Помню обвальные аплодисменты, когда в спектакле «Хлеб наш насущный» открывался занавес и перед зрителями возникала сцена уборки урожая – желтое поле ржи со скирдами, синее небо, редкие деревья – словом, типичный пейзаж Тамбовщины. Софья Касьяновна к маме очень нежно относилась и подарила ей акварель с букетом флоксов из нашего сада. Эта замечательная картина до сих пор висит у нас дома, и мы не перестаем ею любоваться.
Особенно колоритным был Константин Финн. Небольшого роста, весь округлый, он врывался в дом и всегда балагурил, острил. В нашем доме в Лаврушинском было много веселья, пения, розыгрышей.
Существовало еще одно повальное увлечение. Когда-то из Америки Маяковский вывез китайскую игру «Маджонг». Сначала этой игрой заразились близкие друзья Маяковского: Брики, Асеевы. Затем она перекинулась и в Лаврушинский переулок. Это было какое-то бедствие. Играли Зинаида Пастернак, Петровы, Афиногеновы, мои родители. Страшно азартная, на деньги, игра затягивала, как наркотик. Состояла она из косточек, наподобие домино, на основе бамбуковой подошвы, имела разные масти и достоинства, как карты. Надо было, соблюдая особые правила, сбрасывая ненужные и прикупая вслепую новые косточки из общего банка, собирать комбинации, пока в банке ничего не останется. Играли вчетвером. Перед началом игры неизменно уславливались – играем до 12! Завтра дела. Но куда там! Срок этот постоянно отодвигался, и родители, проклиная все на свете, ложились под утро. Что поделаешь, азарт!
Я часто думаю о той метаморфозе, которая произошла в судьбе моих родителей. В сущности, два юных провинциала, один из тамбовского села, другая из Костромы, без какой-либо поддержки в столице, без родства, без средств, а только благодаря своим личным качествам, входят в московское общество творческой интеллигенции и занимают в ней не последнее место. Отец, безусловно, благодаря своей одаренности и яркому литературному таланту, а моя мама, Ирина Ивановна Вирта, – исключительно в силу своего обаяния и восприимчивости натуры, столь отзывчивой ко всему подлинному в искусстве, литературе, просто в жизни. Безукоризненный вкус был основой ее профессии литературного редактора, отданной целиком на службу моему отцу. Мама неизменно читала все его произведения в рукописи, редактировала, советовала, обсуждала. Очень часто спорила, хотя и не всегда могла переубедить Николая Евгеньевича. Думаю, в этом качестве литературного критика она была ему необыкновенно полезна.
В 1939 году за свою литературную деятельность отец получил первую награду, орден Ленина. Это была высшая правительственная награда, самая престижная из всех возможных. Ордена вручали группе писателей, среди них и Евгений Петров, также получивший орден Ленина за романы «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» и книгу «Одноэтажная Америка», написанные вместе с Ильей Ильфом, который умер в 1937 году. Награду вручал в Кремле «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. После этого был устроен ночной приём в Кремле с присутствием И. В. Сталина. Отец, которого многие считали приближенным к вождю, на самом деле видел его только один раз, но вспоминал об этой встрече до конца своих дней, при малейшей возможности стараясь свернуть к ней разговор и что-нибудь об этом рассказать.
Н. Вирта и Е. Петров были потрясены этой встречей. До утра бродили они где-то по Москве, замерзли и пришли к нам домой. Разбудили маму, сидели, выпивали, никак не могли разойтись.
Много лет прошло и воды утекло после той памятной зимней ночи. Но вот наступило 5 марта 1953 года, и мне пришлось услышать от моего отца высказывания совсем иного характера в адрес вождя и учителя.
Не было у нас тогда на выпускном курсе филологического факультета МГУ, где я училась, студента, который не оплакивал бы смерть Сталина. Сплошные стенания, всхлипывания, слёзы. В таком состоянии пришла я домой. А надо сказать, что 5 марта – день рождения моей мамы и, несмотря на то, что родители мои к тому времени развелись, отец пришел в Лаврушинский с цветами и поздравлениями.
– Какой ужас! – сказала я.
– Никакого ужаса! Туда ему и дорога.
– Но, папа, он больше суток пролежал без всякой медицинской помощи! К нему вообще боялись подойти! – до меня уже дошли эти слухи.
– Он заслужил такую смерть! – сухо сказал отец, а я была в таком шоке от его слов, что у меня не хватило духу о чем-нибудь его расспрашивать.
Я снова и снова возвращалась мысленно к словам Николая Евгеньевича: «Туда ему и дорога, он заслужил такую смерть». Какое страшное раздвоение личности нёс в себе мой отец: советская власть у него на глазах убивает его отца, а он принимает награды и почести от этой же власти…
Вскоре после вручения Н. Вирте ордена Ленина в нашей квартире в Лаврушинском переулке раздался звонок:
– Это квартира Вирты? Вас вызывает Кремль!
Отец, вечно разыгрывавший своих друзей, был абсолютно уверен в том, что это кто-то из его приятелей в свою очередь решил посмеяться над ним. И поэтому он ответил что-то в духе Чуковского:
– Чья это квартира? Крокодила!
Между тем на том конце провода официальный голос, совершенно не склонный к шуткам, сообщил отцу, что его вызывает к себе М. И. Калинин. И действительно, вскоре Михаил Иванович принял Н. Вирту в своей кремлёвской квартире, угощал чаем и долго и сердечно с ним разговаривал. Расспрашивал о творческих планах, о семье. Вообще проявил отеческую заботу и участие. А мне прислал конфетку, которую я свято хранила и развернула в какой-то праздничный день в эвакуации в Ташкенте, – но от бывшего трюфеля к тому времени осталась лишь какая-то труха.
Было ясно, что молодой талант Н. Вирты замечен властью и находится под ее покровительством. С одной стороны, издания и переиздания, правительственные награды, с другой – пристальное внимание к творчеству и вмешательство в него.
Вирта был великим тружеником. Сибаритствовать, проводить время в праздных разговорах или ресторанных застольях ему, как человеку непьющему, было противопоказано. Он с утра садился за письменный стол, и это были для него священные часы, которые за редким исключением отдавались работе. В своих дневниковых записях он признавался, что «мог писать двенадцать часов подряд, пока рука могла держать перо».
Спустя всего три года после выхода в свет «Одиночества» в журнале «Знамя» появляется новый роман Н. Вирты «Закономерность». Действие его также разворачивалось на Тамбовщине, где после революции установление советской власти происходило с громадными трудностями. Однако если в 1919–1922 годах недовольство широких масс вылилось в открытое восстание, то после его разгрома оно ушло в подполье. В этом подполье оказались и недобитые антоновцы, и бывшие владельцы мелкой и крупной собственности, и просто интеллигенция либерального толка. «У одних отняли землю, у других – сладкую еду, у третьих – ордена и чины, у четвертых – фабрики, у пятых – поместья, у шестых – папино золото, мамины брильянты, у седьмых – власть…» – так пишет автор в романе. Это окружение пытается склонить местную молодежь, в чем-то еще наивную и неопытную, к антисоветской деятельности. Особенно сильное влияние на молодежь оказывает Лев Кагардэ. Среди прочих героев романа, настроенных против власти советов, выделяется этот демонический образ непримиримого врага большевиков, разрушителя, наделённого волей и характером, одновременно отталкивающего и притягательного. Его зловещая фигура доминирует на фоне других, подчас декларативных типажей, но и она воспринимается как некий обобщенный образ «зла» и не приближает к реальности.
Критика тех дней с разочарованием встретила новую публикацию. Приведу один из отзывов: «…создается непреодолимое впечатление, что автор, начав писать роман из жизни интеллигентской молодежи, – не закончил его, – может быть, вследствие того, что психологически для него неясные и довольно мёртвые образы не давали возможности построить какой бы то ни было сюжет, – он отложил рукопись в сторону, а затем, пораженный событиями последних лет, переделал книгу, введя в нее троцкистских бандитов и шпионов, агентов иностранных разведок, и перенёс центр тяжести на их работу. Вследствие этого первоначально задуманный сюжет повис в воздухе, первоначально задуманная группа персонажей осталась вне фокуса произведения… Будем надеяться, что эта линия подмены образного мышления… образным изложением готовых, но недостаточно продуманных выводов, является лишь легким головокружением от первого успеха. Надо думать, что Н. Вирта вернётся к глубоко продуманным и пережитым темам и мы снова будем иметь возможность отметить его новые удачи и новые достижения» – так писала Е. Усиевич в своей статье «О «Закономерности» Н. Вирты» («Литературный критик», 1939 г.).
Довоенные годы были для Н. Е. Вирты весьма плодотворными. После выхода в свет романа «Закономерность» появляется пьеса «Клевета, или Безумные дни Антона Ивановича».
Эта пьеса занимает особое место в творчестве Н. Вирты. Она была опубликована в журнале «Молодая гвардия» № 10–11 за 1939 год и в том же году поставлена в Театре Революции (ныне Театр им. Вл. Маяковского), но не долго продержалась в репертуаре и была снята по жесткому указанию свыше. В ней идет речь о необоснованных репрессиях, потрясавших в то время советское общество, однако говорить об этом вслух было сущим безумием в те дни. Об этом шептались, перекидывались намёками, в «полразговорца», озираясь по сторонам и плотно закрывая двери. И тут вдруг – выносить эту опасную тему на театральные подмостки и целый вечер прилюдно ее обыгрывать! Автор сознательно назвал свою пьесу «комедией» и написал ее как комедию, чтобы иметь возможность под флёром иронии и юмора высказаться о серьёзных, трагических проблемах. По пути к благополучному финалу, как того и требовал избранный драматургом жанр, прежде чем хеппи-энд увенчает возникший было переполох, автор изобразил поистине жуткую картину, достойную пера бытописателя преисподней. Наветы, сплетни, клевета, подозрительность как липкая паутина опутывают человека, создают непереносимую атмосферу в обществе, когда каждый в одночасье мог превратиться во «врага народа» или «агента иностранных разведок» и ждать неминуемого возмездия.
Поистине рукой автора пьесы двигало нечто свыше, помимо его воли. Это был талант писателя, не удержавшегося от соблазна в ярких, гротесковых красках живописать действительность, какой она представала перед его взором. Для личности писателя это был особый момент: момент прозрения, момент наивысшего взлёта его дарования, когда вопреки всем путам, сковывавшим свободу творчества, он поднялся до вершин независимого художника и воссоздал правду жизни. Не знаю, что это было со стороны моего отца: то ли осознанное желание бросить вызов судьбе, испытать её, что называется, на прочность, – у него была такая авантюристическая жилка, то ли это было бессознательное служение импульсу, который иной раз подчиняет себе волю писателя.
Следует упомянуть и о политической ситуации, в которой была задумана и написана эта пьеса. К тому моменту законилась эпоха «кровавого карлика» Ежова, и началась эпоха Берии, и в обществе возникли надежды на смягчение режима. Однако, время показало сколь наивным был тот недолгий оптимизм, в атмосфере которого отец писал свои «Безумные дни».
Как бы там ни было, но морозным вечером 24 декабря 1939 года в Театре Революции состоялась премьера. Постановщиком пьесы «Клевета» был В. Власов, художник Н. Прусаков, в главных ролях были заняты такие актеры, как Абдулов, Орлов, Толмазов, Мартинсон, Тер-Осипян. Впечатление от спектакля было шоковым. Очевидец, Олег Леонидович Леонидов, драматург, принимавший участие в подготовке сценического варианта «Одиночества» для МХАТа и близкий друг нашей семьи, рассказывал мне свои впечатления от спектакля. Они с женой, дрожа от холода в нетопленом зале, несмотря на то, что сидели в пальто, впивались глазами в сцену, боясь пропустить малейший жест или слово. Это было чудовищной смелостью живописать столь откровенно то, что повсеместно происходило в стране. Актеры играли с невероятным подъёмом, видимо предчувствуя, что недолго им еще предстоит выходить на подмостки театра в этом рискованном спектакле (и как в воду глядели). В финале, когда оклеветанный, но восстановленный в своих правах по всей форме главный герой даст пощёчину распространителю злостных слухов Пропотееву, зал разражался аплодисментами. Актёров, автора вызывали много, много раз…
Можно, однако, предположить, что хлопали далеко не все. Немало было, наверное, зрителей в зале, которых должна была до глубины души оскорбить благополучная развязка этой пьесы, названной автором «комедией», тогда как вернее всего она тяготела к трагическому жанру.
В Москве заговорили о премьере. В прессе стали появляться противоречивые рецензии. Известный критик и знаток театра Ю. Юзовский писал в «Известиях» (12 января 1940 года): «Клевета! – шутка ли сказать, какая тема, клеветник, – он давно требовал, чтобы его заклеймили в искусстве, тема, которая носится в воздухе, и вот мы уже видим ее осуществлённой в театре. Прекрасно. Охотно аплодируем и театру, и автору за то, что они в эту сторону направили свои мысли и чувства. Но на этом, собственно, и кончается то «должное», воздать которое мы обещали». Ю. Юзовский не воспринял ни самой пьесы, ни ее постановки на сцене, посчитав неуместным шутливый тон спектакля по отношению к затронутой теме.
Другой критик, Я. Гринвальд, в своей статье «Сатирическая комедия» («Вечерняя Москва», 27 декабря 1939 г.) задается вопросом: кто он такой, главный герой комедии, клеветник Пропотеев – «…маньяк, серьезно думающий, что, беря под подозрение всех окружающих людей, он проявляет подлинную бдительность и этим самым приносит пользу революции?»
А вот взгляд, так сказать, с другой стороны: «Эта вполне мольеровская роль (имеется в виду Пропотеев. – Т. В.) – нередко, вплоть до деталей, сыграна Орловым превосходно, даже некоторое переигрывание не портит цельности образа. Другой вопрос – уместен ли в советской реалистической комедии этот «демонический» образ клеветника, обобщённый до последней степени, почти до степени символа?»
Вскоре на спектакль в Театр Революции пожаловала супруга В. М. Молотова Полина Семёновна Жемчужина. В то время ей, жене председателя Совнаркома, должно быть, и в страшном сне присниться не могло, что через несколько лет, в 1949 году, она сама будет арестована, а ее всесильный муж не сможет (поскольку невозможно ведь себе вообразить, что не захочет) вызволить её из лап МГБ вплоть до самой смерти Сталина. Жемчужина была возмущена увиденным и в первом же антракте, вызвав к себе в предбанник правительственной ложи автора пьесы и режиссера спектакля, устроила страшный разнос.
– Какая ложь, какая гнусная клевета на советскую власть! Разве могут у нас по навету посадить ни в чем не повинного человека! Это неслыханно!
Театральным коллективам далеко не всегда удавалось отстоять уже готовую к выпуску постановку. Не смог отстоять пьесу «Клевета, или Безумные дни Антона Ивановича» и Театр Революции, и буквально через несколько дней после посещения спектакля П. С. Жемчужиной его с треском выкинули из репертуара.
Это был последний опыт отца, когда он балансировал на краю пропасти. Больше никогда до конца своих дней он не позволял себе так рисковать.
После произошедшего в театре скандала и снятия пьесы по политическим мотивам у нас в семье воцарилось напряженное ожидание. Мама и бабушка не сомневались – за отцом придут и заберут. Во двор нашего дома в Лаврушинском переулке уже не раз заезжали черные воронки и, притёршись к какому-нибудь подъезду, принимали в себя людей и увозили, как правило, навсегда. И вот однажды поздним вечером внезапный звонок в дверь. Зарычала овчарка Лада, привезённая с дачи для каких-то прививок. Все просто помертвели от ужаса. Бабушка пошла открывать дверь – ради нашего спасения она всегда была готова броситься на амбразуру:
– Кто там?
– Свои! Откройте, пожалуйста, Татьяна Никаноровна!
Оказалось, родственники из Костромы, нагрянувшие, по своему всегдашнему обыкновению, без предупреждения. Все еле отдышались. Слава Богу, пронесло! На самом деле нашей семьи как раз в те времена коснулись сталинские репрессии. В 1938 году в Севастополе, где он тогда служил, был арестован мой дядя Дмитрий Иванович Лебедев, брат моей мамы, младший штурманский офицер с крейсера «Червона Украина». Вместе с группой офицеров ВМФ он был обвинён в заговоре с целью организации убийства Сталина.
Дядя Митя был любимцем нашей семьи, и отец не побоялся вступиться за него. В то время наркомом ВМФ СССР был адмирал Николай Герасимович Кузнецов, и отец к нему обратился. По счастливому стечению обстоятельств, до своего назначения наркомом ВМФ Кузнецов был командиром крейсера «Червона Украина» и знал всех обвиняемых лично. Он сумел доказать следственным органам полную абсурдность предъявленного обвинения, и за отсутствием улик Лебедев был освобожден. Это был редчайший случай освобождения из-под стражи военного, офицера. К сожалению, мне ничего не известно о судьбе других членов этой группы.
Отца между тем ждала новая премьера. На этот раз опера «В бурю». Она была создана композитором Тихоном Хренниковым (1939 г.) по мотивам романа «Одиночество», шла в Москве в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, была поставлена во многих театрах страны и возобновлялась до недавнего времени.
Встреча и дружба с Тихоном Николаевичем Хренниковым и его женой Кларой была одним из счастливых событий в жизни моих родителей. Обретя жилье в Москве, они постоянно устраивали у себя многолюдные вечера, но одними из самых любимых гостей были «Тиша с Кларой». Тихон Николаевич, едва что-нибудь выпив и закусив, садился за пианино (по-моему, специально для него купленное, если не считать того, что некоторое время и меня мучили, пытаясь дать музыкальное образование) и начинал играть и петь. Хором пели песни из новых кинофильмов или старинные романсы: «Вечерний звон», «Ямщик», «Рябина», «Ах ты, клён, ты мой клён».
В самом начале 1941 года Н. Вирта за роман «Одиночество» был удостоен недавно учрежденной Сталинской премии первой степени. Незадолго до войны Н. Вирта, к тому времени уверенно вошедший в обойму признанных советских писателей, приступил к работе над объёмным романом «Вечерний звон». Он должен был стать первой частью единого сюжетно-тематического цикла, включающего также «Одиночество» и «Закономерность». Отец писал в дневнике: «Каждая книга – самостоятельное произведение с законченным сюжетом, но одновременно все они связаны между собой историей крестьянской семьи Сторожевых из села Дворики Тамбовской губернии».
Писать роман «Вечерний звон», несущий на себе отпечаток незабываемых впечатлений детства и юности писателя, Николай Вирта начал с подлинным вдохновением. В романе есть целые куски замечательной прозы, продолжающей традиции классической русской литературы. Задуманный как широкое полотно народной жизни, он наполнен колоритными образами, драматическими событиями и внутренними переживаниями героев, которым действительность на рубеже двух веков – XIX–XX – преподносит все новые и новые испытания.
Однако и этот роман Николая Вирты ждала непростая судьба. Писатель оставался объектом пристального наблюдения властей. Каждую новую главу еще только начатого произведения он должен был относить в отдел пропаганды ЦК для детального изучения. В условиях столь жестокой цензуры совершенно невозможно с точностью определить, что входило в первоначальные замыслы автора и что он был вынужден вносить в свое произведение по указанию свыше. Сохранившиеся письменные свидетельства, проливающие свет на историю создания этого произведения Н. Вирты, говорят о том, что он постоянно переделывал и дополнял первоначальный план задуманной эпопеи. Ему никак не удавалось выйти из-под контроля и быть в своем творчестве свободным художником…
Неохватный замысел нового произведения потребовал от отца многих лет исследовательских поисков, изучения огромного количества документов и свидетельств той эпохи. Он работал в архивах Москвы и Ленинграда, встречался с разными людьми, ходил по музеям, часто выезжал на Тамбовщину…
Полотно романа вбирало в себя все новые и новые сюжетные линии, поднимало все новые и новые пласты жизни, в него вводились исторические личности: Ленин, Крупская, Плеханов, император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, Победоносцев, Витте, Столыпин. Огромная по масштабам картина российской действительности накануне революции. Не все исторические личности, выведенные в романе, написаны равноценно по своим художественным достоинствам. В рамках канонизированных представлений созданы образы Ленина, Крупской, их сторонников и политических противников. Схематически написаны государственные деятели той эпохи: Столыпин, Витте. Однако в подходе к созданию образа императора Николая II автор романа «Вечерний звон» сделал нетривиальную для советского писателя и для того времени попытку изобразить его с точки зрения нормальной человеческой личности. Портрет Николая II даётся как бы в переплетении семейных отношений и государственных забот. Бесконечно любящий муж, он необыкновенно трогателен в нежной привязанности к своей рыжей Аликс и детям. И совершенно растерян перед лицом надвигающейся катастрофы. Это было смелым поступком для того времени – вырваться из рамок стереотипа «Николая Кровавого», обрекавшего художника показывать царя исключительно в отсветах этого зловещего прозвища.
Конечно же, писатель за это поплатился, поскольку критики тех дней обрушили на автора романа «Вечерний звон» упреки в «идеализации» образа царя, в «объективистском» освещении истории и тому подобные обвинения, обслуживающие идеологические догмы.
Сейчас кажется странным, что бдительные цензоры из ЦК дали послабление Н. Вирте в создании образа Николая II. Зато они взяли реванш в другом, заставив писателя полностью изменить трактовку образа сельского священника Викентия Глебова. Писатель предполагал, что этот образ прозвучит как реквием, посвященный памяти его безвинно погибшего отца, однако именно он подвергся в романе беспощадной перекройке и перелицовке. Думающий, рефлексирующий сельский интеллигент на глазах у изумленного читателя претерпевает внезапную метаморфозу и становится чуть ли не доверенным лицом охранки, играющим неблаговидную роль в отношениях односельчан с местными властями.
В свое время роман «Вечерний звон» был замечен критиками и читателями. В 1949 году Н. Вирта получил за него Сталинскую премию II степени.
Разразилась война. Для Николая Вирты она началась двумя годами раньше. Впервые в действующую армию он попал в качестве военного корреспондента «Правды» во время Финской кампании 1939 года. Была суровая и снежная зима, наша армия несла большие потери. В Финской кампании отец получил серьезную травму: он скакал на лошади по просеке, попал под обстрел и на всем скаку напоролся горлом на натянутый провод. К счастью, был в перчатках и сумел этот провод отжать. Его быстро доставили в госпиталь, но белый шрам от пореза – от уха до уха – сохранился у него до конца его дней. Начало Великой Отечественной войны застало нашу семью в Риге, где намечалось проведение общесоюзного литературного мероприятия. Речь Молотова мы слушали в гостинице «Рига» за завтраком. Чуть ли не через день после нашего поспешного отъезда гостиница была разрушена прямым попаданием бомбы. Правительство Латвии сделало все возможное, чтобы в тот же вечер отправить московских писателей домой. Мы ехали в одном купе с семьей Долматовских и вместе с ними пережили первые грозные раскаты войны. Под Нарвой поезд попал под бомбёжку, нас высадили среди ночи из вагона, в соседний состав угодила бомба. Пути долго восстанавливали, прежде чем наш поезд пропустили следовать дальше.
В Москве нас ждало новое испытание. Ночью завыли сирены, в небе метались лучи прожекторов. Население дома в Лаврушинском высыпало во двор, и все стали рваться в подвал, изображающий собой бомбоубежище. Наивно было думать, что этот подвал мог от чего-то спасти! Однако все бросились туда, кто посильнее отталкивал тех, кто послабее, словом, творилось что-то безобразное. Порядок навели С. Кирсанов, Е. Петров и мой отец. Утром оказалось, что тревога была учебная, но некоторым пришлось испытать подлинное чувства стыда. Надо сказать, что это был только первый испуг. Потом писатели образовали дружины самообороны и каждую ночь дежурили на крыше нашего девятиэтажного дома, в то время самого высокого в районе. Длинными железными щипцами они хватали «зажигалки» и гасили их в ящиках с песком. Кто только не перебывал там, на крыше: драматурги, прозаики, критики, поэты, знаменитые и менее знаменитые. Поднимался на крышу и Пастернак – долговязый, нелепый и, как говорили, совершенно бесстрашный. Будущий лауреат Нобелевской премии вместе со всеми оставался на крыше до конца налета и гасил «зажигалки».
Писательскому дому в Лаврушинском сильно повезло – всего одна бомба пробила крышу и разворотила несколько нижних квартир. Это был как раз наш подъезд, но противоположный от нас пролёт. Бомба прошла насквозь через квартиру Паустовского и разорвалась двумя этажами ниже. По счастью в квартирах этих никого не было, так как все уехали в эвакуацию. А вот стоящая бок о бок с нашим домом художественная школа сильно пострадала. Целое ее крыло было разрушено прямым попаданием бомбы. Третьяковка напротив тоже уцелела, она была хорошо замаскирована под сквер.
Николай Вирта с первых дней войны сотрудничал с Совинформбюро в качестве военного корреспондента. Вместе с другими писателями он прошел ускоренные курсы Военно-политической академии, получил одну шпалу в петлицу (комбат) и с тех пор регулярно выезжал на фронт от газет «Правда», «Известия», «Красная звезда».
Семья в основном жила в Переделкино. Там было намного безопаснее, поскольку Москва подвергалась ежедневным бомбардировкам. Однажды к нам на дачу в поисках тихого ночлега приехали знаменитые летчики И. Мазурук и И. Спирин, – приятели отца. Был ветреный осенний вечер. Небо всё усеяно звёздами, было холодно, и тут все началось. В Переделкино располагался артиллерийский защитный пояс, с наступлением темноты врубались мощные прожекторы, высоченные огненные столбы, подобные ходулям гигантского циркуля, перекрещиваясь в небе, нащупывая вражеские самолеты. Забухали зенитные батареи, на крышу дачи, покрытую дранкой, посыпались осколки снарядов, мебель в даче ходила ходуном, бренчала посуда в буфете, над столом в столовой раскачивался абажур. Моя кровать то отъезжала от стены, то снова со стуком въезжала в неё. Когда я не засыпала до налёта, меня трясло, как в лихорадке. Наутро летчики признались, что эта ночевка не показалась им такой уж «тихой».
Мы покидали Переделкино ранним утром 16 октября 1941 года. Отец с орденом Ленина на груди в военной форме едва пробивался на машине сквозь людские толпы, запрудившие Минское шоссе. В Москву текли нескончаемые потоки беженцев, волоча за собой скарб в самодельных повозках, корытах, колясках. Детей несли на руках, везли на грудах багажа. По обочинам гнали скот. На Запад уходили бесконечные шеренги солдат. Шум и гвалт стояли невообразимые. Мы остановились возле одного артиллерийского расчёта, и мама, выпрыгнув из машины, отдала солдатам мешок с тёплыми носками, которые они с бабушкой навязали на спицах. Отец то и дело вскакивал на подножку машины и кричал:
– Пропустите, правительственное задание!
Н. Вирта был вызван в ЦК и назначен сопровождать эшелон, увозивший писателей и их семьи через Куйбышев в Ташкент. На вокзале, до самых окон цокольного этажа заваленном мешками с песком, узлами и чемоданами, царили давка и паника. Поезда, подававшиеся к платформам, брали штурмом.
Мы бросили на произвол судьбы машину и стали пробираться сквозь толпу к перрону. Нас кое-как втиснули в вагон, а вот Корнея Ивановича Чуковского с его женой Марьей Борисовной оттёрло толпой от нашей группы, и он чуть было не затерялся в каких-то переходах, но выручил высокий рост – его было видно издалека – и вскоре отец привёл его к поезду, растерянного и смущённого. Мы ехали долго, бесконечно простаивая по разным причинам на путях и слушая по радио тревожные вести из Москвы. Навстречу нам нескончаемой чередой тянулись эшелоны на Запад, – они везли солдат, вооружение, продовольствие.
В Куйбышеве наш эшелон нагнала правительственная телеграмма: кое-кого из писателей, сопровождавших свои семьи в эвакуацию, срочно отзывали обратно в Москву. Одним из них был Александр Николаевич Афиногенов. Он вернулся в Москву и явился ночью на прием к первому секретарю МК Щербакову. Афиногенов дожидался вызова в приёмной, когда началась бомбежка. Бомба пробила именно ту половину здания, где находилась приёмная, оставив кабинет Щербакова целым и невредимым. Афиногенов погиб, это была одна из первых жертв среди писателей. В 1942 году, попав под артобстрел на военном самолете, разбился Евгений Петрович Петров. Я здесь упоминаю только тех, кто был в ближайшем окружении отца. Отец недолго оставался в Ташкенте. Устроив нас, он вылетел в Москву, и с этого момента начинается его военная эпопея.
Война, как это ни покажется кощунственным, помогла вздохнуть свободно многим писателям, скинуть с себя бремя цензуры, она «породила» и новые таланты. Тогда на путях-дорогах тяжелейших военных лет создавались шедевры советской поэзии и прозы, такие, как: «Жди меня» Симонова, «Бьется в темной печурке огонь» Суркова, «В окопах Сталинграда» Некрасова, «Пядь земли» Бакланова. Эти произведения стали буквально народными, хотя и считается, что главное слово о Великой Отечественной войне всё ещё не сказано…
Военный опыт моего отца находил выражение в разных формах. Это были прямые репортажи с передовой линии фронта, затем более обобщенные очерки, сценарии, пьесы и, наконец, прозаические произведения. Он выезжал на Северный фронт, где с дивизией полковника Вещезерского ходил в атаку у реки Западная Лица, неоднократно на военных самолётах вылетал в осажденный голодающий Ленинград и видел воочию картины умирающего, но не сдающегося города, и, наконец, провёл всю страшную зиму 1942–1943 года в Сталинграде в расположении штаба 62-й армии легендарного генерала Чуйкова, который говорил военному корреспонденту:
– В Волгу им нас не сбросить! С этого берега мы не уйдем!
Шестьдесят три года назад газета «Правда» вышла со сталинградским репортажем Николая Вирты: «Пройдут годы и десятилетия, многие дни, казалось бы, незабываемые, сотрутся, выветрятся, уйдут из памяти… Но никогда не будут забыты дни борьбы за Сталинград».
27 января 1943 года военный корреспондент Николай Вирта передал в Москву по радио: «Рано утром Военный Совет армии сообщил всем бойцам Сталинграда благодарность Верховного главнокомандующего… в том числе армии генерал-лейтенанта Чуйкова, обессмертившей свое имя в кровавых невиданных битвах за город».
И еще один репортаж с берегов Волги: «Над Сталинградом, над его центральной частью снова развевается Красное знамя! Пусть вся страна запомнит эту дату!.. Немцы вылезали с поднятыми руками из блиндажей, держа автоматы зажатыми между ног.
Пленных не успевали считать, тысячные толпы их собирались на площадях».
Это сообщение отец передавал лично, миллионы и миллионы людей слушали его голос по радио, миллионы читали его корреспонденции, приходившие из Сталинграда.
В марте 1943 года отец возвратился в Москву. Это было счастье, что он вырвался оттуда живым, но он был очень болен. Хотя как военный корреспондент центральных газет он и находился на довольствии при штабе армии, но, видимо, и тот рацион, который он там получал, был для него губительным. Отца постоянно мучили боли в желудке, ему необходимо было регулярное питание, и моя мама, оставив нас с бабушкой в Ташкенте, срочно выехала к нему в Москву. С собой она везла мешок риса, мешок лука, чеснок, изюм. Отец получал кое-какие продукты из своего армейского пайка, и их жизнь как-то наладилась.
После окончания войны отец, как всегда, был активен, временами забывал о своем животе и запойно работал.
В 1946 году Николай Вирта получил государственный заказ на создание двухсерийного фильма о Сталинградской битве. Надо полагать, что этот заказ исходил сверху, непосредственно от И. В. Сталина. Боже мой, во что превратилась наша дача, когда отец писал этот сценарий! Все горизонтальные плоскости его просторного кабинета, столовой и прочих помещений были завалены картами, планами, схемами, как будто бы именно здесь вырабатывались направления основных и фланговых манёвров и ударов. Отец работал день и ночь, отрываясь, к своей досаде, лишь тогда, когда того требовал поиск каких-нибудь недостающих материалов в архивах. Помимо непосредственных впечатлений очевидца событий, столь свежих еще в его памяти, Н. Вирта привлекал к созданию сценария колоссальное количество документов: указов, сводок, донесений, газетных публикаций. Создавался сплав документалистики и художественной прозы, запечатлевший грандиозную картину Сталинградского сражения.
Сюжет сценария, отягощенный множеством географических названий, именами и фамилиями реальных участников боев, номерами войсковых частей, тем не менее, развивается с поистине кинематографической быстротой, стремительно сменяя кадры боевых действий картинами трудового тыла, сценами дипломатических переговоров Сталина и Молотова с Рузвельтом и Черчиллем, эпизодами переправы через Волгу и устремляясь к победоносному финалу.
Особое место в сценарии занимает образ Сталина. Не надо говорить, сколь чревато всеми возможными последствиями было одно лишь прикосновение к литературному воссозданию портрета вождя народов в то время. Сколько од, восхвалений, лести повергалось к его стопам! Можно написать целый роман, как под воздействием жуткого страха за себя, за близких, прогибались самые достойные, самые талантливые.
Власть безжалостно в бараний рог сгибала любое дарование и любую волю. Что касается сценария «Сталинградской битвы», то он создавался по горячим следам войны в эйфории Победы и потому я склонна верить в искренний порыв писателя изобразить Сталина как бы поставленным на некий пьедестал. Должно быть, в то время генералиссимус представлялся Н. Вирте фигурой именно такого масштаба. И не только ему одному…
По окончании войны недреманное око начальства партийного, литературного и прочего снова сфокусировалось на деятельности творческой интеллигенции. Немудрено, что сценарий «Сталинградской битвы» попал на стол генералиссимуса для вынесения высочайшего вердикта. Ведь главным героем сценария наряду с простым солдатом, одержавшим победу в Сталинградском сражении, являлся сам Сталин, и надо думать, ему было отнюдь не безразлично, в каком виде он предстанет сначала перед читателем, а потом перед зрителем фильма. Сталин сам, как известно, просматривал все выходившие фильмы, благо их тогда было не так уж много, и даже при благосклонном в целом к ним отношении временами делал замечания.
Надо сказать, что машинописный текст сценария из канцелярии вождя на некоторое время вернули к нам в дом. В этом машинописном экземпляре содержалась собственноручная правка Сталина, сделанная красным карандашом. В некоторых местах эта правка носила чисто вкусовой характер, когда один эпитет заменялся другим, в других – были вписаны незначительные добавления, но в одном месте правка отражала что-то зловещее: фамилия генерал-лейтенанта Телегина была вычеркнута красным карандашом с такой яростью, что карандаш порвал бумагу.
Генерал-лейтенант Телегин был членом военного совета Южного фронта и постоянно бывал в Сталинграде. История его знакомства с моим отцом была овеяна военной романтикой, если так можно сказать об одном эпизоде, который мог стоить жизни военному корреспонденту Вирте. Однажды в блиндаже поблизости от командного пункта отец со своей неразлучной «Лейкой» высунулся слишком сильно над бруствером, чтобы запечатлеть группу генералов, когда чья-то рука за полу овчинного тулупа резко сдернула его обратно. Комья земли от пулемётной очереди посыпались вместе с ним на дно блиндажа. Телегин, а это, оказалось, был он, в весьма нелестных выражениях отчитал слишком ретивого корреспондента, а потом выяснил, кто он такой. Так они и познакомились.
Константин Федорович Телегин в 1948 году был арестован с невероятной, если так можно выразиться, помпой. На него устроили настоящую облаву, когда он был где-то на зимней охоте, и прямо из леса привезли в камеру предварительного заключения. Мне известно лишь то, что на свободу этот некогда бравый генерал вернулся совершенно неузнаваемый, уже после смерти Сталина. Такие последствия имели иногда литературные занятия диктатора.
Я всеми силами старалась разыскать экземпляр сценария с красной правкой в архивах, но так его и не нашла.
Создание «Сталинградской битвы» – один из главных рубежей в творчестве Николая Вирты. Сценарий был опубликован в 1947 году и еще до того, как вышел фильм, был встречен литературной общественностью и массовым читателем с большим энтузиазмом. Писатели К. Симонов, Б. Полевой, В. Кожевников, Д. Данин, М. Брагин единодушно отметили высокий художественный уровень этого произведения Н. Вирты.
Через два года на экраны вышел двухсерийный фильм «Сталинградская битва». Это была первая лента, появившаяся в нашей стране, в которой в художественной форме было показано ключевое сражение Великой Отечественной войны, ставшее провозвестником нашей победы. Фильм производил на зрителей огромное впечатление.
Над воплощением в кино литературной версии сценария «Сталинградская битва» работал выдающийся творческий коллектив. В. Петров был режиссером-постановщиком, главным оператором – Ю. Екельчик, музыку к фильму написал А. Хачатурян. В фильме были заняты знаменитые актеры: Сталина играл А. Дикий, Чуйкова – Н. Симонов, Рокоссовского – Б. Ливанов, Василевского – Ю. Шуйский, Рузвельта – Н. Черкасов, Черчилля – В. Станицын. Все это были любимые артисты того времени, и о каждом из них восторженно откликались в печати. Это было нечастым случаем в творческой биографии Н. Вирты, когда общественность так дружно откликнулась на его новое произведение, оценив «Сталинградскую битву» как выдающееся явление послевоенного советского искусства.
Фильм долго не сходил с экрана в СССР, став классикой советского кинематографа. Он обошел едва ли не всю послевоенную Европу и всюду был встречен с восторгом и сочувствием.
Спустя много лет после того, как вместе с моим отцом я пережила в нашем доме сталинградскую эпопею, как будто бы воочию развернувшуюся передо мной, мне предстояло пережить её снова и с неменьшей силой. Но тут я должна сделать отступление и рассказать немного о себе.
В 1954 году я окончила славянское отделение филологического факультета МГУ, где изучала сербохорватский язык у внука Л. Н. Толстого, Ильи Ильича Толстого. Он только что вернулся из Югославии, где долгие годы провел в эмиграции, и теперь преподавал сербохорватский язык и литературу. Это были блестящие лекции и семинарские занятия, на которых Илья Ильич являлся нам воскресшим видением своего великого деда, – столь разительным было их портретное сходство.
В это время ожесточенная вражда с «кровавой кликой Тито—Ранковича» сменилась в нашей стране дружбой с Югославией, пробудился интерес к ее культуре, искусству, литературе. Сначала в нескольких журналах и газетах я опубликовала переводы рассказов югославских писателей, затем, когда к публикации сербской, хорватской, словенской, македонской, черногорской литературы обратились издательства, выпустила несколько книг. Мне удалось перевести целый ряд замечательных произведений писателей, пишущих на разных языках народов Югославии: пьесу Б. Нушича «Госпожа министерша», роман И. Андрича «Мост на Дрине», получивший Нобелевскую премию 1961 года, роман «Знамёна» М. Крлежи, М. Лалича «Лелейская гора», М. Црнянского «Роман о Лондоне», народные сказки из собраний В. Караджича, рассказы Б. Чопича, Э. Коша, М. Булатовича.
И вот, в связи с очередной военной годовщиной, по поручению Союза писателей, я в качестве переводчика и сопровождающего, с группой югославских писателей-фронтовиков направляюсь в город Волгоград. Мои спутники, назовем их условно Джуро, Раде и Милан, упорно называли его Сталинградом и не могли понять, почему советские официальные лица предпочитали именовать их «фронтовиками» и не желали признавать партизанами. Разве в России не знают, что в Югославии с немцами воевали партизаны, – недоумевали они. В этой поездке у них было много поводов для недоуменных вопросов. Вечером, как почетным гостям и в знак особого доверия местных властей, нам в Планетарии вместе с какими-то другими делегатами показали документальный фильм «Сталинградская битва». Это было зрелище не для слабонервных. Мои видавшие виды Раде, Джуро и Милан хватались за головы и тихо стонали. Я не знаю, как я досидела до конца. Битва за Мамаев курган, где одни погибшие падали на других, искрошенные в куски лодки на переправе через Волгу и тонущие люди под шквальным огнем, рукопашные схватки, искаженные лица людей, чёрные и страшные. И немецкие танки и техника, техника, техника, едва продиравшаяся сквозь месиво тел. Все эти кадры могли свести с ума кого угодно. Когда в Планетарии включили свет, мы долго сидели, как окаменевшие.
Джуро, весь израненный в войне, проговорил:
– Невозможно отделаться от мысли, что ваши солдаты остановили танки своими телами…
Раде сказал:
– Я бы в жизни этому не поверил, но ведь это документальные кадры.
Милан сказал:
– Надо выпить!
Он был прав. Единственное, чего не хотелось, – это идти в ресторан, ждать там часами среди гогочущих людей и запахов съестного. Мы решили зайти в гастроном, купить водки, закуски и посидеть у кого-нибудь в номере.
Наивные люди! Водку мы, переплатив, достали. Однако из съестного в гастрономе на центральной улице города оказались лишь хлеб и конфеты-«подушечки».
С этим мы и вернулись в гостиницу.
Грустно это вспоминать. С этой поры – конца семидесятых годов – я не бывала в Царицыне – Сталинграде – Волгограде… От всей души желаю, чтобы кто-нибудь, прочитав мои записки, воскликнул: «Слава Богу, сейчас у нас все изменилось!»
Военный опыт Николая Вирты лег в основу многих его драматургических и прозаических произведений. Мне хотелось бы выделить из них повесть «Катастрофа». В ней анализируется внутренняя трагедия одного из крупнейших военачальников вермахта, пережившего жесточайший внутренний кризис: разочарование в прежних идеалах, крушение, казалось, незыблемых устоев. «Паулюс был солдатом старой школы, и в нем не угасла искра человечности» – так пишет о нем Н. Вирта. И дальше: «Находясь в плену, он встречался с Вильгельмом Пиком, с генералом Зейдлицем, основателем движения «Свободная Германия», он многое передумал и переосмыслил. И, в конце концов, появился на Нюрнбергском процессе… В Нюрнберге Паулюс обвинял не только сидевших на скамье подсудимых, он обвинял фашизм и милитаризм во всех его проявлениях…»
Отец присутствовал при пленении Паулюса, написал об этом очерк, в послевоенные годы неоднократно встречался с ним, хотел до конца понять его личную драму. У нас на даче висела неприметная с виду картинка: на ней нарисован дом в сосновом лесу под Москвой, где жил Паулюс, стол с графином для воды и стаканом, скамейка и стоящий на ней чайник. Все это выписано в красках, с немецкой педантичностью. Подарок отцу на память. Вероятно, занятия живописью отвлекали на какое-то время бывшего фельдмаршала от его невесёлых дум…
В самом начале войны Московская патриархия привлекла Н. Вирту к подготовке уникального издания, которое она тогда предпринимала. Это был сборник материалов под названием «Правда о религии в России».
Мой отец никогда не мог простить советской власти жестокого подавления чувств верующих, не говоря уже о физическом истреблении священнослужителей, разрушения церквей и прочего варварства. Он считал, что широким народным массам необходима религия с ее молитвой, традиционными праздниками, обрядами. Зачем было выбивать из-под ног у верующих последний спасительный камень? Куда преклонить голову страждущим?
«И будет Господь прибежищем угнетённому, прибежищем во времена скорби», «ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему» (Псалтырь, псалом 9, 21).
В разгар войны, в годы неудач и отступлений православной церкви снова позволили поднять свой голос. Она вместе со всем народом переживала трагедию войны. Оккупация нанесла чудовищный урон всему тому, что еще осталось у православной церкви после революции. Храмы снова подвергали разрушению, их бомбили, били по ним из орудий, сжигали, грабили. Священников вытаскивали из церкви во время богослужения, расстреливали, зачастую вместе с паствой. Верующие не могли об этом молчать, они собирали документы, свидетельские показания, фотоснимки. Всё это легло в основу внушительного тома, от одного прикосновения к которому сжимается сердце. Митрополит Московский и Коломенский Сергий лично патронирует это начинание и пишет предисловие к книге. В ней собрано более шестидесяти фотографий, письма, акты, составленные по горячим следам событий, которые дают потрясающую картину бедствий, насилия, ужаса, обрушившихся на головы гражданского населения на оккупированных территориях. Составители «Правды о религии в России» Митрополит киевский и Галицкий Николай, профессор книговедения Григорий Петрович Георгиевский и протоиерей Александр Павлович Смирнов совершили гражданский подвиг, оставив на память потомкам этот том о чёрных днях фашистской оккупации.
Николай Вирта с большой готовностью откликнулся на обращение Патриархии с просьбой помочь в подготовке книги к печати. Он снова завален работой. Ему пересылали груды писем, обгоревших документов, отрывочных записей рассказов очевидцев, множество фотографий.
Н. Вирта принял участие в книге и как автор одного из очерков, поместив его под псевдонимом Николай Моршанский (его дед был родом из Моршанска). Очерк под названием «В этот день» рассказывает о праздновании Пасхи в Москве в кафедральном Елоховском соборе, когда налёт немецкой авиации был отбит нашими зенитными расчётами и верующие смогли без помех провести эту святую ночь. В Ленинграде, где городские власти ради проведения Пасхи отменили неукоснительно соблюдавшиеся до того ограничения комендантского часа, верующие со всех концов города также стекались в действующие церкви. Но защитники Ленинграда не смогли сдержать массированный налёт немецкой авиации, который задолго готовился фашистами, началась бомбежка, погибло много народа…
Очерк «В этот день» дышит болью и гневом. Он кончается так:
«Мы не забудем всех бомб, сброшенных на наши дома, и особенно тех бомб, что были сброшены в эту ночь, когда свободная совесть свободных русских людей, верующих в Бога, верующих во Христа, трепетала в молитвенном горении. Наступит воздаяние, оно близится, и во имя высшей справедливости не законы милосердия вступят тогда в силу, а суровые законы Бога Отца, карающего преступления человека против лучших устремлений человечества». Н. Вирта не дожил до времен, когда церковь была восстановлена в своих правах и обрела уважение властей.
Весной 1943 года мои родители выписали нас с бабушкой из Ташкента в Москву. Бытие нашей писательской колонии в Ташкенте заслуживает хотя бы краткого описания. Эвакуированным писателям был выделен целый двор, посреди него протекал неглубокий и не слишком чистый арык и росло могучее буйно плодоносившее тутовое дерево. А вокруг двора располагались типично южные постройки, обмазанные глиной, с окошками, исподлобья глядящими на мир, – в них жили писатели М. Берестинский, А. Файко, О. Леонидов, В. Луговской и Елена Сергеевна Булгакова с семьями. Был и ещё один дом, побольше, выходивший фасадом на улицу и побелённый снаружи, за что его прозвали «Белым домом». В нём были три двухкомнатные квартирки, в которых располагались семьи Погодиных, Уткиных и наша. Тут были еще большая кухня и центральное помещение по настоянию моей мамы превращённое в общую столовую, – каждая семья приносила на свой край большого стола свою снедь и вместе со всеми садилась за завтрак, обед и ужин. Получалось некое подобие нормального человеческого общения, хотя настроение было подавленное. Наши войска повсюду отступали, и мы, уставившись в тарелки, под сводки Совинформбюро молча жевали пищу. Николай Федорович Погодин подслеповато – у него было плохо со зрением – разглядывал хлеб, близко поднося к глазам кусок, и не мог понять, из чего он состоит. Иосиф Уткин, только что вернувшийся с фронта, качал свою забинтованную раненую руку, – она у него постоянно болела и ныла. И только сестра Уткина, пожилая стоическая женщина, сохраняла оптимизм. Она вставала в шесть часов утра, слушала радио и к завтраку встречала нас радостной информацией о том, что наши войска захватили столько-то единиц стрелкового оружия, подорвали столько-то танков, а партизаны спустили под откос немецкий эшелон. При этом умалчивалось о том, какие города, районы и края были оставлены за истекшие сутки…
В нашем дворе было двое детей – Таня Погодина и я. Мне было одиннадцать лет, Таня Погодина на пару лет моложе меня. В школу нас не отправляли из-за тифа, нас обучала всем предметам, а также столь непопулярному в то время немецкому языку, мать поэта Наума Гребнева, который был на фронте. В остальное время мы были предоставлены сами себе и занимались, чем хотели. Самым заманчивым для нас с Таней была дружба с Еленой Сергеевной Булгаковой. Прежде всего все в нашем дворе были поражены, узнав, что Елена Сергеевна по возрасту не подпадает под обязательную трудовую повинность. Глядя на это прелестное лицо, на эту осанку, на весь ее лучезарный облик, невозможно было себе представить, что и она может иметь какой-то возраст. Во всяком случае, все имеющиеся в наличии мужчины, список которых, правда, был сильно урезан в связи с войной, замирали при появлении булгаковской Музы, а поэт Владимир Луговской был сражен наповал. Поскольку излучать обаяние для Елены Сергеевны было все равно что дышать, она излучала его и на двух маленьких девочек. Для нашего кукольного театра, в который мы с Таней увлеченно играли, у Елены Сергеевны нашлись лоскутки от каких-то немыслимых и доселе невиданных нами материй – синего бархата, лилового атласа, розового шифона. Эти пёстрые куски материи прилетели сюда, в убогую обстановку неналаженного быта эвакуированных из других сфер: из бывшего когда-то столь элегантным, уютным и красивым московского дома Булгаковых, где, несмотря на все невзгоды и тяготы бытия, царили любовь и счастье.
В Ташкенте, рискуя навлечь на себя большие неприятности, Елена Сергеевна давала некоторым своим друзьям читать «Мастера и Маргариту». Его прочел Олег Леонидович Леонидов и был в сильнейшем шоке. «Такой роман лежит под спудом, – сокрушался он. – Но я верю – его время придёт!» – утешал он тех, кто не имел к нему доступа. И время действительно пришло. Только ждать его пришлось не три года, – «обещанного три года ждут» – как гласит пословица, а целую четверть века.
Но вот она пришла, пришла Победа! Толпы ликующего народа на Красной площади, слезы, жажда слиться со всеми, вот с этими, незнакомыми, своими…
Парад Победы, как известно, состоялся не сразу, а спустя некоторое время, 24 июня 1945 года. Был хмурый, дождливый день, не было тогда авиации, разгоняющей облака. Николай Вирта вместе с другими писателями из радиостудии, оборудованной в ГУМе, комментировал парад, непосредственно наблюдая его в огромные окна магазина. Меня же взял с собой на парад Олег Леонидович Леонидов с женой, и я стояла в первом ряду слева от Мавзолея с другими детьми.
Каждый из нас тысячу раз видел эти исторические кадры в кино и по телевизору, но и по сей день горло перехватывает и подступают слёзы при виде этого торжества, которое было завоевано столь тяжелой ценой.
После всего этого, казалось, сама судьба уготовила нам всем, нашей стране, нашей культуре прорыв в светлое будущее. Однако ничего подобного не произошло. Маршал Жуков, народный полководец и герой, оказался в опале, а культуру травили и преследовали. Какая только терминология не изобреталась в послевоенные годы, чтобы посильнее заклеймить творческую интеллигенцию: формализм в музыке, безродные космополиты в литературе, позднее прибавились «педерасы» в изобразительном искусстве, под нож попадали журналы, оперы, симфонии, картины, стихи и проза. Во всем этом разгуле повального шельмования с последующим исчезновением отдельных представителей литературы и искусства судьба миловала Николая Вирту. Ему не припомнили ни его неблагополучного происхождения, ни, например, его пьесы «Клевета, или Безумные дни Антона Ивановича». Надо сказать к его чести, что в травле своих собратьев по перу он ни разу не был замечен, гнусных писем не подписывал, ни в каких официальных должностях в Союзе писателей не состоял. В партию никогда не вступал, что сделали из карьерных соображений или под давлением свыше многие, в том числе выдающиеся деятели литературы и искусства. В те времена тотального подавления любого вида интеллектуальной самобытности мой отец, не примыкая ни к каким кланам и группам, стоял особняком и надеялся в основном на свой здравый разум. Хотя нередко и прислушивался к советам «умников», своих ближайших друзей – Юзи Гринберга, Лёвы Левина (называю их так, как называли мои родители). За свою независимость ему предстояло поплатиться потом, в конце пятидесятых, но до этого еще дело не дошло.
Единственная буря, которую пережила наша семья в пятидесятые годы, носила характер частного бедствия. Отец ушел из дома к одной даме, от чар которой сам же до войны спасал своего друга Евгения Петрова, увезя его срочно из Ялты в Москву, поближе к семье. Союз с ней оказался недолговечным и очень скоро распался. Через некоторое время отец женился снова. Не буду распространяться о его третьей жене. В конце жизни отца они практически расстались, так как Вирта поселился безвыездно в Переделкино, на своей новой даче, а его жена в Москве.
Но пока что моим родителям предстояло провести вместе несколько счастливых лет. Они были молоды, отцу после войны было немногим более сорока лет, мама на три года моложе. У нас в семье произошло радостное событие – родился мой младший брат Андрюша. И только одно по-прежнему беспокоило моих родителей – это здоровье отца.
Но ни диета, ни постоянное профилактическое лечение на наших курортах и в Карловых Варах не смогли полностью избавить отца от его болезни. В конце концов, этот злой недуг, неотступно преследовавший его после войны все оставшиеся годы, и свел его раньше срока в могилу, не дав дожить несколько месяцев до семидесяти лет.
А в Переделкино наладилась мирная жизнь – общение с друзьями и соседями: П. Нилиным, И. Гринбергом, А. Штейном, Н. Погодиным, летчиком И. Спириным, адмиралом А. Головко. Снова были шумные вечера у кого-нибудь на даче, на террасе, чтения новых произведений. Они снова разыгрывали друг друга, юмор спасал от многого в те непредсказуемые времена, когда на каждого мог быть повешен вздорный ярлык, с которым можно было угодить в «чёрный список» или ещё куда-нибудь подальше.
Творческая активность Николая Вирты в послевоенные годы была поразительной: что ни год, то новая драма. Бывали такие осенне-зимние сезоны, когда Москва была буквально сплошняком заклеена афишами с именем Н. Вирты. Его пьесы шли во МХАТе («Земля», «Заговор обреченных»), в Театре Вахтангова («Заговор обреченных»), в Театре драмы («Великие дни», «Хлеб наш насущный»), Театре Транспорта («Три года спустя»), Малом театре («Заговор обречённых»). Из провинции афиши и программы спектаклей присылали нам домой в Лаврушинский переулок пачками и рулонами, поскольку пьесы отца шли в десятках театров по разным городам страны. За всем этим шелестом и овациями как-то глухо звучали голоса предупреждения, искреннего желания предостеречь Н. Вирту от поспешности, от погони за острозлободневными сюжетами и темами, необходимыми для постановок к определенной дате. Такое предупреждение получил он от Вс. Вишневского, некогда благословившего начинающего автора вступить на путь литературного творчества и с отеческой требовательностью относившегося к нему всю жизнь. Оно касалось пьесы «Великие дни», написанной по сценарию «Сталинградская битва» и принятой к постановке Н. Охлопковым в Московском театре драмы (ныне Театр Маяковского): «Ты с Охлопковым бежишь, торопишься к дате… Николай, гляди на вещи прямо, честно. Писал «Одиночество»: всё смело, крупно, прямо… С мыслями: а может, и головы не сносить? А тут скорей к дате… дело в порядке. Не то, писатель земли русской. Разве написал бы ты все это в романе? Да ты тридцать раз все исчеркал бы и нашел правду. Измучил бы бывалых солдат собеседников, выжал бы нужное». (Письмо от 7.12.47 г.)
Литературный вкус Вс. Вишневского не изменил ему и на этот раз, и потому фальшивые ноты показной бравады, наигранной бодрости, натянутость некоторых диалогов резали ему слух. Но задерживаться, искать более точные интонации, выстраивать диалоги, а тем более переосмысливать некоторые образы было некогда. И голос Вс. Вишневского не был услышан.
Премьера состоялась 15 ноября 1947 года в юбилейные дни официальных торжеств по поводу 30-й годовщины Октябрьской революции. В спектакле были заняты известные актёры: Л. Свердлин играл роль Сталина, Е. Самойлов – Рокоссовского, А. Ханов – Чуйкова, М. Штраух – Молотова. Декорации крупнейшего театрального художника П. Вильямса (это была последняя его работа для театра, он скоропостижно скончался вскоре после премьеры «Великих дней») – то развернутые огромной картой боевых действий, то панорамой горящего города, то Волгой с ледяными торосами – создавали тревожный, полыхающе-огненный фон к спектаклю. Н. Охлопков в полной мере использовал в спектакле самые последние достижения театральной техники, световые эффекты, кино, музыкальное сопровождение. И, конечно, новая постановка была замечена и публикой, и прессой. Война – это было святое для каждого сидящего в переполненном зале, грохот недавних сражений за Сталинград стучал в сердце каждого, а потому публика рыдала и плакала, и аплодировала стоя. Актеров, постановщика спектакля Н. Охлопкова, автора пьесы Н. Вирту, художника П. Вильямса вызывали множество раз. Да, судьба не поскупилась отпустить моему отцу успеха полной пригоршней. Снова овации, поздравления, хвалебные рецензии в прессе.
В эти же годы Николай Вирта вновь обращается к своей заветной теме – земле, которая всегда была и оставалась для него наиболее близкой и болезненной. Он пишет пьесу «Хлеб наш насущный». Пьеса была как нельзя более актуальной, поскольку состояние послевоенной деревни было поистине катастрофическим, и надо было искать выход из порочного круга нерешенных проблем. С одной стороны, разруха, нехватка техники, удобрений, посевного материала, рабочей силы, с другой стороны, – неоплачиваемые трудодни, отсутствие паспортов. Всё это было прекрасно известно писателю, никогда не порывавшему связей с его родным краем – Тамбовщиной. Однако в пьесе, призванной служить откликом на коренные беды сельского хозяйства в России, происходит подмена серьёзных проблем более поверхностными. Поиск возможного выхода, в обход объективных обстоятельств, лежит в ней в сфере идеалистической – поиска «правильных» людей. Придёт в район, область, сельсовет «правильный» человек, «правильно» ориентирующийся на тотальный подъем сельского хозяйства, и оно будет поднято, отсталая деревня преобразится в передовую. Вот и появляется в районе после выполнения спецзадания фронтовик Рогов, главный герой произведения, и разоблачает председателя показательного колхоза Силу Силыча Тихого, вся слава которого была, оказывается, дутой. Тихий пользовался порочными методами ведения колхозного хозяйства, принуждал людей работать больше положенного, шел на приписки, чтобы втереть районному начальству очки и добиться для своего колхоза максимальных льгот, необходимых для того, чтобы удержаться в передовых и показательных. Этакий кулак советского разлива, однако старался он не только ради личного обогащения, но и ради почестей, сохранения власти. Критика тех дней проводит интересную параллель между образом Тихого и Сторожева из пьесы «Земля» того же автора и видит много общих черт, составляющих существо их натуры, – алчность, эгоизм.
Пьеса «Хлеб наш насущный» была поставлена в 1947 году Московским театром драмы, где только что прошла премьера «Великих дней», а вслед за ним многими театрами по всей стране и шла в течение нескольких лет. Рецензии тех лет называли «Хлеб наш насущный» значительным, проблемным произведением. Отмечалась блестящая игра артистов, в особенности А. Ханова, исполнителя роли Тихого, создавшего колоритный и впечатляющий образ новоявленного кулака, пришедшего на землю, типичного «носителя индивидуалистических пережитков», как писали о нём критики.
Да, то был, несомненно, социалистический реализм, но при этом один из лучших его образцов. «Хлеб наш насущный» написан рукой крепкого профессионала с соблюдением всех законов жанра: занимательной коллизией, насколько позволяла сельская тематика, динамичным диалогом, столкновением характеров – в данном случае «положительных» и «отрицательных».
Надо сказать, что Николай Вирта обладал редким даром, сочетающим в себе талант прозаика и драматурга. Тяга к театру, к сцене, к изобразительной пластике присутствовала в нём с юных лет, однако развивать в себе эти способности моему отцу не пришлось. И лишь после постановки «Земли» во МХАТе ему представилась возможность приобщиться к современным методам сценического мастерства. Он целый год был слушателем студии МХАТ, где читались лекции драматургам, литературоведам, постановщикам, вообще «театральным людям». Отец всегда вспоминал это время с теплотой и благодарностью. «Сподобился в кои-то веки стать студентом», – говорил он про себя и признавался, с каким трепетом открывал всякий раз тяжелые резные двери студии и как много полезного почерпнул для себя во время учёбы.
«За этот год я прошел огромный курс, великую науку МХАТа, школу настоящей драматургии. Здесь я научился смотреть на сцену не так, как смотрел раньше, когда писал «Землю». Здесь я узнал, что такое актер и режиссер, что такое слово в пьесе…» – писал Н. Вирта в очерке «Год в школе Художественного театра».
Ну а как же правда о земле?! Разве не видел писатель, обладавший генетическим пониманием деревни, где кроется корень зла? Быть может, и видел. Кто знает, что думал он по этому поводу? Однако вряд ли мы можем с позиций сегодняшнего дня предъявлять претензии автору за то, что он не покусился на самые основы социалистического способа ведения сельского хозяйства, порочной практики государства в отношении деревни! Наивно было бы предполагать, что даже тень сомнения в правильности линии коммунистической партии, проводимой в деревне, могла промелькнуть в каком-нибудь художественном произведении тех лет.
Несомненно, что все послевоенные годы творчество отца происходило с оглядкой на Кремль, где бодрствовал, ни на минуту не теряя бдительности, великий вождь. Не так страшно для отца было попасть в «лакировщики действительности», если пользоваться терминологией тех лет, как стать «апологетом кулачества», что чуть было не произошло с писателем в самом начале его литературной биографии.
Сложно утверждать однозначно, чего больше в такой пьесе, как «Хлеб наш насущный», – умышленного искажения реалий того времени или все-таки искреннего самообмана. Николай Вирта по своему общественному темпераменту не мог не откликнуться на самые острые проблемы современности, однако была ли девальвация глубины этих проблем прямым отражением «легкомысленной сделки с эпохой» (по выражению Пастернака) или же неумышленным бессилием писателя трезво оценить бесперспективность линии, начертанной партией для развития деревни? Кто возьмётся судить об этом сейчас! Печальнее всего обреченность подобных произведений, чей срок измеряется мерой «актуальности» для нужного момента, после чего они предаются забвению. В этом смысле судьба многих произведений советской литературы поистине трагична.
Незадолго до войны, в Кремле Сталин пообещал писателям, в ночной беседе с ними, заняться объединением славян в единую братскую семью. Победа в войне давала возможность вождю всех народов вплотную приступить к осуществлению этого замысла. Проводимая в отношении стран ближнего зарубежья политика насильственного насаждения социализма советского образца достаточно красноречиво свидетельствовала о серьёзности намерений Сталина. В странах Восточной Европы возникало активное сопротивление действиям «большого брата», Москва со своей стороны усиливала давление.
В таком политическом климате в 1948 году появляется пьеса Н. Вирты «Заговор обреченных». В каком-то смысле эта драма оказалась злым пророчеством – в 1948 году ещё никто не предполагал, что в недалёком будущем мир, содрогаясь, будет наблюдать за тем, как на улицы Будапешта медленно вползают советские танки, а позднее окажется перед лицом разгрома Пражской весны. А тем временем в преддверии грядущих событий пьеса «Заговор обречённых» или «В одной стране», как в подзаголовке назвал ее автор, показывала, как в этой самой стране коммунисты вели ожесточенную борьбу за установление своего диктата и искоренение последних остатков свободы.
Острая злободневность пьесы сделала ее сенсацией дня.
В самом начале 1949 года ее поставил Театр им. Евг. Вахтангова, а вслед за тем в Москве Малый театр, Театр Транспорта, МХАТ, в Ленинграде Академический театр им. Пушкина и многие другие театры страны.
Рубен Николаевич Симонов, постановщик «Заговора обречённых» в Театре им. Евг. Вахтангова, занял в спектакле первый состав актеров. Ганну Лихта, лидера коммунистов, играла А. Орочко. Блестящую и коварную Христину Падера, министра продовольствия, – Ц. Мансурова. Материал пьесы давал ей возможность создать яркий образ обольстительной и опасной интриганки, плетущей нити заговора против коммунистов и Советского Союза. Обаятельная, юная тогда актриса Ю. Борисова исполняла роль Магды, влюбленной в привлекательного рабочего паренька, которого играл Ю. Любимов. Это был замечательный дуэт двух молодых и необычайно красивых актеров. Сэра Генри Мак-Хилла, американского магната, выразительно играл М. Астангов, мастерски используя для создания образа сатирические, а подчас и гротесковые краски. В роли фермера Варра выступал А. Горюнов – простоватый и прямодушный крестьянин в его исполнении пользовался неизменной симпатией зрителей, и его появление на сцене сразу же встречали дружными аплодисментами. Все в этом спектакле были хороши – И. Молчанов в роли социал-демократа Иоакима Пино, Н. Бубнов в роли кардинала Бирнча. В театре был постоянный аншлаг, цветы, аплодисменты. Это был гвоздь сезона.
Ещё более популярным был фильм, снятый по пьесе «Заговор обреченных» в 1950 году режиссером М. Калатозовым. В нём снимались известные актеры: Л. Скопина, С. Пилявская, Н. Судаков. И вот ещё одна сенсация – в роли кардинала Бирнча впервые за весь свой сложный творческий путь появился на экране недавно вернувшийся из эмиграции А. Вертинский. Роль кардинала была создана как будто бы специально для него – величественная фигура в роскошных облачениях, потрясающие жесты его удивительных рук, во всём – ему одному свойственная пластика, изящество, изыск. Безусловно, Вертинский принес фильму дополнительный успех, – зрители ходили в кино смотреть на популярного певца. Отклики в прессе были самые восторженные. Такие серьёзные критики, как, например, Б. Галанов, с энтузиазмом писали о том, что фильм является «остропублицистическим произведением, изобличающим поджигателей войны», и, не кривя душой, восторгались игрой актеров.
Аудитория этих произведений Н. Вирты была огромной, тысячи и тысячи людей в провинции, в городах и сёлах видели фильм, ходили на спектакль.
С позиции сегодняшнего дня можно лишь поражаться тому, что «Заговор обреченных», в котором поддерживалась экспансионистская политика СССР в отношении стран ближнего зарубежья, был востребован многими прославленными театральными коллективами, что его ставили лучшие режиссеры страны, что фильм снимал знаменитый М. Калатозов, что в нём играли известнейшие актеры, а публика валом валила на спектакль и на фильм. Вот и подумаешь невольно о коллективной ответственности общества в целом перед судьбами Отечества.
Пьеса и фильм «наверху» очень понравились, и Н. Вирта получил за «Заговор обречённых» свою последнюю, четвертую Сталинскую премию.
Как бы там ни было, но «Заговор обречённых» вошел в историю советского театра, а само его название стало отчасти именем нарицательным.
В пятидесятые годы Н. Вирта написал большое число драматургических произведений, большинство из них было поставлено в различных театрах столицы и по провинции, но быстро сошло со сцены, не оставив сколько-нибудь заметного следа. Не буду на них останавливаться и приведу лишь неполный их список: «Мой друг, полковник», «Солдатские жёнки», «Тихий угол», «Однажды летом», «Гибель Помпеева», «Три камня веры», «Желанная», «Тихоня», «Солдаты Сталинграда», «Три года спустя».
В начале пятидесятых годов у Н. Вирты началась новая полоса жизни. Я уже упоминала о том, что мои родители расстались, и отец женился во второй раз. Одновременно он переехал жить в село Горелое Тамбовской области. Расположено оно в одном из самых живописных мест области. Для Николая Вирты Тамбовщина была тем же самым, что Вешенская для Шолохова, Дальний Восток для Фадеева или Саратов для Федина.
Мой отец построил на краю села красивый деревянный дом, выходящий окнами на Цну, насадил сад, разбил цветник, держал лошадь. Он стремился вникнуть в новую сельскую жизнь, от которой некоторое время был оторван. Писатель стал депутатом областного и районного советов, заместителем председателя областного и председателем районного комитетов защиты мира. Кроме того, Вирта принимал активное участие в литературной жизни Тамбова и области, – он был редактором альманаха «Тамбов», одним из руководителей областной писательской организации, членом худсовета областного театра.
Я навещала его в то время в Горелом. Отец уезжал из дома рано утром, объезжал колхозы, поля, МТС и возвращался к ночи. А иной раз его можно было дождаться только на следующий день, он допоздна засиживался где-нибудь у местного начальства и оставался ночевать там, где заставала его темнота. За пять лет пребывания в послевоенной деревне писатель глубоко изучил её проблемы, с близкого расстояния увидел те помехи, которые встают на пути к её процветанию. Да, но если бы одного только знания фактического материала было достаточно для создания художественного произведения!
Написанный на Тамбовщине роман «Крутые горы» впервые был выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1956 году, но не имел такого резонанса, как предыдущие произведения Н. Вирты ни в прессе, ни в читательской аудитории.
Надо сказать, что в дальнейшем Н. Вирта талантливо использовал фактический материал, заложенный в романе «Крутые горы», и на его основе создал одну из своих наиболее удачных пьес «Дали неоглядные». Но об этом я скажу позже, а сейчас нам предстоит поговорить немного о дрязгах.
После смерти Сталина недругам моего отца было самое время с ним расправиться. Ага, мол, как-то теперь будет сталинскому любимчику (или поднадзорному), когда не стало покровителя (или тирана)?! Ату его! И борзописцы не замедлили исполнить заказ.
В «Комсомольской правде» 17 марта 1954 года появился фельетон «За голубым забором» (не буду называть фамилии авторов), насквозь проникнутый духом ненависти и доносительства. Обличительный пафос этого сочинения представляется ныне просто смехотворным. Он заключается в том, что переехавший в деревню писатель ведет образ жизни, отличный от жизни окрестных крестьян. Действительно, жизнь писателя сильно контрастировала с тем, что представляла собой в то время тамбовская деревня. Возможно, надо было вести себя скромнее, не все выставлять напоказ. Однако истинная подоплёка развязанной травли состояла отнюдь не в том, чтобы преподать писателю урок этики, а совершенно в другом. Слишком долго стоял он в стороне от всяких кланов, от интриг и разборок, постоянно сотрясавших стены Союза писателей, умудряясь в то же время сохранять, помимо независимости, еще и завидное благосостояние. «Сигналы» могли поступать как из недр районного тамбовского начальства, если он кому-то там особо насолил, так и от коллег-литераторов, не знаю. Однако трагедия отца в 60-е годы состояла не в том, что за неимением каких-либо политических обвинений недоброжелатели следили за каждым его неверным шагом в частной жизни и спешили сделать его достоянием гласности.
Трагедия отца состояла в другом.
Казалось бы – сверху на него больше никто не давил. Всесильное время разрушило оковы всесильной власти, и теперь он был свободен и как художник, и просто как думающий человек. Он многое мог переосмыслить, вернуться к своим истокам, к деревне, и написать о ней всё, что знал, сказать слово правды. В 50-е годы публикуются первые произведения новой волны, волны хрущевской «оттепели», наступившей после разоблачения культа личности Сталина. В «Новом мире» А. Твардовского печатаются «Районные будни» В. Овечкина, родоначальника «деревенской прозы», оказавшей столь сильное влияние на оздоровление нравственного климата в нашей стране. Появляются «Не ко двору» и «Ухабы» В. Тендрякова – это был вызов обществу, не желавшему до той поры обращать внимание на деревенские проблемы. Вслед за Тендряковым в шестидесятые годы выходят в свет произведения Б. Можаева, В. Белова, В. Распутина. Николай Вирта, несмотря на то, что в 1953 году ему было всего лишь сорок семь лет, так и не обрёл второго дыхания, не написал неожиданного о своих корнях, о земле. Слишком долго гнула его власть, слишком долго существовал он под страхом возмездия за своего отца, и что-то главное в нем надломилось, перегорело. А может быть, сказалось и другое – вынужденное употребление дарованного ему свыше таланта для «легкомысленных сделок с эпохой», как выразился Б. Пастернак? Кто знает…
Но вернемся к роману «Крутые горы» – именно в связи с этим романом Николая Вирту ждал еще один всплеск успеха. С ним произошла история, аналогичная той, которая случилась ровно двадцать лет тому назад, когда к нему обратился Немирович-Данченко и предложил написать пьесу по роману «Одиночество». Тогда была создана и поставлена во МХАТе пьеса «Земля». На этот раз Ю. Завадский предложил отцу сделать инсценировку по роману «Крутые горы» для постановки в Театре им. Моссовета, которым он руководил. В тесном содружестве с театром была написана пьеса «Дали неоглядные» и поставлена к сорокалетнему юбилею Октябрьской революции. Такова была эпоха – самые значительные спектакли обязательно появлялись в какие-то юбилейные дни. Это был великолепный спектакль – замечательный театральный коллектив вдохнул жизнь в роман «Крутые горы», и деревня предстала перед зрителями во всей своей красоте, сложности и драматизме.
Премьера пьесы «Дали неоглядные» состоялась в Театре Моссовета 4 ноября 1957 года. Зал был полон, зрители горячо приняли спектакль. И снова фамилия Вирты замелькала в газетах и журналах, и снова афиши, афиши, афиши…
Спектакль поставил сам Завадский, декорации писал художник А. Васильев, музыку специально для этой постановки – В. Мурадели. В. Марецкая блистательно сыграла роль Анны Павловны Ракитиной, Р. Плятт читал текст от автора. Это была одна из звездных ролей великого актера.
А через три года в том же театре состоялась новая премьера. Ю. Завадский поставил спектакль «Летом небо высокое» по пьесе Н. Вирты, и он также был тепло встречен зрителями.
Обе эти пьесы были переведены на иностранные языки, шли за рубежом. Для отца на фоне недавно развернутой против него кампании, нанесшей огромный урон его самочувствию как моральному, так и физическому, успех двух последних его драматургических произведений явился большой поддержкой.
В шестидесятые годы он по-прежнему много работал. Из-под его пера вышли роман «Возвращённая земля», повесть «Мой помощник Карсыбек», рассказы «Воодушевленный Егор», «Обходчик», «Наша Берта», «На проезжей дороге», «Серый денек», пьесы «Три камня веры», «Средь бела дня». Однако эти произведения Н. Вирты не стали художественным открытием и потому остались как бы на обочине его творческой биографии.
Отец, как всегда, был во власти разнообразных планов и идей. Но он не приобщился к миру шестидесятников, в писательском сообществе стоял особняком, все больше и больше замыкаясь в себе, мало бывал на людях. Хотя у него были поводы для радости, не все еще было исчерпано. Он мог гордиться былой своей славой: по стране во многих театрах шли его драматургические произведения, в столице и в провинции переиздавались романы, выходили сборники рассказов и очерков. Он многое видел, много ездил. Однако поездки порой лишь углубляли общий его пессимизм. Из Америки он вернулся в состоянии психологического надлома: он всё примерял американское благополучие к ситуации в нашей стране и приходил в отчаяние и уныние. Поездка в Японию лишь усугубила депрессивный настрой. Его душевный дискомфорт объяснялся, надо полагать, не в последнюю очередь ухудшением здоровья. Но может быть, для этого были и другие, не менее серьезные причины…
Так закончилась эта жизнь, опалённая Гражданской войной, а затем обласканная советской властью. Но взамен она потребовала от него душу.
Николай Евгеньевич умер в московской городской больнице в ночь с 8 на 9 января 1976 года. До его семидесятилетия оставался почти год. Похоронен мой отец в Переделкино, где он прожил едва ли не сорок лет, на сельском кладбище, неподалеку от той церкви, в которую любил заходить.
Москва, 2006 г.Фотографии
Прадед Самуил
Дед о. Евгений Карельский
Бабушка, мать отца
Рахиль
Борис Наумович Липницкий
Павел Каган
Рахиль после замужества
Рахиль с младшим сыном Юрой
Елена Ржевская с Виктором Некрасовым
Встреча друзей. – П. Горелик, И. Крамов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий
Сашка на одеяле
Сашка с папой
Я с мужем и Максим с женой Таней
Берестинский М. И.
Старший брат Боба с Наташей и Леной
Я с мужем Юрием Каганом
Братья на банкете
Полная реабилитация, выданная Б. Н. Липницкому
Грамота за доблестный труд (фамилия написана с ошибкой)
Грамота за участие в боях за освобождение немецких городов
Родители поженились
Два брата у нас на даче
Отец за работой
Интерьер кабинета в Переделкине
Мама на даче с собаками
Родители перед войной
Друзья отца И. Петров и Ю. Герман
Александр Николаевич Афиногенов
Иван Тимофеевич Спирин
Олень на батарее, Мурманск. Фото Н. Вирты
Могилы погибших. Фото Н. Вирты
Разруха, Сталинград. Фото Н. Вирты
В окопах Сталинграда. Фото Н. Вирты
Началась война
Спаслись, Сталинград. Фото Н. Вирты
Пленные немцы. Фото Н. Вирты
Отец с пленными
Фельдмаршал Паулюс сдается в плен. Фото Н. Вирты
Отец с генералом В. И. Чуйковым, Веймар, 1945 год
Мне 21 год
Одна из последних фотографий отца
Отец с постановщиком фильма «Сталинградская битва» В. Петровым






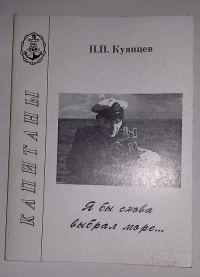
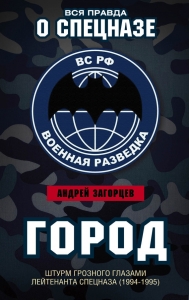

Комментарии к книге «Моя свекровь Рахиль, отец и другие…», Татьяна Николаевна Вирта
Всего 0 комментариев