Илья Вагман, Мария Щербак 100 знаменитых отечественных художников
От авторов
Люди, о которых идет речь в этой книге, видели мир не так, как другие. И говорили о нем без слов – цветом, образом, колоритом, выражая с помощью этих средств изобразительного искусства свои мысли, чувства, ощущения и переживания.
Искусство знаменитых мастеров чрезвычайно напряженно, сложно, нередко противоречиво, а порой и драматично, как и само время, в которое они творили. Ведь различные события в истории человечества – глобальные общественные катаклизмы, революции, перевороты, мировые войны – изменяли представления о мире и человеке в нем, вызывали переоценку нравственных позиций и эстетических ценностей. Все это не могло не отразиться на путях развития изобразительного искусства ибо, как тонко подметил поэт М. Волошин, «художники – глаза человечества».
В творчестве мастеров прошедших эпох – от Средневековья и Возрождения до наших дней – чередовалось, сменяя друг друга, немало художественных направлений. И авторы книги, отбирая перечень знаменитых художников, стремились показать представителей различных направлений и течений в искусстве. Каждое из них имеет право на жизнь, являясь выражением творческого поиска, экспериментов в области формы, сюжета, цветового, композиционного и пространственного решения произведений искусства. Поэтому среди выдающихся мастеров, очерки о которых включены в эту книгу, есть и немало представителей авангардных течений, в частности абстракционизма, поп-арта и русского андеграунда, долгое время у нас либо осуждавшихся, либо замалчивавшихся. Приверженцам же только реалистического направления стоит напомнить слова выдающегося сюрреалиста С. Дали: «Я уважаю любые убеждения, и прежде всего те, которые несовместимы с моими».
Творческая и личная судьба выдающихся мастеров искусства связаны воедино. И бытующее порой представление о богемной жизни художников, полной радостей, наслаждений и увеселений, безосновательно. Чаще их дни были наполнены мучительными сомнениями, поисками и долгим упорным трудом. Ведь некоторые картины писались годами и даже десятилетиями. Ради творчества многие живописцы и скульпторы отказывали себе во всем, забывая о семейном счастье, простых человеческих радостях, карьере и благополучии.
Получить полное представление о произведениях живописи или скульптуры по их словесному описанию, конечно, сложно. И все же авторы надеются, что в этом читателю отчасти помогут рассказы об истории создания лучших полотен и статуй. Ибо они, так же как и их творцы, имеют свою судьбу, которая, как правило, продолжается и после смерти живописца. Недаром великий Микеланджело писал:
«Творенье может пережить творца: Творец уйдет, природой побежденный, Однако образ, им запечатленный, Веками будет согревать сердца».Айвазовский Иван Константинович Настоящее имя Ованес Константинович Гайвазовский (род. в 1817 г. – ум. в 1900 г.)
Выдающийся русский художник – маринист и баталист. Академик живописи, профессор Академии художников, член Амстердамской академии художеств. Живописец Главного морского штаба. Обладатель наград: серебряной медали и золотой медали на выставках Петербургской академии художеств («Этюд воздуха над морем», 1835 г.; «Штиль», 1837 г.); золотой медали от папы Григория XVI («Хаос», 1839 г.), золотой медали на выставке в Лувре («Буря у берегов Абхазии», 1843 г.), ордена Почетного легиона (1857 г.). Основатель Музея древности (1871 г.), художественной мастерской, картинной галереи и концертного зала в Феодосии.
«…Он был, о море, твой певец. Твой образ был на нем означен, Он духом создан был твоим…»С чистой совестью мог принять этот титул Иван Айвазовский, чья послушная замыслу кисть воспела покой и буйство природы, гордую красу моря, неба, воздуха, мужество и волю человека в неравной борьбе со стихией.
Родился Ованес в армянской семье, давно обосновавшейся в Феодосии. Жили бедно, отец писал жалобы и прошения на базаре, мать вела хозяйство и слепла над вышивкой. Нужда заставила отдать старшего сына Гарика купцу-армянину для определения его в армянский монастырь в Италии. А младший Ованес уже в 10 лет работал «мальчиком» в городской кофейне. Он прекрасно играл на скрипке и пел, но самой большой его радостью было рисовать самоварным углем на стенах домов. Эта «настенная живопись» была замечена архитектором Кохом, который подарил мальчику первые карандаши и бумагу, а затем показал рисунки градоначальнику А.И. Казначееву. Александр Иванович, став губернатором, забрал одаренного Ваню с собой в Симферополь, поселил в своем доме и определил в гимназию.
В 1833 г. Гайвазовский был принят казенным пенсионером в Петербургскую академию художеств в класс М.Н. Воробьева. Будущий художник с легкостью переносил полуголодное существование. Он учился пристально наблюдать натуру, угадывать ее «душу и язык», передавать настроение в пейзаже. Ване было всего 17 лет, когда он до малейших деталей мог скопировать пейзажи Сильвестра Щедрина и Клода Мореля. Заданный на втором году обучения эскиз «Предательство Иуды» привлек всеобщее внимание, и президент А.Н. Оленин объявил Гайвазовского лучшим учеником и будущей звездой и гордостью академии.
В 1835 г. Иван попал в «ученики» к французскому художнику-маринисту Филиппу Таннеру. Учитель оказался менее талантливым, но очень завистливым и, очернив работу Гайвазовского «Этюд воздуха над морем» перед Николаем I, вверг юного художника в царскую немилость. В течение года Оленин, Одоевский, Томилин, Жуковский, принимавшие участие в его судьбе, не могли ничего изменить. И только известный художник-баталист А.И. Зауервейс реабилитировал Гайвазовского и убедил царя отправить юношу вместе с Ф.П. Латке в летнее плавание по Балтике. За несколько месяцев офицеры научили Ивана разбираться в сложнейшем устройстве и оснастке кораблей российского и иноземного флота. Моряков подкупила искренняя любовь юноши к морской стихии и кораблям. Экипаж прозвал его «морским волчонком». С этого плавания Гайвазовский неразрывно связал свою судьбу с морем и российским флотом, написав свои первые пять марин.
Занятия с К. Брюлловым и М. Воробьевым принесли свои плоды. Двадцатилетний юноша стал мастером, великолепным художником-маринистом. Общение с Пушкиным и Глинкой настроило его ум на торжественное воспевание природы: «Прекрасное должно быть величаво». Гайвазовский рано постиг, что служение искусству – это не смирение и не спокойное созерцание жизни, а действие, кропотливый ежедневный труд. Совет академии сократил ему срок обучения на два года, а золотая медаль первой степени (1837 г.) за успехи в живописи позволяла отправиться за границу, но Гайвазовского направляют в Крым «писать с натуры морские виды». Путешествуя по Крыму и Кавказу (генерал Раевский, начальник Черноморской береговой линии, приглашает его наблюдать боевые действия флота против турок), он сделал множество набросков и написал такие известные полотна, как «Вид Керчи», «Морской берег», «Лунная ночь в Гурзуфе», «Десант в Субаши». Сердце юного художника было полно благодарности к адмиралам М. Лазареву, П. Нахимову, В. Корнилову и многим простым матросам, поделившимся с ним знаниями о море и своим душевным богатством. Прекрасная зрительная память помогала Гайвазовскому перенести свои воспоминания на полотно. В промозглом Петербурге он мог написать любой пейзаж Крыма, а по рассказам очевидцев создать живописную баталию.
В 1840 г. художник уезжает в пенсионерскую поездку в Италию. В монастыре он отыскал своего брата-монаха, который посоветовал ему изменить фамилию, чтобы она была ближе к армянской (фамилия предков – Айвазян). Отныне Иван Константинович будет подписывать фамилией Айвазовский все свои картины. Молодой художник все время посвящал живописи, отлучаясь из мастерской только в музеи, для работы на природе или для встреч с соотечественниками – Н.В. Гоголем и А.А. Ивановым.
Уже тогда Айвазовский заметил, что его тщательно выписанные полотна на пленэре оставляют равнодушными зрителей, зато написанные по памяти вызывают восхищение. Ведь в такие пейзажи он вносил свои яркие впечатления, свой восторг перед неповторимостью каждого мгновения в природе. Художник начал писать исключительно в мастерской, где были только голые стены, а на мольберт наносились воспоминания об игре света и теней на морской поверхности, на вершинах гор и на зелени деревьев, о движении волн и бесконечных оттенках воды, радужном сиянии морских брызг в лучах солнца. Писал на одном дыхании, страстно, с увлечением и не отходил от мольберта, пока не завершал картину. «Неаполитанская ночь», «Буря», «Хаос» привлекли к его творчеству всеобщее внимание, а когда папа Григорий XVI приобрел «Хаос» для картинной галереи Ватикана и лично познакомился с автором, Европа признала, что Айвазовский – лучший в мире художник-маринист. Теперь уже его произведения копировали юные ученики, и морские виды «а-ля Айвазовский» появились в каждой лавочке.
В душе художника рядом с Феодосией и Черным морем прочно, на всю жизнь, занял свое место Неаполитанский залив. А сердце Ивана Константиновича согрела встреча с балериной Марией Тальони, женщиной, которая навсегда осталась в его памяти окутанной покрывалом неосуществимой мечты. Она была старше Айвазовского на 13 лет и не решилась открыть своих чувств, а он даже не надеялся на взаимность.
В 1843 г. Иван Константинович стал единственным русским художником, которого французское правительство пригласило выставить картины в Лувре. После этого началось триумфальное шествие по городам Европы. Картинами Айвазовского любовались Лондон и Лиссабон, Мадрид и Гренада, Севилья и Барселона, Гибралтар и Мальта… Везде он делал многочисленные зарисовки для будущих работ: здания, корабли, скалистые берега. За четыре года он создал 80 картин, в основном марин, с изображением морских бурь и кораблекрушений, тихого моря, лунных ночей. Полотна художника разошлись по всей Европе. В Голландии, на родине морской живописи, он был удостоен звания члена Амстердамской академии художеств.
В конце лета 1844 г., покорив европейские столицы, Айвазовский вернулся в Петербург, где его ожидали почет и слава, звание академика живописи. Художник был причислен к Главному морскому штабу в звании первого живописца и по его поручению писал виды русских северных портов и приморских городов. Он стал модным художником, и в тот момент, когда к нему пришла слава и появились деньги, Иван Константинович определил для себя, что настоящую радость ему приносят только труд и творчество, и решил вернуться в Феодосию. В родном городе на берегу моря он строит поместье Шейх-Мамай. Легко и радостно работалось ему там. Все горожане любили Ивана Константиновича и с радостью чествовали на празднике в честь 10-летия его художественной деятельности. Севастополь отправил эскадру из шести военных кораблей приветствовать своего главного живописца. Честолюбие Айвазовского было удовлетворено: когда-то бедный парнишка, он становился отцом родного города.
Весть о предстоящей женитьбе знаменитого художника на бедной гувернантке-англичанке всколыхнула петербургское светское общество (1847 г.), но Айвазовский увез свою избранницу, Юлию Яковлевну Гревс, от пересудов в Феодосию. Однако молодой жене не понравилось жить в глуши, вскоре начались упреки, и Айвазовский осознал растущую несхожесть их характеров и взглядов. На 12 году супружеской жизни Юлия Яковлевна оставила мужа, забрав с собой четырех дочерей: Александру, Елену, Марию и Жанну, и только изредка разрешала им навещать отца. Но никакие семейные невзгоды не могли оторвать Айвазовского от творчества. В эти годы художник создал бессмертное полотно «Девятый вал» (1850 г.), соединив стихию шторма с мужеством и волей человека, борющегося за свою жизнь.
Нахимов, посетив выставку картин о победах Черноморского флота, сказал Айвазовскому: «Удивляюсь вашему гению… Не могу постичь, как можно, не будучи на месте, так верно все изобразить». В 1854 г. несколько дней Айвазовский находился в осажденном Севастополе, когда англичане штурмовали город, присутствовал при затоплении кораблей и защите Мамаева кургана. Он всю жизнь потом возвращался к изображению героических событий тех грозных дней. Среди наиболее известных его картин – «Осада Севастополя», «Оборона Севастополя» (1859 г.) и «Малахов курган» (1893 г.).
Только изредка, на непродолжительное время, Айвазовский покидает родной город, чтобы показать свои полотна в Петербурге, Москве, Тифлисе, Флоренции. Его марины разнообразны, как и само море («Ледяные горы», 1870 г.; «Радуга», 1873 г.; «Неаполитанский залив», 1874 г.).
Жители Феодосии гордились земляком не только как художником с мировым именем. Айвазовский выстроил в городе Музей древности и сам занимался раскопками. В своем поместье открыл художественную мастерскую и картинную галерею. Добился строительства торгового порта и железной дороги. Провел в город воду от своего источника. У него было много дел и забот. И самое главное – в жизнь Ивана Константиновича опять пришла любовь. Брак с молодой вдовой Анной Никитичной Саркизовой сделал его счастливым. Она стала верной спутницей и доброй хозяйкой в огромном доме, заполненном детьми и картинами.
Айвазовский ни на день не прекращал работу. Выставленная в Третьяковской галерее картина «Черное море» (1886 г.) заставляла замирать посетителей перед первозданной стихией. И.Н. Крамской дал этому полотну самую высокую оценку: «Дух Божий, носящийся над бездной». Картины, написанные на одном дыхании, художник вынашивал годами. «Начиная писать всякую картину, я не творю ее тут же на полотне, а только копирую с возможной точностью ту картину, которая раньше сложилась в моем воображении и уже стоит перед моими глазами. В картинах моих всегда участвуют, кроме руки и фантазии, еще и моя художественная память».
Однажды, в 1895 г., после открытия своей 120-й персональной выставки, Айвазовский по просьбе Куинджи дал урок в академии. Потрясенные ученики наблюдали, как, отобрав всего четыре краски, за 1 час 50 минут художник превратил серый холст в бушующее море, легкими штрихами выписав борющийся со штормом корабль с полной оснасткой. Поэтому никто не сомневался, когда разнесся слух, что Айвазовский за 10 дней написал колоссальных размеров картину «Среди волн» (1898 г.). «Вся моя предшествующая жизнь была подготовкой к картине, которую вы видите», – так мог сказать мастер о каждом своем детище.
Начался XX век. Айвазовский встретил его счастливым, в окружении большой семьи, которая включала не только родных и близких, но и всех, кто нуждался в его помощи, кому он делал добро. «Страной Айвазовского» называли земляки Феодосию. Он, как добрый гений, не только помогал процветанию города, но еще и у половины феодосийских семей крестил детей, почти всех бедных невест одаривал приданым.
Художник умер внезапно, на 83 году жизни, не успев дописать картину «Взрыв турецкого корабля». Вся Феодосия шла за его гробом. В час похорон весенний день потускнел, стал накрапывать дождь, море печально билось о берег.
«Шуми, волнуйся непогодой: Он был, о море, твой певец».Антропов Алексей Петрович (род. в 1716 г. – ум. в 1795 г.)
Выдающийся русский живописец-портретист, автор монументальных росписей.
В какой бы области ни работали представители семьи Антроповых, их с уверенностью можно назвать мастерами своего дела. Отец семейства Петр Яковлевич, обучившийся слесарному и инструментальному ремеслу у своего отца, слесаря Оружейной палаты Якова Савинова «сына Антропова», отслужил 12 лет солдатом лейб-гвардии Семеновского полка, участвовал во многих военных походах Петра I, в том числе и в Полтавской битве. Вернувшись к мирной жизни, работал при Санкт-Петербургском оружейном дворе, позже в Канцелярии от строений, куда поступили и четыре его сына. Старший Степан пошел по стопам отца, Иван стал часовым мастером, а Алексей и младший Николай обучались искусству живописи.
Алексей Антропов родился 27 (14) марта 1716 г. С молодости он отличался трудолюбием и добросовестностью – эти наследственные качества были присущи нескольким поколениям мастеров Антроповых. С 1732 г. его учителями становятся француз Л. Каравакк, много лет живший в России, а позже – А. Матвеев, М. Захаров и И. Вишняков, поочередно возглавлявшие «живописную команду» Канцелярии от строений, в которой до открытия Академии художеств учились и служили практически все русские художники. В 1739 г. Алексей Антропов был зачислен в штат Канцелярии с довольно солидным по тому времени окладом – 120 рублей в год. В составе команды Вишнякова он исполнил немало монументально-декоративных росписей в духе западного барокко: в Зимнем (1744-1745 гг.), Летнем (1748 г.), Царскосельском (1749 г.) и других дворцах, а в 1750 г. был отозван в Оперный дом, где писал декорации под руководством итальянских мастеров Д. Валериани и А. Перезинотти.
В 1752 г. Антропов получил заманчивое предложение ехать в Киев для исполнения живописных работ в построенном по проекту Ф. Растрелли архитектором И. Мичуриным Андреевском соборе. Произведенный тремя годами раньше в подмастерья, художник надеялся тем самым обрести некоторую свободу творчества и в дальнейшем претендовать на более почетную должность мастера. К тому же к этому времени он зарекомендовал себя как опытный и умелый живописец, не лишенный организаторских способностей и настойчивости в достижении цели. До сих пор не решен вопрос, кисти одного или нескольких авторов принадлежат многочисленные изображения, украшающие собор. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что помимо росписей кафедры, купола и образов Девы Марии и архангела Гавриила из царских врат Антропов исполнил также икону «Успение Богоматери» и запрестольную алтарную картину «Тайная вечеря». Именно картину, так как его образы апостолов – «земные», почти простонародные, даже решение композиции напоминает схему парадного портрета – ниспадающие драпировки с кистями и колонна в глубине. К сожалению, церковь была заброшена сразу по окончании работ в ней и освящалась только в 1767 г., что пагубно сказалось на сохранности живописи.
Несмотря на предельную загруженность, художник в этот период охотно писал также и портреты по старым образцам, оттачивая свое живописное мастерство. Среди них несколько схожих между собой портретов императрицы Елизаветы Петровны (1753-1755 гг.).
Три года, прожитые в Киеве, укрепили авторитет Алексея Петровича как незаурядного живописца, а также позволили ему доказать свое право на самостоятельность. Высокой оценкой работы Антропова послужило последовавшее в конце 1755 г. приглашение в Москву для росписи по эскизам П. Градицци и С. Горяинова плафонов в Головинском дворце, где нередко гостила сама императрица.
1758 г. застал художника уже в Петербурге. К этому времени одним из его учеников был Д. Левицкий, впоследствии замечательный мастер портрета, знакомство с которым состоялось, вероятно, еще в Киеве. Начинался новый период творчества Антропова, полный исканий и надежд, желания усовершенствовать свое мастерство и добиться признания, период расцвета его таланта живописца-портретиста.
По возвращении в северную столицу Алексей Петрович вновь поступил в распоряжение Канцелярии от строений, что само по себе вряд ли могло удовлетворить привыкшего к самостоятельной деятельности художника. К тому же шестилетнее отсутствие обусловило некоторое «отставание» Антропова от столичных живописцев, мастерство которых за это время весьма и весьма возросло. Чувствуя настоятельную потребность продолжить свое образование, особенно в области писания портретов, Антропов не нашел лучшего решения, чем обратиться к системе частных уроков. Такие уроки охотно давал модный тогда итальянский портретист П. Ротари, незадолго до этого приехавший в Петербург. Два года обучения у него наложили отпечаток на все дальнейшее творчество русского мастера. Однако, используя композиционные приемы Ротари, Алексей Антропов, художник яркой индивидуальности, не стал слепым подражателем. В своих портретах он всегда стремился к передаче своеобразия внешнего и внутреннего облика изображаемого человека. Его полотна отличаются непосредственностью, правдивостью образов, барочным декоративным богатством и насыщенностью цвета, хотя во многом еще и сохраняют в себе черты парсуны[1] предшествующего столетия с ее традиционной застылостью поз и условностью трактовки одеяний.
Своего рода экзаменом на звание портретиста стало для Антропова изображение в 1759 г. статс-дамы Анастасии Михайловны Измайловой. Ближайшая подруга и дальняя родственница императрицы Елизаветы Петровны, Измайлова в молодости слыла красавицей, но ко времени создания портрета это была уже стареющая чопорная особа, пользующаяся немалым влиянием при дворе. Без прикрас передал художник грузную фигуру, полное лицо с густо насурьмленными по тогдашней моде бровями и ярким румянцем на щеках. Обращенный к зрителю живой взгляд карих глаз и язвительно поджатые губы выдают сметливый ум и властный характер Измайловой. Колоритному характеру модели соответствует насыщенная цветовая гамма портрета, построенная на сочетании сине-голубого, розового и белого. Эта работа художника заслужила похвалу Ротари и принесла Антропову славу одного из лучших русских портретистов, повышение жалованья и чин подпоручика. Вслед за этим полотном художник в течение последующих двух лет создал целую галерею замечательных портретов, в том числе архиепископа С. Кулябки (1760 г.), грузинского царя Теймураза Николаевича, казацкого атамана Ф.И. Краснощекова, княгини Т.А. Трубецкой, духовника императрицы Ф.Я. Дубянского (все 1761 г.) и других.
В конце 1759 г. по протекции фаворита Елизаветы Петровны, образованного вельможи И.И. Шувалова Антропов был принят в качестве живописного мастера в Московский университет, при котором предполагалось сперва учредить и Академию художеств. Но так как это не состоялось, тот же Шувалов помог художнику в 1761 г. получить назначение в святейший правительствующий Синод на место надзирателя за живописцами и иконописцами. В его обязанности входило писать и поправлять иконы, исполнять портреты, рисовать чертежи внутреннего убранства церквей, а также обучать новых мастеров.
В 1762 г. Алексей Петрович был занят изображением Петра III, царствовавшего не более полугода и даже не удостоившегося коронации. Зато его парадных портретов одним только Антроповым было исполнено несколько, не считая эскиза, который в художественном отношении стоит гораздо выше. Вообще живописец нередко повторял свои работы, внося некоторые изменения. Так было и с портретами Ф.Я. Дубянского, Павла I в детстве (1761, 1765 гг.) и другими. К торжествам, посвященным вступлению на престол императрицы Екатерины II в том же 1762 г., художник вместе с подмастерьем (Д. Левицким) подготовил 8 портретов ее величества для триумфальных ворот, поставленных в разных частях города. Судя по сохранившемуся эскизу, императрица была изображена в серебристо-стальном платье во весь рост, с регалиями, в порфире и короне. Еще один портрет государыни Антропов написал для Троице-Сергиевой лавры и впоследствии не раз возвращался к образам царской семьи и близких к ним лиц, исполняя заказы Синода «для поднесения высочайшим особам». В большинстве своем эти работы были копиями с собственных оригиналов или картин других мастеров.
Пребывание Антропова в Москве, выполнявшего многочисленные заказные портреты, затянулось до середины 1763 г. Когда же художник вернулся в Петербург, оказалось, что свою должность при Синоде он практически потерял. Предприняв отчаянную попытку определиться «к одним портретным делам» в ведомство придворной конторы и не получив на то «милостивого соизволения», Алексей Петрович был вынужден вновь хлопотать о восстановлении в штате Синода. Но только к концу 1765 г. его хлопоты увенчались успехом и Антропов был окончательно утвержден в прежней должности с выплатой всего причитавшегося ему жалованья.
Еще в Москве живописец с увлечением начал работать над небольшими камерными портретами, на которых изображал конкретных людей, не подчеркивая их сословную принадлежность, но наделяя чертами жизненной достоверности. Как и в прежних своих работах, он не умел и не хотел льстить своим моделям, но при этом его полотна не теряли своего декоративного назначения. В этот период (1763-1768 гг.) художник был относительно свободен в выборе заказов, много писал, исходя из личных симпатий, поэтому так удачны его портреты семьи дворян Бутурлиных: Дмитрия Ивановича, Анны Васильевны, Михаила Дмитриевича и Елизаветы Францевны (все 1763 г.), статс-дамы М.А. Румянцевой, несколько портретов неизвестных мужчин и женщин (1760-е гг.).
Особо хочется выделить парадный портрет видного государственного деятеля графа В.В. Фермора – храброго, честного и бескорыстного человека, – написанный в 1765 г. Граф представлен в полном одеянии кавалера ордена Андрея Первозванного. И если фон и поза традиционны, то лицо сразу же привлекает внимание своей одухотворенностью. Красивое, тонко очерченное, с немного грустными глазами, оно полно благородства и аристократичности. Перед нами не разодетый манекен, но живой и чувствующий человек, и неоспоримая заслуга Антропова в том, что он одним из первых русских художников предложил в парадном портрете именно такую трактовку образа – в отличие от официально-торжественной, принятой ранее.
Во второй половине 1760-х гг. манера письма художника становится, если так можно сказать, более робкой. Поняв, что внутренний мир человека несравненно богаче, чем это доступно его выразительным средствам, Алексей Петрович начинает испытывать некоторую растерянность. Так, портреты калужского воеводы П.А. Колычева (1767 г.) и его жены (1768 г.) отличаются некоторой одноплановостью, яркие одежды воспринимаются как плоские красочные пятна, и в целом исполнение носит следы известной упрощенности. Изображения четы Колычевых стали своеобразной лебединой песнью мастера в области камерного портрета. В 1770-х гг. им были исполнены портреты архиепископов Г. Петрова (1774 г.) и П. Левшина (1775 г.), а позже он писал преимущественно копии царских портретов и иконы по заказу Синода, последняя из которых датирована 1788 г.
В 1768 г. Антропов, ссылаясь на свою многолетнюю службу, подал прошение о повышении в чине, но только через пять лет по представлению архиепископа Гавриила получил просимое. Вообще, отношения Алексея Петровича со Святейшим Синодом не складывались. Необходимость выполнять всевозможные обременительные поручения, далекие от основного пристрастия художника – портретной живописи, не могла принести ему удовлетворения. Гораздо больше ему нравилась его педагогическая деятельность, которой он посвящал много сил и времени. В 1765 г. у Антропова было 8 учеников, позже в его доме постоянно проживала большая группа воспитанников, которых он обучал самостоятельно; многие из них остались неизвестными, однако двое не только прославили своего учителя, но и вошли в историю русского искусства – это Д.Г. Левицкий и П.С. Дрождин.
В картине последнего «Антропов с сыном перед портретом жены» (1776 г.) Алексей Петрович предстает занятым любимым делом – он с палитрой и кистями перед мольбертом, на котором стоит портрет жены и верного друга художника на протяжении всей жизни, Елены Васильевны. За спиной отца изображен белокурый подросток – единственный и к тому же поздний ребенок Антроповых Василий, родившийся в начале 1760-х гг.
В самом конце 1789 г. на первой странице «Санкт-Петербургских ведомостей» появилось объявление Антропова об открытии частного училища во флигеле его собственного дома, где уже в первый год занималось 119 человек. Постепенно училище расширялось, а после смерти художника и его жены, по завещанию Алексея Петровича, разместилось в самом двухэтажном доме художника. Просуществовав еще многие годы, оно явилось своеобразным памятником замечательному русскому живописцу.
Антропов скончался от горячки в Петербурге и был похоронен в Александро-Невской лавре. Надгробная плита на его могиле сохранилась до наших дней. На ней надпись: «В надежде воскресения погребен на месте сем раб Божий коллежский асессор и живописи художник Алексей Петрович Антропов. Родился 1716 г. марта 14 дня. Скончался 1795 года июня 12 дня. Жития его было 79 лет 2 месяца и 28 дней».
Аргунов Иван Петрович (род. в 1729 г. – ум. в 1802 г.)
Известный русский художник, мастер парадного и интимного портрета, один из основоположников классицизма и реалистического направления в живописи.
История семьи Аргуновых охватывает почти столетие и насчитывает несколько поколений одаренных художников и архитекторов. Их талантливый род принадлежал к крепостным крестьянам князя А.М. Черкесского, а с 1743 г. в качестве приданого перешел к не менее именитому графу П.Б. Шереметеву. Отсутствие личной и творческой свободы, постоянная занятость делами графа не позволили им в полной мере раскрыться в искусстве, но тем не менее И.П. Аргунов стал выдающимся портретистом своего времени.
Практически не сохранилось сведений о детских и юношеских годах Ивана. Его родители, по-видимому, рано умерли, и он рос и воспитывался в семье своего дяди С.М. Аргунова. Семен Михайлович был умным, энергичным и хорошо разбирающимся в хозяйстве управляющим в «Миллионном доме» Шереметевых в Петербурге. Созданная им атмосфера трудовой и деятельной жизни оказала благотворное влияние на расцвет творчества его сына Федора, ставшего выдающимся архитектором, и племянника Ивана. В этой дружной семье будущий художник приобрел первоначальные знания и навыки своей профессии. Граф, узнав о талантливом мальчике, велел сделать из него «домового» художника.
В 1740-е гг., когда еще не существовало Академии художеств, молодых живописцев обучали в процессе работы более опытные художники в своих мастерских. Иван стал «живописным учеником» (1746-1747 гг.) известного немецкого художника Г. X. Гроота, писавшего изысканные портреты в стиле рококо, а иногда и вполне реалистические. Аргунову, как дворовому человеку и ученику, систематически забывали выдавать средства на питание и одежду. Но несмотря на трудные условия жизни, трудолюбивый и упорный юный художник довольно быстро сумел перенять у своего наставника приемы живописного мастерства. Пораженный достижениями ученика, Гроот привлек его к оформлению придворной церкви Воскресения Христова. Образ для алтаря «Иоанн Дамаскин» (1749 г.) был написан в характерной для того времени светской декоративной манере исполнения. Однако в лице святого уже проступали реалистические черты, которые станут отличительной особенностью портретной живописи Аргунова.
Ивана неоднократно привлекали к выполнению заказов по оформлению церквей и дворцов («Спаситель», «Богоматерь с младенцем» в Ново-Иерусалимском монастыре, 1753 г.), но он не тяготел к декоративным работам, да и сам Шереметев не желал отпускать от себя талантливого художника, ссылаясь на то, что его холоп ничего «кроме портретов писать не умеет».
Начинающий художник пробовал силы и в мифологических сюжетах. Типичным произведением, выполненным в стиле рокайльной (рококо) декоративной живописи, стало небольшое полотно «Умирающая Клеопатра» (1750 г.). Из множества подобных эту картину выделяет светлая гамма красок и легкое, изящное исполнение, хотя следует признать, что героиня с нежным, кукольно-красивым, маловыразительным лицом не передает предсмертного страдания Клеопатры.
Эти первые работы Аргунова принесли ему известность, но особенно ярко он зарекомендовал себя как портретист. В поисках материальной сущности изображения художник отказывается от утонченной манерности рококо и находит новые средства выразительности. Интенсивными красками, насыщенным колоритом он передает реальный облик людей, хотя зачастую приукрашивает его. В парных портретах князя И.И. Лобанова-Ростовского (1750 г.) и его юной супруги Екатерины Александровны (1754 г.) еще сильны пережитки парсунной живописи – застылость и плотность фигур, однако лица написаны объемно. Особенно тепло и непосредственно исполнен женский портрет, передающий приветливый мягкий характер княгини.
К идеализированным изображениям принадлежит и «Портрет графа П.Б. Шереметева с собакой» (1753 г.), написанный в темной изысканной гамме насыщенных золотисто-коричневых тонов. Тщательной проработкой мельчайших деталей костюма и украшений Аргунов подчеркивает важность изображенной персоны.
От портрета к портрету возрастало мастерство Аргунова. Композиция становилась все более компактной и спокойной, фон – нейтральным, объемы приобретали бо́льшую пластичность, а лица – выразительность и индивидуальность. В работы художника начали проникать черты классицизма и реализма. Лучше всего это просматривается в многочисленных семейных портретах Шереметевых: портреты графа П.Б. Шереметева (1760 г.; конец 1770-х гг.), его супруги Варвары Алексеевны (1760-е гг.), дочери Веры Петровны (1766 г.), а также многочисленных родственников графа и его жены.
Жизненно убедительны, несмотря на декоративный характер, «исторические посмертные» портреты, написанные по оригиналам других художников: три портрета генерал-фельдмаршала графа П.Б. Шереметева верхом на коне (1753 г.; 1760-е гг.), в латах (1760-е гг.), в голубой мантии (1768 г.); парный портрет князя А.М. Черкасского и его жены (оба в 1760-е гг.). В трактовках таких образов Аргунов всегда проявлял личное отношение. Так, художник придал мягкое выражение лица императрице Елизавете Петровне (1760 г.). Ивану Петровичу было достаточно всего несколько раз увидеть взошедшую на престол Екатерину II, чтобы выполнить ее пышный и величественный портрет для Сената (1762 г.).
О вдумчивом отношении к натуре и росте реалистического мастерства Аргунова свидетельствуют интимные камерные портреты. «Портрет неизвестного в красном кафтане» (1755 г.), «Портрет К.А. Хрипунова», «Портрет Хрипуновой» (оба в 1757 г.), «Портрет неизвестной в темно-голубом платье» (1760 г.), «Портрет неизвестной в голубом платье» (1780-е гг.). Одна из наиболее проникновенных и индивидуализированных работ – «Портрет калмычки Аннушки» (1767 г.), в котором художник с искренностью и теплотой изобразил привлекательную и не совсем обычную внешне девочку. Детское очарование проступает в нежном овале лица с пухлыми щеками, прелестны блестящие раскосые «глазушки-таракашки». Представление о живом характере девочки дополняют радостные, яркие краски. В свободной мягкой манере исполнены парные портреты М.Л. Лазарева и его жены (оба в 1769 г.). В них художник дает почувствовать жизнерадостность, темперамент, богатство душевного мира и доброту изображенных супругов.
В тридцать шесть лет художнику было дозволено жениться на двадцатилетней Марфе, которая родила ему двух дочерей и трех сыновей. Как привилегированный служащий графа Шереметева, Аргунов получил право на написание своего автопортрета (конец 1750-х гг.) и портрета жены Марфы Николаевны (середина 1760-х гг.). Себя художник изобразил с «рисовальным медным пером» (рейсфедером), карандашом и циркулем, представляясь зрителю человеком творческого труда, хоть и вышедшим из народа. Портрет жены построен на сочных соотношениях лимонно-желтых и ярко-синих тонов, которые оттенили статную фигуру и пышную красоту крепостной крестьянки, изображенной в богатом парадном платье.
Свое творчество Иван Петрович вынужден был совмещать с другими обязанностями. В 1753 г. по царскому указу к Аргунову «для обучения в живописном художестве» были приписаны три ученика – К. Головачевский, А. Лосенко и И. Саблуков, которые спустя пять лет получили от него аттестат и были назначены преподавателями в недавно созданную Академию художеств. Последними учениками Аргунова стали его сыновья – Павел (архитектор, главный строитель Останкинского дворца-театра), Николай (портретист, после получения «вольной» в 46 лет был избран академиком живописи) и Яков (портретист и график, преподаватель живописи).
Преподавательская работа хоть и отвлекала Ивана Петровича от создания портретов, но приносила удовлетворения. Однако из-за своего крепостного положения художник выполнял огромное количество других дел. И если в 1750-1760 гг. граф поручал Аргунову дела, серьезно не отрывающие его от творчества (покупка произведений искусства, реставрационные работы, развеска картин во дворцах), то в 70-х гг. на него была возложена административная должность управителя «Миллионного дома», связанная с бесконечными отчетами, ремонтами и договорами. Хозяйственная деятельность отрицательно сказалась на дальнейшем развитии творческой манеры художника.
Тем не менее наивысшими достижениями в искусстве Аргунова стали картины, созданные в 80-е гг. («Портрет девочки за чтением», 1780 г.; «Портрет неизвестной крестьянки в кокошнике», или «Девушка в кокошнике», 1785 г.; парный портрет архитектора М.Н. Ветошникова, 1787 г. и его жены Т.А. Ветошниковой, 1786 г.). В портрете крестьянки художник передал привлекательный образ русской женщины, ее душевную чистоту и скромность. Теплый сочный колорит и в то же время строгая гамма красок придали произведению гармоничную завершенность, подчеркнув спокойствие, величавость и внутреннее достоинство неизвестной красавицы. Этот облик предвосхитил появление образов крестьянок А.Г. Венецианова.
Портретом архитектора Ветошникова завершился творческий путь художника. В 1788 г. Аргунов был переведен в управители «Московского дома» Шереметевых и больше заниматься искусством не мог. Последние годы жизни (он умер в 1802 г.) были для него как для живописца неинтересны и часто унизительны. Аргунов утратил ведущую роль в живописи. На смену ему пришло новое поколение молодых талантливых художников, среди которых был и его сын Николай, крепостной художник, высоко ценимый своим хозяином, графом Н.П. Шереметевым. И хотя Аргунов-младший не достиг в своем творчестве уровня Рокотова, Левицкого и Боровиковского, но гений живописи благословил его кисть, когда он создал неповторимый по красоте портрет бывшей кусковской крестьянки, изумительной крепостной певицы и любимой жены графа Прасковьи Жемчуговой.
Архипенко Александр Порфирьевич (род. в 1887 г. – ум. в 1964 г.)
Известный скульптор, основоположник кубизма в скульптуре и запатентованного механизированного искусства – «архипентуры»; основатель школ современного ваяния в Нью-Йорке, Вудстоке (обе в 1923 г.) и Лос-Анджелесе (1935 г.), школы промышленного искусства «Новый Баухаус» в Чикаго (1937 г.), лектор многих американских университетов, колледжей и институтов искусств.
Автор автобиографической монографии «50 творческих лет» (1960 г.).
Скульптура Архипенко Первое яйцеподобное яйцо Оно держится в упругом равновесии Словно неподвижная юла На острие Скорости Оно выходит Из красочных волн Из цветных зон И вращается в глубинах Голое Новейшее И тотальное.Так охарактеризовал искусство своего друга французский поэт-авангардист Блез Сандрар в посвященном ему верлибре «Голова». Смелость Архипенко в экспериментах со скульптурой открыла для многих ваятелей и поклонников этого вида искусства абсолютно иное измерение красоты. Создав с помощью кубических и «пустых» форм подвижные, громоздкие и одновременно воздушные, окрашенные во все цвета радужного спектра произведения, он совершил революцию в восприятии зрением окружающего нас мира. Автора столь необычных работ сравнивали с Пикассо: что сделал француз в живописи, то создал украинец в скульптуре.
Так уж сложилось, что знаменитый ваятель более известен в Европе и Америке, нежели на родине. Александр родился в Киеве 11 июня 1887 г. в семье, где к творчеству были не безразличны. Его дед, Антон Архипенко, был иконописцем и интересовался историей мирового искусства, а отец, Порфирий Антонович, – профессор механики, заведующий физическими лабораториями Киевского университета – известен как изобретатель различных аппаратов и инструментов. Все эти качества унаследовал и Саша, и отец мечтал, чтобы сын продолжил его дело. Но в 15 лет, проявив своеволие, Александр поступил в Киевскую художественную школу Николая Мурашко. Он учился вместе с И. Кавалеридзе, А. Мурашко, А. Экстер, А. Лентуловым, К. Малевичем, М. Жуком. Система преподавания не устраивала юношу, и недовольство свое Александр высказывал крайне некорректно, за что и был исключен. Но уже восемнадцатилетним он устроил первую выставку скульптур в селе под Киевом, где показал раскрашенного… «Мыслителя» (Роден), а также некоторые другие подобные работы. В 1906 г. он продолжает образование в частных студиях в Москве. Здесь Архипенко особенно сблизился с художником-новатором М. Ларионовым и другими яркими личностями, наравне с которыми участвовал в выставках. Но уже через два года он оставил столицу ради Парижской академии изящных искусств, где, впрочем, все так же тяготился академическим образованием. Настоящей школой искусств для него стали Лувр и этнографический музей в Трокадеро.
В Париже Александр поселился на Монпарнасе в колонии художников «La ruche» («Улей»). Его друзьями были Пикассо, Брак, Модильяни и Гийом Аполлинер, а художник Фернан Леже помогал начинающему скульптору сводить концы с концами: оба выходили на улицы с концертами – Архипенко пел украинские и русские песни, Леже аккомпанировал ему на гитаре. Вскоре Александр Неугомонный, как его величали французы, основал в Париже школу, пропагандируя собственные открытия и достижения новейших течений в искусстве. С 1910 г. его произведения появлялись на парижских выставках: в 1910-1914 гг. в Салоне независимых, в 1911-1913 гг. и в 1919 г. – на Осеннем салоне. Архипенко экспонировал на них два типа скульптур. Первый – в виде тяжелых глыб с едва обозначенными движениями человеческого тела, которые неуловимо напоминали каменных «скифских баб» («Женщина», «Сюзанна», «Мать с ребенком», «Отдых»). Второй тип – более динамичный, четко передающий каждое движение идеализированного тела и в основном женского. Пропорции «Саломеи», «Синего танца» и «Красного танца» он создал по собственным канонам, чем-то созвучным удлиненным линиям Модильяни. В них ощущается влияние архаичной скульптуры Древнего мира (Греции, Египта, Ассирии и др.), а в более поздних работах – европейской готики. Одновременно он широко вводил в свои композиции так называемый «отрицательный объем», когда не выпуклость, а вогнутость строит скульптурную форму. В этот же период Архипенко совершил длительное путешествие, выставляясь в Италии, Швеции, Германии, Чехии.
Годы Первой мировой войны скульптор провел в Ницце. Для небольших бронзовых статуй этого периода характерны вытянутые пропорции, плавность и легкость силуэтов, напряженные изогнутые плоскости («Женщина, причесывающая волосы», «Стоящая ню»). Мастер ввел в скульптуру пластические паузы-интервалы в виде сквозных проемов, названные впоследствии «нулевой» или «пустой» формой. Эти пустоты давали неожиданный эффект: массивный материал становился ажурным, внутренне озаренным, а сама скульптура – подвижной и одновременно как бы недосказанной.
Под воздействием художественных импульсов кубизма интерес Архипенко привлекли пограничные сферы, где объем и пластика активно взаимодействовали с цветом и рисунком (так называемая скульпто-живопись). В композициях «Медрано I», «Медрано II», «Купальщик», «Гондольер» он широко использовал стекло, дерево, металл, папье-маше, клеенку, считая, что продолжает мировые традиции полихромной скульптуры. В 1921-1923 гг. Александр Порфирьевич жил в Берлине, где руководил школой. Тогда же он женился на Ангелине Бруно-Шмиц. В 1923 г. они эмигрировали в Нью-Йорк, где прожили в счастливом браке до смерти Ангелины в 1957 г. Впоследствии его женой стала молоденькая американка Фрэнсис Грей, поддерживавшая мужа во всех экспериментах, а после его смерти ставшая хранительницей творческого наследия скульптора.
Продолжая пластическо-динамические эксперименты, Архипенко в 1924 г. изобрел специфический вид искусства под названием «Архипентура», который запатентовал три года спустя: аппарат с мотором приводил в движение объект, состоявший из живописных элементов. Скульптор стремился отобразить «ту сферу реальной жизни, которая не могла быть передана статической живописью». «Архипентура, – писал он в одноименной статье-манифесте, – есть конкретное соединение живописи с временем и пространством». Этим художественным изобретением, посвященным Эйнштейну и Эдисону, он предвосхитил кинетическое искусство второй половины XX в. Именно по принципу машины для демонстрации сменных наборных цветных изображений устроены рекламные бигборды, усеявшие ныне весь земной шар. А в 1940-е гг. художник-изобретатель создал серию «светомодуляторов» – полупрозрачных, освещаемых изнутри арт-объектов из плексигласа, так широко распространенных ныне.
В последующих работах Александра Порфирьевича нарастали неоклассические тенденции, проявившиеся как в статуях «Стоящая обнаженная», «Диана», «Грация», так и в скульптурных портретах его первой жены, в рисунках и графике.
Даже приняв американское гражданство, Архипенко продолжал считать себя украинцем и не порывал связи с соотечественниками. Он экспонировал свои работы на русских выставках, проводимых в Европе и Америке. В 1929 г. Киевский художественный институт, где в составе профессуры были его давние друзья А. Богомазов и К. Малевич, пригласил знаменитого земляка на профессорскую должность. Художник, с каждым годом все сильнее тосковавший по родине, ответил: «Работа в Киеве – это была бы награда за мою художественную деятельность. Однако обстоятельства моей культурной и педагогической работы за границей не позволяют теперь переехать в Киев. Для укрепления связей с Киевом предлагаю принять в дар бронзовый бюст-портрет дирижера Виллема Менгельберга во время исполнения 9-й симфонии Бетховена». Бюст был выполнен в духе «необарокко» как отзвук юношеских впечатлений от произведений казацкого барокко, которыми полнился Киев тех времен.
Архипенко был аполитичным человеком и никак не мог представить, какая горькая доля ожидает его работы в Украине. Большинство произведений, которые он подарил в 1930-е гг. музеям Киева и Львова, к сожалению, в 1952 г. были уничтожены или изъяты «искусствоведами в штатском» во время чистки музеев «от враждебных экспонатов». И среди них бронзовая отливка скульптуры «Ма – Раздумье», которая входила в триптих «Ма» (ласкательное сокращение от слова «мама»). Этой работе Архипенко предпослал лирическое посвящение: «Каждой матери; каждому, кто любит и страдает из-за любви; каждому творцу в искусстве и науке; каждому задыхающемуся от проблем; каждому, кто ощущает и знает вечность и бесконечность». Эти слова относились, конечно, и к его матери – Прасковье Васильевне Маховой.
Мастер-экспериментатор обращался и к традиционной манере ваяния, особенно в исторических портретах-олицетворениях. А в установленных в 1930-е гг. в Кливленде памятниках-бюстах Тарасу Шевченко, князю Владимиру, Ивану Франко нашла свое выражение любовь Архипенко к украинской национальной культуре. Еще один бюст Шевченко он подарил Институту искусств в Детройте.
Всего в США состоялось 150 персональных выставок скульптора. Но кроме творческой деятельности он занимался и преподавательской работой. Архипенко основал ряд художественных школ в США. Самые известные из них – в Нью-Йорке и Чикаго. Александр Порфирьевич преподавал также в университетах, колледжах и институтах искусств, выступал с лекциями по теории скульптуры.
До последних дней жизни Архипенко оставался новатором. Через его руки прошли в различных комбинациях бронза, медь, алюминий, серебро, никель, камень, искусственный камень, мрамор, гипс, терракота, дерево, пластиковые и бумажные массы, бакалит, мозаика, перламутр. Практически все композиции были раскрашены. Мастер говорил, что «форму без цвета нельзя чувствовать». Помимо скульптуры, его творческое наследие включает живописные полотна, выполненные маслом, гуашью и акварелью, литографии, коллажи, шелкографию и офорты. Искусствоведы относят разнообразные работы Архипенко к экспрессионизму, монументализму, кубизму, конструктивизму и реализму. Но чаще говорят об анатуральной манере и в последние годы утверждают, что она «не чужда украинской духовности», ибо украинское народное искусство всегда склонялось к примитивизму и стилизации. Да и сам художник был склонен думать так же: «Кто знает, думал ли бы я так, если бы украинское солнце не зажгло во мне ощущение тоски о чем-то, чего я сам не знаю».
Во всем мире произведения Архипенко ценятся очень высоко. Музеи и частные коллекционеры соперничают между собой за право обладать ими. Даже одна работа мастера поднимает престиж всего собрания, а в резиденции посла США в Украине их целых шесть – это баснословное богатство. Но сам скульптор, который не представлял жизни без творчества и даже скончался на пороге своей мастерской 25 февраля 1964 г., относился к созданным произведениям как философ. Недаром Александр Архипенко любил повторять ученикам вслед за Платоном: «Идеи – в воздухе. Идите и берите, если можете».
Бакст Лев Самойлович Настоящее имя – Лейб-Хаим Израилевич Розенберг (род. в 1866 г. – ум. в 1924 г.)
Известный русский художник-стилист, портретист, график, театральный декоратор, иллюстратор, модельер, ставший одним из предтеч стиля арт-деко. Секретарь императорского Общества поощрения художеств и редактор журнала «Художественные сокровища России» (с 1900 г.); один из создателей общества «Мир искусства» и одноименного журнала. Действительный член Петербургской академии художеств (1914 г.); член Королевской академии в Брюсселе; вице-президент жюри Общества декоративных искусств в Париже (1911 г.). Обладатель ордена Почетного легиона (1914 г.). Автор балетных либретто, статей и лекций по искусству театра и одежды, автобиографического романа «Жестокая первая любовь» (1923 г.).
Имя замечательного живописца Л.С. Бакста принадлежит к плеяде тех русских художников, которые на рубеже XIX-XX вв. совершили настоящую революцию в искусстве и способствовали развитию не только отечественной, но и мировой культуры.
Лев родился в Гродно в большой еврейской семье. Отец его занимался торговлей, мать воспитывала детей и вела хозяйство. Вскоре они переехали в Петербург. Самыми яркими впечатлениями мальчика стали встречи и общение с дедом. Дом бывшего известного парижского портного больше напоминал парижский салон. Старик был заядлым театралом и привил эту страсть внуку. Лев вырезал фигурки из журналов или рисовал их сам и ставил спектакли для своих братьев и сестер. В 12 лет он стал победителем конкурса в гимназии, лучше всех нарисовав портрет Жуковского. Отец не одобрял занятий рисованием, но после того, как М. Антокольский порекомендовал дать ребенку художественное образование, смирился. В 1883 г. Лев стал вольнослушателем Академии художеств.
Консервативное образование тех лет дало юноше только первоначальные технические навыки, существенно не повлияв на его художественную индивидуальность. Проучившись неполных четыре года, Лев принял участие в конкурсе на получение серебряной медали. В своей работе «Богоматерь, оплакивающая Христа» он изобразил мать Иисуса старой измученной женщиной с покрасневшими от слез глазами, а остальные персонажи наделил явно выраженными еврейскими чертами. Такая трактовка для жюри была просто немыслима. Полотно перечеркнули крест-накрест. Юный художник был вынужден покинуть академию под предлогом прогрессирующей близорукости.
Это был трудный период в жизни юноши. Как художник он еще не сложился, а ему приходилось искать заработок, чтобы помочь семье после смерти отца (часть расходов взял на себя дед). Спасало Льва только то, что еще во время учебы он начал сотрудничать с мастерской учебных пособий А.Н. Канаева и оформлять дешевые детские книги. Это не приносило ему творческого удовлетворения. Графические работы он еще долгое время подписывал своей фамилией Розенберг, хотя под первыми живописными пробами уже ставил псевдоним Бакст, сократив фамилию бабушки по матери (Бакстер).
В 1890 г. Лев знакомится с братьями Альбертом и Александром Бенуа. Они вводят его в кружок творческой молодежи (К. Сомов, В. Курок, Д. Философов, С. Дягилев, А. Нурок), который впоследствии (1898 г.) перерастет в объединение «Мир искусства». Старший по возрасту, но не получивший разностороннего образования Бакст благодаря своей внутренней интеллигентности не чувствовал себя чужим среди юных интеллектуалов. В их среде он формировал свои взгляды и художественное восприятие.
В 1891 г. Лев впервые побывал за границей, где знакомился с достижениями живописи в музеях Германии, Бельгии, Франции и Испании. Затем (1893-1896 гг.) занимался в парижских студиях Ж.-Л. Жерома, Р. Жюльена и А. Эдельфельта. И хотя в творческой манере Бакст часто наследовал стиль других художников, вскоре он приобрел известность как интересный акварелист и талантливый портретист. Художник часто жаловался, что вынужден выполнять неинтересные заказы только ради материального благополучия (копия с портрета царя – поездка в Испанию; заказ Военно-морского министерства – обучение в Париже; преподавал рисование детям великого князя Владимира и писал портреты всего его семейства).
Мастерство и изысканный вкус Бакста проявились в портретных работах, пейзажах и графике. К лучшим достижениям в жанре портрета относятся ранние: «Уриэль Акоста» (1892 г.), «Голова араба» (1893 г.), «Молодой дагомеец» (1895 г.). Но особенно удаются художнику портреты друзей. Острота видения людей позволяет ему в образованном, веселом, остроумном В.Ф. Нувеле (1895 г.) одновременно показать «паршивого сноба» и позера. Словно «черный жук, завалившийся в глубокое кресло», изображен погруженный в чтение А.Н. Бенуа (1898 г.). Трагически звучит контрастный графический «Портрет И.И. Левитана» (1899 г.). Какая боль и затаенное страдание во взгляде обреченного, безнадежно больного художника! Изящный портрет-рисунок М.Г. Савиной (1899 г.) является лучшим изображением актрисы. Внутренне напряженным, в эффектной позе предстает перед зрителем знающий себе цену и привыкший повелевать С.П. Дягилев. Его самоуверенной фигуре художник противопоставляет фигурку доброй старенькой няни, сидящей в дальнем углу («С.П. Дягилев с няней», 1906 г.). Манерная, вызывающая поза, рассчитанный на внешний эффект костюм, презрительный взгляд, злые губы тонкой изящной женщины – таков портрет З.Н. Гиппиус (1906 г.). Сильное впечатление оставляют «огромные широко разверстые глаза, бушующие костры на бледном изможденном лице» А. Белого (1905 г.). Глубоко психологичны портреты К.А. Соловьева (1906 г.), М.А. Балакирева (1907 г.). С той же силой непосредственного художественного впечатления и мастерством исполнены более поздние портреты И. Рубинштейн (1921 г.), Ж. Кокто (1911 г.), М. Казата (1912 г.), Л. Мясина (1914 г.), В. Цукини (1917 г.). В большинстве своем эти работы слегка театральны и парадны, в них видно, что люди позируют.
Пейзаж не занял в творчестве Бакста места, равного портрету. Но небольшим по размеру картинам присуще подлинно бакстовское радостное живописное мироощущение («Двор музея Клюни», 1891 г.; «Близ Ниццы», 1899 г.; «Вечер в окрестностях Айн-Сейнфура», 1897 г. – куплена Третьяковым; «Оливковая роща», 1903-1904 гг.; «Море», 1908 г.; «Подсолнухи под окном», 1906 г.). Все пейзажи покоряют игрой красок, переливом воздуха и света.
Талант Бакста-графика и его опыт иллюстратора был полной мерой востребован, когда он возглавил художественный отдел журнала «Мир искусства» (1898 г.). «Бакст изумительный каллиграф русского искусства. Его орнаментальная изобразительность неисчерпаема, и при твердом знании человеческой фигуры Бакст шутя справляется с самыми замысловатыми композициями», – писал А. Бенуа о своеобразном мастерстве художника. Привлекая декоративный материал искусства классической Греции, он создавал орнаментальные узоры, идеально компонуя их с мифологическими мотивами и трансформируя в линейную изощренность модерна. В журнальной графике Бакст раскрылся как превосходный стилист. Его вкусу доверяли при оформлении выставок. Лев Самойлович был не только постоянным участником выставок «Мир искусства», но и художником их интерьеров. Дерзко разрушив привычную монотонность галерей, он декорирует помещения предметами прикладного искусства, скульптурами и до малейших деталей просчитывает эффектную развеску картин. Оформленная подобным образом «Выставка русского искусства», организованная Дягилевым, пользовалась неизменным успехом в Париже, Берлине и Венеции. А представленную художником на выставке «Современное искусство» (1903 г.) изящную мебель для будуара в стиле модерн приобрел барон фон Мекк. Но эта область декоративного искусства особого интереса у Бакста не вызывала.
Растущая популярность сделала художника желанным сотрудником в редакциях многих журналов: «Нива», «Аполлон», «Весы», «Золотое руно», «Жупел», «Сатирикон» и др. Бакст оформляет «Снежную маску» Блока (1907 г.) и «Нос» Гоголя (1904 г.); создает проекты ваз для императорского фарфорового завода. Столь широкий диапазон творческой деятельности свидетельствовал не только о таланте художника, но и о продолжающемся поиске своего стиля. А еще он находил время участвовать во всех начинаниях «мир-искуссников», ведь этот «нежный Бакст с розовой улыбкой» долго был одинок.
В 1902 г. Лев Самойлович познакомился со вдовой художника Н.Н. Грищенко, Любовью Павловной (дочерью П.М. Третьякова). Единственной преградой между ними было различие в вероисповедании. Покладистый и часто идущий на уступки Бакст перешел из иудаизма в лютеранство, и 12 ноября 1903 г. они обвенчались. Через четыре года в семье родился сын Андрей (впоследствии стал известным театральным декоратором в Париже), которого отец горячо любил, впрочем, как и свою приемную дочь Марину Грищенко. Однако личное счастье было недолгим. Постоянные разногласия между супругами в 1910 г. привели к разводу, и Бакст демонстративно вернулся в иудаизм. За этим шагом последовала жестокая реакция властей – они выслали тогда уже знаменитого на всю Европу художника из Петербурга, запретив ему как еврею проживать в столице. Возмущенные друзья и поклонники в 1914 г. добьются отмены несправедливого решения, но Бакст, взяв с собой вдовую сестру с ее четырьмя детьми, навсегда уедет в Париж, а в России будет только наездами.
Поздняя любовь и начало семейной жизни совпали с периодом творческого взлета художника. Бакст наконец-то нашел только ему присущий стиль и свое призвание – театральный декоратор. Театр, давно вошедший в его жизнь, стал широкой ареной деятельности, а художник совершил в мире кулис настоящую революцию, слив в одном звучании поэзию танца, музыки, живописи и архитектуры. Первой пробой сил стало оформление пантомимы «Сердце маркизы» (1902 г.) в постановке М. Петина на сцене Эрмитажного театра. Малоинтересный балет «Фея кукол» (1903 г., Мариинский театр) «золотые руки» и тонкий вкус Бакста превратили в великолепное зрелище, создав на сцене «чисто гофмановскую сказку».
В работах над «Ипполитом» и «Эдипом в Колоне» раскрылся талант непревзойденного ретроспективного стилиста. Бакст, которого часто упрекали в «похожести на других живописцев», виртуозно использовал это качество для создания исторически достоверных костюмов и декораций, органично соединяя его с требованиями зарождающегося модерна. Никто до него не уделял костюму такого внимания. Он до мелочей прорабатывал каждую деталь театрального наряда, делая их удобными и исключительно выразительными. Костюмы, созданные для Л. Собинова, И. Рубинштейн, А. Павловой, М. Фокина, В. Нежинского, помогали им в раскрытии образов.
Но не всегда талант художника был востребован. Один из современников вспоминал: «Он тщетно старался устроиться при казенных театрах по декорационной части: эти театры оказались в отношении Бакста такой же казенщиной, как и в отношении Дягилева. Бакст то получал работу, то терял ее…» Постоянно испытывая нервные перегрузки, художник в 1905 г. по совету врачей уезжает на лечение в Швейцарию. По возвращении Бакст начинает преподавательскую деятельность в школе Е.Н. Званцевой (1906-1910 гг.). Широта художественных взглядов, искреннее увлечение работой сделали его любимым преподавателем в школе, которую чаще называли именем Бакста.
В 1907 г. художник осуществил давнишнюю мечту и вместе со своим лучшим другом В. Серовым отправился в путешествие по Греции. Результатом поездки стали публикация дорожных записок «Серов и я в Греции» и большое декоративное панно архаико-символического звучания «Terror antiquus» («Древний ужас», 1908 г.). Картина, созданная по мифу о гибели Атлантиды, принесла Баксту большой успех на выставке в Париже (1909 г.). Весь ужас мировой катастрофы художник как бы отодвинул от зрителя, заменив его огромной, безразличной к гибели статуей богини любви Афродиты.
В 1909 г. Бакст принял приглашение С. Дягилева стать художником-сценографом в его антрепризе и оформил балет «Клеопатра». В декорациях и картинах всегда склонный к архаике живописец великолепно передал «грандиозную и священную красоту Древнего Египта». Эскизы костюмов представляют собой законченные полотна, на которых сочетания покроя, цвета, отделки участвуют в раскрытии образа, а характерные жесты указывают на пластику движения, требуемую от артиста. Костюм становится как бы одушевленным и активно участвует в спектакле.
Весь свой живописный темперамент, полный чувства театральности, Бакст выплеснул, оформляя балет «Шахеразада» (1910 г.). Успех был потрясающий. Публика аплодировала декорациям, лишь только взлетел занавес. Художник максимально использовал игру света и цветов. «Во всем цвела, играла и пела единая буйная живописная стихия… Ошеломляющее впечатление исходило от всех спектаклей. Париж был подлинно пьян Бакстом», – писал А. Левинсон в журнале «Жар-птица». Самоценные эскизы к постановке, экспонированные в Музее декоративного искусства в Лувре, были распроданы в первый же день. «Это прямое, сладострастное, яркое, как ткани Востока и самоцветные камни, раздушенное ароматами Востока творчество Бакста» выплеснулось за пределы театра. Имя Леон Бакст стало звучать как парижское. Художник неожиданно для себя самого стал законодателем моды, что побудило его заняться эскизами дамских туалетов, исполненных в стиле модерн.
Достоинством всех постановок дягилевской труппы стало единство творческого поиска художников-декораторов, балетмейстеров, хореографов и музыкантов. Синтез музыкальных, ритмических и художественных достижений позволял создавать неповторимые зрелища, потрясая зрителей от спектакля к спектаклю («Карнавал», 1910 г.; «Нарцисс», «Видение розы», «Пери», все в 1911 г.; «Дафнис и Хлоя», «Синий бог», «Послеполуденный отдых фавна», все в 1912 г.). С 1909 по 1914 г. Бакст оформил 12 спектаклей в «Русских балетах» Дягилева, а также несколько постановок для И. Рубинштейн и А. Павловой. Если художник не оформлял полностью какой-либо спектакль, то он часто создавал для них изумительные костюмы. Так, художественное оформление балета «Жар-птица» (музыка Стравинского) взял на себя Головин, но исключительно трудный наряд Жар-птицы создал Бакст. В эскизе модель запечатлена в порыве. На ней длинные узкие шаровары, поверх которых надевалась прозрачная юбочка, декорированная павлиньими перьями, лиф из перьев и высокий причудливый головной убор. Все это – желтое, оранжевое, красное, зеленое. Нити жемчуга, золотые браслеты и другие украшения усиливали сверкание. На сцене балерина появлялась точно пламя, освещая весь сад, написанный Головиным в глубоких синих тонах.
Европа склонилась в поклоне, признавая реформаторский дар Бакста, а в России его преследовали черносотенцы. Театральные эскизы художника раскупались на выставках французскими, испанскими, итальянскими, лондонскими, а затем американскими музеями – всеми, кроме русских. Впервые в истории Франции русский художник был избран вице-президентом жюри Общества декоративных искусств (1911 г.) и удостоен ордена Почетного легиона.
Необычайно зрелищным стал спектакль «Пизанелла», созданный Мейерхольдом для Иды Рубинштейн в 1913 г. Это самая большая, сложная постановка Бакста. Она была, по признанию критики и публики, лучше самого балета. «Единственно, кто имел успех, – это Бакст, – вспоминал Мейерхольд, – в зале стоял стон… каждый занавес сопровождался громом аплодисментов». И только виновник торжества «чувствовал себя постыло равнодушным и почти унылым среди этого успеха». Сказывалось многолетнее переутомление. Дягилев умел выжимать из подчиненных последние силы. Покладистый и терпеливый Бакст очень страдал от наполеоновских замашек директора антрепризы; от того, что «не позволяют сделать для родины самое лучшее, самое зрелое, самое вдохновенное…»; от разлуки с сыном.
Наконец в 1914 г. Бакст был избран действительным членом Петербургской академии художеств, но вернуться в Россию помешала война, а за ней революция, интервенция и снова война, но теперь Гражданская. Все чаще и чаще его нервная система давала сбои. Он жил и работал в Женеве, хотя труппа с успехом гастролировала по Америке. После возвращения дягилевской антрепризы (1917 г.) Бакст с горечью осознает, что его место отдано другим художникам, а старый друг ведет себя более чем некорректно – то поручает оформление спектаклей, то отдает работу другим. Но все же, отбросив горечь обид и неприязнь к Дягилеву, он создает для этого театра свою лебединую песню – необычайно эффектный спектакль «Спящая красавица» (6 декораций и около 300 костюмов).
Отойдя от дягилевской антрепризы, Бакст остался не у дел. Он был в центре художественной жизни Парижа. Его называли «арбитром элегантности и хорошего вкуса», с его мнением считались не только художники, но и артисты, и музыканты. Но чувство одиночества и тоски изводило этого обаятельнейшего человека. «Работать с Бакстом, – вспоминает В. Светлов, – было подлинным наслаждением, он был деликатен и хорошо воспитан. Чуждый чванства и слепого упрямства, Бакст был очень искренним и простым человеком». Он всегда был полон замыслов и исканий. Помимо театральных работ, он создал великолепные панно на тему «Спящая красавица» для особняка Д. Ротшильда в Лондоне. Выступал с лекциями «Искусство одежды», «Театр завтра», «Новые формы классического танца» в Америке.
Последней работой мастера стала постановка балета «Истар» (1924 г.), на которой «зрители получили больше впечатлений от охристой и синей декорации Бакста», чем от сценария. Но на одной из репетиций с художником случился нервный припадок, и спустя пять месяцев он скончался от отека легких. Его похоронили на кладбище Батиньоль при огромном стечении всего художественного и театрального Парижа.
«Он дал балету очень много, – писал М. Фокин. – И богатство красок, и чувство эпохи, и костюм, не похожий на прежний балетный… Новый балет, в свою очередь, дал много Баксту. Он дал ему возможность создавать костюмы, свободные от балетного шаблона… вместо банальных балетных картин создавать фантазии красок и линий, сказочные видения, каждый раз новой красоты». Бакст стал реформатором русского и западно-европейского театрально-декоративного искусства XX в. и поднял сценографию на уровень важнейшего компонента спектакля.
И когда сегодня в зале гаснет свет и под музыку Сен-Санса на сцену выплывает Лебедь в коротком белом тюнике, украшенном перьями, в головном уборе с драгоценными камнями, восторженный зритель должен знать: эскиз для этого «вечного» костюма был создан еще в 1907 г. для несравненной Анны Павловой изумительным художником Львом Бакстом.
Башкирцева Мария Константиновна (род. в 1860 г. – ум. в 1884 г.)
Талантливая русская художница-реалистка. Автор около 150 картин, рисунков, акварелей, скульптурных этюдов и личного «Дневника».
В одном из залов Люксембургского музея в Париже находится статуя скульптора Лонжелье «Бессмертье». Она изображает умирающего гения, протягивающего ангелу смерти свиток из восьми имен преждевременно сошедших в могилу великих людей. Среди них одно русское имя – Мария Башкирцева.
«Звездная ее дорога» началась в имении Гавронцы, около Полтавы. Маша принадлежала к богатому аристократическому роду. Ее отец, Константин Павлович Башкирцев, довольно образованный и не лишенный литературного дарования, долгое время был предводителем полтавского дворянства. Мать, урожденная М.С. Бабанина, принадлежала к древнему роду, ведущему свое происхождение от татарских князей. Однажды гадальщик-еврей предсказал ей, что «сын будет как все люди, но дочь твоя будет звездою…»
Родители и многочисленные родственники относились к Мусе как к звезде, как к царице, любили и обожествляли ее. В детстве она была «худа, хила и некрасива», но в голове невзрачной девчушки, обещавшей стать хорошенькой, уже теснились мысли о дарованном ей свыше величии.
Константин Павлович после смерти своего отца, «страшного генерала» П.Г. Башкирцева, стал свободным и очень богатым. Получив наследство, он «набросился на все и вполовину разорился». Мусина мама из-за разногласий в семье решилась на развод и выиграла бракоразводный процесс. С двухлетнего возраста девочка фактически оставалась на попечении теток и деда, С. Бабанина, блестяще образованного человека.
Машу все баловали, прощали шалости и восторгались любыми ее достижениями. Дрожа за ее хрупкое здоровье, семейство Бабаниных в 1868 г. отправило девочку с матерью и теткой за границу. После двухлетнего путешествия по городам Европы они обосновались в Ницце. В юности Маша подолгу жила в Италии: Рим, Венеция, Флоренция, Неаполь, самые лучшие отели и дорогие виллы, светские приемы высшей знати, лучшие музеи мира – все было у ног маленькой, не по возрасту мудрой девочки, которая ощущала себя запертой в золоченой клетке. Богатство и то, что оно давало, нравилось и принималось ею как должное, но ее душе и уму было тесно в домашних рамках. Маша категорически не вписывалась в какие-либо традиционные каноны. Жизнь била в ней ключом. Заносчивая аристократка, насмешливая и надменная даже в детские годы, она постоянно искала для себя занятия, не характерные для барышень ее возраста.
С пяти лет Маша училась танцам, но мечтала не о балах, а об актерской карьере. В 10 лет она попробовала учиться рисовать, и успехи были налицо, но желание петь оказалось сильнее. Девочка в совершенстве играла на арфе, рояле, гитаре, цитре, мандолине, органе. Ее сильный голос (меццо-сопрано) охватывал диапазон трех октав без двух нот. Она знала ему цену и уверенно стремилась стать великой певицей, а не музицировать в модных салонах. Одновременно девочка занималась языками: итальянским, английским, немецким, а позже древнегреческим и латинским. Русский язык она знала «для домашнего обихода», а думала и писала по-французски.
«До 12 лет меня баловали, исполняли все мои желания, но никогда не заботились о моем воспитании. В 12 лет я попросила дать мне учителей, я сама составила программу. Я всем обязана самой себе». И чем больше Мария училась, тем сильнее понимала, как много ей надо успеть. С 1873 г. все свои мысли, каждый поступок, любую интересную фразу она заносила в свой дневник.
Это не дневник барышни с пустыми «ахами», это дневник-исповедь самодостаточной личности, которая с беспристрастной откровенностью обнажает свои мысли, мечты, стремления, уверенно осознавая, что пишет она не только для себя, но и для всех: «К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало… это всегда интересно – жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время со страстным желанием, чтобы оно было прочитано».
106 больших рукописных томов за неполные 12 лет. В них она вся, со своим «безмерным тщеславием», желанием быть то герцогиней, то знаменитой актрисой, «самолюбивая настоящая аристократка», предпочитающая богатого мужа, но раздраженная от общения с банальными людьми, «презирающая род людской – по убеждению» и пытающаяся разобраться, чего стоит окружающий мир, человек и его душа. С детским максимализмом в свои 12 лет она заявляет: «Я создана для титулов. Слава, популярность, известность повсюду – вот мои грезы, мои мечты…» И рядом – мистические строки, обостренные чувством быстротечности времени: «…Жизнь так прекрасна и так коротка!.. если я буду терять время, что же из меня выйдет!»
И Мария не теряет времени. Трактаты Горация и Тибула, Ларошфуко и Платона, Савонаролы и «любезного друга Плутарха» занимают ее ум, как и книги Коллинза, Диккенса, Дюма, Бальзака, Флобера и Гоголя. Это не просто беглое чтение, это вдумчивый труд, сопоставление их взглядов с ее мироощущением.
К любому вопросу она подходит серьезно, открыто рассказывает о самой себе, как психолог, обстоятельно разбираясь в своих чувствах. Влюбившись в герцога Г. (Гамильтона?), Маша на страницах дневника обстоятельно рассуждает о своей любви и предстоящем, в мечтах, замужестве. Попытка разобраться в чувствах, возникших между нею и племянником кардинала Пьетро Антонелли (1876 г.), приводит Марию к убеждению, что она переросла своих потенциальных женихов и уровень своего окружения. Это сознание обрекает ее на душевное одиночество.
Как много было даровано этой девочке, но слабое тело с трудом справлялось с запредельными нагрузками, которые взвалила Башкирцева на свой мозг и душу. В 16 лет состояние ее здоровья резко ухудшается. Врачи, курорты, светская жизнь, путешествия – но темп работы над собой не замедляется ни на минуту. Уже в этом году Мария начинает жить с ощущением приближающейся смерти. «Умереть?.. Это было бы дико, и, однако, мне кажется, что я должна умереть. Я не могу жить: я ненормально создана, во мне – бездна лишнего и слишком много недостает; такой характер не может быть долговечным… А моя будущность, а моя слава? Ну, уж разумеется, тогда всему этому конец!»
Первый удар Мария выдержала, расставшись с мечтами стать певицей. Катар и воспаление гортани лишили ее прекрасного голоса. Надежда то вспыхивала, то угасала. «Я буду иметь все или умру», – пишет она в 1876 г., накануне поездки в Россию. За полгода она посетила Петербург, Москву, Харьков. Но в основном Мусю баловал отец в своем огромном поместье. Она блистала, кокетничала, влюбляла в себя местных аристократов и считала бесцельно прожитые дни. Маша мечтала примирить родителей, которые по-прежнему любили друг друга. И этой капризной барышне удалось воссоединить семью.
Возвратившись в Париж, Башкирцева пытается самостоятельно заняться рисованием. «Живопись приводит меня в отчаяние. Потому что я обладаю данными для того, чтобы создавать чудеса, а между тем я в отношении знаний ничтожней первой встречной девчонки…» Ей не хватает школы. Мария наконец решает не распылять свои способности, а направить их на обучение живописи. Осенью 1877 г. она поступает в частную Академию Р. Жюльена (Жюлиана). Своими недюжинными способностями она покоряет преподавателей, наверстывает упущенное время, работая по 8-10 часов в день, и достигает успехов, «каких обычно не ждут от начинающих» (семилетний курс она освоила за два года).
Ее учителя Р. Жюльен и Т. Робер-Флери уже через неделю занятий признали в Башкирцевой природную одаренность. «Я думал, что это каприз балованного ребенка, но я должен сознаться, что она хорошо одарена. Если так будет продолжаться, то через три месяца ее рисунки могут быть приняты в Салон», – сказал Жюльен матери начинающей художницы. Весной 1878 г. Мария участвует в первом для себя конкурсе учащихся академии и занимает третье место. А после 11 месяцев обучения жюри присуждает ей первую медаль. «Это работа юноши, сказали обо мне. Тут есть нерв, это натура».
Это заслуженная награда. Нагрузки, которые она взваливает на себя, чрезмерны, но Башкирцева терзается тем, что не начала заниматься живописью в 12-13 лет и «что теперь слишком поздно». Она живет и работает, лихорадочно пытаясь «в один год сделать работу трех лет». Мария подсчитывает часы, растраченные безвозвратно на сон, одевание, светские приемы, и в то же время изыскивает резерв для занятий римской историей и литературой. Но такого напряженного режима организм не выдерживает – она практически теряет слух, появляются первые симптомы туберкулеза. Начинающая художница вынужденно прерывает занятия для консультации у светил медицины и поездок на воды. Диагнозы врачей расплывчаты («кашель чисто нервный»), и Мария несерьезно относится к лечению, мечтая только о достижении высот в живописи.
В 1880 г. под псевдонимом Mademoiselle Mari Constantin Russ она приняла участие в Салоне. Первая картина «Молодая женщина, читающая "Развод" Дюма» была замечена и одобрена критикой.
В 1881 г. Башкирцева выставляет большое полотно «Ателье Жюльена» – сложную многофигурную композицию, отличающуюся жизненностью и твердостью рисунка. Ее колорит выдержан в теплых серых и темно-лиловых тонах и оттенен единственной темной фигурой – портретом самой художницы. Жюри Салона присудило картине второе место. Башкирцева создает портрет «прелестной американки» и готовит нехарактерную для творчества женщины картину «Портрет натурщицы». На ней изображена ожидающая художника модель – обнаженная, она сидит верхом на стуле, курит папироску и смотрит на скелет, в зубах которого торчит трубка. Вокруг небрежно разбросаны вещи и – маленький букетик фиалок. Работа выдержана не просто в характерной для Башкирцевой реалистической манере, она ближе к натурализму и даже к символизму. «Величайшие мастера велики только правдой… и те, которые смеются над натурализмом, дураки, и не понимают, в чем дело. Надо суметь схватить природу и уметь выбирать. Все дело художника в выборе».
Для своей следующей работы «Жан и Жак» (1883 г.) художница избирает подсмотренную на улице жанровую сцену, изображающую двух бедных парижских мальчиков. Старший с уверенностью и сознанием собственного достоинства ведет за руку младшего. Крепко очерченные фигурки детей темным силуэтом выделяются на фоне широко и свободно написанного городского пейзажа. Эта работа уже говорила о зрелом мастерстве художницы. Картина «Дождевой зонт» (1883 г.) изображает дрожащую девчушку, укутанную в залатанную юбку. Она стоит, держа над головой сломанный зонт, а в ее недетских серьезных глазах застыл немой укор маленького существа, рано познавшего нужду. Написанная на пленэре, под дождем – она так же реальна, как и прогрессирующая болезнь художницы. На 1883 г. приходится основная часть ее творческого наследия: «Осень», серия «Три улыбки» («Младенец», «Девочка», «Женщина»), подкупающие своей добротой и правдивостью.
В Салоне 1883 г. Башкирцева представляет картину «Парижанка» и жанровое полотно «Жан и Жак» уже под собственным именем. Помимо награды, она получает похвальные отзывы не только во французской, но и в русской прессе. На первой полосе престижного издания «Всемирная иллюстрация» была помещена репродукция картины и большая статья о художнице.
Башкирцева полна новых идей и замыслов. Но все чаще и чаще она вынуждена прерывать работу. Теперь врачи категоричны – туберкулез поразил все правое легкое, очаги есть и в левом. Мария вполне осознает, как мало ей отпущено: «Меня еще хватит на некоторое время». Она верит, что живопись спасет ее, и если не продлит жизнь, то не позволит исчезнуть бесследно. На большом автопортрете «Портрет Башкирцевой у картины» (1883 г.) она изображает себя в творческом порыве – взгляд серых глаз сияет вдохновением, черты лица уверенные и в то же время нежные. Как и в написанном ранее маленьком автопортрете, она объективно и самокритично подчеркивает раскосость глаз и выпирающие скулы.
Представленные в Салоне 1884 г. изящный пейзаж «Осень» и жанровая картина «Митинг» (вместе с «Портретом натурщицы» приобретены французским правительством для Люксембургского музея в Париже) приносят Башкирцевой долгожданную славу. «Митинг» – эта наиболее значительная работа художницы – изображает группу ребятишек на солнцепеке пустынной улочки, заинтересованно рассматривающих волчок. «После открытия выставки не было ни одного журнала, который бы не говорил о моей картине, – отмечает в дневнике Мария. – Это настоящий, подлинный успех… Какое счастье».
Ее не смущают постоянные сравнения ее творческой манеры с работами Ж. Бастьена-Лепажа. Марии нравились его картины, она дружила с художником, а неизлечимые недуги сблизили их еще теснее. Но Башкирцева ясно видела ограниченность мастерства своего друга и намного превзошла его в колорите и сюжетной раскованности. Она рассматривает мир как единство человека и природы. Ее декоративный экран «Весна» (1884 г.) – это не просто изображенные женщины на фоне пейзажа. «Нежная зелень, бело-розовые цветы яблонь и персиковых деревьев, свежие ростки повсюду… – это должен быть гармоничный аккорд тонов», но моделью для мечтательно задремавшей девушки станет не томная пастушка, а «настоящая здоровенная дивчина, которой завладеет первый встречный парень». Реальности художница достигает не только через изображение «грубо-простых вещей, но и в выполнении, которое должно быть совершенным».
Несмотря на то что Башкирцева очень торопится все успеть, ее работы отличаются продуманностью композиции, цветовой гаммы и мельчайших деталей. Она спешит закончить «Скамейку», делает эскизы к «Юлию Цезарю» и «Ариадне». Продолжает работу над «Святыми женами» («Жены-мироносицы»), начатую еще в 1880 г. Даже в эскизах ощущается не просто горе – «это драма колоссальная, полная, ужасающая. Оцепенение души, у которой ничего не осталось». Мария свято верит, что ее рука сумеет выполнить то, что «хочет выразить душа».
А еще Башкирцева мечтает состояться как писательница. Она ощущает потребность, чтобы какой-то знаток литературы смог по достоинству оценить ее эпистолярное творчество. Свой дневник она хочет поручить Ги де Мопассану, судя по его книгам, так много понимающему в женщинах. Но переписка с ним, затеянная Марией, разочаровывает ее: «Вы не тот человек, которого я ищу…» И Башкирцева 1 мая 1884 г. пишет предисловие к своему феноменальному «Дневнику» (ее завещание было написано еще в июне 1880 г.). Такой дневник, полный страсти, желания славы и величия, понимания своей гениальности и творческого потенциала, мог бы написать любой писатель или художник, только никому, кроме Башкирцевой, не хватило честности и откровенности, чтобы раскрыть свои тайные стремления и надежды. Может быть, она была так искренна потому, что подсознательно чувствовала, что для жизни ей отпущен малый срок. Не дожив 12 дней до своего двадцатичетырехлетия, 31 октября 1884 г. Мария Башкирцева скончалась и была похоронена на парижском кладбище Пасси. На плитах у большого белого памятника, напоминающего русскую часовенку, всегда лежат скромные фиалки.
Через год после ее смерти французское общество женщин-художниц открыло выставку работ М.К. Башкирцевой, на которой было представлено 150 картин, рисунков, акварелей и скульптурных этюдов. В 1887 г. на Амстердамской выставке картины русской художницы нарасхват раскупили самые известные галереи мира, в том числе и представители музея Александра III. В этом же году был издан (в сокращенном варианте) «Дневник», которым «переболели» И. Бунин, А. Чехов, В. Брюсов, В. Хлебников, а Марина Цветаева посвятила художнице свой «Вечерний альбом». К сожалению, большинство полотен, перевезенных матерью Башкирцевой в родовое поместье под Полтавой, погибло в начале Второй мировой войны. Но в открывшемся в 1988 г. Музее искусства XIX века д’Орсэ целый зал отдан ее картинам.
Башкирцева могла стать великим художником, «Бальзаком живописи», если бы ей была дарована не столь короткая жизнь.
«Я, которая хотела бы сразу жить семью жизнями, живу только четвертью жизни… И потому мне кажется, что свеча разбита на четыре части и горит со всех концов…» – писала она. И как бы вторя ей, Марина Цветаева посвятила Башкирцевой такие строки:
«Ей даровал Бог слишком много! И слишком мало – отпустил. О, звездная ее дорога! Лишь на холсты хватило сил…»Бенуа Александр Николаевич (род. в 1870 г. – ум. в 1960 г.)
Известный русский живописец и график, представитель русского модерна, иллюстратор и оформитель, издатель, литератор, режиссер. Историк искусства, художественный критик. Один из организаторов и идейный руководитель объединения «Мир искусства». Автор многих монографий и статей, а также мемуаров «Мои воспоминания».
Династия Бенуа – российская семья, внесшая достойный вклад во многие виды искусства: в графику и архитектуру, живопись и кино, скульптуру и театрально-декорационное мастерство, музыку и литературу… А началась ее история в России в 1794 г., с прибытия из Франции в Петербург кондитера Луи Жюля Бенуа. Его сын Николай Леонтьевич выучился на архитектора и быстро влился в художественную жизнь столицы, выполняя многочисленные заказы для Петергофа, в число которых входили проекты вокзала, придворных конюшен и Фрейлинских корпусов. Когда пришла пора обзаводиться семьей, он женился на Камилле Альбертовне Кавос, итальянке по происхождению, талантливой музыкантше, чей прадед Катерино Кавос был известным композитором и дирижером, а дед – архитектором, работавшим над строительством Большого и Мариинского театров. В 1856 г. у них родился первенец Леонтий, который пользовался успехом как художник-акварелист, а впоследствии был известен как талантливый архитектор. В доме Бенуа-Кавос царила атмосфера поклонения прекрасному, так что младшему сыну Александру, появившемуся на свет 3 мая 1870 г., ничего не оставалось, как достойным образом продолжить творческие традиции обоих семейств.
Первые уроки рисования Саша получил еще в частном детском саду и пылко полюбил живопись, захотел стать художником. Одновременно с учебой в гимназии К. Мая он посещал классы Академии художеств, но это учебное заведение, проповедовавшее, как и члены его семьи, «академический» стиль рисунка, принесло молодому человеку лишь разочарование. Поэтому в 1890 г. Бенуа поступил на юридический факультет Петербургского университета, а изучать живопись решил самостоятельно. Его вдохновляла страсть к искусству, а настойчивость помогала обрести мастерство профессионала: молодой человек не давал себе спуску, постоянно занимаясь на пленэре, рисуя по памяти и фантазируя, изучая историю живописи, посещая знаменитые города и музеи Европы и, конечно же, петербургский Эрмитаж. Усердная работа вскоре принесла первые плоды: в 1893 г. Александр представил свои первые пейзажи на выставке «Общества акварелистов» в России. Но хотя пейзажи составляют едва ли не половину творческого наследия художника, тем не менее они интересовали его лишь частично и были связаны с отображением исторических местностей России, Германии и Швейцарии. Гораздо позже, в середине 1920-х гг., среди его работ начали появляться чисто пейзажные циклы, посвященные Крыму, Италии, Бретани и Швейцарии. Стоит также отметить, что натурные зарисовки всегда являлись для Бенуа только основой для развития композиции, перестройки сюжета и пропорций – до тех пор пока картина не начинала напоминать мастерски выполненные декорации: ведь понятия «художественности» и «театральности» в его понимании всегда шли рядом, а в самом театре он видел возможность осуществить слияние различных жанров искусства, что представлялось ему главнейшей целью художественной культуры.
В 1895 г. Александр Николаевич впервые приехал в Париж, где на протяжении четырех лет был хранителем коллекции современной европейской и русской живописи и графики княгини М.К. Тенишевой. Город покорил художника с первого взгляда и навсегда вошел в его сердце. Именно здесь, во время изучения Версаля с его скульптурами и архитектурой, он и задумал серию акварелей и гуашей «Последние прогулки Людовика XIV», созданную в 1897-1898 гг. и основанную, кроме собственных наблюдений Бенуа, на мемуарных и литературных источниках. Серия эта принесла ему славу «певца Версаля и Людовиков». Несложные жанрово-исторические сцены, в которых полностью отсутствует драматическая тема и личностные характеристики героев, благодаря четкой перспективе и планировке, незамысловатости и простоте линий и ритмов, противопоставлению пышного двора изысканности строений и статуй, сделали эти небольшие картины новым словом в мире живописи. Сам Александр Николаевич вспоминал: «Какую бы чушь современные художественные борзописцы ни городили про меня, про мое "эстетство", мои симпатии влекли и теперь влекут меня к простейшим и вернейшим изображениям действительности». И добавлял: «У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в "плане современности"…»
Тем не менее любовь к Парижу прошлого и еще одна версальская серия – более обширная по технике и сюжету, используемым краскам, созданная, чтобы отгородиться от трагических событий на родине в годы Февральской революции, – не помешали Бенуа воспеть настоящее своей родной страны. Он с упоением рисовал культовые, по его словам, города – Ораниенбаум, Павловск и Петергоф, которому посвящено наибольшее количество картин. Как и «Последние прогулки Людовика XIV», эти три серии написаны на основе тщательного историко-художественного исследования и «театрального» построения композиции, с пылкой любовью к прекрасному и желанием прославить красоту и мощь отечественного искусства. Из картин полностью пропадают персонажи – прекрасно отображенных, грандиозных или нарочито интимных архитектурно-парковых ансамблей с лихвой хватает, чтобы показать всю прелесть городов, отобразить их художественную историю. В 1907-1910 гг. были написаны несколько историко-бытовых картин, стоящих особняком от других работ и причисляемых к самым удачным произведениям Александра Николаевича: «Парад при Павле I», «Выход императрицы Екатерины II в Царскосельском дворце», «Петербургская улица при Петре I» и «Петр I на прогулке в Летнем саду».
Но единогласно признано, что лучшие произведения Бенуа принадлежат искусству оформления и иллюстрации книг, и также разработке и воплощению театральных декораций и костюмов. Ничто не любил Александр Николаевич в своей жизни больше, чем театр. Он и к живописи с самого начала своей творческой деятельности подходил как театральный художник или режиссер, постепенно, шаг за шагом, раскрывая в картинах задуманный образ.
С детства Бенуа был влюблен в театр – балет, оперу, драму. И именно ранние детские впечатления в совокупности с воспоминаниями юности о немецких спектаклях привели его в 1901 г. в один из императорских театров, где по протекции С.П. Дягилева он начал работу над постановкой одноактного балета Делиба «Сильвия», который, однако, так и не был поставлен. За год до того Александр Николаевич дебютировал как театральный художник, оформив оперу «Месть Амура» в Эрмитажном театре. Но настоящий взлет его начался в 1902 г., когда Бенуа работал над оформлением оперы Вагнера «Гибель богов» в Мариинке; а к «Павильону Армиды» Черепнина (1903 г.) он выполнил эскизы декораций и написал либретто. Увлечение балетом привело к тому, что при непосредственном участии художника появилась на свет частная балетная труппа, известная как «Русские сезоны» Дягилева. Заняв в ней должность директора по художественной части, он принимал участие в постановке таких балетных спектаклей, как «Сильфиды», «Павильон Армиды» (оба в 1909 г.), «Жизель» (1910 г.), «Соловей» (1914 г.). Вскоре после постановки балета «Петрушка» Стравинского (1911 г.), который был создан по идее и либретто самого Бенуа, художник сблизился с МХТ, где поставил несколько пьес по Мольеру и участвовал в управлении театром вместе со Станиславским и Немировичем-Данченко.
Отдельной страницей в биографии А. Бенуа, объясняющей его неприязнь в зрелые годы к академизму и передвижничеству, стоит художественное объединение «Мир искусства» (а позже и неоромантический журнал с таким же названием), которое в 1898 г. он организовал совместно с многочисленными друзьями: Д. Философовым, В. Нувелем, К. Сомовым, С. Дягилевым, Л. Бакстом, А. Нуроком. Бенуа так объяснял возникновение движения «мирискусников»: «…Целому ряду молодых художников некуда было деваться. Их или вовсе не принимали на большие выставки – академическую, передвижную и акварельную, или принимали только с браковкой всего того, в чем сами художники видели наиболее явственное выражение своих исканий… И вот почему Врубель у нас оказался рядом с Бакстом, а Сомов рядом с Малявиным. К "непризнанным" присоединились те из "признанных", которым было не по себе в утвержденных группах. Главным образом, к нам подошли Левитан, Коровин и, к величайшей нашей радости, Серов… С нами их связала ненависть ко всему затхлому, установившемуся, омертвевшему». Эта организация, ориентированная на создание грандиозного стиля и открывшая миру новых, ранее неизвестных художников и критиков, действительно стала новой, свежей струей в искусстве того времени. Она вторгалась во все области культуры – не только «классические», но и в оформление интерьеров жилищ, дизайн мебели – и везде несла свой неповторимый стиль, утонченный эстетизм, тягу к графике, камерность. Примером тому могут служить неоконченные эскизы для росписи Казанского вокзала в Москве. Однако основная миссия и достижения «мирискусников» заключаются в другом: на их долю выпала сложнейшая задача – анализ и обобщение истории русского искусства XVIII-XIX вв., освещение его с нового ракурса, с использованием ранее не изученных материалов. Благодаря «Миру искусства» были основательно изучены и описаны такие области, как портретная живопись и архитектура Петербурга XVIII века. А вдохновителем и идейным руководителем всего этого был Александр Бенуа.
Как большинство мирискусников, оставил он свой неизгладимый след и в развитии новой книжной графики. Начинал Бенуа в журналах «Мир искусства», «Художественные сокровища России» и «Золотое руно» как оформитель-декоратор, но до самой Октябрьской революции основной сферой в графике для него было иллюстрирование. Все, что он проиллюстрировал за многие годы, можно только перечислить, но никак не описать. Это поистине шедевральные рисунки к «Пиковой даме», «Капитанской дочке», «Медному всаднику» Пушкина, «Золотому горшку» Гофмана, две иллюстрации, созданные в сотрудничестве с племянником Е.Е. Лансере к «Царской и императорской охоте на Руси» Кутепова; «Азбука в картинах», где он впервые предстал как единоличный автор, создатель замысла, иллюстратор и оформитель… Благодаря Бенуа русская книжная графика превратилась из декоративного искусства в повествовательное, жертвующее украшениями ради смысла книги.
Проявил себя Бенуа и как критик и историк искусства. Его дебют состоялся еще в 1894 г. – на немецком языке в третьем томе книги Р. Мутера «История живописи в XIX веке» была напечатана его глава о русском искусстве, а ее переводы – в журналах «Русский художественный архив» и «Артист». Вскоре о начинающем художнике заговорили как о перспективном искусствоведе, изменившем воззрения на современную живопись, а сам он навсегда сохранил в себе это двуединство теоретика и практика искусства. С тех пор Александр Николаевич регулярно выступал на страницах многих изданий со своими художественно-критическими статьями, в которых четко отслеживалось последовательное развитие и многогранность его таланта. «Беседы художника» (1899 г., журнал «Мир искусства») были посвящены в основном парижским выставкам; «Дневник художника» (1907-1908 гг., «Московский еженедельник») – вопросам театра и музыки. В газете «Речь» с 1908 по 1916 г. были опубликованы «Художественные письма» Бенуа, так называемая «третья серия», около 250 статей, посвященных современной живописи, скульптуре и графике, архитектуре и театру, художественной старине и народному творчеству, новым книгам и выставкам, творческим группам и отдельным мастерам живописи… И везде он смотрел словно двумя парами глаз: художника и критика, ибо, по его мнению, в искусстве нет места произволу, а важнейшим качеством творца является прежде всего чувство профессиональной ответственности, но одновременно с этим лишь вдохновение и свобода обуславливают ценность того или иного произведения.
Из-под пера Александра Бенуа также вышло множество работ по истории искусства. Прежде всего это «История живописи в XIX веке. Русская живопись» в двух частях (1901-1902 гг.), в которой художник коренным образом переработал очерк для книги Мутера. Она не вполне соответствует своему названию: содержание книги охватывает развитие живописи со времен Петра I до начала XX века. Это серьезное, полное и систематическое исследование, с безупречным, хоть и не всегда объективным анализом фактов, с массой используемого материала, представляет собой также и трактат, остро направленный против академичного стиля и передвижников. Бенуа основал также журнал «Художественные сокровища России» и серию «Русская школа живописи», написал подробное исследование «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны» (1910 г.), посвященное истории быта и творческой жизни России середины XVIII в., «Путеводитель по картинной галерее Эрмитажа» (1911 г.), монографию о Франсиско Гойе (1908 г.), обширную статью о жизни и творчестве Жана Этьена Лиотара и многие другие статьи, освещающие наследие европейской живописи. И конечно же, одно из первых мест среди работ Александра Николаевича занимает основанная им в 1912 г. серия «История живописи всех времен и народов». Свет увидели 22 выпуска первой части книги, рассказывающие о развитии пейзажной техники и стиля с древнейших времен до середины XVIII века. Но несмотря на слово «история» в названии, современники Бенуа справедливо отмечали: «В истории А.Н. Бенуа интереснее всего, необыкновеннее всего сам А.Н. Бенуа. Его знания исключительны, его опыт и память не имеют себе равных… Едва только успеваешь оценить его тонкие замечания об итальянской живописи, как начинаешь удивляться его уверенному и легкому передвижению сквозь лабиринт ранне нидерландской живописи – но вот старые немцы, и кажется, здесь А.Н. Бенуа чувствует себя еще ближе к картинам и его слова о художниках звучат еще более горячо и живо».
В первые послереволюционные годы талант Бенуа оказался как никогда востребованным: он принимал активное участие в реорганизации и сохранении пригородных дворцов и парков Петрограда и Русского музея, был заведующим Картинной галереей Эрмитажа, работал с Петроградскими театрами: Мариинским, Большим драматическим, Александрийским. Но пути его с обновленной Россией окончательно разошлись в 1926 г. Еще в 1905 г. серьезно заболел сын Александра Николаевича, Николай, и врачи настоятельно рекомендовали мальчику смену климата. Бенуа с супругой Анной Карловной и тремя детьми переехал в Париж. Когда Николай выздоровел, оказалось, что семья уже пустила корни во Франции, и Александр Николаевич уехал в Россию один. Но в послереволюционные годы ему пришлось выбирать между жизнью в эмиграции и сталинским режимом в СССР. После оформления «Женитьбы Фигаро» Бенуа уехал в Париж для постановки спектакля в Гранд-опера и в Россию больше не вернулся…
Франция ласково приняла талантливого художника: до 1934 г. он работал в Гранд-опера, а в 1930-1950-х гг. – в миланском театре Ла-Скала, но ничего нового создать так и не сумел, ограничившись вариациями своих старых постановок. Главным же трудом лет, проведенных в эмиграции, стали мемуары «Мои воспоминания», проникнутые духом творческих исканий России, стоявшей на рубеже столетий. Вторая мировая война принесла художнику много горя: скончалась жена, зять и внук попали в фашистский концлагерь и спаслись чудом, – но он по-прежнему оставался неутомимым, добрым и компанейским человеком, полным новых любопытных идей.
Жизненный путь Александра Бенуа в Париже в 1960 г. прервал случайно подхваченный грипп.
Потомки художника стали достойными продолжателями творческих традиций Бенуа: среди них и музыканты, и художники, и театральные деятели, и скульпторы. В 1988 г. по инициативе Николая Александровича в одном из Фрейлинских корпусов был открыт музей семьи Бенуа, а в 1990-х гг. их род передал Эрмитажу прекраснейшую «Мадонну с цветком» Леонардо да Винчи, известную как «Мадонна Бенуа», одну из жемчужин ценнейшей коллекции талантливого художника и теоретика, чьей главной чертой характера до последнего дня оставалась всепоглощающая любовь к Искусству.
Билокур Екатерина Васильевна (род. в 1900 г. – ум. в 1961 г.)
Известная украинская художница, член Союза художников Украины (1949 г.), заслуженный деятель искусств Украины (1951 г.), народный художник Украины (1956 г.). Награждена орденом «Знак почета» (1951 г.).
Имя Екатерины Билокур, удивительной и самобытной художницы, запечатлевшей в своих произведениях неувядаемую красоту и богатство украинской природы, щедрые дары ее земли, – навсегда вошло в историю украинского народного искусства. Ее произведения завораживают многоцветием сочных радужных красок, привлекают светлым мироощущением и жизнерадостностью. В творческом наследии Е. Билокур есть и пейзажи, и натюрморты, и портреты, но большинство ее шедевров составляют нарисованные с чрезвычайным увлечением и любовью цветы: «Цветы за плетнем», «Цветы в тумане», «Цветы вечером», «Полевые цветы», «Цветы на голубом фоне»… «А цветы я буду писать и писать, я так люблю с ними работать, что и слов не найду, чтобы высказать чувства любви к ним – моей великой любви!» – не раз говорила художница. «Дети Земли», «мои дети» – называла она свои любимые «квiточки». Е. Билокур была настоящей мастерицей колорита, обладавшей безошибочной художественной интуицией. Тем удивительней тот факт, что о некоторых обязательных законах художественного творчества Екатерина Билокур узнала лишь в зрелом возрасте. Хотя, возможно, именно из-за отсутствия какого-либо постороннего влияния ее произведения обладают такой редкой индивидуальностью и естественностью.
Вся жизнь этой женщины прошла в маленькой глухой деревушке. Там, в селе Богдановка Полтавской губернии (ныне Киевской области), художница и появилась на свет. 7 декабря (25 ноября) 1900 г. в день Святой великомученицы Екатерины в семье крестьян Василия Иосифовича и Акилины Павловны Билокур родилась дочка. Рано, еще до школьного возраста, Катя самостоятельно научилась читать. Увидев, что девочка сама учится грамоте, родители решили, что незачем отдавать ее в школу, – «пусть лучше за прялку садится». По прошествии многих лет художница вспоминала об этом: «И сидит за гребнем маленькая чернобровая девчушка и выводит маленькими руками тонкую длинную нитку, а перед нею на иголках лежит букварь. И время от времени этот ребенок от гребня отрывается и над той дорогой книгой склоняется… – На этом мое начальное, среднее и высшее образование закончилось». Екатерина Билокур всегда очень сожалела о том, что ей так и не довелось получить образования. «А к стыду моему, я – самоучка, – говорила она. – Ибо я никогда ни единого дня, ни единого часа ничему не училась. Я не была никогда ни в какой школе и не слышала гласа учителя». Родившись в селе и не получив даже начального образования, она всю жизнь провела в кругу ежедневных будничных хлопот – как потом скажет сама, «пряла, ткала, белила, мыла, копала, сажала, полола, собирала и все дело делала». За полгода до смерти Екатерина Билокур писала: «А только разве я сейчас художник? Я – Золушка. Пока приберу, затоплю печь, возле старой больной матери похлопочу, козу пока обихожу (чтоб она сдохла, мучительница!), ну да дров насобираю, на берегу нарублю… И какой теперь день? Вот и все! А весна придет – хоть и длинные дни, так тогда и дела больше: пока вскопаю, засажу огород, а… уже нужно полоть, пока прополю – там уже жито убирать нужно, а пока пожну – молотить, картофель убирать нужно!.. И так проходят недели, месяцы. А мне о моей дорогой работе и думать некогда. Часто к сердцу так зло и грусть подступают, что хочется повеситься и все…»
К рисованию Екатерина пристрастилась, скорее всего, в отроческие годы. В детстве она ничего не слышала о живописи и только в юности из книг узнала, что «есть на свете такие люди – художники» и о том, «каков их труд». «И каким-то волшебным, прекрасным показалось мне это великое слово Художник, – вспоминала потом Е. Билокур. – Вот я и сказала себе, что рано или поздно, хотя бы на старости лет, а буду Художником, буду – и все!» Однажды попробовав рисовать, юная крестьянка поняла, что еще ни одно занятие на свете так не увлекало ее, не приносило столько радости и счастливого волнения. У Кати не было ни карандашей, ни бумаги – тайком она брала у матери кусок белого полотна и угольком рисовала на нем. «…Я нарисую с одной стороны полотнины что-нибудь, насмотрюсь-налюбуюсь, переверну на другую сторону – и там то же самое. А потом выстираю этот кусок полотна – и снова рисую. С натуры я тогда не рисовала и слова тогда такого не слышала, а пейзажи и так, всякую всячину, это все я выдумывала в своей голове». Родители, которые считали рисование «пустым» занятием, категорически воспротивились увлечению дочери. Но строжайший запрет и порка совершенно не действовали на «неразумную» дочь, и тогда было решено позволить ей рисовать, но «только в воскресенье, после обеда, как уже все сделано». «…Однажды, да еще в будни, как подкатило мне в сердце, чтобы что-нибудь нарисовать!.. Я нарисовала не пейзаж, а каких-то придуманных птиц. И тогда мне эти мои первые произведения показались такими чудесными! Мне было радостно на душе от того, что я такое сумела выдумать!.. Вот меня на том и поймали отец с матерью. Рисунок мой порвали, скрутили и кинули в печь, а меня немного поколотили, но здорово и не били что-то. И говорят: "Что ты, тварюга, делаешь? Да не дай бог чужие люди тебя увидят за таким делом?" Мать, бывало, аж плачет: "Вот… наказал нас Господь такой дочкой! У людей дочери в таких годах уже замуж повыходили…"»
Несмотря на все препятствия, в перерывах между крестьянскими заботами и хлопотами Екатерина украдкой продолжала рисовать. Напрасно родители старались отвлечь дочь от «непутевого» занятия, которое отныне стало смыслом всей ее жизни. Сколько же было в этой простой украинской крестьянке душевной силы, неудержимой страсти к искусству и гармонии, что она, забыв об усталости, презрении окружающих, о желанной каждому человеку любви, брала в руки уголек или кисть и оставляла на «полотне, бумаге или даже фанере свои прекрасные полусны, где настоящее теряло черты конкретной реальности и становилось волнующе недосягаемым!»
Стремления Екатерины к рисованию не понимали не только родители и братья – Григорий и Павел, – но и односельчане. Это всеобщее отчуждение стало для художницы настоящей драмой. Недаром ведь говорится, что счастье – это когда тебя понимают. Из-за неразрешимого конфликта между неудержимым творческим порывом и обязанностью жить в будничном мире, среди мучительного непонимания и осуждения, художнице порой хотелось наложить на себя руки. Осенью 1934 г. она настолько отчаялась, что пыталась утопиться в ледяной воде Чугмака. В результате Екатерина подхватила неизлечимую болезнь ног, которой мучилась до конца жизни, но отвоевала для себя у родных право на рисование. Именно тогда она окончательно приняла важнейшее решение – «быть художником, быть во что бы то ни стало!» Еще в 1922 или в 1923 г. Екатерина Билокур пыталась поступить в Миргородский техникум художественной керамики, о котором узнала из заметки в журнале «Советское село». Что такое «керамика», Екатерина не знала, но рассудила так: «раз там было слово "художник", видимо, там учат, чтобы быть художником, а это для меня все». Прихватив два самых лучших своих рисунка, выполненных не на полотне, а на специально раздобытой для этого случая бумаге, девушка впервые покинула Богдановку и отправилась в Миргород. Но в техникуме на рисунки девушки, не имевшей документа об окончании семилетки, даже и не взглянули. В отчаянном порыве исправить несправедливость Екатерина перекинула свои рисунки через забор в сад техникума, надеясь, что их заметят, оценят, а ее окликнут и предложат учиться. Надежды оказались напрасными, и, глубоко разочарованная, она вернулась в родное село. Неудачной оказалась и попытка поступить в 1928 г. в Киевский театральный техникум, где так же, как и в Миргороде, прежде всего потребовали предъявить аттестат об окончании школы.
Екатерина Билокур, не имея какой-либо духовной поддержки, тяжело переживала жизненные неудачи. В этот сложный для себя период она совершила настоящее паломничество в Канев, на могилу Т.Г. Шевченко. Позднее она вспоминала: «Был понедельник и был будний день. На могиле не было никого. У меня такая уже воля была – сколько хотела, столько и плакала! И как живому, Шевченко рассказывала, что как я хочу ХУДОЖНИКОМ быть, да на этих дороженьках если не терн, то колючки, то камешки острые. Ой, если б это вы, Тарас Григорьевич, живы были, то, может, вы и помогли бы мне стать художником. А те люди, среди которых я живу, не понимают меня, и я меж ними, как чужая…»
С горечью признав, что учиться ей уже не придется, Екатерина Билокур решила сама овладевать основами художественного ремесла. Позади остались рисунки углем и красками собственного изготовления, художницу все больше привлекают масляные краски. Радужные, ослепительные, они кажутся ей волшебными, и даже названия их звучат для Екатерины как-то по-особому, сказочно: ультрамарин, киноварь, кобальт, краплак. Кисточки художница делала сама «из коровьей шерсти, вишневых веточек и жести консервных банок», для каждой краски – своя, отдельная кисточка. В эти годы, очень важные для становления ее творчества, художница овладевает не только техникой живописи, но и композиционным мастерством, находит себя в жанре натюрморта. Уже первые ее «настоящие» работы – «Березка» (1934 г.), «Цветы за плетнем» (1935 г.), «Цветы» (1936 г.) – свидетельствовали о необыкновенном, дивном даровании. Они определили своеобразный, даже уникальный стиль. Жизнеутверждающая сила, сказочная фантастичность композиций, гармония цвета становятся основой творческой индивидуальности мастерицы. Не имея ни книг, ни альбомов, ни возможности перенять чужой опыт, художница учится у природы, которая стала главным ее педагогом. Она внимательно изучает строение каждого цветочка, каждого стебелька, никогда не срывая их, ибо «у каждого растения, как у человека, своя душа». «Я на мать-природу смотрела и у нее, богатой на краски, тона и полутона, училась. Там расцвел цветочек синий, а там желтый и красный, там кустик травы или калина склонилась, а над нею хмель… Как придет весна, да зазеленеют травы, а потом и цветы зацветут!.. О боже мой, как посмотришь вокруг, и тот красив, а тот еще чудеснее! И как бы словно наклоняются ко мне, только что не говорят: «Кто же нас тогда будет рисовать, если ты перестанешь?» И я все на свете забуду и снова рисую цветы». Так художница постепенно обогащается впечатлениями, а затем, проникая в сложный творческий процесс, открывает для себя новые и новые секреты художественного мастерства.
Богом данный талант бурлил в Екатерине Билокур со все возрастающей силой, не давая покоя, требуя самореализации… О неумолимости своего вдохновения она расскажет так: «Куда я ни иду, что ни делаю, а то, что я надумала рисовать, вслед за мною. Да и спать я лягу, а оно мне слышится, а оно мне мерещится, и словно что-то ко мне проговаривает, чтобы я его не бросала, чтобы я его не чуралась, чтобы я его рисовала, и либо на бумагу, либо на холст выливала». Ей мечталось о простом человеческом счастье, которому помешала сбыться все та же испепеляющая страсть к искусству живописи: Екатерине Билокур не довелось быть ни женой, ни матерью.
Трудно сказать, как сложилась бы творческая судьба художницы, если бы однажды Екатерина Васильевна не отправила один из своих рисунков выдающейся певице Оксане Петрусенко – в благодарность за прекрасное пение. Слава артистки была так велика, что письмо с необычным адресом «Киев, академический театр, Оксане Петрусенко» не затерялось. Артистку поразили отчаянные и полные надежды слова «богдановской» мастерицы и ее рисунок – калина на небольшом кусочке полотна. Петрусенко не могла остаться равнодушной к судьбе художницы и попросила работников Полтавского дома народного творчества помочь ей в организации выставки. И в 1940 г. в Полтаве состоялась первая персональная выставка Е. Билокур. Именно с этого события начались для художницы счастливые перемены в жизни. Ее картины демонстрировались в Киеве, Москве. Успех окрылил и укрепил веру художницы в свои творческие силы. Екатерина едет в Киев и Москву, чтобы «увидеть настоящие картины настоящих художников». Вдохновленная увиденным в Третьяковской галерее и в Галерее изящных искусств, в музее Ленина и в Музее западных искусств Билокур создает целую серию великолепных композиций. К сожалению, все произведения, экспонировавшиеся на персональной выставке в Полтавском краеведческом музее в 1941 г., погибли во время войны. Два года, проведенных на оккупированной фашистами территории, были самыми тяжелыми в жизни Екатерины Билокур. Творчески она почти не работала. За это время выполнила только несколько полотен – «Цветы» и «Цветы вечером» (1942 г.), а «Лилии», начатые в 1942 г., закончила в конце 1943 г. После освобождения Богдановки Билокур снова принимается за любимое дело и создает композиции «Буйная», «Декоративные цветы» (1945 г.), «Привет урожаю» (1946 г.) и «Царь Колос». Последняя с еще двумя картинами была включена в экспозицию советского искусства на Международной выставке в Париже в 1954 г. Среди восторженных посетителей был и Пабло Пикассо, который воскликнул: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы заставили бы заговорить о ней весь мир!» К сожалению, едва ли не самая лучшая, по общему мнению, и загадочная картина мастерицы – «Царь Колос» – исчезла вместе с другими работами Екатерины Васильевны после демонстрации их на парижской выставке. Известный украинский искусствовед С.А. Таранушенко, близко знавший Е. Билокур, считал, что «Царь Колос» не только самое совершенное произведение среди созданного художницей, но и «эпохальное явление в украинском изобразительном искусстве… я не знаю лучшего произведения в наследии Билокур, нежели это».
В 1949 г. Екатерина Билокур была принята в Союз художников Украины, в 1951 г. получила звание заслуженного деятеля искусств УССР, а в 1956 г. – народного художника УССР. Наконец ее признали тем, кем она так давно и страстно желала быть: «Спасибо вам от всего сердца за то, что вы поздравляете меня со званием народного художника. Художник! Какое это великое слово! Оно – как прекрасная музыка звучит!»
В последние годы жизни художница тяжело болела – давали знать о себе тяготы тогдашней сельской жизни, неустроенность в личной жизни, длительная болезнь матери. Но Екатерина Васильевна находила силы не только ухаживать за старой матерью, но и плодотворно работать. Тогда ею были созданы чудные картины «Пионы» (1959 г.), «Букет цветов» (1959 г.), «Цветы и овощи» (1959 г.), «Натюрморт» (1960 г.) и др. Она по-прежнему рисовала то, что больше всего любила…
Умерла «богдановская волшебница» 10 июня 1961 г., лишь на несколько дней пережив мать. Односельчане похоронили Екатерину Васильевну Билокур в центре села. На ее могиле был установлен памятник – гранитный бюст художницы на высоком постаменте. В 1977 г. в доме, где она жила, открыли музей-усадьбу.
Казалось, Бог дал ей все – необычайный художественный талант, тонкую чуткую душу, удивительную женскую красоту… Но та среда, в которой провела свою жизнь эта женщина, словно специально была предназначена для того, чтобы испепелить то, чем она обладала. «Обида у меня на природу, что так жестоко со мной обошлась, наделив меня такой огромной любовью к этому святому рисованию, а потом отняла все возможности, чтобы я творила во всю ширь моего таланта!» – с болью писала в автобиографии художница. Окружавшая Екатерину Васильевну реальная жизнь была совершенно несовместима с ее представлениями о мире гармонии, красоты, любви и света. Здесь нельзя не вспомнить слова критика А. Рожена, который сказал о Е. Билокур: «…Разве могла чувствовать себя уютно в жестоком двадцатом веке женщина, которая всерьез просила людей… не рвать цветы, ибо каждый сорванный цветок – искалеченная женская судьба. Она не жаловалась. Она была безмерно благодарна за то, что ей давали краски для рисования…»
Бойчук Михаил Львович (род. в 1882 г. – ум. в 1939 г.)
Известный украинский художник-монументалист, один из основателей и профессор Украинской академии искусств (1917-1922 гг.) и Киевского художественного института (1924-1936 гг.), создатель первой в мире школы монументализма – «бойчукизма». Необоснованно репрессированный, реабилитирован посмертно.
Жизненный путь Михаила Бойчука в точности повторяет тысячи судеб представителей «Расстрелянного Возрождения». Он рос и мечтал, учился и учил, создавал бессмертные произведения, любил своих друзей, был предан своей земле. Стоили ли варвары, уничтожившие сначала неповинного художника, а затем и его работы, похоронившие память о нем на многие десятилетия, такой простой вдохновенной жизни – трудный вопрос. Но то, что земля, взращивающая подобных людей, стоила ее, как и многих других, – ответ однозначный.
Михаил родился 30 октября 1882 г. в селе Гнилая Рутка Тернопольской области – территория эта тогда входила в состав Австро-Венгрии. Сам он вспоминает о детстве своем довольно скупо: «Имеем там, на Теребовелыцине, как бы до сих пор княжескую культуру, предъевропейскую на чисто национальной почве. Обряды играют главную роль в сельской жизни: коляды, щедровки и так далее. Я вырос под их влиянием, влюбленным в пение. Больше всего духовных богатств я заимствовал из этого». Окончив народную школу и не имея ни гроша за душой, 16-летний Михаил уехал во Львов. Средневековая красота города поразила его, и гордый, жизнерадостный молодой человек, уверенный в своих силах, сумел поступить в промышленную школу, где и был замечен его неординарный талант. Сын бедного крестьянина уже с первых дней своих занятий попал под опеку президиума Научного общества им. Т. Шевченко, а позже – известного мецената и коллекционера митрополита А. Шептицкого.
Благодаря таким влиятельным покровителям Бойчук получил великолепное образование в Европе: сначала во Львове у художника Ю. Панькевича, затем в рисовальной школе в Вене (1899 г.), в Краковской академии изящных искусств (окончил в 1904 г. с серебряной медалью) и совершенствовал свое мастерство в Мюнхене у Марра. В 1908-1911 гг. он жил и работал в Париже в академии Рансон, в мастерской П. Серюзье. Бойчук пропустил через себя невиданный поток стилевых форм: от культуры давних эпох – египтян, ассирийцев, эллинов, одухотворенных византийцев – до самых новых достижений модерна (импрессионизм, сецессия, экспрессионизм, кубизм, синтетизм и клуазонизм) – и каждой из них в бытность учеником отдал должное. Но как художника его больше привлекали лаконичность, прочность композиционных решений и колористическая сила, присущая кисти Николая Рериха. Бойчук обратился и к жизненным истокам украинского искусства. Доклад «Украинское древнее искусство», с которым он выступил в Париже в 1909 г. на собрании им же основанного Украинского общества, показал, что художник окончательно и бесповоротно склонился к течению монументализма. После нескольких выставок своих картин в «столице искусств» (Осенний салон, 1909 г.; Салон независимых, 1910 г.) Михаил Львович получил широкое признание как художник-новатор. Он часто общался с такими мастерами Франции, как Дерен, Пикассо, Брак, был знаком с Д. Риверой, который впоследствии стал основателем мексиканской школы монументализма.
Эрудированный, наделенный даром убеждать и вести за собой, Бойчук сплотил в своей мастерской земляков и единомышленников, тем самым заложив основы будущей школы. Парижское братство украинско-польских художников мечтало о возрождении «великого стиля», который Г. Аполлинер назвал «неовизантизмом», подчеркнув, что мастера этого направления, «так же, как и поэты, с легкостью могут тасовать столетия». Михаила Львовича ожидали в Европе почет и слава, но неожиданно для всех он вернулся во Львов, где расписывал часовни дьяковской бурсы и создал для нее большую монументальную икону «Тайная вечеря». Кроме того, Бойчук на два года стал настоящим лекарем для ценнейших икон XV и XVI вв., работая со своей школой в Национальном музее. Здесь к ученикам мастера присоединилась и его знакомая по Парижу, талантливая художница и ксилограф, полька по происхождению София Налепинская, которая не только вошла в состав группы, поддерживая идеи Бойчука, но впоследствии стала его женой и матерью их единственного сына.
Бойчук также исполнил роспись церкви в Ярославе (Польша), периодически работал в Киеве и на Черниговщине, где его привлекали памятки времен Киевской Руси. Во львовском доме М. Грушевского он познакомился с известным художником и архитектором В. Кричевским, который при содействии Русского археологического общества и А. Шептицкого пригласил мастера осуществить реставрационные работы в церкви XVII в. в с. Лемехи, что на Черниговщине в имении графов Разумовских. Эта работа продолжалась несколько лет. С 1914 г. в поездках Михаила Львовича сопровождал его талантливый младший брат Тимофей (1896-1922 гг.), который стремительно догнал в мастерстве своего единственного наставника и стал его вторым «Я». Они мыслили, чувствовали и видели мир одинаково, и в среде «бойчукистов» Тимку признали незаменимым «ассистентом» Михаила Львовича.
Первая мировая война остановила работу всей группы: братья Бойчуки, галичане по происхождению, но подданные Австро-Венгрии, были интернированы на Южный Урал, а затем в Арзамас. Эти скитания сильно подорвали здоровье младшего Тимки. В 26 лет он умер от туберкулеза легких в страшных мучениях.
С 1917 г. Михаил Львович обосновался в Киеве. Художник, призывавший к решительному обновлению национальной традиции и считавший монументальную живопись самым подходящим для этого видом искусства, стал одним из основателей и профессором Украинской государственной академии искусств. А в 1918 – 1919 гг. он, кроме преподавания в академии, занимал должность главного художественного руководителя государственных производственных мастерских.
Бойчука вдохновляла надежда на революционное возрождение национальной и духовной жизни Украины, но он не мог предвидеть до конца последствий социальных изменений. «Мы будем строить города, расписывать дома – мы должны творить Великое Искусство. Это наш творческий путь», – с воодушевлением звал за собой мастер своих студентов. Как отмечал его современник, искусствовед И. Выгнанец, «Бойчук со своими учениками за короткий промежуток времени вошел во все отрасли творческой жизни Украины: керамика, ткачество, ковроделие, печать (гравюра по дереву, книжная графика), скульптура, и даже украинский кукольный театр впервые был возрожден бойчукистами».
Возрождая украинское искусство, Бойчук стремился прежде всего возродить его моральные критерии, духовно-эмоциональную атмосферу. Дом Михаила Львовича, по свидетельству его учеников, был для них незабываемой творческой лабораторией, где их окружали «драгоценные образцы» народного искусства, проходили диспуты. Атмосфера была по-семейному теплой и приятной – вместе праздновали Рождество и Пасху, в мастерской звучали старинные украинские песни и зажигательные гуцульские танцы. Как в старых иконописных школах, ученики осваивали все этапы творческого процесса – от изготовления красок до общей работы над фресковыми композициями. «Начинающий художник должен воспитываться в процессе работы под руководством мастера, используя материал, овладевая значением линий и форм. Он должен постепенно знакомиться со свойствами материалов и со стихийными законами форм», – отмечал Бойчук.
Пионер монументализма, блестящий педагог и теоретик, он объединил вокруг себя группу молодых художников, куда входили И. Падалка, В. Седляр, О. Павленко, В. Кутинская, С. Налепинская-Бойчук, И. Жданко, Г. Синица, К. Гвоздик, Н. Рокицкий и другие. Самобытно преобразуя приемы средневековых, раннеренессансных и фольклорных настенных росписей, его школа с 1927 г. предопределила программу «Ассоциации революционного искусства Украины». В духе модерна представлены в творчестве Михаила Львовича «вечные темы» – материнство, труд, человек и земля на фоне социальных бурь. Среди важнейших коллективных работ Бойчука с учениками – фрески в Луцких казармах (1919 г., 14 больших тематических полотен) и Кооперативном институте в Киеве (1922-1923 гг.), росписи павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве и декорации к постановкам Л. Курбаса. «Произведения скупы, почти аскетичны в своих средствах выразительности, но за их мнимой скромностью стоят бездонная глубина содержания и большая внутренняя сила. В благородных линиях очертаний видны традиции Востока, Византии, иконописи. В безупречности ритмов, изысканности образов есть отзвук художественной среды Парижа, в которой творили особенно близкие Бойчуку А. Дерен и А. Модильяни. Но какими бы зримыми и ощутимыми ни были истоки и аналогии, он создал такой органически ценный сплав, который станет в дальнейшем его самобытной творческой манерой, откроет возможности нового пути возрождения украинского искусства, который состоял в синтетизме, в создании величественных монументальных ансамблей». Так оценивают наследие Бойчука Л. Ковальская и Н. Присталенко.
Незабываемой страницей деятельности школы Бойчука было восстановление производства керамики в Межигорье. В 1921 г. за этот титанический труд взялись некоторые из его учеников. «Самоотверженные рыцари голодного Ренессанса» установили оборудование, разработали технологию, наладили изготовление изделий. Со временем Межигорский керамический техникум превратился в высшее учебное заведение, которое по высокому уровню квалификации выпускников сравнивали с прославленным немецким Баухаузом. В начале 1930-х гг., когда широко развернулась кампания преследования национальных культур, работу учебно-производственного комплекса прекратили.
Но Бойчук, в первую очередь, оставался самым выдающимся монументалистом своего времени. Лучшей из его работ стала роспись Крестьянского санатория на побережье Хаджибеевского лимана под Одессой (1927-1929 гг.). Первый в отечественном искусстве художественно-архитектурный ансамбль представлял собой 600 кв. м фресок. Классическая простота живописи, высокая пластическая культура и совершенное мастерство поставили его в ряд лучших творений монументального искусства эпохи. Коллеги-художники называли ансамбль «чудом XX столетия». Крестьяне же, окруженные теплым, золотистым колоритом фресок, говорили: «Хорошо, как в церкви».
Художник работал и с малыми живописными полотнами. Из сохранившихся наиболее известны: «Женщина спит», «Возле буфета», «Крестьянская семья», «Женщины у яблони», «Рабочий и работница», портреты М. Грушевского, Б. Лепкого и, конечно, «Возле яблони». Это произведение выражает осевую мысль всех «бойчукистов» о сути родового дерева, сходную с сентенцией Г. Сковороды: «Не учи яблоню родить яблоки, уже сама природа ее научила. Загороди ее лишь от свиней, срежь будяки, прочисти от гусениц». Это размышление касается как воспитания личности, так и всего народа и его культуры.
Последней работой школы Бойчука стали росписи в Червонозаводском театре в Харькове (1933-1935 гг.). Даже отмеченные определенным компромиссом с новым режимом, они были восприняты как проявление «буржуазного национализма». Четыре фрески размером от 20 до 40 кв. м – «Праздник урожая в колхозе» (М. Бойчук), «Отдых» (И. Падалка), «Индустриализация» (В. Седляр), «Физкультура и спорт» (О. Павленко) – были для учителя и его лучших воспитанников шансом сохранить свои жизни после начатых с 1928 г. гонений на группу. Эскизы многократно пересматривались и утверждались «товарищами» Затонским, Хвылей, Постышевым, Косиором. В результате над счастливыми лицами колхозников появились портреты вождей.
Но ни вынужденное соглашательство, ни заступничество Н. Скрыпника не спасли Михаила Львовича. В 1936 г. мастер и некоторые его ученики стали жертвами сталинского «большого террора». Все созданные ими росписи были варварски уничтожены, а понятие «бойчукизм» долгое время официально считалось бранным словом. 13 июля 1937 г. в одном из лагерей ГУЛАГа (по другим сведениям – в Октябрьском дворце в Киеве) были расстреляны профессор Михаил Бойчук и его ученики Иван Падалка и Василий Седляр.
Ныне искусство Бойчука и его последователей изучается по старым фотоснимкам, а также по немногим станковым работам мастера, которые сохранились благодаря личному мужеству друзей и ценителей его мастерства. Доброе имя и творчество необоснованно репрессированного художника вернул из небытия историк и книговед С. Билокинь 12 декабря 1987 г. на «реабилитационном» вечере Союза художников Украины. Но и загубленная жизнь создателя первой в мире школы монументализма, и его «расстрелянные» произведения остались несмываемым пятном на совести варваров тоталитарного режима.
Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (род. в 1870 г. – ум. в 1905 г.)
Крупнейший русский живописец и график, создатель монументально-декоративной системы в живописи. Член французского Национального общества изящных искусств (1905 г.), обладатель Поленовской премии за картины «Гобелен» и «Водоем» (1902 г.).
«Художник всегда одинок – если это художник». Эти слова известного американского писателя Генри Миллера в полной мере можно отнести к жизни и творчеству Виктора Борисова-Мусатова. Для него, ставшего с детских лет калекой, одиночество было единственным уделом, источником мучительных раздумий и грез о недоступных человеческих радостях. В нем и в природе родного Поволжья он черпал свои силы и вдохновение. Все его картины – плоды одиноких размышлений, душевных эмоций и впечатлений, поиска вечной гармонии в слиянии человека с природой. «Я нашел себе свой мир… И ничто уже меня не может выбить из моей колеи, – писал художник. – Человек носит свое счастье в себе самом. Я его имею и верю, что в нем не разочаруюсь до конца». Эта вера и созданный им удивительный живописный мир грез и фантазий помогли Борисову-Мусатову не только выстоять в жизненной борьбе, но и стать творцом особого, небывалого до того в русской живописи вида пейзажа – декоративного пленэра.
Внешне жизнь художника была лишена каких-то больших событий. Но по своей внутренней напряженности, творческому накалу, результатам огромной работы она далеко превосходила те жесткие границы, которые были отведены ему судьбой. Как бы предчувствуя свой короткий век, он говорил: «Я должен быстро сгореть. И через несколько лет меня здесь больше не будет». Особенно интенсивно работавший в 1904-1905 гг. художник признавал, что «в эти два года я прожил десять лет жизни и, верно, успел состариться…»
Виктор Борисов-Мусатов родился в провинциальном Саратове в скромной мещанской семье. Его отец, Эльпидифор Борисович Мусатов (его вторая фамилия стала производной от отчества), был сыном мельника. Освоив премудрости счетоводства, он добросовестно служил бухгалтером в управлении железной дороги. От отца будущему художнику передались воля, упорство и аккуратность во всем, а от матери, Евдокии Гавриловны Колесовой, – мягкость характера, впечатлительность, мечтательность и любовь к природе. От нее же и деда по материнской линии – гжатского мастера-золотопечатника – он унаследовал и художественные наклонности. Впоследствии в одном из писем молодой Мусатов писал о себе: «Во мне кровь плебейская, но душа принца».
Виктор был вторым ребенком в семье (пятеро детей, появившихся до него, за исключением дочери Агриппины, не выжили). Поэтому родители особенно радовались этому веселому и непоседливому малышу. Но одна из его шалостей закончилась большой бедой: в три года заигравшийся мальчик упал с каменной скамьи и ушиб позвоночник. Вскоре у него появились боли в спине и начал расти горб. Мучительные операции, которые ему пришлось перенести не один раз, лишь на время облегчали его физические страдания, но исправить увечье уже не могли. Оно на всю жизнь отделило его от сверстников. И хотя Мусатов по-прежнему оставался жизнерадостным и открытым человеком, в его душе навсегда поселились склонность к одиночеству, стремление уйти от действительности в вымышленный мир фантазий, которые стали для него броней от всяческих зол. Один из современников, саратовский писатель А.М. Федоров писал о художнике: «Он мог бы стать стройным и сильным, как и другие. Он знал это и, однако, никогда не жаловался, не злился на жизнь, обошедшуюся с ним чересчур жестоко…» Во многом это стало возможным благодаря искусству. Недаром Мусатов впоследствии признавался: «Когда меня пугает жизнь – я отдыхаю в искусстве».
В детские годы будущий художник любил уединяться на пустынном Зеленом острове под Саратовом: «В детстве он был для меня чуть ли не «таинственный остров», – писал он в своем дневнике. – Я знал только один ближайший его берег… Там никто не мешал мне делать первые, робкие опыты с палитрой».
В 1884 г. мальчика отдали в Саратовское реальное училище. Учеба мало его интересовала: по всем предметам у него были двойки «с дробями», и только по рисованию – единственная пятерка. Видя большую художественную одаренность ученика, его учителя – сначала Ф.А. Васильев, а потом В.В. Коновалов – настоятельно советовали ему учиться живописи в столице. И в 1890 г. Мусатов поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
В Москву начинающий художник привез свои первые работы, одна из которых – этюд с изображением плотины у дедовой мельницы, представленная им на ученической выставке, – к немалому удивлению самого автора, сразу же была продана за 20 рублей. Окрыленный успехом юноша с удвоенным старанием взялся за учебу. Но удовлетворения от занятий не получал и через год поступил в Петербургскую академию художеств. Здесь, в дополнение к занятиям, он посещает частную мастерскую профессора П.П. Чистякова. Этот замечательный педагог, которого одни считали чудаком, а другие – мудрецом, многое дал своему талантливому ученику. Его система обучения, помимо уроков рисунка и живописи, включала нравственное воспитание художников. Большое внимание он уделял и технике живописи, говоря им о том, что «без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту…»
Но в 1893 г., после второй операции, Борисов-Мусатов вынужден был из-за сырого петербургского климата вернуться в Москву. Здесь, на ученической выставке, он представил пять своих работ, ставших результатом его учебы у Чистякова. Все они были отмечены выдающимся мастером пейзажа В.Д. Поленовым, а написанная в 1894 г. картина «Майские цветы» приобретена Ее Высочеством Елизаветой Федоровной. Сделанные на пленэре полотна были наполнены светом и движением. Особенно отчетливо это проявилось в «Майских цветах», где изображены играющие среди цветущего сада две девочки. Характеризуя картину, один из исследователей творчества художника Я. Тугендхольд писал: «Мусатова привлекали не девочки на фоне яблонь, но и девочки и яблони, одинаково ставшие майскими цветами, красочными арабесками, весенними пятнами. Это и есть подход к миру – декоративный». Сам же художник в это время делает для себя важное открытие: «Весь мир кажется мне разложенным на спектр. Любуясь им, я слепну от разнообразия красок».
Но официальная критика сразу же записала молодого художника в число «декадентов», усмотрев в его работах влияние импрессионизма. Действительно, Борисов-Мусатов в то время был увлечен живописью французского художника Ж. Бастьен-Лепажа, отличавшейся, как и у импрессионистов, непосредственностью в передаче воздуха и света.
После окончания академии художник очень хотел продолжить свое образование во Франции, но из-за тяжелого материального положения семьи после смерти отца смог сделать это только в 1895 г. В Париже он много занимается рисунком в мастерской исторического живописца Фернана Кормона. Но не меньшую роль в совершенствовании мастерства художника играет посещение Лувра, где он восхищается картинами Боттичелли, видного мастера монументально-декоративной живописи Пюви де Шаванна и постимпрессионистов, особенно Ван Гога и Гогена. Позднее он скажет об этих посещениях: «Мои художественные горизонты расширились, многое, о чем я мечтал, я увидел уже сделанным, таким образом я получил возможность грезить глубже, идти дальше в своих работах». Помимо ежедневных занятий у Кормона, художник много пишет «для себя», показывая свои работы только друзьям. Не все из них смогли тогда по достоинству оценить художественные поиски молодого Мусатова. К примеру, И. Грабарь после просмотра его парижских работ писал: «Мусатовские рисунки на меня произвели довольно гнусное впечатление. Его этюды с последнего лета все синие-пресиние и какими-то запятыми…» Но даже консервативный Кормон, увидев картины своего ученика на выставке, хоть и удивился им, но вместе с тем отметил хороший колорит и чувство ансамбля, сказав: «У этого маленького русского – хороший глаз!..»
В 1897 г. у художника вновь обострился воспалительный процесс в позвоночнике, и с помощью друзей его прооперировали во французской клинике. Затем последовало лечение на юге Франции, где Борисов-Мусатов, несмотря ни на что, продолжал работать над этюдами. И. Грабарь писал ему: «Знаем, что вы пишете солнце – вашего единственного натурщика – и при этом сильно страдаете глазами от сильного света».
Но как ни интересно было художнику во Франции, в средоточии культурной жизни Европы, он рвется домой, «туда, где меньше людей, где все проще и чище». И в 1898 г. он возвращается в Россию. Начинается последний, наиболее плодотворный период жизни художника, когда он все увиденное и наработанное воплощает в серии работ, передающих его собственное, поэтическое видение мира и человека. И первой среди них становится картина «Автопортрет с сестрой» (1898 г.). На ней впервые появляется образ задумчивой и простой «мусатовской девушки», ставший типичным для всех его полотен. Ее отвлеченно-поэтический облик, полный «мелодии грусти старинной», не связан с какой-то определенной исторической эпохой. По словам художника, он является воплощением просто «красивой» эпохи и отражает движения человеческой души, стремящейся слиться с природой. Этому же служит и сказочный, с фантастическими растениями лес, изображенный на заднем плане картины. Интересно, что когда художника спросили о том, где он мог увидеть такой лес, тот ответил: «В своем саду. Я писал его с точки зрения мыши… Я лег ничком на землю, и все вдруг начало казаться мне огромным и фантастическим…»
Поясняя замысел этой картины, Борисов-Мусатов говорил: «…Я решил написать просто портрет… моей единственной натурщицы вместе с собой… Тут не важен стиль, нужна красота». Ей служит все – и облик юной сестры, и белое старинное платье, сшитое по заказу художника его матерью, и нежные розы на мраморной крышке столика, и пейзаж. Автор считал, что «женщина в кринолине менее чувственна, более женственна и более похожа на кусты и деревья». Отсюда, а не от ностальгии по минувшему, эта любовь Борисова-Мусатова к старинным нарядам.
Что же касается своего автопортрета, то художник дает его сбоку, как бы «срезая» краем холста, в манере, близкой импрессионистам. В нем сочетается гордая независимость человека, смотрящего вперед, с романтическим восприятием нового прекрасного мира. Два образа картины – художник и его модель – словно ведут между собою неторопливый и задушевный диалог.
Автопортрет был интересен и новым подходом к технике живописи: впервые отказавшись от масляных красок, Борисов-Мусатов написал его темперой, которая создает ровный масляный тон без блеска, напоминающий ковровые ткани. Используя этот прием в своих последних работах, он добьется той пленительной декоративности письма, которая будет отличать его полотна и в сочетании с нежной гаммой голубых, синих, зеленых и бледно-фиолетовых тонов позволит создать свой неповторимый живописный мир.
Однако эти искания художника были встречены неодобрительно. Критики называли его картины «дикими», относя их «к чистой патологии творчества», называя «парижскими модами» и оригинальничаньем. Во многих статьях о нем писали неприязненно: «Его еще помнят учеником нашей старой академии, где ему не удалось порядочно научиться рисовать с гипсов, и вот, «убоявшись бездны премудрости», он несколько лет провел в Париже, «довершая» свое художественное образование. Теперь он вернулся и разразился целой серией синих картин, в которых ни один мудрый философ не доискался бы до смысла…» Именно так были восприняты официальной критикой лучшие творения Борисова-Мусатова – «Осенний мотив» (1899 г.), «Гармония» (1900 г.), «Весна» (1901 г.), «Гобелен» (1901 г.), «Водоем» (1902 г.) и «Изумрудное ожерелье» (1904 г.).
Между тем и «Гобелен», и «Водоем» стали самыми цельными по композиции, настроению и технике исполнения картинами художника. Они были написаны в самый счастливый период его жизни, когда, наконец, сбылась надежда Виктора Эльпидифоровича на семейное счастье. Мечтательный, жизнерадостный и общительный, несмотря на свое несчастье, он не раз влюблялся, но взаимных чувств не вызывал. Такой безответной была его любовь к учительнице Анне Воротынской и Ольге Григорьевне Корнеевой. Мучаясь от неразделенного чувства, он горько признавался: «В жизни, конечно, я всегда буду только безнадежно влюбленным, но чтобы… стараться внушить к себе какое-нибудь сожаление – ни за что, хоть бы оно было от ангела». Иногда он впадал в отчаяние: «…Боль в моем сердце разрастается все больше… Мне слезы застилают свет луны. Мне каждый уголок сада, каждый майский день и вечер твердят, что я здесь лишний…»
И все же судьба улыбнулась ему. Его подругой стала художница Елена Владимировна Александрова, которая полюбилась ему еще в годы совместной учебы в Московском училище. Они поженились в 1903 г., а накануне художник начал работу над «Гобеленом». На этом полотне, созданном в живописном Зубриловском парке (поместье князей Прозоровских-Голицыных), изображены две женские фигуры – невесты и сестры художника. Написанные мягкими приглушенными красками образы девушек и окружающий их пейзаж создают ощущение прекрасного видения, миража. Этому способствует и техника исполнения картины, придающая ей сходство с «вышитым блеклым шелком гобеленом». Передающая тонкость человеческих отношений и поэтическую красоту мира, эта работа Борисова-Мусатова была отмечена первой премией на выставке Московского товарищества художников, в которое он вступил еще в 1899 г.
Но подлинной вершиной творчества художника стала картина «Водоем». Здесь живопись как бы сливается с музыкой, поэзией и гармонией природы. В обликах двух задумчивых, как бы завороженных неразгаданной тайной бытия женщин, в замкнутом пространстве водоема, отражающего небо и словно опрокинутые в водную гладь деревья, звучит тихая симфония мироздания. В ней органично соединились три зеркальные бездны: глубина неба, глубина водоема и глубина человеческой души. Картина полна неизъяснимой грусти и очарования. Ее музыкальный ритм создают красочные блики бледно-лиловых, голубых, синих, ярко-зеленых и желтых тонов. Произведение монументально и в то же время глубоко лирично, окрашено личными чувствами автора. Работая над ним, Борисов-Мусатов писал будущей жене: «Эту картину я напишу или сейчас, или никогда… Ведь после начнется другая жизнь. Все меня захватит, вероятно, в другой форме. И я хочу, чтобы слава этой картины… была твоим свадебным подарком».
И слава действительно пришла к художнику. «Водоем» полностью изменил отношение к нему столичных художников, критиков и зрителей, признавших картину шедевром русской живописной школы. Сам Борисов-Мусатов после нее обрел уверенность в себе, в своих творческих поисках. Продолжением ее стала многофигурная композиция «Изумрудное ожерелье». Персонажи ее словно движутся на фоне переливов зелени, составляя живой орнамент из женских фигур, листьев и трав. Центральный образ картины, прототипом которого послужила Н.Ю. Станюкович, близкий друг художника, является как бы средоточием композиции, указывающим путь от покоя к движению. Это произведение стало самым «земным» и жизнеутверждающим в творчестве художника.
Вскоре после свадьбы Борисов-Мусатов переезжает с семьей в Подольск, поближе к столице. Последние годы его жизни заполнены непрестанной работой. Он создает свои лучшие пейзажи – «На балконе. Таруса», «Куст орешника», «Осенняя песнь» (все в 1905 г.), занимается монументальной живописью (эскизы к декоративным росписям). Искусство Борисова-Мусатова находит признание не только в России, но и за рубежом. Выставки его работ организовываются в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Дрездене и Париже, где он был избран членом французского Национального общества изящных искусств.
Художник полон новых творческих планов, радуется рождению дочери Мариамны, общению с друзьями и учениками. Но времени для исполнения задуманного у него уже не было. В ночь на 26 октября 1905 г. Борисов-Мусатов скоропостижно скончался, успев завершить лишь большую акварельную работу «Реквием» – дань безвременно ушедшей Н.Ю. Станюкович. Впоследствии муж ее, известный писатель В. Станюкович, напишет о художнике: «Он умер, оставив нам тихие образы, и над его величавыми созданиями тихо несется время… но они остаются. У времени и у них одно общее – вечность. Валы времени унесут, полыхая, его имя в даль веков, падая в темные глубины и снова вынося на гордые гребни».
И как бы перекликаясь с этой оценкой современника, в наши дни искусствоведы назовут Борисова-Мусатова художником, который «умел пространство подчинить плоскости, а время – своему воображению».
Боровиковский Владимир Лукич Настоящее имя – Владимир Лукич Боровик (род. в 1757 г. – ум. в 1825 г.)
Выдающийся русский художник-сентименталист, мастер портретного жанра. Академик живописи (1795 г.), советник Петербургской академии художеств (1802 г.).
Утвердившаяся в начале XVIII в. светская живопись произвела решительный перелом в развитии русского искусства, определив для художников новый круг тем и образов. На ведущее место среди других жанров, особенно во второй половине века, выдвинулся парадный и интимный портрет. К ряду блестящих мастеров, развивших этот жанр (И. Никитин, А. Матвеев, И. Аргунов, А. Антропов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий), принадлежит и имя талантливого, своеобразного художника В.Л. Боровиковского. Работавший на рубеже веков, он внес в русское портретное искусство внимательное отношение к миру человеческих чувств и элегическое настроение, столь характерное для процветающего символизма.
Владимир родился 24 июля 1757 г. в небольшом украинском городке Миргороде. Его отец, Лука Боровик, принадлежал к местной казачьей старшине, владел домом и двумя небольшими участками земли. Следуя традиции, четверо его сыновей служили в Миргородском полку, но Владимир в чине поручика вышел в отставку и посвятил себя живописи. Отец, писавший иконы для сельских церквей, обучил иконописи детей, и династия Боровиков славилась в местной художественной артели. Икона «Богоматерь с Христом» и образ «Царя Давида» (обе 1785 г.) свидетельствовали, что молодой художник хорошо усвоил приемы религиозной живописи. Его полуремесленный портрет «Полковник Руденко», напоминающий старинную парсуну, запечатлел коренастого казака в кафтане со старательно выписанным лицом. По этой работе еще трудно догадаться, что Боровик через несколько лет станет признанным художником-портретистом.
Судьбу Владимира Лукича в корне изменили две аллегории, выполненные для украшения кременчугского дворца. К этой работе его привлек друг, поэт В.В. Капнист (который был сослан за смелые произведения из Петербурга на родную Украину), как предводитель дворянства Киевской губернии, составлявший проекты «потемкинских деревень» для торжественных встреч Екатерины II. Картины понравились императрице и польстили ее самолюбию. На одной из них был изображен Петр I в облике землепашца и Екатерина II, засевающая поле, а на другой – императрица в облике Минервы в окружении мудрецов Древней Греции. Царская похвала открыла Боровику дорогу в Петербург (где он сменил фамилию на Боровиковский), куда он и отправился с Капнистом в сентябре 1788 г.
В Академию художеств 30-летний живописец поступить уже не мог и потому получал частные уроки у своего прославленного земляка Д.Г. Левицкого, а с 1772 г. – у австрийского портретиста И.Б. Лампи, а также копировал лучшие образцы европейской живописи и работы своих наставников. От своих учителей он перенял блестящую технику, легкость письма, композиционное мастерство и умение польстить портретируемому. В кружке известного архитектора, поэта и музыканта Н.А. Львова, в доме которого он прожил десять лет, Боровиковский оказался среди видных деятелей художественной России, проникаясь идеями символизма. Новое течение было созвучно спокойному, элегически настроенному художнику, на простой образ жизни которого не повлияли ни слава, ни деньги. Владимир Лукич был всецело поглощен искусством, и его мастерство быстро оценили заказчики. К 1790 г. он стал одним из самых знаменитых художников-портретистов, в 1795 г. получил звание академика, а семь лет спустя стал советником Академии художеств.
Блестящими образцами виртуозного владения кистью и всеми средствами парадного изображения стали в творчестве Боровиковского портреты Г.Р. Державина (1795 г., 1811 г.). На них художник запечатлел энергичного державного мужа, сенатора, члена Российской академии и прославленного поэта – человека, увлеченного общественными делами, просветительскими идеалами и творчеством. Живописец пишет великого сына России с предельным уважением и с дружеским расположением. Парадные портреты Д.П. Трощинского (между 1793-1796 гг.; 1819 г.) словно служат наглядными иллюстрациями к словам современников о том, что статс-секретарь Екатерины II всегда «казался старее» своего возраста и «имел вид несколько угрюмый, друзьям был друг, а врагам – враг». Судьба человека, служившего писарем в Миргородском полку и ставшего министром и членом Государственного совета, его нелегкий характер, угрюмая настойчивость и гордое сознание крупного чиновника, добившегося высокого положения своим умом и волей, ярко читается в созданных образах. Но напряженно-торжественная поза второго портрета и прекрасно написанное лицо не скрывают жизненного разочарования и обиды. Возможно, эти черты Боровиковский сумел подметить только благодаря многолетнему знакомству и дружбе со своим земляком Трощинским, который на протяжении долгих лет был меценатом художника.
В «Портрете Ф.А. Боровского» (1799 г.) живописец представил еще бравого генерал-майора в парадной форме со всеми регалиями. Но ни решительный поворот головы, ни заслуженные награды, ни храбрость, написанная на лице, не скрывают от зрителя недалекий ум и ограниченность героя суворовских времен. А вот психологический образ опального персидского властителя Муртазы-Кули-Хана (1796 г.), привыкшего скрывать свои чувства, художник словно и не пытается раскрыть, ставя перед собой чисто живописные задачи. Только выражение грусти и напыщенности оживляют его экзотический облик. Красочность и изысканность цветовой гаммы придают величавой позе принца торжественность и монументальность. А роскошное восточное одеяние, сочетающее атлас, сафьян, меха и драгоценности, превращает портрет Муртазы-Кули-Хана в один из лучших образцов парадного портрета в русском искусстве.
Исполняя заказной портрет А.Б. Куракина – ближайшего сподвижника императора Павла I, – Боровиковский вспоминал слова своего учителя Д. Левицкого: «Нам приходится портретировать не только тех, кого мы уважаем, кто пришелся нам по сердцу. Вот вам мой совет: обращайтесь к принципу натюрморта. Предметы многое могут поведать о тех, кому они принадлежат…» И художник виртуозно превращает его образ в сверкающий драгоценностями, атрибутами власти и званий «натюрморт». «Бриллиантовый князь», прозванный Державиным «павлином», на огромном портрете изображен напыщенным опытным царедворцем, хитрым и изворотливым интриганом.
Наряду с образами знатных дворян Боровиковский исполнял и многочисленные заказы царской семьи. Среди лучших – «Портрет Павла I» (1800 г.) и картина-портрет «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» (середина 1790-х гг.). Поза императрицы при всей простоте сохраняет величавость, а лицо умной пожилой женщины полно важности и снисходительной доброжелательности.
К несомненным достижениям художника относится проникнутый особым лиризмом и интимностью миниатюрный «Портрет В.В. Капниста» (начало 1790-х гг.), а также небольшие овальные портреты, написанные маслом на металлических пластинках. Один из них – парный – запечатлел дворовых девушек Львова – Лизоньку и Дашеньку (1794 г.). Молодые грациозные девушки, превосходные плясуньи, одеты и причесаны по моде дворянского круга, словно «барышни-крестьянки». Идиллическое настроение «нежной и чистой дружбы» Боровиковский подчеркивает светлыми тонами, мягкой живописной манерой, тонкой моделировкой нежных и обаятельных лиц. Образ праздничной приподнятости, душевной чистоты и скромности создает художник в «Портрете торжковской крестьянки Христиньи» (около 1795 г.).
Все женские портреты, в которые Боровиковский вложил свою нерастраченную нежность, стали вершиной его искусства. Он любуется юностью, воспевает красоту и создает для своих сентиментально-печальных образов особую манеру письма: мягкие переливы приглушенных тонов, живописную гладкость, «фарфоровость», перламутровость. В незабываемых женских портретах воплотилась гармония мягкой и лиричной натуры самого художника («Портрет О.К. Филипповой», 1790 г.; «Портрет Скобеевой», вторая половина 1790-х гг.). Наиболее выразителен образ Екатерины Николаевны Арсеньевой (середина 1790-х гг.). Задорный огонек проблескивает в ее чуть раскосых глазах, кокетливо вздернута головка в «пастушеской» соломенной шляпке, мягкие округлые черты миловидного лица, шаловливая полуулыбка юности красноречиво свидетельствуют о легком, жизнерадостном характере и неподдельном веселье молоденькой девушки.
Сентиментален и лиричен сдвоенный портрет сестер Гагариных (около 1795 г.), объединенных общим настроением «нежной мечтательности» и любовью к музыке: младшая играет на гитаре и смотрит в нотный лист, который держит старшая сестра. Изящные позы, живые глаза, нежные овалы юных лиц, тонкие переливы серебристо-серых, фиолетово-розовых и голубых тонов, приветливая природа – все говорит о том, что эти славные девушки могут жить только в мире, полном искренности, незлобивости и доброты. Изысканная ярко-красная гитара не вносит диссонанс, а лишь подчеркивает светлые образы сестер.
Для прекрасных женских образов Боровиковский создал определенный стиль портрета: поясное изображение, погруженная в задумчивость фигура, опирающаяся рукой на какую-либо подставку, а фоном для томного изгиба тела в легкой светлой одежде служит тихий пейзаж. Но как индивидуальны черты его героинь и как дивно хороша каждая! Не случайно изысканно-изящный портрет Марии Ивановны Лопухиной (1797 г.) вызвал поэтический отклик. Я. Полонский сентиментально грустит о быстротечности жизни, любви и счастья и склоняется перед мастерством художника, сумевшего навечно воплотить на полотне свою мечту о красоте и гармонии человека, подернув легкой печалью привлекательный образ.
«…Но красоту ее Боровиковский спас, Так часть души ее от нас не улетела, И будет этот взгляд и эта прелесть тела К ней равнодушное потомство привлекать, Уча его любить, страдать, прощать, молчать».Никого не оставляют равнодушным будто высеченное из мрамора лицо, точеная шея и «этот взгляд», полный «привлекательной печали». Нежная трепетная девушка тихо грустит на фоне светлых берез в голубоватой мгле. Размытые контуры, плавные линии, тончайшие нюансы цвета, перламутровые переливы светотеней создают полный лирического очарования облик Лопухиной – высочайший образец сентиментализма в искусстве.
К 1810 г. в творчестве Боровиковского наметился поворот к романтическому направлению («Портрет М.Н. Долгорукой», начало 1810-х гг.). Но в душе одинокого художника поселились усталость и равнодушие. Он тосковал по родине, предоставлял свой дом приехавшим в Петербург землякам и оказывал им помощь. Замкнутый, не любящий шума и суеты Боровиковский не преподавал в академии и не открыл свою школу, хотя известно, что у него всегда жили ученики. Кисти одного из них, И.В. Бугаевского-Благодарного, принадлежит портрет Владимира Лукича, а А.Г. Венецианов, будущий «отец бытовой живописи», написал первую биографию своего учителя.
Владимиру Лукичу тяжело жилось в разрыве со своими мечтами, воображением и поистине грустной действительностью. Добровольное отшельничество художника все больше принимало болезненный характер. Он мучился от несправедливости, которую наблюдал вокруг. Лекарство от нее искал и в масонской ложе «Умирающий сфинкс», и в филантропии, и конечно же, в искусстве. Всегда склонный к религиозности (иконостас церкви Смоленского кладбища, иконы для Казанского собора) Боровиковский в 1819 г. увлекся мистицизмом, сектантством и вступил в «Духовный союз». Но и здесь его ждало горькое разочарование – отсутствие искренности и показуха. Редкие заказные портреты того времени исполнены сухо и прозаически жестко, их краски поблекли. Словно что-то надломилось в человеке: веру он стал соединять с выпивками и покаяниями. Только отцовские гусли, под тихий перебор которых он пел украинские песни, иногда оживляли художника. 6 апреля 1825 г. В.Л. Боровиковский внезапно скончался от разрыва сердца. Похоронен он был на Смоленском кладбище. Ушел из жизни тончайший поэт сентиментального женского образа, но величайшие образцы его мастерства открыли дорогу творческим достижениям художников романтизма.
Брюллов Карл Павлович (род. в 1799 г. – ум. в 1852 г.)
Выдающийся русский исторический живописец, портретист, пейзажист, автор монументальных росписей. Обладатель почетных наград: больших золотых медалей за картины «Явление Аврааму трех Ангелов у дуба Мамврийского» (1821 г.) и «Последний день Помпеи» (1834 г.); ордена Анны III степени. Член Миланской и Пармской академий, Академии Святого Луки в Риме, профессор Петербургской и Флорентийской академий художеств, почетный вольный сообщник Парижской академии искусств.
«Мою жизнь можно уподобить свече, которую жгли с двух концов и посередине держали калеными щипцами…» – скажет в конце творческого пути с горечью и разочарованием Великий Карл – гений русской живописи и бесконечно усталый и разочарованный человек.
В семье академика орнаментальной скульптуры П.И. Брюлло все семеро детей обладали художественными талантами. Пятеро сыновей: Федор, Александр, Карл, Павел и Иван стали художниками. Но слава, выпавшая на долю Карла, затмила успехи других братьев. Между тем он рос слабым и тщедушным ребенком, семь лет практически не вставал с постели и был истощен золотухой настолько, что «стал предметом отвращения для своих родителей». Павел Иванович мог оставить немощного сына без завтрака, если тот не выполнил домашнего задания по рисованию. Карл брал пример с трудолюбивого отца, но боялся его, особенно после полученной за ослушание оплеухи, после которой он оглох на левое ухо. Мальчик очень любил рисовать, казалось, карандаш стал продолжением его руки. В 10 лет Карла приняли в Петербургскую академию художеств, в стенах которой он провел 12 лет.
Благодаря природной одаренности и урокам отца, юный талант опережал своих сверстников, и ему многое прощалось за успехи в обучении. Карл мог свалить на золотуху приступы «Фебрис Притворялис», чтобы в лазарете писать портреты своих друзей. В его детских и юношеских работах чувствовалась бьющая через край жизненная сила и темперамент, и от него с «самого детства все ожидали чего-то небывалого». Карл оправдает надежды, но всю жизнь будет выходить за рамки дозволенного.
Академические работы юного художника: «Улисс и Навзикая», «Нарцисс», «Александр I спасает больного крестьянина», «Гений искусства», «Эдип и Антигона» и панорамное полотно «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» были не просто образцами высокого классицизма, он наполнил их, насколько это было дозволено, реальными деталями. Карл закончил академию с «целой пригоршней» золотых и серебряных медалей, но, продемонстрировав свою независимость, отказался остаться в ее стенах на пенсионерский срок для совершенствования мастерства.
В 1819 г. Карл поселяется в мастерской брата Александра, работающего на строительстве Исаакиевского собора помощником Монферрана. Его дни заполнены рисованием заказных портретов. Так совпало, что заказчикам П. Кикину и А. Дмитриеву-Мамонову понравились портреты, выполненные Брюлло, и что именно они, эти заказчики, потом вошли в совет Общества поощрения художников. Создав по их просьбе картины «Эдип и Антигона» и «Раскаяние Полиника», Карл заслужил пенсионерскую поездку для себя и брата в Италию на четыре года. Перед отъездом с Высочайшего повеления братья изменили фамилию предков, добавив букву «въ» – теперь они стали Брюлловы. С легкой душой уезжал Карл из дома летом 1822 г., но он тогда не мог знать, что вернется в Россию только через 13 лет и не увидит больше ни родителей, ни младших братьев.
В музеях Италии юный художник изучает живопись прошлых веков и впитывает впечатления от увиденного. Покоренный грандиозной «Афинской школой» Рафаэля, Карл на протяжении четырех лет работает над ее копией, поразив в итоге всех своим мастерством. «Брюллов в ней не только сохранил все краски подлинника, но отыскал, или, лучше сказать, разгадал и то, что похитило у него время», – писали «Отечественные записки». Общество поощрения художников было довольно проделанной работой своего пенсионера. Но именно тогда Карл «убедился в ненужности манер» и подражания и решил, что обязательно создаст свое монументальное произведение.
Приступы жестокой лихорадки и нервное напряжение валили его с ног, но кипучая и неугомонная натура не знала меры ни в чем. Активная светская жизнь, многочисленные новые знакомства не помешали Брюллову за годы, проведенные в Италии, создать огромное количество разнообразных произведений. Только из одних портретных работ можно было бы составить целую галерею. Это портреты художников и архитекторов: С. Щедрина, Тона, Горностаева, Мейера, Бруни, Басина; писателей и общественных деятелей: братьев Тургеневых, князя Лопухина, графа Виельгорского; итальянской интеллигенции: Ф. Персиаки, Д. Капечелатре, Д. Гверцци, Д. Паста, Ч. Баруцци; русской знати: А. Демидова, великой княгини Елены Павловны, графини Орловой; близких сердцу людей: семьи князя Г. Гагарина, З. Волконской, полковника Львова, брата Александра. Среди них много портретов-картин, которые глубже раскрывали не только внешность и темперамент, но и внутренний мир современников художника.
Брюллов честно пытался «отработать» свое пенсионерство, начиная по заказам Общества поощрения художников картины «Эрминия у пастухов» (1824 г.), «Сатир и вакханка», «Вакханалия», «Диана и Актеон» (1827 г.), «Вирсавия» (1832 г.), но завершил только одну – «Дафнис и Хлоя». Античные и библейские темы не были ему близки. На этих полотнах он «нарабатывал» колорит, создавал свои характерные приемы, изучал обнаженную модель, но по-настоящему работал только над созданием жанровых сцен из итальянской жизни.
«Итальянское утро» (1824 г.) пленило всех (Николай I подарил эту картину императрице). На полотне, пронизанном солнечными лучами и рефлексами отблесков от воды, изображена юная девушка, олицетворяющая собой утро начинающегося дня и жизни. Для картины «Итальянский полдень» (1827 г.) Брюллов выбрал моделью невысокую, плотную, налитую соком, как виноградная гроздь, женщину, которая, покоряя обаянием и безудержной радостью бытия, символизирует расцвет человеческих сил. И хотя ему «выговаривают» за «неизящную натуру», именно модели такого типа станут его излюбленными. «Эти смоляные, тяжелые волосы, эти блестящие глаза и зубы – все эти черты, немного крупные вблизи, но с неподражаемым отпечатком величия, простоты и какой-то дикой грации…» – напишет И.С. Тургенев о красавицах Брюллова.
И такую же статную, уверенную и независимую женщину встретил Карл в 1827 г. на одном из приемов. Графиня Юлия Павловна Самойлова стала для него художественным идеалом, ближайшим другом и единственной любовью. Ее красота была равна идущей из сердца доброте. Брюллов с упоением писал ее портреты. Особенно хороша Юлия в портрете-картине с Джованиной Паччини и арапчонком (1832-1834 гг.), а также в конном портрете «Всадница» (1832 г.). Фигура графини господствует на этих полотнах – величавая, грациозная, покоряющая торжествующей красотой, молодой силой и своенравностью. Все остальные персонажи и пейзаж также выписаны виртуозно и реально, до мельчайших деталей и с необычайно богатой градацией цвета.
Вместе с Самойловой Карл отправляется осматривать развалины Помпеи и Геркуланума, даже не подозревая, что эта поездка приведет его к самой вершине творчества. Брюллов был потрясен увиденным – знание о трагедии не смогло затмить остроты восприятия. Художник почувствовал, что нигде больше не найти такой поразительной картины внезапно прервавшейся жизни. Жители древней Помпеи своей гибелью заслужили бессмертие.
Брюллов еще не раз возвращался в разрушенный город, перед его мысленным взором вставала картина, на которой слепая стихия не просто отнимала человеческие жизни, но и обнажала души. Три года он собирал материал. Отрывок из воспоминаний Плиния лег в основу композиции: «Мужчины, женщины и дети оглашали воздух воплями безнадежности и жалобами, причем кто звал отца, кто сына, кто отыскивал затерявшуюся жену; тот оплакивал собственное несчастье, другой трепетал за друзей и родных, нашлись люди, призывавшие на помощь смерть из опасения умереть! Некоторые громко кощунствовали, утверждая, что богов уже нет нигде, что настала последняя ночь Вселенной!» Главными героями на картине стали те, кто в минуту смерти думал о других. В одной из групп Брюллов изобразил самого Плиния, спасающего мать. Художник побывал в археологических музеях и на раскопках, чтобы каждый написанный на полотне предмет соответствовал эпохе. Были созданы десятки эскизов композиции, прежде чем в 1830 г. мастер приступил к большому полотну. Постепенно на бездушном холсте проявилась картина гибели Помпеи, которая стала символом гибели античного мира.
Черный мрак навис над землей, кровавое зарево пылало у горизонта, вздрагивала земля, рушились здания, тьму разрывала ужасная молния, освещая то, как в ослепленных страхом людях проявляется истинная ценность человеческих душ. Корыстолюбец, умирая, думает о наживе, сыновья выносят на руках старика отца; юноша, забыв об угрозе, оплакивает смерть любимой; вера в милосердного Бога ставит на колени мать и дочь, не помышляющих о бегстве. Среди испуганной толпы, замерев, стоит художник с этюдником на голове (в нем Брюллов изобразил себя), ловящий все оттенки трагедии. В лицах некоторых фигур узнаются черты современников, а в девушке с кувшином и в матери семейной группы – Юлии Самойловой. Все фигуры в картине поражают скульптурной объемностью и пластикой, кажется, их можно обойти кругом. Колорит резок, «краски горят и мечутся в глаза, дышат внутренней музыкой». В этой работе художник слил воедино тенденции классицизма, пылкость романтизма и черты новой, только зарождающейся школы реализма. И хотя падающие колонны парят в воздухе, пепел не испачкал ни одежд, ни лиц, не видно увечий и крови, впечатление от картины потрясает. «Один он со своими сочинениями совершенно дотрагивается до сердца, без чего что такое историческая живопись», – сказал о своем восприятии А. Иванов.
Картина «Последний день Помпеи» (1827-1833 гг.) стала пиком творческих достижений, единым всплеском яркого таланта и виртуозного мастерства художника. Толпы зрителей в Риме, Милане, Париже (золотая медаль 1834 г.) и Петербурге были заворожены грандиозностью замысла и исполнения. Полотно была подарено заказчиком Анатолем Демидовым царю Николаю I.
Побывав на выставке своей картины в Париже, Брюллов возвращается в Италию, но не находит в себе сил работать. Он начинал один холст за другим, но не оканчивал их, чувствуя усталость. Даже изумительный портрет певицы Джудит Паста так и остался незавершенным. Карл Павлович понимал, что «загостился в чужих домах», но и в Россию возвращаться не хотелось. Художник с радостью примкнул к экспедиции В.П. Давыдова (1835 г.) на Ионические острова и в Малую Азию. В путешествии по Греции он создает подкупающие живым взволнованным чувством работы («Утро в греческой деревне Мирака», «Вид Акарнании», «Развалины храма Зевса в Олимпии», «Долина Дельфийская», «Раненый грек» и другие). После этого художник отправился в Турцию, но осенью 1835 г. по строгому предписанию царя был вынужден вернуться в Россию, чтобы занять должность профессора в Академии художеств.
Жизнь в мрачной атмосфере чиновничьего Петербурга угнетала Брюллова. Царь требовал писать портреты императорской семьи, но художник находил причины и не исполнял работу. Все поражались той дерзости, с какой он позволял себе относиться к самым высокопоставленным особам. Брюллов шел на любой риск, чтобы отстоять свою творческую независимость. «Свободный артист» чувствовал себя в свете уверенно, заставив всех уважать себя.
Все ученики академии мечтали попасть в класс Великого Карла. Он открыл двери своей домашней мастерской для Мокрицкого, Агина, Чистякова, Шевченко, которого помог выкупить из неволи и поселил у себя, Федотова, чей талант спустя годы признает выше своего.
Тесная дружба с Пушкиным, Жуковским, Кукольником согревала его сердце. Но друзей среди художников у него не было. «Он вырвался вперед, обогнал своих современников, – писал Н. Ге, – и жестоко расплачивался за это одиночеством».
В его мастерскую «стояла очередь» за портретом от Великого Карла. В петербургский период их было написано около восьмидесяти. Среди них – портреты В. Перовского, Е. Салтыковой, Н. Кукольника, И. Крылова, А. Струговщикова, В. Жуковского, сестер Шишмаревых и Трофимовых, П. Виардо, князя А. Голицына, графа В. Мусина-Пушкина, А.К. Толстого, Е. Семеновой, А. Брюллова – яркая портретная галерея русской интеллигенции конца 30-40-х гг. Придерживаясь в своем творчестве романтического стиля, Брюллов сумел передать всю сложность человеческой натуры и создать неповторимые индивидуальные образы.
Многочисленные друзья и знакомые зазывали его на приемы и балы. Да и сам Карл любил шумное общество, но в личной жизни он был одинок. Красавица Юлия жила за границей, в Москве подрастал сын Алексей (о матери известно только имя – Елизавета). Все мимолетные связи оставили в душе горечь и разочарование. Карл ждал свою «парную душу».
Любовь пришла к художнику в 40 лет. Он познакомился с очень одаренной пианисткой, ученицей Шопена Эмилией Тимм, дочерью рижского бургомистра. С портрета работы Брюллова смотрит утонченно красивая девушка, от которой веет юной свежестью. Но у Эмилии было горькое прошлое. За внешней чистотой скрывалась грязная связь с родным отцом, и в этом грехе она честно призналась Карлу. Художник был ослеплен любовью и жалостью и решил, что его искренние чувства все одолеют. Они обвенчались. Через два месяца, пройдя через бесконечные притязания отца Эмилии, через грязь, выплеснувшуюся на публику, и скандал в обществе, с Высочайшего позволения 21 декабря 1839 г. этот брак был расторгнут по причине разности в возрасте и «нервной возбудимости» художника. Эмилия оставила Брюллову только боль и страдания.
Между тем в Россию в блеске своей красоты и веселья вернулась графиня Самойлова и вновь закружила Карла в вихре светской жизни. Воспрянув духом, он создает ее парадный портрет-картину «Графиня Ю.П. Самойлова, удаляющаяся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини» (1839 г.). Для себя Брюллов решил: «Моя жена – художества», – и продолжал напряженную работу.
Но в 1847 г. тяжелая простуда, ревматизм и больное сердце на семь долгих месяцев приковали художника к постели. Он вспоминал свою жизнь и испытывал горькое разочарование в творчестве, видел, сколько замыслов остались не воплощенными: не разрешили по уже готовым эскизам расписать Пулковскую обсерваторию, построенную по проекту брата Александра, не доверили внутреннее оформление Зимнего дворца после пожара. Четыре года он работал над росписями Исаакиевского собора, но из-за болезни по его картонам работу закончит другой художник. Но самым большим разочарованием Брюллова было то, что он, признанный исторический живописец, не создал ни одного масштабного полотна на материале русской истории. Свой поединок с картиной «Осада Пскова» (1836-1843 гг.) он проиграл. Вначале вмешивался в работу царь, потом художник писал портреты, да к тому же он, по сути, и не знал простого русского народа. И без слов Солнцева: «Крестный ход превосходен; но где же осада Пскова?» – Брюллов знал, что не смог справиться с поставленной задачей.
Великий Карл чувствовал, что он уже не первый, не лучший, что он остался в стороне от дороги, по которой уходило вперед новое поколение художников-реалистов.
27 апреля 1849 г. по настоятельному совету врачей Брюллов навсегда уезжает из России. Лечение на острове Мадейра облегчения не приносило. Художник продолжал работать. Портреты герцога М. Лейхтенбергского, князя А. Багратиона, князя Мещерского, семьи Титтони пополнили галерею его лучших работ, как и большие, но изящные пейзажные акварели. Удовлетворения от работы художник не получал, он раскаивался в том, что слишком поздно понял: нельзя одновременно отдавать себя творчеству и наслаждаться суетой жизни. Последние работы, «Летящее время» и «Всеразрушающее время», по своему замыслу безысходно трагичны – время быстротечно, и власть его всесильна.
Весной 1852 г. Брюллов вместе с семьей Титтони переезжает в Манциану. Там 23 июня 1852 г. неумолимое время остановилось для него. Художник был похоронен на кладбище Монте Тестаччо в Риме. Более 150 лет отделяют нас от его творений, но по-прежнему вздрагивает сердце при взгляде на «Последний день Помпеи» и жизнь бьет ключом в «Итальянском полдне».
Васильев Федор Александрович (род. в 1850 г. – ум. в 1873 г.)
Талантливый русский художник-пейзажист. Создатель более сотни живописных работ и множества рисунков. Участник выставок в Петербурге (1867, 1868, 1871-1873 гг.) и Москве (1872 г.), всемирных выставок в Лондоне (1872 г.) и Вене (1873 г.).
«Нет у нас пейзажиста – поэта в настоящем смысле этого слова, и если кто может и должен им быть, то это только Васильев», – говорил о художнике его современник И. Крамской. «Гениальный мальчик» – такое определение чаще других встречается в оценке творчества Федора Васильева. Подвижный, остроумный, необычайно обаятельный, он казался всем, кто видел его впервые, родившимся в сорочке. Что-то напоминающее Моцарта или молодого Пушкина было в натуре Васильева, солнечной и артистичной. И. Крамской постоянно восхищался необыкновенной талантливостью юноши, сравнивая его с «баснословным богачом, который при этом щедр сказочно и бросает свои сокровища полной горстью направо, налево, не считая и даже не ценя их».
Одаренность Федора Васильева, его увлечение музыкой, интеллектуальные способности, яркость и живость характера, умение сострадать перешли к нему от отца – по-своему талантливого человека, которому волею судеб не суждено было раскрыться. Чиновник департамента сельского хозяйства Александр Васильевич Васильев, живший вне церковного брака с Ольгой Емельяновной Полынцевой, считался родственниками «человеком несостоятельным». Думается, это было не так. Проступало в этом «маленьком человеке» что-то «человечески ценное, но погубленное жизнью».
Федор родился в Гатчине. На первом году жизни он переехал с родителями в Петербург. Детство его прошло на 17-й линии Васильевского острова, в одноэтажном низеньком домике, где царила беспросветная нужда. В ноябре 1852 г. отец был определен на службу в почтамт, где и прослужил 12 лет. К этому времени в семье было уже четверо детей: помимо старшей сестры Евгении и самого Федора – два младших братишки, Александр и Роман.
Так как жалованья отца едва хватало для такой семьи, уже с двенадцати лет мальчик начал сам зарабатывать на жизнь – был писцом, рассыльным на почтамте, работал у реставратора картин И.К. Соколова. Через год Федор поступил в вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художников, позволявшую совмещать занятия с заработком. Первые рисунки, исполненные в школе, были перерисовками с так называемых «оригиналов». Они выполнены тщательно, но поверхностно.
В 1865 г. в Обуховской больнице скончался отец, оставив семью в безденежье. И пятнадцатилетний мальчик фактически стал главой семьи. Ему пришлось проявить настоящую самоотверженность, чтобы в таких условиях продолжать занятия искусством. Но призвание было слишком сильным, и юный художник идет по единственно возможному для него пути.
В 1866 г. судьба свела Федора Васильева с И.И. Шишкиным, тогда уже признанным мастером живописи. Иван Иванович привел юношу в Артель художников, где тот «поразил, и неприятно» И.И. Крамского. «Его манеры были самоуверенны, бесцеремонны и почти нахальны… – так вспоминал о Васильеве человек, с которым в дальнейшем его свяжет крепкая дружба. – Замечу, что первое впечатление быстро изгладилось, так как все это было чрезвычайно наивно… и я должен сознаться, что часто он приводил меня просто в восторг и свежестью чувств, и меткостью суждений, и беспредельной откровенностью своего умственного механизма…»
Одетый со щегольской элегантностью, в лимонных перчатках, с блестящим цилиндром на коротко подстриженных волосах, сыплющий остротами, умеющий, как вспоминал И.Е. Репин, «кстати вклеить французское, латинское или смешное немецкое словечко» и даже к случаю сыграть на рояле какую-нибудь вещицу, появлялся этот крепыш-весельчак на артельных четвергах и поражал всех своей щедро брызжущей талантливостью. Такую же характеристику давал молодому художнику и Крамской: «Он не принадлежал к числу тех спокойных натур, которые покорно переносят свое неважное положение; ему нужны были средства принца, чтобы он не жаловался на жизнь, но страсти его имели характер мало материальный. Это были страсти духа».
Васильев, мальчик по годам, оказался человеком совершенно сложившимся, с твердыми воззрениями на жизнь и искусство. А то, что некоторые принимали за легкомыслие – любовь к обществу, нарядам, успеху, – было порождением все того же бурлящего жизнелюбия. Оказалось, что он – человек гораздо более сложный, чем представлялось на первый взгляд. Были в нем и болезненное самолюбие, и желание скрыть свою бедность, а более всего – трепетная любовь к искусству.
Простота, прямота И.И. Шишкина, его работы, близкие по настроению, притягивали Федора. Тот же, оценив способности живой, кипучей натуры гениального юноши, которому явно многого не хватало в художественном развитии, вызвался быть его наставником, и в начале июня 1867 г. взял с собой на Валаам, на этюды.
Могучая красота дикой, первозданной природы захватила молодого живописца, да и работа на природе не шла ни в какое сравнение с копированием «оригиналов» в рисовальной школе. Именно здесь, на Валааме, рядом с Шишкиным нарождался тот художник, тот гениальный Васильев, в котором, по мнению И.Н. Крамского, «русская пейзажная живопись едва не получила осуществления всех своих стремлений». Здесь происходило становление его художественной зрелости, укрепление веры в свои силы и возможности.
В Петербург он вернулся глубокой осенью, а зимой вместе с работами И.И. Шишкина на выставке Общества поощрения художников был показан и этюд Васильева «Валаам. Камни». Однако самой поразительной работой этого года стал этюд «После дождя», изображающий петербургскую улицу, омытую летним дождем. Молодой пейзажист не заботился о «правильном» архитектурном рисунке, зато сумел передать и характер петербургских домов, и простор улиц, и влажность воздуха над невидимой, но явно близкой Невой, и будничную жизнь города.
В 1867 г. Васильев окончил рисовальную школу, и с этого времени вся его биография была почти исключительно биографией художника. Творчество становилось не только главной, но, можно сказать, единственной целью и содержанием жизни. Как-то неожиданно, почти внезапно вошел он на равных в число ведущих художников того времени и за два-три года достиг таких успехов, на завоевание которых у других уходила иногда вся жизнь.
Трудился Васильев самозабвенно, делая бесконечные этюды и зарисовки, пытливо изучая природу. В рисовании и живописи с натуры, как замечал Крамской, он почти сразу угадывал, что не существенно, а с чего следует начать, «…будто живет в другой раз и что ему остается что-то давно забытое только припомнить».
Лето 1868 г. Васильев провел вместе с Шишкиным в Константиновке под Петербургом. Они занимались изучением в этюдах различных по форме облаков. И.Е. Репин, навестив однажды дом Васильевых, был ошеломлен, увидев на рисунке дивно вылепленные облака и то, как они освещены.
В том же 1868 г. старшая сестра Федора Евгения Александровна становится женой Ивана Ивановича Шишкина. Отныне художники связаны не только духовными, но и родственными узами.
Федор работал с какой-то ненасытной жадностью. Картины появлялись одна за другой: «У водопоя», «Перед грозой», «Близ Красного села». За последнюю он получил первую премию на конкурсе Общества поощрения художников. Ранее оторванный от природы, не всегда понимающий ее, Васильев теперь словно прозревал.
В начале июня следующего года известный покровитель искусств граф П.С. Строганов пригласил молодого художника на лето в Тамбовскую губернию, в свое степное имение Знаменское. «Если бы ты видела, Женя, степь, – писал Федор сестре. – Я до того полюбил ее, что не могу надуматься о ней». В сентябре Васильев вместе с семьей Строганова переехал на Украину, в графское имение Хотень под Сумами. Там он увидел и могучие дубравы, и романтические уголки со старыми водяными мельницами у зарастающих прудов, и пирамидальные тополя. Ярких же красок, света, солнца здесь было еще больше, чем в тамбовских степях, и именно хотеньские впечатления легли в основу его будущих изображений русской природы «по памяти».
Когда в 1870 г. И.Е. Репин начинал работать над картиной о бурлаках, Васильев уговорил его отправиться летом на Волгу, где тогда так часто можно было встретить бурлацкие ватаги. С ними поехали художник Е.К. Макаров и младший брат Репина музыкант В.Е. Репин. На Волге компания провела все лето, с жаром работая над зарисовками и этюдами. «Он поражал нас на каждой мало-мальски интересной остановке, – вспоминает Репин о Васильеве, – …его тонко заостренный карандаш с быстротой машинной швейной иглы черкал по маленькому листку его карманного альбомчика и обрисовывал верно и впечатлительно цельную картину крутого берега… Пароход трогался, маг захлопывал альбомчик, который привычно нырял в его боковой карман…» С этого времени в работах Васильева неоднократно появляется тема Волги, а в пейзаж все ощутимее входит человек, не столько как действующее лицо, сколько как «лирический герой», определяющий настроение картины.
Интересно, что в Русском музее на одном из листов, принадлежащих художнику, есть набросок, очень близкий к композиции первоначального эскиза «Бурлаков» Репина. Так что можно сказать, что к созданию этой картины был немного причастен и Федор Александрович.
В начале 1871 г. в течение одного месяца Васильев пишет «Оттепель», по-настоящему «взрослую» картину, где светлая юношеская любовь к жизни впервые соединилась с глубоким и грустным раздумьем. Заснеженные просторы России без конца и края под хмурым облачным небом. Разъезженная дорога, сырые проталины, ржаво-коричневые пятна кустов. Две одинокие фигурки усталых путников еще больше усиливают тревожное, тягостное настроение. Все написано с дивной простотой: сырой воздух, размокший снег, убогая изба, дорога, уводящая в бесконечную даль, и просится сравнение с протяжной и горестной русской песней. Увидев «Оттепель», Шишкин сказал: «О! Он скоро превзошел меня, своего учителя…» На конкурсе, устроенном Обществом поощрения художников, картина получила первую премию. А Крамской сказал: «…ваша теперешняя картина меня раздавила окончательно. Я увидел, как надо писать».
«Оттепель» нелегко далась Васильеву. Зимой он сильно простыл на катке и, не оправившись толком от простуды, поехал с таким же шальным, как и сам, дружком, учеником академии Кудрявцевым «перекрикивать» Иматру – шумный водопад в Финляндии среди голых скал и заснеженных лесов. Друзья становились по обе его стороны и перекликались до хрипоты наперекор стихии. Вскоре Федора одолел кашель, но заняться собой было некогда: наступала пора оттепели, а он должен был подглядеть ее всю – день за днем, шаг за шагом. Оттепель была увидена, запечатлена, и тут обнаружились первые грозные признаки туберкулеза. Двадцать один год – излюбленный возраст этой болезни.
Лишь весенние месяцы 1871 г. довелось Васильеву провести в Петербурге, среди друзей-художников, в горячих спорах об искусстве и напряженной работе в мастерских накануне Первой передвижной выставки. За это время он успел написать для будущего императора Александра III повторение «Оттепели», купленной П.М. Третьяковым. Но это была не просто копия собственной картины, а возможность творческой доработки темы. Повторение картины было отправлено через год на Всемирную выставку в Лондон и получило высокую оценку английских критиков.
В 1871 г. Васильев снова навестил Хотень и провел там три месяца. А в июле он вынужден был уехать в Крым, где поселился в Ялте в надежде на благотворное влияние климата. Общество поощрения художников дало ему средства на эту поездку. Но еще до отъезда Федор Александрович был зачислен вольноопределяющимся учеником Академии художеств и получил звание художника I степени.
Жизнь в Ялте была трудной. Безуспешные хлопоты о документах, которые определили бы его общественное положение (как незаконнорожденного), забота о матери и любимом младшем брате Романе и, конечно, все обостряющаяся болезнь требовали больших денег. Сторублевой ссуды, переводившейся ежемесячно Обществом поощрения художников под обеспечение картинами, не хватало, и Васильев вынужден был непрерывно работать ради хлеба.
Пышная красота Крыма долго не трогала художника. Он радовался теплу, солнцу, цветам в январе, но тосковал по волжским берегам, с волнением вспоминал о болотах и лугах, о роскошных дубравах Хотени. Когда художник был в силах работать, он возвращался к милым его сердцу родным «русским» мотивам. «Русской» была и картина «Мокрый луг», представленная на конкурс Общества поощрения художников в 1872 г. Написанная не с натуры, а сочиненная художником на основе зарисовок, сделанных в разных местах и в разное время, она поразила современников свежестью живописи, точностью воссоздания атмосферы и исходящим от нее ощущением неясной томительности. Художник изобразил омытый дождем мокрый луг под огромным небом, набухшие влагой облака, несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. Все в картине полно движения, все живет и дышит, особенно небо с его кипением и бурлением, с его игрой света и космической бесконечностью.
Увидев это полотно, Крамской был потрясен. По его словам, все в Васильеве «говорило о художнике, необыкновенно чутком к шуму и музыке природы» и способном не только передавать увиденное, но и улавливать «общий смысл предметов, их разговор между собой и их действительное значение в духовной жизни человека». На конкурсе «Мокрый луг» получил вторую премию.
Васильев жил долетавшими из далекого Петербурга отзвуками успеха его картины, мечтами о выздоровлении и, как всегда, был шутлив, изящен и «держал себя… всюду так, что не знающие его полагали, что он, по крайней мере, граф по крови». Но запас воспоминаний о России начинал постепенно иссякать вместе с надеждой на возвращение домой, щемящая грусть все более проступала в работах. Крымские пейзажи художника были проникнуты печальным раздумьем и чрезвычайно далеки от традиционных представлений о «южных красотах».
Кроме того, Васильев вынужден был принять заказы великого князя Владимира Александровича, пожелавшего иметь его пейзажи для подарка императрице. «Высочайшие» заказы оборачивались для художника тяжкой мукой, он через силу брался за «преглупейшие и преказеннейшие виды» царских владений. С огромным трудом Васильев пишет «Вид из Эриклика», но пейзажи осенних крымских гор, туманные леса, все то, что близко его душе северянина, увлекают его, и величие видов Крыма мало-помалу овладевает воображением. Им создается ряд небольших работ с изображением гор, то скрытых плотной завесой дождевых туч, то занесенных по склонам снегом. Но более всего его воображение по-прежнему занимают картины милого ему северного болота. «О болото, болото! Если бы Вы знали, как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия. Ну, ежели не удастся мне опять дышать этим привольем… ведь у меня возьмут все, все, если возьмут это. Ведь я, как художник, потеряю больше половины!» – пишет он Крамскому. И рождаются полотна «Утро», «Болото в лесу. Осень» (осталась незаконченной), «Заброшенная мельница». Наряду с ними появляются также крымские виды: «Зима в Крыму», «Крым. После дождя», «Крымские горы зимой» и, наконец, последний шедевр Васильева, его лебединая песня и творческое завещание – «В Крымских горах», картина, еще раз представлявшая художника на конкурсе Общества поощрения и принесшая ему первую премию.
«Что-то туманное, почти мистическое, чарующее, точно не картина, а в ней какая-то симфония доходит до слуха оттуда, сверху…» – писал о ней Крамской. Эти бесконечные дали полупустынных гор, сливающихся с недвижными туманами облаков, рассеянный свет неяркого солнца, торжественная простота группы сосен над горной дорогой. Все в этом полотне зовет к раздумью, к постижению глубокого смысла природы, укрепляет веру в ее очищающее воздействие на душу.
В начале октября 1873 г. заведующий художественным отделом Петербургской публичной библиотеки В.В. Стасов получил письмо от Крамского. В нем писалось: «Многоуважаемый Владимир Васильевич, быть может, вы найдете уместным сообщить публике… об одном печальном обстоятельстве… 24 сентября, утром, умер от чахотки в Ялте 23 лет от роду пейзажист Федор Александрович Васильев… Не знаю, много ли будет у меня единомышленников, но я полагаю, что русская школа потеряла в нем гениального художника…»
Васильев был похоронен в Ялте, на Старомассандровском кладбище. Позже на месте, где находился дом, в котором он жил, установили бронзовый бюст.
Через три месяца после его смерти И.Н. Крамской, И.И. Шишкин и писатель Д.В. Григорович организовали в Обществе поощрения художников посмертную выставку работ Васильева. Главной ее целью была распродажа наследия покойного, которая позволила бы покрыть его долг обществу. Она была достигнута очень быстро. Большинство выставленных работ раскупили еще до открытия выставки, состоявшейся в начале января 1874 г. Несмотря на очень скромную оценку многих из них, вырученная сумма составила почти 6000 рублей, что позволило заплатить долги Васильева Обществу поощрения художников и П.М. Третьякову, а оставшиеся деньги передать матери живописца. Но ценность его творческого наследия была гораздо выше. Созданного Васильевым хватило на то, чтобы попасть в число самых выдающихся мастеров русской пейзажной живописи.
Васильковский Сергей Иванович (род. в 1854 г. – ум. в 1917 г.)
Известный украинский художник, мастер пейзажной, исторической, бытовой и портретной живописи. Обладатель золотой медали (1885 г.) и других наград Императорской Академии художеств. Автор более 3500 картин и зарисовок.
«Широкой, бесконечно долгой дорогой тянутся тяжелые чумацкие возы. Едва переступают с ноги на ногу уставшие волы. Выбившись из сил, плетутся чумаки, таща за собой круторогих. Им вроде бы безразлична красота живописных окраин: кучерявых деревьев и белых хат с одной стороны, широкого зеленого поля – с другой. Южное солнце аж исходит жарой. Сочувственно посматривают на чумаков встречные… Сжалившись над чумаками, суровый сторож баштана угощает их красными, сочными арбузами» (Н. Бесхутрый). Это сюжет одной из самых известных картин Сергея Васильковского «Чумацкий Ромодановский шлях». Вся она исполнена безыскусного реализма, как и другие полотна художника. Ведь сам он, отойдя от псевдоклассических традиций живописи своего времени, был художником-реалистом, а значит, писал так, как видел. Прожив почти всю свою жизнь в Малороссии, он и изображал свою родину: ее необъятные просторы, простых украинцев, их незамысловатый быт.
Родился Сергей 19 октября 1854 г. в городе Изюме, что на Харьковщине, в семье мелкого служащего. О самых ранних его годах, равно как и об отце с матерью, мало что известно. В 1861 г. семья переехала в Харьков, и уже получивший начальное образование мальчик поступил в 1-ю харьковскую гимназию. Но уже очень скоро родители перевели Сергея во 2-ю, славившуюся своими педагогами: в ней преподавали А. Потебня, И. Мечников, Н. Лысенко, В. Беклемишев, а уроки рисования вел талантливый украинский художник, ученик и последователь великого Карла Брюллова, Д.И. Безперчий, отличавшийся в своем творчестве глубокой психологической характеристикой и простотой. Он-то первым и заметил у гимназиста Сережи Васильковского, мучавшего своих одноклассников едкими точными карикатурами, большие способности. Безперчий дал Сергею первые серьезные уроки художественной грамоты. Именно под его влиянием мальчик начал систематически заниматься рисованием, посещать музеи, знакомясь с произведениями ведущих художников-реалистов, и бесповоротно полюбил живопись.
Учился Сергей легко и был в гимназии не из отстающих. Приятельские отношения связывали его с такими же будущими знаменитостями, как и он сам, а пока – соучениками: М. Ткаченко, А. Иваницким, П. Левченко. Но только с последним Васильковского до конца жизни соединила нерушимая мужская дружба. К их отношениям применима негласная людская мудрость: «противоположности притягиваются». И правда, нельзя было назвать похожими тихого и замкнутого Петю Левченко и вспыльчивого, страстного, вечно размахивающего руками и что-то доказывающего Сережу. Чего только стоила одна его проделка, когда учитель рисования, решив помочь ученикам немного подзаработать на каникулах, повез их в какое-то село «коностасить» – рисовать иконостас. Васильковский приметил около церкви одинокую кобылку и, не раздумывая особо, загрунтовал ей кожу и разрисовал так, что хозяин несчастного животного, увидев его, начал усиленно креститься – принял за нечистую силу.
А еще, кроме живописи, мальчик был очарован мелодичными украинскими народными песнями и думами, увлекался музыкой и пением. У Сергея был прекрасный голос, он умел играть на флейте, гармонике, на скрипке и бандуре, на гитаре, виолончели, мандолине. Юноша мечтал об Академии художеств и консерватории, но родители были против увлечений сына, и он стал студентом Харьковского ветеринарного института. Но судьба Васильковского была решена уже в детстве, а решающим фактором в ней стало посещение выставки передвижников, где он увидел полотна А. Саврасова, Н. Ге, И. Шишкина, А. Куинджи и других. В августе 1876 г. Сергей бросил институт на последнем курсе и, наперекор отцовской воле, поступил в Петербургскую академию художеств в класс пейзажной и одновременно батальной живописи.
Его соученик, М.С. Самокиш, говорил, что Васильковский «был исключительно одаренным человеком, с душой, чуткой ко всему прекрасному, тонкий художник, музыкант, чудесный рассказчик с дивным, чисто украинским юмором…» и добавлял: «У Сергея Михайловича была масса прекрасных этюдов с Украины, которые я рассматривал с огромным наслаждением. Он работал много и быстро». И уже в первых своих картинах Васильковский пытался уйти от экзотических и условных итальянских видов. «Вид Киева», «Юг», «Пахота в Малороссии» отличались ярким отображением родной природы, реализмом как пейзажа, так и народного быта, неся в себе эпическую силу и ясность. Несмотря на то что его работы резко отличались от академических требований, начинающий художник получал одну награду за другой.
Успехов Сергей Михайлович быстрее достиг в пейзажной живописи. Но он писал и батальные сцены («Бой запорожцев с татарами»), часто «заселял» свои картины людьми («Плотина Квитки-Основьяненко»). Бытовые и батальные сцены будут присутствовать почти во всех последующих работах Васильковского и станут отличительной чертой его картин.
Не получая никакой помощи от родителей, Васильковский устроился работать ретушером у фотографов. Но жизненные трудности не пугали молодого человека, и в 1885 г. он успешно окончил курс. Его выпускная картина «По Донцу» – «пейзаж с деревьями, фигурами людей и животных на первом плане» – была выполнена уже уверенной техникой. Сергей Михайлович сумел, развернув многоплановую, сложную композицию, придать ей неповторимую естественность, за что был удостоен звания художника первой ступени, Большой золотой медали и права на 4-летнюю пенсионерскую поездку за границу для повышения мастерства.
В 1886 г. художник отправился в Париж. Он, как и большинство российских живописцев того времени, отверг новаторские направления в искусстве (в частности – импрессионизм, которым увлекся его друг Левченко). Неутомимый весельчак и балагур отдал предпочтение тяготеющим к классике «тихим» барбизонцам. Ему так же нравилось изображать величавый восход солнца, спокойную утреннюю тишину, высокое небо, широкие просторы, объятые легким заревом… Во Франции Сергей Михайлович познакомился с известным украинским миниатюристом И. Похитоновым. Вместе с новым другом он ездил в Барбизон, на побережье Средиземного моря, в живописные места Бельгии и Англии. И на годичные академические выставки Васильковский регулярно слал работы, свидетельствующие о возросшем даровании («Пейзаж», «Охота на куропаток» и «Окрестности Хелоса, в Испании» – собственность Государыни Императрицы, «Дорога к морю», «В Пиренеях», «В Испании», «Алжир»). И все же эти произведения еще оставались суховатыми, словно художнику было тяжело дышать чужим воздухом.
И уже в мае 1988 г. Васильковский вернулся в Россию и остаток академического пенсионерства провел на Харьковщине. Картины о родной природе зазвучали ярким, радостным, сочным колоритом, наполненным богатством тонких оттенков («Запорожец на разведке», «Степь на Украине», «Казачий пикет», «На Харьковщине»). Эти работы привлекли к себе внимание петербургской прессы, критики называли их шедеврами. П.М. Третьяков одним из первых оценил творчество художника и приобрел три его картины, в том числе и украинский пейзаж «Остатки векового леса» (1898 г.). Но несмотря на все столичные чествования, Сергей Михайлович остался жить в Харькове и полностью посвятил себя живописи.
«Вольный казак», как в шутку называл себя Васильковский, так и не обзавелся семьей. Друзья подшучивали над ним: «Где уж Сергею найти время справить свадьбу? Даже семейное счастье прорисовал». В последнее десятилетие XIX века Сергей Михайлович создал лучшие свои картины, правдиво и глубоко отображающие родную природу: «Казачью леваду», «На пастбище», «Днепровские плавни», «Лунную ночь», «Украинскую ночь», «Зиму», «Весенний мотив», «Степь осенью». И почти во всех его полотнах присутствует небо – бездонно глубокое, прозрачное и нежное весеннее, впечатляющее богатством красок закатное и ночное, покрытое облаками, то легкими и воздушными, то тяжелыми предгрозовыми, – в изображении которого он достиг небывалых высот. Друзья называли Сергея Михайловича, среди работ которого было более сотни этюдов неба, «небесным», «солнечным» художником.
В своих пейзажах Васильковский изображал не только природу родной Украины, но и с любовью писал Москву, Петербург, Кавказ, Кубань, Крым. Помимо того, он был мастером бытовой, жанровой и исторической живописи. Под влиянием друга, известного ученого, историка, археолога, этнографа Д. Яворницкого, художник создал большую серию картин на исторические и этнографические темы. Это, прежде всего, «Запорожец на посту», «В запорожской степи», «Стычка запорожцев с татарами», «Казак и девушка», «Поход казаков», «В дозоре», «Стража запорожской вольницы». Колоритные, мощные фигуры запорожцев естественно вписываются в пейзажи родной земли, которую они защищали от врага. Правда, Репин упрекал Васильковского в том, что изображения казаков статичны.
Интерес Васильковского к украинской истории не ограничился только живописью. Вместе с Самокишем он собрал материалы о народном искусстве и истории Украины и издал их двумя альбомами – «Украинский орнамент» и «Из украинской старины». В последнем художник представил свои работы – портреты Б. Хмельницкого, И. Гонты, П. Сагайдачного, Г. Сковороды, а также рядовых казаков, мещан, кобзарей.
Самыми масштабными работами Сергея Михайловича стали монументальные картины для зала заседаний Полтавского земства: «Казак Голота», «Выборы полковника Мартина Пушкаря» и «Чумацкий Ромодановский шлях». Исполненные в 1902-1908 гг. с участием М. Самокиша, М. Беркоса и М. Уварова, они стали новым явлением в украинском изобразительном искусстве того времени: панно размером 1,5x2 м заменили настенную роспись. Эти картины, помимо художественной ценности, несут в себе огромное познавательное начало, достоверно изображая исторические события и их участников, и с огромной патриотической силой воплощают образы легендарных народных героев. И все это было создано в то время, когда все малороссийское предавалось жесточайшим гонениям.
Творческую деятельность Васильковский совмещал с общественной: объединил лучших художников-харьковчан в Художественно-архитектурном кружке, пытался, но из-за отсутствия средств не смог, открыть художественную школу, организовывал бесплатные выставки, пополнял харьковские музеи работами И. Шишкина, Г. Мясоедова, В. Верещагина, материально помогал способным студентам получить высшее образование. Даже резко пошатнувшееся здоровье не лишило его хорошего настроения и желания работать. П. Левченко беспокоился: «У Сергея астма, ему все хуже и хуже, а он, знай одно, рисует. И все время дышит красками». 7 октября 1917 г. Васильковский скончался. Всю свою громадную коллекцию картин он завещал в наследство родной Слобожанщине, чтобы основать с ее помощью Музей Слобожанщины.
Его картины, которые еще при жизни художника с огромным успехом экспонировались на выставках в Западной Европе, высоко ценятся по сей день. Серьезные коллекционеры, вкладывая большие деньги, приобретают полотна Васильковского, в которых по-прежнему теплятся «дрожащие огни печальных деревень».
Васнецов Виктор Михайлович (род. в 1848 г. – ум. в 1926 г.)
Выдающийся русский живописец-передвижник, автор героико-эпических и сказочных полотен, мастер монументальной живописи, театральных декораций, график, создатель ряда архитектурных проектов. Профессор, действительный член Петербургской академии художеств, обладатель ордена Почетного легиона (Франция).
«Я только Русью и жил». Эти слова художника характеризуют смысл и значение его творчества.
Имя Виктора Михайловича Васнецова – одно из самых известных и любимых среди имен русских художников. Его творческое наследие интересно и многогранно. Талант живописца проявился во всех областях изобразительного искусства. Картины бытового жанра – и поэтические полотна на сюжеты русских народных сказок, легенд, былин; иллюстрации к произведениям русских писателей – и эскизы театральных декораций; портретная живопись – и орнаментальное искусство; росписи на исторические сюжеты – и архитектурные проекты – таков творческий диапазон художника. Васнецова-архитектора с благодарностью вспоминают посетители Третьяковской галереи: по проекту художника был оформлен фасад этого изящного здания. Но главное, чем обогатил художник русское искусство, – это произведения, написанные на основе народного творчества.
Виктор Михайлович Васнецов родился в далеком вятском селе Лопьял. Его отец, Михаил Васильевич, священник, вскоре после рождения сына переселился в село Рябово. Мать, Аполлинария Ивановна, происходила из старинного рода Вятичей. На очень скромный доход отцу Васнецова приходилось кормить и учить шестерых детей. Мать умерла рано. Первое, что будущий художник запомнил на всю жизнь, был таинственный, размытый по комнате синеватый полумрак зимних сумерек и рассказы неведомых странников. «Думаю, не ошибусь, когда скажу, что сказки стряпухи и повествования бродячих людей заставили меня на всю жизнь полюбить настоящее и прошлое моего народа. Во многом они определили мой путь, дали направление моей будущей деятельности», – писал Васнецов. Другие впечатления, не менее сильные, получил Виктор от своей бабушки Ольги Александровны. В молодости она увлекалась живописью. У будущего художника дух захватывало от счастья, когда бабушка открывала крышку старого сундучка, где находились краски. Мальчик рано начал рисовать, но по традиции сыновья должны были идти по стопам отца, и Виктора в 1858 г. отдали в духовное училище, а вскоре перевели в Вятскую духовную семинарию. Решение стать художником у Васнецова укрепилось после встречи со ссыльным польским художником Э. Андриоли. От него же он узнал о Петербургской академии художеств.
И Виктор решил испытать судьбу. Ректор семинарии благословил его на стезю живописца, сказав, что много есть священников, а Рублев все-таки один. Отец тоже дал согласие, правда, предупредив, что материально помогать не сможет. Когда Васнецов обратился за советом к Андриоли, тот думал недолго. Он познакомил Виктора с епископом Адамом Красинским, который привлек губернатора Кампанейщикова, и оба они оказали помощь в проведении лотереи – продажи жанровых картинок Васнецова «Жрица» и «Молочница». Шестьдесят рублей и небольшая сумма, данная отцом, составили весь «солидный» капитал будущего художника.
В 1867 г. Васнецов выдержал экзамены в академию, но, будучи застенчивым и скромным, даже не решился проверить себя в списках зачисленных. Начались мытарства: почти без денег, в поисках угла и хоть какой-нибудь работы. Случайно повстречав брата своего вятского учителя Красовского, Васнецов обрел надежду: тот помог ему устроиться рисовальщиком в картографическое заведение. Впоследствии Виктор получил работу по иллюстрированию книг и журналов. Одновременно он стал посещать рисовальную школу Общества поощрения художников, где познакомился с художником И.Н. Крамским. Это знакомство сыграло немалую роль в жизни Васнецова. Когда в августе 1868 г. Виктор опять решился попытать счастья в стенах академии, то, к своему удивлению, узнал, что был зачислен еще в прошлом году. Здесь он быстро подружился с Репиным, Максимовым, Антокольским. Вместе с ними в небольшой квартире на Васильевском острове Васнецов слушал молодого ученого, историка и поэта Мстислава Прахова, который ярко излагал свое учение о Древней Руси.
Первый год учебы в академии принес художнику заслуженную награду – серебряную медаль второго достоинства. В следующем, 1869 г., за работу «Христос и Пилат перед народом» Васнецов получил еще одну серебряную медаль. Но с 1871 г., сначала по причине болезни, а потом из-за недостатка времени, регулярность посещения академии нарушилась. А в 1875 г., вынужденный зарабатывать себе на жизнь, да и поддавшись желанию совершенствоваться в живописи самостоятельно, Васнецов покидает академию.
К этому времени им уже созданы жанровые картины «Нищие певцы» и «Чаепитие в трактире» (1874 г.). Последняя была столь значительна, что ее приняли на выставку передвижников. В 1876 г. Васнецов включает в экспозицию картины «Книжная лавочка» и «С квартиры на квартиру». Более удачна последняя. Дряхлые старики, муж и жена, бредут по льду Невы, перебираясь из одной каморки в другую. В руках у них весь их скудный скарб. Безлюдье. Лишь жалкая моська, забежав вперед, поджидает их. Одетые в плохонькую одежонку, согнутые нищетой и старостью, эти обитатели трущоб выглядят особенно жалко на фоне гордо возвышающейся Петропавловской крепости. Не зря о Васнецове говорили: «Первоклассный мог быть жанрист… очень близкий по духу к Достоевскому».
Весной 1876 г. Васнецов поехал в Париж, куда его давно звали Репин, Крамской и Поленов. Он пристально изучал жизнь французского народа. Результатом этих наблюдений явилась картина «Балаганы в окрестностях Парижа» (1877 г.).
Через год, вернувшись в Россию, Виктор Васнецов обвенчался с Александрой Владимировной Рязанцевой. Семью свою он творил по подобию отцовской, патриархальной семьи. Без году пятьдесят лет прожил Васнецов в счастливом семейном согласии. Как вспоминала позже его жена, когда они перебрались в Москву, художник любил бродить по старым московским улочкам. А возвратившись домой, часто говорил: «Сколько я чудес видел!» Перед собором Василия Блаженного не мог сдержать слез. Увиденное и пережитое вызрело в картину «Царь Иван Васильевич Грозный», задуманную на рубеже 1880-х гг., а исполненную в 1897 г. Фигура царя занимала почти все полотно. Иван Грозный, одетый в парчовый опашень, в шапочке с образками, в шитых рукавицах спускался по крутой лестнице. Его облик был величествен, лицо выражало волю, большой ум и в то же время – подозрительность, озлобленность и гнев. Строго выдержанная цветовая гамма картины создавала впечатление монументальности. Как всегда, у Васнецова был удачен фон полотна: массивная стена, покрытая богатой росписью, в ее толще маленькое оконце, из которого далеко внизу видна старая деревянная Москва, занесенная снегом. Орнаментика стенных росписей, узор печати, вышивки вносили в работу декоративность.
В 1878 г. Васнецов начал писать картину «После побоища Игоря Святославича с половцами», ставшую одной из первых в его новом историко-былинном цикле. В ней художник хотел торжественно-печально и поэтично воспеть героизм русских воинов, как это сделал создатель «Слова о полку Игореве». Вот почему он изобразил не ужасы битвы, а величие смерти за родину. Покоем веет от тел павших. Прекрасный могучий богатырь, лежащий с широко раскинутыми руками, и юный княжич в лазоревых одеждах олицетворяли идею беззаветного служения родине. Цветовое решение картины создавало тревожное настроение. На темно-зеленом фоне степи напряженно-красные щиты и красные сапоги воина освещает багровая луна. Трагедийное звучание картины усиливал контраст тем смерти и красоты: изображения убитых воинов на фоне пышной зелени травы, нежно-голубых цветов, красивой одежды. Однако картина не встретила единодушного одобрения. Она была настолько необычна, что единого мнения о ней и быть не могло. Сразу почувствовали «главное» в картине только Репин и Чистяков. Последний в письме к Васнецову писал: «Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня, что просто загрустил: я, допетровский чудак, позавидовал Вам…»
Несмотря на непризнание картины большинством критиков, Васнецов не оставил выбранного им пути и к 1882 г. создал «Витязя на распутье». Художник изобразил сумеречную степь, поле былой битвы с разбросанными по нему костями. Догорает вечерняя заря. Предостерегающе стоит на перекрестке трех дорог камень-вещун. Погружен в глубокую думу остановившийся перед ним витязь (идею начертать на дремучем камне былинную надпись подал Васнецову Стасов). В образе витязя на распутье художник как бы невольно изобразил себя, свои нелегкие раздумья о будущем.
В Москве Виктор Васнецов познакомился с семьей Саввы Мамонтова, и это стало немаловажным событием в жизни художника. Скоро этот меценат заказал ему три картины для зала заседаний Донецкой железной дороги: «Битву русских со скифами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». «Первая картина должна была изображать далекое прошлое Донецкого края, вторая – сказочный способ превращения и третья – царевен золота, драгоценных камней и каменного угля – символ божества недр пробужденного края», – вспоминал о замысле этих произведений сын Мамонтова. Все три картины были такими же жизнеутверждающими, как и сами сказки.
Одним из наиболее поэтичных творений художника является картина «Аленушка» (1881 г.) – образ горькой сиротской доли. На камне у воды сидит одинокая печальная девочка. Вокруг лесок. И, точно принимая участие в ее горе, склоняются к сиротке осинки, охраняют ее стройные елочки, ласково щебечут над ней ласточки. Фигура Аленушки неразрывно связана в картине с пейзажем. Грустно на сердце девочки, и грустно в природе. В карих глазах Аленушки горе, и, как ее горе, темен и глубок омут. Капают слезы, и летят вниз золотые листочки. С тоном осенней листвы перекликается цвет волос девочки. Композиция построена на строгом ритме, на плавном течении линий ее фигурки со склоненной головой и наклонов растений, что вносит певучесть в картину. Поэзия этого произведения глубоко национальна. Она, как родная, народная песня, понятна зрителю. Это одно из лучших полотен русского искусства.
С точки зрения нового народного понимания темы можно рассматривать и работу художника над сценическим воплощением «Снегурочки». Когда Репин увидал васнецовские декорации и костюмы к этой опере, то написал Стасову: «Васнецов сделал для костюмов рисунки. Он сделал такие великолепные типы – восторг… Я уверен, что никто там у вас не сделает ничего подобного. Это просто шедевр». Особо ярко выразился дар художника в декорации, изображающей Берендееву палату. Здесь переданы, пожалуй, все формы, какие знало древнее зодчество во внутреннем убранстве теремов. На фоне этих изумительных декораций выступали берендеи и берендейки. Невозможно было не поверить в существование этой страны. Деятельность Васнецова как декоратора была кратковременной, но достаточно плодотворной: декорации к драме Шпажинского «Чародейка» и к опере Даргомыжского «Русалка». И даже спустя многие десятилетия рисунок волшебной декорации подводного дна в «Русалке», созданный Васнецовым, только незначительно варьировался.
С 1875 по 1883 г. в Москве возводилось огромное по тогдашним временам здание Исторического музея. Заказ на выполнение картины «Каменный век» добыл для Васнецова Адриан Прахов, брат историка М. Прахова. Это панно должно было открывать экспозицию музея. Новая тематика потребовала от художника и новой живописной техники. Здесь его живописная манера больше всего приближается к языку фрески. Васнецов использовал матовые краски и, хотя писал маслом, сумел достичь полной иллюзии живописи водяными красками по серой штукатурке, передав неяркие цвета земли, глины, обнаженного тела, воды, звериных шкур. Все современники высоко оценили эту работу, но особо обрадовала Васнецова похвала Чистякова: «Васнецов дошел в этой картине до ясновидения».
Такой же неожиданностью, как и заказ на панно, было для художника внезапное предложение выполнить роспись для Владимирского собора в Киеве. И опять же предложение поступило от Прахова. Вначале Васнецов решил отказаться от заказа, но материальные затруднения вынудили его взяться за роспись. За десять лет (1880-1890 гг.), шесть из которых он прожил в Киеве, художник с помощниками расписал 2880 квадратных метров во Владимирском соборе, сделал 15 композиций, выписал 30 отдельных фигур. В этих работах заключена строгая византийская вера, мягкая поэзия сказок, мощь былин. Вот Богоматерь с младенцем: она как бы парит над землей, ее типично русское лицо прекрасно, оно полно любви и скорби. В лице младенца, которого она, бережно прижимая к себе, несет в мир, тоже как бы ощущается предчувствие предстоящих мук и страданий, но есть в нем и сострадание к грешным. Недаром сам художник, говоря о своих иконописных работах, утверждал: «Мое искусство – это свеча, зажженная пред ликом Божьим…» Васнецов достойно возобновил живую и зримую школу иконописи. Впоследствии, вспоминая этот период творчества, художник удивлялся: «Видно, в молодости все можно». Он падал с лесов, разбивался. Для выполнения сложной работы требовалась крепкая сила духа и тела. Много лет спустя на замечание художника Нестерова, не схоронился ли Виктор Михайлович за сказки от жизни, тот ответил: «Куда было после Владимирского собора выше? Куда? Купчих писать? После Бога-то?! Выше нет! Но есть нечто, что стоит вровень. Это, брат, сказка».
И эта сказка-труд подвигалась к концу. «Богатыри» Васнецова прозвучали в русском искусстве не менее громко и победно, чем «Богатырская симфония» Бородина. На этой картине – возвышенность, с которой открывается дальний горизонт. Персонажи полотна – три всадника в древнерусском снаряжении на боевых конях. Это застава богатырская. Илья Муромец кряжист, могуч. С легкостью держит он в руке «палицу булатную». О его прямоте и честности свидетельствуют добрые крупные черты крестьянского лица. Совсем по-другому выглядит Добрыня. Изысканная украшенность, изящество снаряжения указывают на знатное происхождение героя. Суров и строг его взор, полный справедливости и благородства. Психологически сложнее Алеша Попович. Врага побеждает он не столько силой – у него ее не так много, сколько сметливостью да хваткой. Алеша – балагур и весельчак, в правой руке его «гусельки яровчаты». Так в сочетании храбрости и гордости, сметки и ловкости, несгибаемого величия духа воплощена в картине Васнецова богатырская застава Древней Руси. В лаконичном пейзаже ощутимо переданы просторы, необъятность русских полей. «Богатыри» были блестящим завершением периода расцвета творчества художника.
Над фольклорными темами («Баян», 1910 г.; «Спящая царевна», «Царевна-лягушка», обе в 1918 г.; «Царевна Несмеяна», 1914-1926 гг.) Васнецов работал до конца жизни, но прежней силы в этих образах уже не было. Посвятив свою жизнь служению добру и красоте, он не мог без пессимизма, усталости и разочарования принимать «новую» жизнь с ее политическими катаклизмами, революцией и Гражданской войной. Все чаще современники видели художника в Троицкой церкви. Согбенная фигура Виктора Михайловича как бы подтверждала его слова: «Бога надо не выболтать, а выстрадать».
Васнецов скончался 23 июля 1926 г. на 79-м году жизни. После вечернего чая направился он к себе в светелку. Через некоторое время родные услышали, как что-то упало. Художник умер от разрыва сердца, мгновенно, без болезней и страданий. Говорят, так уходит душа, которая ищет Божественную красоту и правду и обретает покой на небесах. Современники только после смерти по достоинству оценили его творчество. В статье, помещенной в «Вестнике знания», писалось о том, что в истории русской живописи роль Васнецова «равноценна и равнозначаща» роли Пушкина в русской поэзии. И в этой оценке нет никакого преувеличения.
Венецианов Алексей Гаврилович (род. в 1780 г. – ум. в 1847 г.)
Живописец, портретист, пейзажист, один из основоположников бытового жанра в русской живописи, автор произведений на тему крестьянской жизни, литератор.
Немного можно отыскать в истории искусства талантливых людей, у которых, как у Венецианова, светлый мир созданных им образов был бы естественным продолжением светлого мира его души. Ведь принято считать, что прекрасные творения писатели и художники создают за счет своих страданий, душевного непокоя и даже нравственных срывов. Алексей же Гаврилович находил в творчестве вдохновение и отдохновение от суетности жизни, подтверждение своей нужности этому неспокойному миру. Но ему было суждено разделить участь почти всех больших художников: современники не смогли оценить глубины его творений, а новые поколения то благополучно его забывали, то обвиняли в слащавости, искусственности, отрыве от жизни. И тем не менее Венецианова следует еще раз «открыть» как самого русского из всех русских живописцев, работавших в первой половине XIX в.
Предки Алексея Гавриловича были греками, осевшими в Нежине, и носили фамилию Венециано. Отец художника, Гаврила Юрьев перебрался в Москву и, записавшись «купцом 2-й гильдии», торговал фруктовыми деревьями, кустами и саженцами. Но в одном из объявлений за 1795 г. он писал, что в его доме «продаются хорошие картины, писанные en pastel, за весьма сходную цену». В ту пору его сыну, появившемуся на свет 18 февраля 1780 г., было всего 15 лет. О детстве Алексея практически ничего неизвестно, есть только сведения о том, что он обучался в одном из московских пансионов, а вот преподавали там живопись или мальчик брал уроки рисования частным образом, так и не выяснено. Одно достоверно – картины писал он, потому что, приехав в Петербург в 1802 г., А. Венецианов сообщил о себе через столичную газету как о «живописце, списывающем предметы пастелем за три часа…» Да и первое дошедшее до нас произведение художника – портрет матери Анны Лукиничны (1801 г.), писанный маслом, – выдает твердую руку, острый глаз и не имеет погрешностей в рисунке, хотя еще близко к парсунному письму. Удивляет только, когда Венецианов успел всему этому научиться, – ведь работать приходилось урывками: сразу после пансиона он служил в чертежном управлении, затем в лесном департаменте, канцелярии директора почт Д. Трощинского и в Ведомстве государственных имуществ и к 1817 г. дослужился до чина титулярного советника.
Об Академии художеств самоучка мог только мечтать. Но вот копировать картины мастеров в Эрмитаже, «вприглядку» постигать тайны живописи он мог без устали. Правда, какое-то время он учился и, по всей видимости, жил у В.Л. Боровиковского, находившегося на гребне славы, но как произошла их встреча и в какие годы – неизвестно. Да и в отличие от мастера Венецианов предпочитал пастель с ее «смазанностью» контуров и дымчатостью тонов.
В 1808 г. Венецианов попытался выпускать журнал карикатур, но издание было уничтожено по личному указанию Александра I. Гнев вызвал лист «Вельможа», где художник изобразил уродливое существо, почивающее на ложе, в то время когда в его приемной ожидают несчастные: вдова с ребенком, инвалид с медалями. К числу ранних произведений Венецианова относятся портреты А.И. и А.С. Бибиковых (1805-1809 гг.). Успехи молодого живописца были сразу замечены еще и потому, что большинство портретов той поры выполнено пастелью, в технике которой мало работали русские художники. Они лишены какой бы то ни было парадности, отличаются скромностью, простотой. В 1811 г. Венецианов представил на суд академии две работы и за «Автопортрет» был удостоен первого академического звания – «назначенного», а за «Портрет инспектора Академии художеств К.И. Головачевского с тремя учениками» получил звание академика. Столь быстрое и неожиданное признание художника объяснялось исключительно достоинствами его работ. «Автопортрет», написанный в сдержанной гамме оливковых тонов, выделялся среди автопортретов художников той поры особой беспристрастностью, непосредственностью в передаче собственного облика. Но места в академии талантливому художнику не нашлось, и даже несмотря на поддержку весьма влиятельных лиц, он так и не был допущен к преподавательской деятельности, что в принципе могло бы обеспечить ему безбедное существование.
В Отечественную войну 1812 г. Венецианов вместе с И.И. Теребеневым и И.А. Ивановым создавал политические карикатуры на Наполеона, был в числе авторов летучих листков на злобу дня, народных картинок, восхваляющих доблесть крестьян и высмеивающих французоманию русского дворянства. Большинство графических работ художника было выполнено в технике офорта, но Алексей Гаврилович охотно обращался и к литографии, в то время только что изобретенной. И все же с 1812 по 1816 г. Венецианов в основном служил и очень мало занимался живописью. Он размышлял, в каком направлении ему идти дальше. А в 1815 г. в его жизни произошла большая перемена – он женился на девушке из обедневшего дворянского рода Марфе Афанасьевне Азарьевой и неподалеку от усадьбы ее родителей купил в Тверской губернии небольшое имение Сафонково. Поначалу Венецианов бывал там только наездами: в Петербурге его держала служба и созданное декабристами Общество учреждения училищ по методе взаимного обучения. В нем он преподавал рисование и увлекся просвещением народа на всю оставшуюся жизнь, даже написал программу для обучения глухонемых.
Именно в этот период художник определился в творческом направлении. Народная тема впервые была воплощена им в картинах «Капитолина из Тронихи» и «Параня из Сливнева». А утвердиться на этом пути, как ни странно, помог несчастный случай: Алексей Гаврилович сломал руку, жил в деревне и решил, что пора оставить службу и заняться только живописью в окружении жены, двух дочерей и природы. Он быстро сошелся с богатыми и влиятельными соседями – Милюковыми и Путятиными (чьи портреты тоже писал) – и в Петербург теперь только наведывался.
С этих пор его имя стало очень известным: небольшая пастель «Очищение свеклы» (1820 г.) была представлена императору, награждена тысячей рублей и помещена в Бриллиантовой комнате Зимнего дворца. А картина «Гумно» (1821 г.) так понравилась Александру I, что он купил ее в свою коллекцию (а через некоторое время Венецианов был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и получил постоянное жалованье как императорский живописец). Выдержанная в золотисто-коричневом колорите, она была не только новым словом в жанровой живописи, но и своеобразной «энциклопедией» перспективы (следует сказать, что в обязательное пособие для учащихся «Начальный курс рисования» Сапожников ввел положение перспективы, разработанное Венециановым). Но все же главным в картине было то, что автор впервые воспел духовную красоту и физическую силу русских крестьян, а не легендарных мифических греков и римлян.
Картина «Гумно» ошеломила Петербург избранной темой и открыла собой целую серию произведений на крестьянские темы: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Дети в поле», «Жница», «Спящий пастушок», «Вот-те и батькин обед», «Девушка с бураком», «Сенокос» (все в 1820-е гг.). Этим полотном было положено начало целому направлению в живописи, яркими представителями которого стали Крамской, Репин, Суриков, Перов, Васнецов. Венецианов сумел увидеть в лицах крестьян и крестьянок сложные яркие характеры, их достоинство и гордость и передал эти качества с присущей ему поэтичностью. Журналист и основатель первого музея русского искусства П.П. Свиньин писал: «Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов, его окружающих, близких к его сердцу и к нашему… Эти лица, это небо, эти вещи, все это не вымышленное, все взято из самой природы». Да и сама природа на картинах Венецианова исконно русская (а не милая большинству художников той поры романтизированная итальянская) – неоглядная даль, неоглядная ширь, спокойные плавные ритмы равнин, пологие склоны холмов, потоки света, сверкающие золотистые нивы, знойное небо, березы, васильки… Все просто и в этой простоте величественно. Краски светлые и ясные. Неизъяснимый покой и тишина, отсутствие движения – все это складывалось в гимн восхищения простому человеку.
Характерно, что современники упрекали Венецианова за изображение «неизящной» натуры, а последующие поколения корили за ее идеализацию. Давно отмечена специфическая особенность венециановской жанровой живописи: она совершенно бесконфликтна. На его картинах нет ни столкновений, ни проблем, изображения зачастую балансируют на грани между портретом и этнографией. От погружения в «национальную экзотику» работы мастера удерживала удивительная мера благородства и естественной гармонии его героев. Его призванием как художника было не обличение, не бичевание язв общественного строя, а воспевание народа, который выживал при самых тяжких испытаниях. Впоследствии А. Бенуа писал, что в своих лучших картинах Венецианов «прямо приближается к тонкости и гармонии старых голландцев». А как четко и реально выписаны все детали! Большинство искусствоведов признает, что, например, такой цельной по решению цвета и света картины, как «Утро помещицы» (в числе первых приобретена для «Галереи художественных произведений русской школы»), еще не было в русской живописи. Легко увидеть, как, лепя объемную форму предметов, возрождая на плоскости сложную игру света и цвета, создавая живое пространство, кисть мастера двигалась мелкими трепетными движениями, наполняя холст жизненной правдой.
Следует отметить, что в большинстве своих произведений Венецианов не просто изобразил, а воспел обычную деревенскую женщину. Это два варианта сюжета «Жница», «Анисья», «Девушка с теленком», портрет жены, «Крестьянская девушка с котенком» и, наконец, портрет дочери – «Девочка в шляпке». Складу души художника был ближе чистый мир ребенка, женщины-матери, труженицы, хранительницы домашнего очага. Какое-то особое восхищение вызывают у мастера крестьянки, которые выполняют свою работу со сноровкой и «изяществом держащей лук Дианы». И при всей разнице портретируемых типажей их лица – удивительно русские. Фактически художник первым в истории русской живописи запечатлел национальный тип, передал русский характер своих героинь. Руки его женщин почти на всех картинах без исключения заняты каким-то делом. Мужских образов Васнецов создал мало и при этом отдавал предпочтение мальчишкам и старикам.
Все картины художника убедительно свидетельствовали о том, что Венецианов сознательно стремился к реалистической верности изображения, считая главной задачей живописца «ничего не изображать иначе, как только в натуре, что является повиноваться ей одной без примеси манеры какого бы то ни было художника». Свою манеру рисования Алексей Гаврилович назвал «живописью a la natura», в противовес «живописи а 1а манера», преподаваемой в Академии художеств, и по этому методу, в основе которого лежали перспективные штудии и натурные зарисовки, обучал всех желающих. Через школу Венецианова, которую он создал в 1818 г. в своем имении, прошло более семи десятков учеников из всех сословий. Добрейшей души человек, он возился с ними, хлопотал о материальном обеспечении, многих учил грамоте, устраивал в академию, по себе зная, как труден хлеб «вольного» живописца; несколько человек благодаря ему смогли освободиться от крепостной зависимости. Алексей Гаврилович, несмотря на непризнание в академических кругах, имел авторитет среди художников и многих влиятельных лиц. Может быть, поэтому К. Брюллов именно с Венециановым отправился к «самой большой свинье в торжковских туфлях» – помещику Энгельгардту, хозяину Тараса Шевченко, чтобы освободить из неволи подающего надежды крепостного. Все свое жалованье Алексей Гаврилович тратил на школу, из которой вышли С.К. Зарянко, Ф.И. Игин, Л.К. Плахов, Г.В. Сорока и др., сумевшие перенять у Венецианова непосредственное и чистое чувство художника в пейзажах, натюрмортах, жанровых сценах. Следует сказать, что педагогические идеи Алексея Гавриловича в глазах академии, закостеневшей в своей канонической системе, были чем-то невиданно новым. В этом он опередил свое время: только во второй половине XIX в. знаменитый профессор живописи П. Чистяков включит в процесс преподавания методику Венецианова.
Но Венецианов так и не был допущен к «академическому корыту». Щедро тратя свои душевные силы и все зарабатываемые средства на школу, он практически разорился и был вынужден даже заложить имение, которое по бедности не могло покрыть долгов. Все чаще в письмах художника, особенно после событий 1825 г., стали проскальзывать нотки тоски и уныния. И все чаще в его картинах стали появляться старые люди, написанные с блестящим изяществом: «Старая няня в шлычке», «Пряха», «Причащение умирающей». Пришли болезни: обмороки, приливы крови. Только от отчаяния и безденежья художник взялся писать историческую картину, посвященную Петру I. Но эти темы он не любил, и работа заглохла. Мучило одиночество (любимая жена скончалась в 1831 г.) и сознание того, что дочери-бесприданницы не смогут найти себе мужей.
В редкие дни возврата душевного покоя Венецианов создавал произведения, близкие по силе расцвету творчества: «Девушка в платке», «Крестьянская девушка за вышиванием», «Крестьянка с васильками». Он даже обратился к обнаженной натуре, но в цикле картин конца 1830 – начала 1840 гг. лучшей оказалась первая – «Купальщицы». Несмотря на прогрессирующую болезнь, Венецианов взялся за большой заказ для церкви в Твери: образа 20 святых и запрестольный образ. Сделав эскизы, он направился в город для утверждения их. Зимний день 4 декабря 1847 г. выдался на удивление морозным. На крутом спуске тройка понесла, кучер предусмотрительно вывалился в снег, а Алексей Гаврилович зачем-то решил перехватить вожжи, и его выбросило на обледенелую дорогу. Врача поблизости не оказалось, и Венецианов скончался. Смерть его прошла почти незамеченной…
Верещагин Василий Васильевич (род. в 1842 г. – ум. в 1904 г.)
Выдающийся русский художник-баталист, собиратель памятников этнографии декоративно-прикладного искусства, создатель жанра этнографической живописи. Участник многочисленных выставок в России, Европе и Америке. Почетный член Сербского научного общества. Обладатель почетных наград: Малой серебряной медали Академии художеств; ордена Святого Георгия 4-й степени. Автор нескольких повестей, очерков и воспоминаний.
Творчество и жизнь тогда можно считать состоявшимися, когда они оставляют след в сердцах людей. Это в полной мере относится к Василию Верещагину. Он первым из баталистов начал смотреть на войну не как на цепь зрелищных героических операций, а как на философскую проблему. Художник не просто показывал военные действия, а размышлял о глубинных корнях этой величайшей в мире несправедливости. Он говорил о своем творчестве: «Одни распространяют идею мира своим увлекательным словом, другие выставляют в ее защиту разные аргументы – религиозные, политические, экономические, а я проповедую то же посредством красок».
Родился будущий художник в Череповце в семье помещика-крепостника. В двухэтажном деревянном особняке, где он появился на свет, сейчас находится Мемориальный музей Верещагиных. Отец Василия, предводитель уездного дворянства, был домоседом. А мать знала французский язык лучше русского. Сам Верещагин писал о своих родителях: «Отец был не блестящ, с довольно мещанским умом и нравственностью, не блестящ, но и не глуп. Мать полутатарка, по бабушке Жеребцова, была в молодости красива и всегда очень неглупа, нервна и в последние годы страшно болезненна».
Василий был вторым из восьми детей. Его старший брат Николай (1839-1907 гг.) известен как основатель первых русских сыроварен и маслобоек. Ему же принадлежала идея создания знаменитого «вологодского» масла.
Василий получил так называемое домашнее воспитание. С пяти-шести лет его учила мать, затем ее сменил немец-гувернер и, наконец, сын местного священника. В детстве огромное впечатление производили на мальчика лубочные картинки, портреты Суворова, Багратиона, Кутузова, литографии и гравюры. Позже Верещагин вспоминал: «Я дивился хорошей игре на фортепьяно или пению, но перед картиною млел, терялся!»
По традиции молодому человеку из дворянской среды следовало избрать военную или дипломатическую карьеру, и потому родители определили мальчика в Александровский малолетний, а после его окончания – в Петербургский морской кадетский корпус. Здесь Василий всерьез увлекся рисованием и посвящал ему все свободное от занятий время. Поначалу он брал уроки у художника Седлецкого, а с 1858 г. стал посещать рисовальные классы при Обществе поощрения художников, где проявил замечательные способности. И хотя в 1860 г. блестяще окончившего учебу Верещагина произвели в гардемарины флота, он решительно отказался от карьеры морского офицера и выбрал профессию художника. Ни требования родителей, считавших занятие искусством недостойным их сословного положения и переставших оказывать сыну материальную помощь, ни возражения Морского министерства, желавшего сохранить за собой талантливого офицера, не помогли. Пробыв не более месяца на службе, юноша вышел в отставку и поступил в Петербургскую академию художеств.
В годы учебы он много читал, делал иллюстрации, в частности к «Герою нашего времени» М. Лермонтова, пробовал заниматься литературным творчеством. Под влиянием профессора А.Е. Бейдемана Василий все более становился убежденным сторонником реалистического искусства, и академическая система обучения с ее нормативностью и традиционностью тяготила молодого художника. Хотя Верещагин и получил одобрение совета академии за исполненную в духе классицизма картину «Избиение женихов Пенелопы возвратившимся Улиссом», неудовлетворенный работой, он разрезал и сжег свою композицию, «чтобы никогда не возвращаться к этой чепухе», как сам выразился.
Официально оставаясь в академии до 1865 г., фактически художник покинул ее стены гораздо раньше. В 1863 г. он оставил занятия в классах и уехал на Кавказ, чтобы «на свободе и просторе на интересных предметах учиться». Здесь он пришел к выводу, что непосредственная работа с натуры и правдивое изображение действительности будут способствовать получению знаний и навыков в рисовании значительно лучше, чем занятия в академии.
По возвращении Верещагин поселился во Франции и поступил в Париже в Школу изящных искусств, где занимался в мастерской Ж.Л. Жерома. Но через год вновь отправился в путешествие по Кавказу и некоторое время в Тифлисе преподавал рисование в одном из женских учебных заведений. Из этой поездки он привез множество рисунков бытовых сцен, предметов обихода, пейзажей и несколько этюдов масляными красками. В Парижском салоне 1866 г. он впервые выставил одну из своих картин.
Несмотря на нелюбовь к военной службе, именно с ней оказались неразрывно связаны жизнь и искусство Верещагина. В 1867-1868 гг. он принимал участие в военных столкновениях в Туркестане, «потому, что хотел узнать, что такое истинная война, о которой много читал и слышал…» В 1869-1870 гг. художник вновь путешествовал по этой своеобразной стране, знакомился с нравами и обычаями феодального Востока. Невзирая на военную обстановку и связанные с нею трудности, он находил время для занятий искусством. Рисунки и этюды тех лет, где были тесно переплетены мирная жизнь и военные сцены, легли в основу его знаменитой «туркестанской серии». В таких известных полотнах, как «Опиумоеды» (1868 г.), «Богатый киргизский охотник с соколом» (1871 г.), «Двери Тимура (Тамерлана)» (1872-1873 гг.), «Узбекская женщина в Ташкенте» (1873 г.) и других, раскрыты своеобразие и красота народных типов и памятников зодчества Средней Азии. Современному зрителю эти произведения кажутся кадрами из документальных фильмов или удачными фотографиями – так скрупулезно и бесстрастно выписаны архитектурные подробности ландшафтов и одежды персонажей.
Однако центральное место в этой серии занимают все же батальные полотна. Именно они имели большой успех и в России, и за рубежом, определив основное направление творчества Верещагина. Но уже в самых ранних картинах этой тематики ясно видна их антивоенная направленность. Верещагин первый среди художников-баталистов показал, что война «лишь 10% победы и 90% страшных увечий, холода, голода, жестокого отчаяния и смерти». «Из Туркестана он воротился живописцем войны и потрясающих трагедий, живописцем такого склада, какого прежде еще никто не видывал и не слыхивал ни у нас, ни в Европе», – писал о художнике известный русский критик В.В. Стасов. Как беспощадно горьки его работы «После удачи (Победители)» (1868 г.), «Забытый» (1871 г.), «Смертельно раненный» (1873 г.) и др. Интересно, что композитор М. Мусоргский после одной из верещагинских выставок написал на слова А. Голенищева-Кутузова балладу «Забытый», которую можно считать своеобразной иллюстрацией к одноименной картине.
Туркестанский цикл завершает знаменитый «Апофеоз войны» (1871-1872 гг.), имеющий глубокое символическое значение. Среди выжженной пустыни возвышается пирамида из человеческих черепов. Над ней кружит воронье. На заднем плане – разрушенный город, засохшие деревья. Картину можно считать исторической: такие устрашающие пирамиды сооружал в знак своего могущества среднеазиатский полководец Тимур (Тамерлан). Однако не раз видевший смерть и страдания Верещагин выносит из череды кровавых сражений мысль о бессмысленности взаимного уничтожения, которым является любая война. И как художник-философ он вкладывает в свою картину более общий смысл, добавив к названию: «Посвящается всем великим завоевателям, прошлым, настоящим и будущим».
Вся коллекция туркестанских картин была выставлена Верещагиным в Лондоне в 1873 г. и произвела сильное впечатление. Через год ее увидел и Петербург. Ввиду толков и обвинений в тенденциозности Верещагин снял с выставки и уничтожил три картины из этой замечательной коллекции: «Окружили – преследуют», «Забытый» и «Вошли».
В 1874-1876 и 1882-1883 гг. Василий Васильевич совершил две поездки в Индию, где внимательно изучал жизнь страны, ее природу, быт и культуру. Не раз во время этих путешествий он находился в смертельной опасности, замерзал, тонул, болел лихорадкой, но твердая вера в то, что художник может создавать картины только тогда, когда хорошо знает изображаемый предмет, вновь и вновь толкала его в самую гущу событий. Результатом этих путешествий явилось более ста пятидесяти этюдов, в которых оживало великое прошлое Индии: древние храмы, роскошные дворцы, величественные гробницы. Стоит вспомнить хотя бы этюд «Мавзолей Тадж-Махал в Агре» (1874-1876 гг.), передающий все великолепие древнего памятника архитектуры, его удивительную ажурность, прозрачность и солнечность воздуха.
Ряд картин Верещагин решил посвятить истории захвата и ограбления этой древней страны англичанами. У него возник замысел создания большой живописной поэмы, которая должна была рассказать об исторической судьбе Индии, о превращении ее, могущественной и независимой, в колонию Великобритании. Однако начавшаяся русско-турецкая война нарушила планы художника.
Во время первого путешествия в Индию Верещагин получил известие, что Петербургская императорская академия художеств избрала его своим профессором. Но, будучи принципиальным противником всевозможных наград и титулов, Верещагин публично отказался от этого звания – так же, как не захотел принять золотую саблю «За храбрость», которой был награжден в 1878 г. на завершающем этапе русско-турецкой войны. Исключением из этого правила явился офицерский Георгий – орден Святого Георгия 4-й степени, который был вручен художнику за участие в обороне Самарканда в 1868 г. Второе и последнее исключение Верещагин сделал для Сербского научного общества, ответив согласием на избрание его в феврале 1883 г. почетным членом.
В русско-турецкую кампанию 1877-1878 гг. художник – на фронте. Участвуя в самых важных сражениях, он был ранен, долго лежал в госпитале и едва не умер. Где-то на этой войне был убит шальной пулей Сергей Верещагин, родной брат Василия, а Александр, другой брат, еще долго был связан с военной службой. Желая «…видеть большую войну и представить ее потом на полотне не такою, какою она по традициям представляется, а такою, какая она есть в действительности…», Верещагин делает наброски прямо на местах событий, под огнем противника. На их основе в период с 1877 по 1881 г. он создает «балканскую серию», картины которой не только правдиво воспроизводят будни войны, но и напоминают о фатальных просчетах командования и о страшной цене, которую заплатили русские за освобождение болгар от османского ига. Особенно впечатляет полотно «Побежденные. Панихида» (1878 – 1879 гг.), на котором под пасмурным небом расстилается целое поле солдатских трупов. К числу лучших произведений этого цикла относится триптих «На Шипке все спокойно!» (1878-1879 гг.), носящий откровенно обличительный характер. Уже в самом названии его заключена горькая ирония: «спокойствие», о котором докладывалось в рапортах верховному командованию, для солдат оборачивалось трагедией. Таково одно из полотен триптиха – «Забытый» (тема, уже звучавшая в «туркестанской серии»), где изображен замерзший на посту во время метели солдат: войска отступили, а ему «забыли» передать приказ об отступлении.
Объективная трактовка военных действий, естественно, не могла нравиться правительству и армейскому командованию. Верещагина обвиняли в том, что он как бы специально подыскивает страшные, отталкивающие сюжеты, что его картины не патриотичны. А он писал В. Стасову: «Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу; выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого».
В 1884-1885 гг. Верещагин написал «трилогию казней». В ней представлена историческая ретроспекция различных видов казни, начиная с «Распятия на кресте во времена владычества римлян» и «Английской казни в Индии» и кончая «Казнью заговорщиков в России», где изображена сцена повешения народников-террористов. Кроме этой мрачной серии, будучи в Сирии и Палестине (1883-1884 гг.), художник создал ряд картин на сюжеты из Нового Завета. Написанные им иконы до сих пор украшают белый мраморный иконостас церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Увы, в России было запрещено демонстрировать все эти картины. Семья художника бедствовала. Зато за границей успех верещагинских выставок был порой просто грандиозным. В 1879-1880 гг. он выставлял индийскую и болгарскую коллекции в главнейших городах Европы (и только в 1883 г. – в Москве и Петербурге). В 1885-1888 гг. были выставлены палестинские картины в Вене, Берлине, Лейпциге и Нью-Йорке.
С 1887 по 1901 г. Верещагин работал над серией из двадцати полотен, посвященных Отечественной войне 1812 г. Она слагалась из двух частей. Первая была названа художником «Наполеон в России»: «Наполеон на Бородинских высотах» (1897 г.), «Сквозь пожар» (1899-1900 гг.), «На большой дороге. Отступление и бегство» (1887-1895 гг.) и др., в которых он показал истинное лицо французского императора, лишив его «пьедестала героя, на который он вознесен». Работы второй части, озаглавленной «Старый партизан», рассказывали о проявлениях великого национального духа русского народа, его самоотверженности и героизме в борьбе с врагом («Не замай – дай подойти!», 1887-1895 гг. и др.). Одновременно с картинами Василий Васильевич писал и книгу о тех событиях.
Весной 1894 г. Верещагин осуществил давно задуманную поездку на «самый север» России, где «хорошо, спокойно, пахнет стариною и люди истые, крепкие…» По пути в Архангельск в поисках памятников старины художник делал частые остановки, совершал поездки в глухие труднодоступные места, занося в дневник свои впечатления, создавая этюды и зарисовки. Он знакомился с жизнью и бытом народа, записывал песни, интересные обороты разговорной речи северян, их пословицы и поговорки, приобретал предметы народного костюма. Свои впечатления он описал в вышедших в 1895 г. книгах «На Северной Двине. По деревянным церквам» и «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей». Результатом этой поездки явилась серия рисунков и этюдов с изображениями памятников старинного деревянного зодчества, северной природы и простых русских людей.
В январе 1896 г. в Петербурге открылась выставка картин В.В. Верещагина, на которой экспонировались и его работы, выполненные во время путешествия по Северной Двине. Она побывала затем в Харькове, Киеве, Одессе, Париже, Берлине, Дрездене, Вене, Праге, Будапеште и Лондоне. Лучшие пять картин северной серии приобрел в том же 1896 г. П.М. Третьяков.
Художник не прекращал путешествовать и в последние годы своей жизни. В конце 1880-х – начале 1900-х гг. он трижды был в Америке, в 1901 и 1902 гг. – на Филиппинах и Кубе, где по горячим следам создал серию картин, посвященных испано-американской войне 1898-1899 гг., в 1903 г. – в Японии, впечатления от которой отразились в ряде этюдов, дающих представление о своеобразии ее архитектуры и национальных обычаев.
В начале XX в. кандидатуру Верещагина выдвинули на соискание Нобелевской премии. И это после того, как в 1900 г. его картины о войне 1812 г. не были допущены на Всемирную выставку в Париже, как будто бы оскорбляющие национальную гордость французов. Премию Верещагину не дали.
В 1902 г., в год 90-летия победы над наполеоновской армией, выставка его работ снова экспонировалась в США. Но положение художника было настолько плачевным, что он задумал распродать свои уникальные полотна на аукционе. И только тогда Николай II решился наконец приобрести их в фонд казны.
Русско-японская война застала шестидесятидвухлетнего художника за работой над новыми композициями, но он все оставил и, пообещав жене и трем детям не рисковать, «полетел» на Дальний Восток, чтобы еще раз изобразить войну, поведать людям правду о ней. На флагманском корабле адмирала С.О. Макарова «Петропавловск» он вышел в море, чтобы запечатлеть боевое сражение. Освещенный утренним солнцем броненосец медленно двигался в двух милях от берегов Порт-Артура. Внезапно над правым его бортом высоко в небо поднялся столб черного дыма и раздался двойной взрыв. Корма вышла из воды, и огромный корабль исчез с поверхности моря. Броненосец наткнулся на поставленную японцами минную банку, взорвались находившиеся в трюме заградительные мины и котлы. Вместе с сотнями моряков погибли два замечательных, талантливых человека – адмирал и художник… Свидетель катастрофы «Петропавловска» капитан Н.М. Яковлев, чудом уцелевший во время взрыва, рассказывал, что до последнего момента видел Верещагина с альбомом.
Необыкновенный художник и отважный человек, любознательный и пытливый мастер, Верещагин посвятил свой талант изображению баталий, чтобы посредством живописи показать античеловеческую сущность войны. Спустя более ста лет искусство Верещагина не только не утратило своей актуальности, его полотна звучат с новой силой, напоминая о ценности жизни, о красоте и многообразии окружающего мира и населяющих его народов.
Вишняков Иван Яковлевич (род. в 1699 г. – ум в 1761 г.)
Знаменитый русский художник-портретист, монументалист, декоратор, один из представителей светского портрета в стиле рококо. Руководитель Живописной команды Канцелярии от строений (1739-1761 гг.).
И.Я. Вишнякова искусствоведы называют «загадочным мастером XVIII в.», и не только потому, что о его жизни и творчестве мало сведений, а еще в связи с тем, что огромное наследие художника из монументальных, декоративных работ и портретов представляет собой грустный номинальный перечень названий. От многочисленных произведений мастера, который с пятнадцати лет и до самой смерти не знал ни дня отдыха, сохранились только десять портретов, «домалеванных» и реставрированных.
Творческая судьба этого талантливого живописца, родившегося в 1699 г. в Москве в семье «Императорского Величества шатерных дел мастера» Якова Вишнякова, поистине трагична. В 1714 г. он был «отпущен от отца своего в Санкт-Петербург», где обучался «лаковому», а затем «живописному делу» у мастера Оружейной палаты В.Г. Грузинца, а после учебы, в 1727 г., его направили в Канцелярию от строений в звании «живописного подмастерья». Здесь под началом руководителя Живописной команды Андрея Матвеева Иван формировался как художник-монументалист, тесно сотрудничая с архитекторами, резчиками и скульпторами – всеми теми мастерами, которые создали декоративный стиль того периода, основанный на синтезе русского барокко и рококо. Но еще в конце 20-х гг. началась совместная творческая деятельность Вишнякова и марсельского «живописного дела профессора» Луи Каравака (Каравакка). С 1727 г. он официально стал его учеником, так как иноземный мастер засвидетельствовал его умение «изрядно писать персоны с натурального». И хотя Иван великолепно справлялся с работами самостоятельно, делал ли он копии или сам «писал персоны Его Императорского Величества Петра I» и другие портреты, выполнял массу декоративных и реставрационных работ, до 1739 г. он числился в подмастерьях. В этот год, после смерти А. Матвеева, Вишняков стал мастером и принял руководство над Живописной командой. Дальнейшее его продвижение было довольно значительным. Он получил одно за другим звания прапорщика (1741 г.) и капитана (1742 г.), был возведен в ранг коллежского асессора, став таким образом дворянином (1745 г.), а в 1752 г. пожалован чином надворного советника и приведен к присяге.
Можно только удивляться тем объемам работ, которые легли на плечи Ивана Яковлевича. Высокое профессиональное мастерство обеспечивало ему еще бо́льшую нагрузку, и живописная «служба» больше походила на военную: приказали, значит, надо срочно сделать самому или обеспечить исполнителями. Кажется, можно было утонуть в ворохе высочайших указов, счетов и отчетов. А ведь Вишняков не только руководил всеми живописными работами в Петербурге, Москве и в загородных резиденциях двора, он и непосредственно в них участвовал. Художник работал в тесном контакте с зодчими В.В. Растрелли, М.Г. Земцовым и декоратором Дж. Валериани, участвовал в бесконечных перестройках, реставрациях и новом строительстве Зимнего, Летнего и Аничкового дворцов, Триумфальных ворот в Москве, Петропавловского собора, оперных домов, Петергофского и Царскосельского дворцов.
Роспись дворцовых интерьеров, создание образов для Троицкого собора и церкви Симеона и Анны, личные заказы императрицы Елизаветы Петровны перемежаются у Вишнякова с необходимостью мыть и чистить старые холсты, совместно с резчиками золотить «каймы» плафонов и люстры, сооружать декорации, переставлять рамы, надшивать холсты и одновременно выступать экспертом и консультантом по многочисленным живописным произведениям, следить за чистотой иконографии царствующих особ, чтобы не искажались их лики.
Иван Яковлевич при его даровании расходовал свои творческие силы на массу второстепенных работ. А ведь была еще большая семья: престарелая мать Акулина Ануфриевна, три сына от первого брака, вторая жена Марья Федоровна, родившая трех сыновей и дочь. Загруженный делами, он успевал заботиться об их судьбе и образовании, особенно об одаренном старшем Иване: хлопотал о его «живописном ученичестве в Канцелярии от строений и обучении итальянскому языку в надежде на заграничное пенсионерство». Поездка в Италию не была дозволена, но Иван и его младший брат Александр стали хорошими живописцами. С 1753 г. старший сын принимал непосредственное участие во всех работах отца и принял на себя руководство Живописной командой после его смерти 8 августа 1761 г.
За четверть века, проведенного во главе Живописной команды Канцелярии от строений, художником была создана целая школа, которая может быть по праву названа «школой И.Я. Вишнякова». Система обучения, разработанная А. Матвеевым и совершенствованная Иваном Яковлевичем, легла в основу принципов преподавания в Академии художеств. Живописцы Г. Молчанов, И. Вельский, А. Антропов, иконописец М. Колокольников и десятки менее знаменитых художников были учениками этого замечательного педагога и заботливого наставника.
С годами Иван Яковлевич все больше тяготел к религиозной живописи и даже отстаивал свое право не только контролировать, но и писать иконостас для Андреевского собора в Киеве (икона Богоматери с младенцем, образ Св. апостола Андрея Первозванного, 1750-1753 гг.). До самой смерти работал он над иконами большой церкви Зимнего дворца (1761 г.). Но портрет, который в русском искусстве был проверкой на высшую ступень живописного мастерства, остался ведущим жанром в творчестве Вишнякова. О первых его опытах как портретиста (портреты детей Ягожинского, герцога и герцогини Курляндских) трудно судить, так как они бесследно исчезли во времени, как и все декоративные работы. Но и сохранившихся вполне достаточно, чтобы понять, каким прекрасным мастером он был. В его портретах, особенно детских, отразился дух русского рокайльного искусства, но в них нет бездушности, фривольности, наружной слащавости и галантности, присущих западному рококо. Вишняков не прошел «академической выучки», в совершенстве не знал анатомии. Тело и фон для него – это не характеристика человека, и потому он пишет фигуры безукоризненно задрапированными, плоско и схематично. Но лица в портретах пронизаны теплотой и душевностью, в них есть «особая интимность и непритязательность», обаяние и цельность образа. Органичное соединение парусности, декоративной парадности и внешней статичности создают удивительный эффект, на фоне которого внутренний мир человека царствует над нарочитой скованностью фигуры.
Безупречный «глаз» художника и безукоризненный вкус вывели Вишнякова в ряд лучших портретистов того времени. Недаром он был допущен не только копировать, но и писать портреты царствующих особ («Портрет Анны Леопольдовны в оранжевом платье», 1740-1741 гг.; «Портрет Елизаветы Петровны» для Сенатского зала, 2,55x1,80 м, 1743 г.), а затем «тиражировать» их для многочисленных дворцов, государственных учреждений и частных высокопоставленных лиц.
Художнику нравилась декоративная роскошь парадных нарядов его эпохи, их театральность и праздничность. С восхищением он передает вещность и предметность мира, тщательно, с любовью выписывает ткани со сложными узорами, кружева и украшения и как мастер-декоратор создает исключительную цветовую гамму. И хотя узор словно наложен поверх негнущихся складок одежды, он осязаем и напоминает, по словам искусствоведа Т.В. Ильиной, «поле роскошной древнерусской миниатюры XVII в. или растительный орнамент фрески того времени». А над всем этим богатством вещного мира смотрят и дышат лица людей. И среди них (кроме императорских особ) нет ни одного выдающегося государственного деятеля, как это было принято в петровское время. Чета Николая и Ксении Тишининых (1755 г.) – помещики, Михаил Яковлев – сын знаменитого капиталиста, владельца сибирских железных дорог (парный портрет с супругой Степанидой, 1756 г.), М.С. Бегичев (1757 г.) – артиллерийский инженер, И.Н. Коцарев – представитель Комнатной конторы. И это стремление изображать ничем не прославившихся людей, раскрывать перед зрителем особое, личное пристрастие к обычному человеку стало несомненным новаторством художника в русском искусстве.
Как ни одному художнику его времени, Вишнякову удавались детские портреты. За скованной условностью парадных портретов мы видим серьезное и уважительное отношение к миру ребенка, отличному всеми чувствами и переживаниями от мира взрослых («Портрет цесаревны Натальи Алексеевны», 1750 г.; «Портрет Вильгельма Георга Фермора», вторая половина 1750-х гг.; «Портрет Н.Ф. Голицына», 1760 г.). Репрезентативный портрет Василия Драгана (1745 г.) написан по случаю возведения его в кавалер-пажи. Здесь все, как у взрослых: позы, жест, парадный костюм с дорогим серебряным шитьем, черная треуголка и даже шпага. Видно, как трудно выстоять ребенку сеанс позирования, и он с трудом сдерживает улыбку и желание убежать. Шести-восьмилетний мальчик с живым, веселым взглядом широко открытых глаз простодушен и непринужден. И удивительно сочная и материальная живопись Вишнякова превосходно сочетается с задорным темпераментом ребенка.
Словно дивный цветок неземной красоты, расцветает над великолепным муаровым платьем нежное девичье личико Сары Фермор (1749 г.). Скованность тела, непропорционально удлиненные лилейные руки, придающие портрету изысканную красоту текучих линий, изящные жесты, декоративная трактовка асимметричного пейзажа с двумя тоненькими деревцами – все настраивает зрителя на высокий поэтический лад, высвобождает из тесных рамок материального светлое духовное начало. Не по возрасту серьезное, грустное, задумчивое лицо десятилетней дочери начальника Канцелярии от строений, ее тонкая шейка изображены с большим лиризмом, неповторимой чистотой и пленительностью. И как в портрете В. Драгана, колорит одежды служит дополнительным аккордом к ее ранимому внутреннему миру. Этот изысканный серо-зеленовато-голубой цвет платья, как и лицо девочки, покоряет красотой и выразительностью. И если бы волею судьбы Вишняков, расходовавший свои жизненные и творческие силы на тысячи мелочей, создал бы только очаровательный образ Сары Фермор, то лишь за один этот портрет его могли бы считать «символом всего русского искусства XVIII века».
Врубель Михаил Александрович (род. в 1856 г. – ум. в 1910 г.)
Выдающийся русский живописец, мастер монументальных росписей, театрально-декоративной и прикладной живописи, скульптуры и графики.
Воображение М.А. Врубеля создало образы удивительной притягательности. Достаточно вспомнить его Царевну-Лебедь, Пана, Богатыря и, конечно, разноликого Демона, прошедшего через все творчество художника. С первого взгляда они поражают своей красочностью, внутренней силой, напряженностью, непостижимой тайной. Сила впечатления от картин живописца так велика, что и сам он представляется человеком очень страстным, могучим, импульсивным. На самом деле Врубель имел хрупкое телосложение, утонченные черты, спокойный и уравновешенный характер. Он был мягким и деликатным. Иногда мог вспылить, но очень быстро отходил. Его жена, Н. Забела, вспоминала: «В Михаиле Александровиче я каждый день нахожу новые достоинства: во-первых, он необыкновенно кроткий и добрый, просто трогательный, кроме того, мне всегда с ним весело и удивительно легко».
С детства болезненный (ходить начал с трех лет, страдал головными болями), Миша не любил шумных занятий, его больше привлекали книги, музыка, собственный мир грез и фантазий. В нем было то, что уместно назвать украинским словом «шляхетнисть» – тонкий ум, впечатлительность, образованность, безукоризненность в облике и манерах. В юности благодаря этим качествам он был любимцем барышень. В зрелые годы располагал к себе людей тем, что умел слушать, вглядываться и вдумываться.
В семье Врубель воспитывались и поддерживались именно такие отношения, правила и увлечения. Отец, Александр Михайлович, по роду службы – военный юрист, был выходцем из Польши. Мать, Анна Григорьевна, умерла, когда Мишеньке не было и трех лет. С 1863 г. заботу о четверых чужих детях взяла на себя вторая жена Александра Михайловича – Елизавета Христиновна, женщина образованная, хорошая пианистка. Увлечение Миши рисованием, начавшееся в пять-шесть лет, очень приветствовали, старались его развивать, хотя строгой системы в художественном образовании мальчика не было из-за частых переездов в места службы отца. С восьми лет он посещал рисовальную школу при петербургском Обществе поощрения художеств, через год в Саратове начал брать уроки у гимназического учителя. Его водили в галереи и на выставки. Миша был очень способным учеником, имел превосходную зрительную память. В десять лет он поразил своих домашних тем, что, посмотрев два раза репродукцию с картины «Страшный суд» Микеланджело, воспроизвел сюжет во всех деталях.
Путь М. Врубеля в искусстве сложен и трагичен, как и его человеческая судьба. Поначалу его занятия не выходили за рамки увлечения, которое полагалось иметь образованному человеку. Окончив гимназию, он приезжает из Одессы в Петербург, поступает в университет, чтобы стать юристом и по примеру отца делать военную карьеру. Живопись была просто развлечением и отдыхом; так появились иллюстрации к произведениям Тургенева, Толстого, Достоевского, Гете, Шекспира, а также бытовые зарисовки, портреты друзей и близких. Конечно же, молодой человек с пытливым умом и любовью к искусству жадно впитывал впечатления петербургской жизни. В университете сразу же увлекся философией, Канта изучал по оригинальным произведениям и в жизни руководствовался его идеей превосходства долга над всеми благами.
Наверное, из чувства долга он все-таки закончил учебу и даже два года «отбывал воинскую повинность», но в 1880 г. оставил службу и поступил в Академию художеств. Еще на последнем курсе университета он посещал вечерние курсы академии, почувствовав несомненную пользу для себя от ее дисциплинирующей науки, приобщения к традиционной живописи, классике, тайнам рисунка и композиции. Больше противиться своему предназначению он не мог.
Будучи уже зрелым человеком с устоявшимися взглядами, М. Врубель критически воспринимал академический курс. Он работал жадно, много, поражал педагогов трудоспособностью, но при этом не был слепым подражателем. «Говорят, школа забила талант, – писал он своей любимой сестре Анне. – Но я нашел заросшую тропинку к себе».
Третий год обучения стал для молодого художника решающим. Он попал в класс к профессору Чистякову, который ценил в учениках именно стремление к индивидуальности. «Чистяковцы» были группкой дерзающих талантов, отдающих предпочтение занятиям, которые не очень увлекали остальных, например акварели, где требовалась виртуозная техника. Здесь Врубель знакомится с Репиным, очень сближается с Серовым.
Первая самостоятельная работа «Натурщица в обстановке Ренессанса» послужила отправной точкой в творчестве Врубеля. Она высветила его увлеченность искусством Возрождения, стремление к праздничности, которое он сохранил в дальнейшем, а также направление поисков особой техники письма. По собственному определению, его тогда «иссушила горячка желания достичь совершенства».
К последнему году обучения он если и не достиг желаемого, то во многом преуспел и, почувствовав, что ему тесно в рамках программы, однажды даже заявил, что в академии можно закиснуть. И судьба как будто пошла навстречу его желанию – поскорее вырваться в свободный полет. Она свела его с профессором А.В. Праховым – знатоком и энтузиастом изучения и восстановления памятников древнерусского зодчества. В то время он занимался реставрацией киевских соборов и церквей, где обнаружил остатки фресок XII столетия. Деньги на эти работы выделялись небольшие, поэтому заинтересовать известных живописцев – Васнецова, Сурикова, Поленова, Репина – ему не удалось. Пришлось искать среди молодых. П. Чистяков порекомендовал Прахову никому не известного Врубеля. Ознакомившись с его небольшим творческим багажом, Адриан Викторович пригласил художника в Киев руководить группой реставраторов, в основном учеников единственной тамошней рисовальной школы Н. Мурашко. Оценка профессора была очень высока; он «сразу убедился, что имеет дело с выдающимся талантом, превосходным рисовальщиком, а главное – стилистом, хорошо понимающим античный мир и могущим, при некотором руководстве, отлично справиться с византийским стилем», – писал в своих воспоминаниях сын А.В. Прахова, известный искусствовед Н. Прахов.
Начало киевского периода (1884-1889 гг.) было для Михаила Врубеля самым счастливым временем. Молодость, настоящая работа, вера в будущее окрыляли его, временами даже опьяняли. Семья Праховых приняла его как родного, но постепенно он стал разочаровывать своих друзей несобранностью и непоследовательностью, «рассеянным образом жизни», как назвал его новые привычки отец, навестивший сына в Киеве. На беду, Врубель трепетно и безнадежно полюбил жену своего благодетеля Эмилию Львовну Прахову, дарил ей свои работы, писал с нее Богоматерь и вложил в этот образ такое чувство, которое позволило считать его высшим достижением художника в изображении святых ликов. Он уезжал в Италию, чтобы забыться. Там с головой окунулся в работу, в постижение колорита произведений венецианского Возрождения, а по возвращении сделал в этом ключе вдохновенные образы Священного Писания.
Высочайшее духовное и физическое напряжение сделало художника нервным, его мучили приступы мигрени. Он начал пить, увлекаться женщинами, небрежно относиться к своим работам – мог изорвать готовую картину, поверх законченной написать другую. Некоторое время жил в неотапливаемой комнатке, почти без мебели, плохо одевался, что совершенно не было похоже на прежнего Врубеля. Но очень много писал. Подчиняясь импульсу, делал многие зарисовки в блокнотике, который всегда был при нем, или на любом клочке бумаги. Однако при всей одержимости не мог сконцентрироваться на главном.
И тем не менее талант монументалиста позволял начинающему живописцу расписывать стену Кирилловской церкви без предварительной прорисовки, наставлять и подправлять артельщиков, удивлять своими находками специалистов и меценатов. У него были все основания претендовать на работы во Владимирском соборе, поэтому в течение двух лет художник создал большое количество набросков и эскизов. Они обладают бесспорными художественными достоинствами, а «Надгробный плач» и «Воскресение» поставили его в один ряд с А. Ивановым по близости к искусству Возрождения и реализму в подаче библейских сюжетов. Однако слишком нетрадиционная трактовка и отсутствие прежних покровителей лишили Врубеля возможности воплотить свои замыслы. От созданного им в соборе остались лишь орнаменты, а почти готовую роспись переписала заново другая рука (пригласили Сведомского), причем значительно ниже по уровню.
Полосу лишений, копеечных заработков и непризнания М. Врубель переносил с достоинством. «Мания, что непременно скажу что-то новое, не оставляет меня», – писал он сестре. Очевидно, муки творчества необходимы художнику, чтобы стать мастером.
Именно в это время, в середине 80-х гг., в творчестве Врубеля возник Демон. Надо сказать, что «демоническое» привлекало его внимание всегда, он обращался к Гамлету и Офелии, Фаусту и Мефистофелю, Раскольникову и Ивану Карамазову, погружался в сказочный, ирреальный мир, где противостоят Добро и Зло, и выплескивал в красках его тревожные образы. Своего Демона он трактовал не как исчадие ада, а как олицетворение мятущегося человеческого духа, который ищет примирения обуревающих его страстей, стремится познать мир и не находит ответа на свои вопросы ни на земле, ни на небе. Художник впадал в мистицизм, но был уверен, что Демон «составит имя» своему создателю. И оказался прав.
Наверное, Демон был не только воплощением душевных мук художника, но и началом его душевной болезни. Первым серьезным сигналом ее послужил такой случай. Врубель пришел однажды к Праховым в очень подавленном состоянии и сказал, что ему необходимо ехать в Харьков на похороны отца. Взял денег взаймы и ушел. Но чуть ли не на следующий день якобы умерший А.М. Врубель явился к ним, чтобы справиться о сыне. Знакомый доктор подробно расспросил о поведении молодого человека, о его здоровье и безошибочно назвал диагноз, обрисовав печальное будущее.
Но тогда до него было еще далеко. Тридцатилетний Врубель верил в свои силы и стремился к успеху. В 1889 г. по совету Серова и Васнецова он приехал в Москву, где кипела культурная жизнь. Его признали собратья по ремеслу, познакомили с незаурядным человеком и меценатом С.И. Мамонтовым. Тот пригласил Врубеля к себе жить, стал первым и постоянным заказчиком. В богатой купеческой столице художник начал зарабатывать, мог дать простор своему творчеству. Чем только он ни увлекался! Иллюстрировал юбилейное – к 50-летию гибели поэта – издание Лермонтова, а позже и Пушкина. Интересно, что из 13 работ бо́льшая часть посвящалась любимому «Демону» и по исполнению превосходила иллюстрации других авторов (Сурикова, Репина, Серова, Поленова), но их чуть не забраковали. В домах состоятельных заказчиков Врубель выполнял витражи, панно и плафоны. Одним из самых красочных было панно «Венеция». Особое место занимают пять панно на темы «Фауста» и совершенный триптих «Суд Париса», сделанные для А. Морозова. Последнее произведение, однако, было забраковано.
В мамонтовском поместье Абрамцево Михаил Александрович получил возможность заняться майоликой, сделал в этой технике ряд скульптур – Садко, Египтянку, персонажей «Снегурочки» и снова Демона. Всегда любивший театр, Врубель изготавливает декорации для спектаклей Русской частной оперы Мамонтова: «Садко», «Царская невеста», «Царь Салтан».
После смерти молодого Мамонтова, с которым Врубель ездил по городам Италии, Греции, в Париж, он отделал часовню на могиле, затем выполнил пристройку к дому Мамонтовых в Москве, с фасадом в романо-византийском стиле. В известной монографии С.П. Яремича о Врубеле по этому поводу сказано: «Тот, кому было дано осмыслить физиономию огромного города и кто мог бы породить целую архитектурную школу, был обречен увидеть осуществление своей архитектурной мысли в виде маленького флигеля на Спасско-Садовой».
Врубель стремился к универсальности и совершенству. А мощным стимулом в его творчестве стала женитьба на певице Надежде Забеле. Их встреча произошла в Петербурге, где гастролировала московская труппа. Врубеля попросили заменить заболевшего художника Коровина и оформить оперу-сказку «Гензель и Гретель». Грету пела обладательница завораживающего сопрано Забела. Ее голос и внешность покорили художника, он сразу сделал ей предложение и говорил, что покончил бы с собой, если бы она отказала. Они были замечательной парой. Влюбленный Михаил Александрович ничуть не преувеличивал достоинств своей избранницы. О ее таланте вспоминают многие современники, именно для нее писал Римский-Корсаков партию Марфы в «Царской невесте». С нее создал Врубель божественную «Царевну-Лебедь», сочинял ей не только сценические костюмы, но и одежду, украшения, творил ее, как любимое произведение.
Незадолго до свадьбы, которая состоялась в 1896 г. в Женеве, М. Врубель занимался оформлением павильона Нижегородской всероссийской выставки. Художник выполнил два громадных панно – «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза», вокруг которых разгорелась настоящая война. Жюри было категорически против этих полотен, назвав их слишком претенциозными. Министерство финансов затребовало новый состав жюри, а времени уже не было. Работы все-таки сняли. Тогда С.И. Мамонтов не только купил их у автора, но на свои деньги выстроил специальный павильон с вывеской «Выставка декоративных панно художника М.А. Врубеля, забракованных жюри Императорской академии художеств». Такой дерзкий вызов мог позволить себе только он. Правда, администрация упросила Савву Ивановича закрасить последние пять слов, но интерес публики к этим панно был огромен.
Произведения московского периода знаменуют переход М.А. Врубеля к эпическому творчеству, близкому к европейской живописи сдержанностью, достоинством и глубиной образов, преклонением перед красотой и гармоничностью природы. Это обусловило и более плавную, гибкую манеру письма, особый колорит. Замечательны в этом отношении портрет жены, картины «Пан» и «К ночи», таинственная «Сирень», уже упомянутые декорации к спектаклям-сказкам и завораживающие демоны – летящий (1899 г.), сидящий (1900 г.), поверженный (1902 г.).
Эти и многие другие поистине сказочные произведения художник писал на хуторе у Н.Н. Ге, с которым они оказались в родстве по линии жен. Зимой Врубели жили в Москве, и там Михаил Александрович заканчивал летние задумки. Он мечтал зажить спокойно, творить по желанию, не оглядываясь на чье-либо мнение. Непонятый и подвергаемый насмешкам, названный декадентом, художник перестал искать общества своих бывших товарищей по группе «Мир искусства», не посещал выставки и музеи. Его устраивал замкнутый мир семьи, тем более что в ней появился малыш, которого назвали Савва. Правда, мальчик родился с заячьей губой, и Врубель увидел в этом некий знак.
Однако семейная идиллия была не долгой. Болезнь все чаще напоминала о себе. Значительно она усугубилась после смерти сынишки от воспаления легких. Михаил Александрович начинает серьезно лечиться. Удивительно, но нашлись злопыхатели, опубликовавшие в «Новом времени» сообщение: «Декадент, художник Врубель, совсем как отец декадентов Бодлер, недавно спятил с ума».
В период облегчения М. Врубель продолжал работать. Он побывал в Крыму, Киеве, Риге и Петербурге, чтобы найти лучших врачей и одновременно устроить свои дела. Особенно заботила его судьба «Демона», которого художник пытался продать Третьяковской галерее, а после неодобрительных отзывов совета послал на выставку в Петербург. Он приехал вслед за картиной и лихорадочно менял в ней что-то, подправлял, заклеивал газетой и дописывал. Утверждают, что это повторялось сорок раз. Выражение лица этого титанического и трагического героя менялось, как и состояние художника.
После выставки Врубель стал знаменитым. Раньше его называли мужем певицы Забелы, теперь горе сказалось на ее голосе. Если бы не было рядом верной опоры, сестры Михаила, Анны Александровны Врубель, ей вовсе пришлось бы оставить сцену. Обе женщины по очереди сопровождали Михаила Александровича в лечебницы и санатории, заботились о нем, старались создать все условия для жизни и творчества, пока он был в состоянии творить. За последние годы художник успел написать несколько портретов жены, маленького сына, автопортреты и замечательное изображение поэта Брюсова, вариации на тему «Пророка» и названную чудом пастель «Жемчужная раковина», экспонировавшуюся на выставке Союза русских художников в 1905 г. Но какой ценой достались ему эти работы! Брюсов, навестивший Врубеля в больнице, писал: «Я ужаснулся, увидев его. Красноватое лицо. Глаза, как у хищной рыбы… Торчащие волосы вместо бороды. Хилый, больной, в грязной мятой рубашке. Он сумасшедший поистине». Но в то же время поэт признавал: «Линии, проводимые им, были безошибочны. Творческая сила пережила в нем все. Человек умирал, разрушался, мастер – продолжал жить».
Вскоре М.А. Врубель окончательно ослеп и уже не мог рисовать. Он прожил еще долгие, бесконечные для него пять лет, ожидая смерти как избавления. В феврале 1910 г. неожиданно заболел – сестра подозревала, что в результате умышленного стояния под форточкой, – и после скоротечной чахотки умер.
Сам художник высказал однажды мысль, которая свидетельствует о ясном и возвышенном строе его ума: «Смерть, уничтожающая все противоречия, и есть категорический императив». Применительно к нему самому она оказалась поразительно верной. Фантастический реализм лучших произведений М.А. Врубеля волнует сегодня нас и будет волновать будущие поколения.
Ге Николай Николаевич (род. в 1831 г. – ум. в 1894 г.)
Известный русский исторический живописец, портретист, скульптор и график. Профессор живописи (1863 г.).
«Мы все любим искусство, – говорил Н.Н. Ге в 1894 г. с кафедры Первого съезда художников, – мы все его ищем, мы все его открываем и остаемся ненасытными. Все нам хочется верить, что оно еще многое и многое, может быть, откроет…» В своем творчестве Николай Николаевич всегда оставался ненасытным. Он всю жизнь искал свою мысль, свое чувство, свою истину, чтобы путем познания, а если надо, и самоотречения, «идти по-своему». Он шел в искусстве независимо и своеобразно, увлекался работой, открывал для себя новое в привычном и общепризнанном, незаметно стирая границу между искусством и психологией.
Можно только догадываться, откуда у изнеженного барчонка, примерного гимназиста, чинного студента могла появиться такая страстная убежденность в своем предназначении. Николаю было всего три месяца, когда овдовевший отец Н.О. Ге передал его под опеку бабушки-помещицы и любимой няньки. Они жили в имении в Подольской губернии. Но все четыре брата получили образование в Киеве. Николай закончил частный пансион и гимназию. Увлекаясь с детства рисованием, он в 1847 г. поступил вначале в Киевский, а затем перевелся в Петербургский университет на математический факультет, где еще два года успешно продолжал учебу.
Испытав чувство восторга от картины К. Брюллова «Последний день Помпеи», юноша поступает в Академию художеств и превращается в увлеченного, фанатически преданного искусству художника. Имеющий достаточно средств Николай беспечно жил в студенческом общежитии, ссужал друзей деньгами, оставаясь часто сам без средств. Он наслаждался товариществом и учебой, преклонялся перед Великим Карлом и в ранних работах подражал ему («Саул у Аэндорской волшебницы», 1856 г.). Тогда же к молодому художнику пришло первое чувство, и он женился на Анне Петровне Забеле, сестре своего друга-скульптора. «Наша будущая жизнь будет не такая, какая обыкновенно бывает после венчания, – писал Николай своей избраннице. – Мы заживем как люди, а не бары». Анна, получившая хорошее образование и сама постоянно пополнявшая его, после брака (1856 г.) открыла для себя мир большого искусства. Молодая семья решила строить жизнь по Герцену, перед которым преклонялся Николай.
Не дождавшись вручения золотой медали и средств для пенсионерской поездки, художник с женой в 1857 г. «стремительно побежали за границу»: Ге верил, что «там, где ширь и свобода», он может сразу проявить себя как живописец. Но работа над картинами «Смерть Вергинии» (1858 г.) и «Разрушение Иерусалимского храма» (1859 г.) удовлетворения не принесла. Сотни эскизов, но полотна, похожие на брюлловские, «молчат». Зато портреты кисти молодого художника (Я.П. Меркулова, братьев Бакуниных, И. Доманже, 1868 г.; доктора Шиффа, 1867 г.; художника Мясоедова и скульптора Чижова) были отмечены редким мастерством и выразительностью. Особенно часто Николай писал жену («Жена художника с сыном», 1859 г.; «Портрет А.П. Ге за чтением», 1858 г.), с большой любовью изображая в общем-то не очень красивое, с крупными чертами лицо женщины, заставляя почувствовать, чем богат ее внутренний мир. Ге не писал заказных портретов. Чем больше нравился ему человек, тем искреннее получалось на полотне его живописное отражение. Почти десять лет шел художник к одной из лучших своих портретных работ – «Портрет А.И. Герцена» (1867 г.). До первого сеанса, до первой встречи он был «на две трети готов», настолько хорошо знал Ге своего кумира. Изображение простое, будничное и даже интимное. Герцен грузно сидит в кресле, легким наклоном головы подчеркнут большой лоб, не затеняющий ясность взгляда. Темный нейтральный фон выделяет освещенное лицо. «Дружеским сочувствием» назвал Герцен свой портрет.
Но все портретные работы, как и взволнованные, одушевленные пейзажи солнечной Италии, были для Ге лишь поиском своей темы. Она ему «открылась» при чтении Евангелия. Традиционный сюжет «Тайной вечери» (1863 г.) был изображен через собственное понимание случившегося. Художник словно вошел в комнату в ту минуту, когда неверие Иуды стало фактом – окончательным разрывом, предательством. Чистая полоса освещенного помещения отделила его от остальных. Его руки, поправляющие хитон, словно черные крылья. Он сделал свой выбор и уходит, уверенный в своей правоте. Все решено и для ушедшего в думу Христа. Он потерял своего ученика. Иоанн, Петр и Иисус на границе света, все остальные – в плохо освещенном углу, в волнении следят за происходящим. Через час разбегутся испуганные апостолы. Огненный колорит усиливает контраст света и тени – добра и зла. Нарушено великое братство. Дальше у каждого своя дорога и своя Голгофа.
Ге привез картину в Петербург на суд русской общественности. «Тайная вечеря» стала центром, «львом» Академической выставки 1863 г. «Простота», «реализм» и «правда» – такими словами пестрели отклики в прессе. О Ге говорили как о восходящей звезде и надежде русской живописи. Из ученика, минуя звание академика, он сразу стал профессором. К Николаю Николаевичу как к признанному мастеру пришел за советом Крамской, и художник горячо поддержал «бунт четырнадцати». Он всю жизнь будет принимать сторону «молодых», даже не всегда их понимая и не соглашаясь с ними.
Вернувшись к семье в Италию, где подрастали двое сыновей, Николай и Петр, Ге стремительно и воодушевленно пытался продолжать «открывшуюся» ему тему. Но полотна «Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса, идущего к ним в дом» (1864 г.) и «Вестники воскресения» не удались. Продолжать было так же трудно, как и начать. К «Вестникам воскресения» Ге шел четыре года, пока картина «не наполнилась» победой духа и поражением немеющей плоти. Но в 1867 г. картину не допустили на выставку духовные чины и царь, как «не вполне согласную с евангельским толкованием событий», что «может дать повод к превратным в публике суждениям». Критики и зрители не приняли и полотно «Христос в Гефсиманском саду» (1868 г.). Сын Божий на картинах становился «все более человеком». Одни увидели в этом достоинство Ге как художника, другие осмеяли его работу. И если новизна «Тайной вечери» потрясла всех, то новаторство, проявленное в последних работах, оказалось преждевременным. Современники его не поняли.
Неудачи разочаровали художника, но он не изменил «своей мысли» показать столкновение нового и старого мира в цикле о Христе и Иуде. Вернувшись в 1869 г. в Россию, Н. Ге сразу влился в общественную жизнь художников. Он всегда отличался умением говорить, убеждать и доказывать. Теперь его талант прекрасного оратора, полемиста и искусного спорщика был необходим созданному 2 ноября 1870 г. Товариществу передвижных художественных выставок. Осуществляя свои мечты о материальной независимости художников и продвижении искусства к народу, Николай Николаевич с головой ушел в дела товарищества. А замечательные портреты Н.И. Костомарова (1870 г.) и А.Н. Пыпина, а также представленная на Первой передвижной выставке в Петербурге картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871 г.) вернули художнику славу исторического живописца.
Теперь трудно представить себе сцену допроса иначе, чем на полотне Ге. «…Всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры, – писал Салтыков-Щедрин, – был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются в памяти». Художник вновь выбирает для картины момент, когда в отношениях отца и сына уже все решено. Петр, строящий обновленное государство, сознательно жертвует своим сыном, чтобы правление Алексея «тяжелым бревном» не легло под ноги России. Уверенный в своей правоте Петр пристально смотрит на жалкую, беспомощную фигуру сына. Взгляд опущенных глаз Алексея выдает упрямство и надежду все повернуть вспять. Кроваво-красная с четким узором скатерть спадает на пол, навсегда разделяя отца и сына. Личная драма на картине Ге – это и историческая драма. Россия требовала «Авраамовой жертвы» в борьбе старого с новым.
Картина была куплена П.М. Третьяковым еще до выставки, а для царя художник сделал копию. Вновь всеобщее признание после восьми лет критики. Ге опять стал «пророком» и «основателем новой школы» живописи.
Николай Николаевич вступил в очередной период поисков, метаний и неудач. Дальше эскизов не продвигалась работа над полотнами «Алексей Михайлович и Никон» и «Царь Борис Годунов допрашивает царицу Марфу о смерти Димитрия». Не заговорили под кистью картины «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» (1874 г.) и «Пушкин в Михайловском» (1875 г.). Но зато «его портреты так мучительно думают и так зорко смотрят, что становится жутко, глядя на них. Не внешняя личина людей… самая изнанка – загадочная, мучительная и страшная – вся в них открыта наружу». Так говорил А. Бенуа о портретных работах Ге («Портрет писателя О.А. Потехина», 1876 г.; скульптурный «Портрет В.Г. Белинского», 1871 г.; «Портрет И.Я. Петрункевич», 1876 г.; «Портрет Н.А. Некрасова», «Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина», оба в 1872 г.; «Портрет И.С. Тургенева», 1871 г.).
А вот деньги зарабатывать Николай Николаевич никогда не умел. Испытывая материальные затруднения, художник в 1876 г. покупает небольшой дом на хуторе Плиски (Воронежская губ.). Его отъезд из Петербурга многие посчитали бегством, жалели, поучали. Ведь Ге предлагали профессуру в академии, но он предпочел работать на земле и заниматься пасекой. Жизнь богаче не стала. Жена постоянно насмехалась, но приносила себя в жертву. «Я и на хуторе могу писать», – говорил Николай Николаевич, представляя на выставках свои работы.
Особое удовольствие получал Ге от общения с Л.Н. Толстым. Он подолгу жил в семье писателя, с любовью создал его живописный (1884 г.) и скульптурный (1890 г.) портреты. В беседах они находили много общих точек соприкосновения, особенно в вопросах веры и хождения в народ. Сам Николай Николаевич естественно вписался в сельский быт. Он искусно клал печи в мужицких домах и читал Евангелие нищим с тем же удовольствием, с каким десятилетием раньше помогал начинающим художникам, устраивал выставки и вел светские беседы в салонах. Но главным для художника оставалась история жизни и смерти Христа, ее осмысление и живописное отражение.
Два года работал Ге над картиной «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад» (1888-1889 гг.). Глубокая трагичность в застывшей фигуре Христа, устремившего свой взгляд в ночное небо. Медленно уходят ученики. Их лиц не видно – все закутаны в хитоны. Они уходят в тень, унося тяжкий груз разрыва с учителем. Фантастическая гармония природы и настроения людей. Фигура Христа озарена лунным сиянием – он один будет нести свой крест.
В 1890 г. на Восемнадцатой передвижной выставке Ге экспонирует картину «Что есть истина?» – в ответ взрыв похвал и критики. Все привыкли к красивому облику Христа, а здесь он избитый, оплеванный и униженный. Но непоколебимый. «Это первый Христос, которого я понимаю», – написал Лесков. «Отвратительной» назвал картину царь и приказал убрать с выставки. Христос смотрит на важно вопрошающего Пилата выразительным взглядом человека, который идет на смерть за истину.
Трудные раздумья больше не терзают Ге. Он открыл для себя истину. Четыре последние года жизни – четыре картины-откровения. Современников поразил безликий Иуда («Совесть», 1891 г.), одиноко застывший на освещенной луной дороге. Один на один со своей совестью. Зачем ему лицо, если он продал истину.
В 1891 г. Ге похоронил жену. Он до последнего дня своей жизни тосковал без Анны Петровны, с ее уходом поняв, что только «смерть открывает полную меру любви». А если это смерть Христа – осужденного и осмеянного («Суд Синедриона», 1892 г.), познавшего всю степень унижения и отчаяния («Голгофа», 1892 г.)? На небольшом полотне страдания Христа выражены с исключительной силой художественной выразительности. Темпераментная резкая линия подчеркнула экспрессивность образа. Мазки стремительны и резки, как на полотнах импрессионистов. Лицо мученика, но не Бога, а человека. Телесные и духовные страдания исказили благообразное лицо Иисуса. Таким его еще никто не писал.
Многих оттолкнуло и последнее полотно Ге «Распятие» (1894 г.), которое бесследно исчезло где-то на выставках в Европе. Остались 19 эскизов, поражающие натурализмом в изображении умершего на кресте Иисуса и кричащего от горя разбойника. «Это бойня», – сказал царь. Но ведь и гонения на первых христиан были той «бойней», которая в муках закалила веру. На вопрос молодых художников: «А "воскресение" будет?» – Ге ответил: "Это же и есть "воскресение". "Распятие" или "Воскресение". Только вы ждете, что воскреснет Христос, но он умер. Воскрес в последнюю минуту Разбойник. Стал Человеком!..» Именно так прочитал Ге Евангелие.
И таким он был интересен молодым художникам. «Красивый старик», «старик с апостольской внешностью», «молодой старик», живой и горячий. Его творчество не принимали Крамской, Стасов, Поленов, Репин. Художник проповедовал, никого не отвергая, увлекал, но не заставлял идти следом по проложенной кем-то дороге. Ге не боялся тех, кто его обгонял, он стремился вслед за ними. Художник был убежден, что узнать, что есть истина, способен только тот, кто не останавливается ни на мгновение. Задержать развитие может только смерть.
Н.Н. Ге скончался 2 июня 1894 г. на хуторе Плиски, где и был похоронен.
Глазунов Илья Сергеевич (род. в 1930 г.)
Известный русский живописец и график, портретист и пейзажист, создатель монументальных исторических полотен, книжный иллюстратор, мастер театрально-декоративного искусства. Автор более трех тысяч произведений. Педагог, просветитель и общественный деятель. Действительный член Академии художеств России, член Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны. Доктор искусствоведения, профессор, основатель и ректор Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества (1988 г.). Обладатель почетных званий и наград: народного художника СССР (1980 г.), ордена Вишну (Лаос), премии им. Д. Неру (Индия), ордена Святого Михаила (Португалия), золотой медали «За выдающийся вклад в мировую культуру» (ЮНЕСКО), ордена Преподобного Сергия Радонежского (1999 г.), ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000 г.) и др. Создатель патриотического клуба «Родина» (нач. 60-х гг.), один из организаторов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, вице-президент фонда «Русская соборность».
Автор книг «Дорога к тебе» (1965-1966 гг.) и «Россия распятая» (2000 г.).
Илья Глазунов – знаковая, культовая фигура в русском искусстве XX века. Нередко его называют «зеркалом нашей эпохи». Это определение, хотя и ставшее расхожим, довольно точно характеризует Глазунова – и как человека, и как художника. Ибо его жизнь и творчество представляют собой поистине удивительный сплав несоединимого. Они так же противоречивы, как и та действительность, которую художник вот уже более 40 лет изображает на своих монументальных полотнах.
Во все времена и при любом строе – в годы хрущевской «оттепели» и брежневского застоя, перестроечного бума и демократических надежд – Глазунов всегда оставался «на плаву», умудряясь сказать свое слово картинами, книгами, публицистическими выступлениями, педагогической, просветительской и общественной деятельностью. И что самое удивительное, слово это, идущее, казалось бы, вразрез с общепринятым, официальным мнением, делало художника одновременно и гонимым, и обласканным властями. В этом поразительном умении приспосабливаться к любым обстоятельствам, несомненно, проявляется еще один дар известного живописца, не менее большой, нежели художественный.
Удивительна и эстетическая позиция художника: непреклонность и категоричность в изображении истории России, смелый отказ от фальшивых ценностей соцреализма совмещаются в ней с ретроградством, ярым неприятием многих истинных ценностей мирового искусства. В частности, вряд ли можно согласиться с утверждениями Глазунова, сделанными на страницах его книги «Россия распятая». В одном месте он категорично заявляет: «Я не любил, не люблю и никогда не буду любить Сезанна, с которого начинаются все монографии «современного искусства», потому что Сезанн открыл путь к кубизму и сменившему его авангардизму». В другом – с такой же неприязнью он пишет о не менее выдающемся мастере: «Пикассо показался многим голым королем, скрывающим свою несостоятельность за холодными ребусами выдумок, выдаваемых за свободу индивидуальности». Еще больше достается от этого убежденного реалиста Малевичу и Кандинскому, представителям русского и мирового авангарда. Тем самым Глазунов отметает любые другие направления в искусстве, оставляя право на существование только реалистическому.
Отношение современников к творчеству художника также крайне противоречиво. С одной стороны – восторженное преклонение, с другой – не менее ожесточенное неприятие. Середины нет. Непростая ситуация, осложненная к тому же его монархическими убеждениями. Сторонники Глазунова считают его истинным сыном Отечества, гениальным создателем русской живописной летописи. Противники называют его убеждения национал-шовинистическими, а творчество приравнивают к китчу – одному из проявлений массовой культуры. Специалисты-искусствоведы чаще всего обходят его стороной. Тем не менее и в России, и за рубежом он считается одним из самых знаменитых современных русских художников. Сам о себе Глазунов без ложной скромности говорит, что он пришел из XIX века, но является и человеком XXI века.
Жизненный и творческий путь художника более всего связан с Петербургом и Москвой. В первом городе он родился и провел свои детские и юношеские годы. С другим Глазунов связывает свое «второе рождение»: «Москва меня сделала осознанно русским». Именно этот город, по словам художника, научил его различать добро и зло, выковал его характер.
Родился Глазунов в интеллигентной петербургской семье. Отец его, Сергей Федорович, историк по профессии, был родом из крестьян деревни Петровское Ярославской губернии. Родословная же матери, Ольги Константиновны, вела свое начало с древности. Впоследствии, занявшись ее изучением, Илья нашел документы о своих предках – Флугах, живших в VII в. и состоявших в родстве со славянской королевой Любушей. Один из них был приглашен в Россию еще при Петре I для преподавания математики и фортификации, участвовал в сражении со шведами. От него и пошла русская ветвь семейства, в которой было немало известных деятелей в различных областях, одаренных к тому же музыкальными, или живописными, или литературными талантами. Так, дядя художника, академик медицины Михаил Федорович Глазунов, увлекался русским искусством и имел прекрасную коллекцию живописи. Поэтому неудивительно, что в семье маленького Илюшу окружала атмосфера любовного отношения к историческому прошлому России, ее культуре и искусству.
Но детство его закончилось слишком рано: во время Второй мировой войны в голодном блокадном Ленинграде погибли родители и большинство родственников. Мальчик, чудом вывезенный из города по «дороге жизни», оказался в глухой новгородской деревушке Гребло. Здесь он прожил два года в семье колхозницы Марфы Скородумовой. Эта простая женщина, приютившая голодающего и спасшая его от смерти, стала для Глазунова олицетворением силы и величия русской души.
Вернувшись в родной город в 1944 г., он поступает в среднюю художественную школу, а после ее окончания – в институт им. И.Е. Репина. Уже в студенческих работах Глазунова проявляется не только талант, но и собственное мировоззрение, стремление к поиску новых тем и сюжетов, выразительных средств их изображения. Свой стиль складывается непросто. «Я очень долго мучился над вопросом, смогу ли я когда-нибудь стать художником, – вспоминает он сейчас. – В детстве у меня не получались даже самые простые рисунки. Я ходил в музеи специально для того, чтобы смотреть холсты великих художников, и поражался, с какой легкостью и точностью они вырисовывали каждую деталь. Но однажды у русского художника Репина в его книге «Далекое близкое» я прочел, что для того, чтобы стать художником, надо творить от души, не ориентируясь ни на кого, рисовать то, что тебе близко. Это мне очень помогло в моем творчестве».
Трудно сказать, насколько молодому художнику, будущему ниспровергателю соцреализма, была близка тема, которую он отразил в картине о коммунисте Юлиусе Фучике (1956 г.), но заявить ему о себе она действительно помогла. Выполненное за год до окончания института полотно было отправлено на международную выставку студенческих работ в Праге и получило Гран-при. После такого успеха двадцатишестилетний художник организует в Москве первую персональную выставку, представив на ней 80 работ. Это было неслыханно – ведь студенту за короткое время удалось создать такое множество полотен, посвященных сложным темам и идущих вразрез с канонами официального советского искусства. Выставка стала сенсацией. Этому в немалой степени способствовала и шумиха, поднятая в зарубежной прессе, расценившей его произведения как «удар ножом в сердце соцреализма». Вслед за ней посыпались заказы. Портретная галерея Глазунова, начавшаяся с изображения актеров французского театра Жана Вилара, вскоре пополнилась портретами известных итальянских мастеров культуры – Джины Лоллобриджиды, Джульетты Мазины, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Марио дель Монако и др. Для их создания художника пригласили в Италию. Откликом на эту поездку стала книга Паоло Риччи о творчестве Глазунова. А после выставки его работ в Риме итальянская пресса нарекла его «Достоевским живописи». (Здесь уместно упомянуть об интересной метаморфозе «титулов» художника: спустя 40 лет в оде, написанной к 70-летию Глазунова, Илья Резник назовет его не менее величаво – «Микеланджело России».)
Ажиотаж вокруг творчества молодого бунтаря, конечно же, не был лишен определенной идеологической подоплеки. Но возник он не на пустом месте. Талантливость Глазунова ни у кого не вызывала сомнений. Очевидным было и то, что уже в ранних работах ему удалось с безошибочной точностью определить те темы и сюжеты, которые остро волновали зрителей и до него практически не поднимались в советском искусстве. Это умение нащупывать и заполнять «тематические ниши» было и остается одним из существенных достоинств художника. Четыре живописных цикла, начатые им в 60-е гг., стали характерными для всего его творчества. Это «Вечная Россия», посвященная героической истории русского народа; «Город», представляющий собой лирический рассказ о современности; иллюстрации к русской классике, и прежде всего к произведениям Ф.М. Достоевского, а также серия портретов.
Но полотна Глазунова привлекали не только своей тематикой. Они выделялись нетрадиционным подходом к построению картины, нарочитой броскостью, эффектностью изображения, использованием необычных деталей или персонажей. Все эти качества в полной мере проявились уже в дипломной работе художника – картине «Дороги войны» (1954-1957 гг.). Несмотря на то что в ней он бросает дерзкий вызов искусству, воспевающему лжегероизм, и вместо лакированного показа подвигов изображает трагедию отступления, многое и в замысле, и в исполнении ее оставляет ощущение какой-то искусственности. Она скорее напоминает массовую сцену театральной постановки, где все герои расставлены по мизансценам, мало связаны друг с другом и выглядят довольно банально. Чтобы усилить впечатление, Глазунов пользуется экстраординарным приемом: вводит в картину некого апокалипсического всадника на ржущем белом коне, а ребенку, изображенному на переднем плане, придает черты младенца Христа. Преподаватели учли и дерзость, и художественные просчеты картины, оценив ее отметкой «удовлетворительно». И из баловня первого успеха Глазунов превращается в простого учителя рисования сначала в Ижевске, а потом в Иваново. Но эта «опала» длится недолго.
Вскоре Илья Сергеевич, женившийся еще в студенческие годы на талантливой художнице Нине Виноградовой-Бенуа, возвращается в Москву. Сведения об этом периоде его жизни довольно противоречивы. С одной стороны, много пишется о том, что Глазунову приходилось долгое время влачить жалкое существование: отсутствовало жилье, путь в Союз художников был закрыт, и ему приходилось работать грузчиком и кочегаром в бойлерной. По другим источникам, изгой Академии художеств активно подрабатывал, исполняя заказы на портреты преимущественно дипломатов и кинозвезд – частых гостей в его мастерской. Тогда же он объявляет себя русофилом и начинает коллекционировать старинные иконы. Так или иначе, но в 70-е гг. Глазунов действительно становится самым модным русским портретистом. Ему заказывают свои портреты премьер-министр Дании Краг, короли Лаоса, Испании и Швеции, президент Финляндии У. Кекконен, премьер-министр Индии Индира Ганди и даже Папа Римский. Пользуются его живописными услугами и многие советские лидеры. Все эти громкие имена стали для Глазунова своеобразным мандатом для вхождения в верхние эшелоны художественной элиты. Так, не признанный советским официальным искусством, он превращается в известного «придворного» художника, с одной стороны, гонимого, а с другой – любимого сильными мира сего. Именно тогда в зарубежной прессе Глазунова стали называть «художником королей и королем художников».
Но его «королевством» становится не столько портрет, сколько монументальная историческая живопись. В 1970-1990-х гг. появляются самые знаменитые полотна Глазунова – «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Великий эксперимент», «Поле Куликово», «Моя жизнь», «Возвращение блудного сына», «Россия, проснись», «Прощание» и многие другие. Все они, действительно, по широте и глубине охвата исторического материала не имеют аналогов в современном русском искусстве, но по способу художественного воплощения не блещут мастерством. В них много эффектности и мало души, поскольку их персонажи – не живые, реальные люди, а лики, застывшие и однообразные. Но зрителей прежде всего поражает тема и масштабность изображения. Именно так произошло с «Мистерией XX века», которая стала настоящим общественным явлением, символом прорыва из затхлого мира социалистических канонов к новым, пугающим тогда своей смелостью формам, образам и идеям. Сам факт написания такой картины – несомненная заслуга Глазунова. Одно плохо, что за громким общественным звучанием не осталось места для живописи. Последний вариант картины (а их было несколько), насыщенный 174 персонажами, более напоминает плакат, нежели художественное полотно.
Судьба «Мистерии» складывалась непросто. В одном из интервью художник рассказывал: «"Мистерию" я начал писать, как ни странно, в Германии. Но там картина вызвала бурный протест. Не все ее поняли – ведь там были изображены Гитлер, Сталин, Брандербургские ворота… На рулоне я привез ее в Москву и писал в двух комнатах. А последняя "Мистерия" была выставлена на двух выставках. Только воля художника может объединить столь разных людей. Это и есть мистерия. На одном холсте – силы и идеи, определившие историю XX века… А за ту первую "Мистерию", вы знаете, меня, приравняв по статусу к Солженицыну, хотели выслать в Америку. Один голос перевесил в мою пользу. Меня послали "всего лишь" на три месяца в глухую тайгу, на БАМ…»
Глазунова действительно миновала участь диссидента. Да и сам он к ней явно не стремился. С таким же успехом, как и свои «антисоветские» исторические полотна, он писал строителей БАМа и монтажников Нурекской ГЭС, таджикских колхозниц и героев вьетнамской войны. Все они являются чистейшими образцами того самого соцреализма, против которого так яростно выступал художник.
Одновременно с этими работами Глазунов проявил себя и как мастер театрально-декоративного искусства. Вместе с женой Ниной Александровной, тонким знатоком русского костюма, он создал по-настоящему интересное оформление к постановкам опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (Большой театр), «Князь Игорь» и «Пиковая дама» (Берлинская опера), балета «Маскарад» (Одесский оперный театр). В 1981 г. художника даже назначили директором Музея декоративно-прикладного и народного искусства. И здесь его первым и верным помощником была Нина Александровна. Нельзя не отметить, что эта красивая и талантливая женщина, потомок знаменитого рода Бенуа, сыграла немалую роль в становлении и развитии Глазунова как художника. Отличавшаяся тонким вкусом и эрудицией, имевшая безупречную репутацию в художественных кругах и обширные связи, она делала для любимого мужа буквально все: сдавала кровь, чтобы купить ему краски, добивалась заказов, решала вопросы с жильем, была другом и советчиком и… даже прощала его многочисленные измены. Молодой, красивый, знаменитый, одетый всегда с иголочки художник многим вскружил голову, быстро увлекался и был безумно ревнив. Однажды, еще в начале своей семейной жизни, он познакомился с восемнадцатилетней актрисой Ларисой Кадочниковой, дочерью знаменитой Нины Алисовой. Три года длился их роман. О нем знали все. Даже его жена Нина. Позже Лариса вспоминала: «Он выматывал меня. Эмоционально. Я ужасно уставала… Я почти не спала. Наши отношения были на грани истерии. Глазунов поклонялся Достоевскому и хотел, чтобы его окружали и страсти по Достоевскому. На пределе человеческих возможностей. Только тогда он мог работать, это вдохновляло его. Он бесконечно требовал от меня признаний в любви. К нему, гению… Наша связь была болезненной и красивой».
Глазунов неоднократно рисовал свою жену. Ее портреты, пожалуй, самое лучшее из всего написанного художником. В них много душевного тепла и затаенной грусти. В 1986 г. Нина Александровна покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Ее смерть стала страшным ударом для художника.
Но горе не сломило Глазунова. Он по-прежнему полон энергии и творческих замыслов. В 1988 г. художник основал Всероссийскую академию живописи, в которой в духе реалистического искусства обучает 450 студентов. Бок о бок с ним преподают здесь и его дети – сын Иван и дочь Вера.
Весь свой мощный заряд русского проповедничества, за который В. Солоухин назвал Глазунова «вихрем служения во имя России», художник отдает национальной идее. Этому подчинены его публицистическая и общественная деятельность, работа по охране и восстановлению памятников культуры. И конечно же, творчество, которое скорее можно расценивать как цветную иллюстрацию к публицистическим выступлениям Ильи Сергеевича. Новые его работы – «Рынок демократии» и «Осквернение храма в пасхальную ночь» также излишне пафосны, плакатны и густо «населены» причудливыми персонажами и излюбленными ликами. Сюжеты его произведений повторяются, художественные приемы тоже.
Но на выставках Глазунова по-прежнему многолюдно. И это лишний раз доказывает существование духовного вакуума в современном обществе, отсутствие мастеров живописи, способных достойно заполнить ту нишу в искусстве, которая до сих пор искусно прикрывается красочными глазуновскими плакатами. Недаром художник говорит: «У меня вообще нет никаких конкурентов, и не может быть, просто я ни с кем не конкурирую, не бегу как на соревнованиях». Действительно, конкурентов нет. А жаль.
Глущенко Николай Петрович (род. в 1901 г. – ум. в 1977 г.)
Николая Петровича Глущенко современники знают в двух ипостасях: как талантливого живописца, народного художника СССР (1976 г.), автора изумительных пейзажей – и как разведчика, работавшего под кличкой «Ярема». Недоброжелатели иногда намекали на то, что художественная деятельность – только прикрытие для законного пребывания за границей. Впрочем, для того чтобы убедиться, что Глущенко – по-настоящему талантливый художник, достаточно взглянуть на его полотна.
Николай Петрович Глущенко родился в Новомосковске (тогда – в Екатеринославской губернии, ныне – Днепропетровская область). После смерти отца они с матерью переехали в Юзовку (сейчас – Донецк). Николай учился в коммерческой школе, жизнь постепенно налаживалась. Но тут разразилась Гражданская война. Глущенко оказался в частях Деникина, затем попал в концлагерь в Польше. Скитания закончились в Берлине.
Николай, талант которого начал проявляться уже в то время, поступил в Берлинскую высшую школу изобразительных искусств. Учился он на стипендию УНР – едва ли молодой художник, пусть и талантливый, смог бы заработать на образование своими силами. В Берлине Глущенко учился до 1924 г. Немецкий язык дался ему на удивление легко (как впоследствии – французский).
Берлин стал для художника отправной точкой не только в творчестве. Здесь он познакомился со своей будущей женой Марией Давидовной. Они были удивительно красивой и гармоничной парой: очаровательная ренуаровская блондинка и стройный, элегантный молодой человек… Мария Давидовна, вспоминая первые дни их знакомства, говорила о том, что уже в то время он отличался легкостью в общении и обаянием. Уже тогда имя Глущенко было «на слуху», ему заказывали портреты, с ним стремились общаться и берлинцы, и выходцы из недавно образовавшегося СССР. Проучившись два года, Николай начал подменять своего профессора в вечерней рисовальной студии, куда приходил и Довженко – человек, сыгравший в жизни художника важную роль.
Казалось, Берлин стал для Глущенко вторым домом, но по окончании учебы он переезжает в Париж. Это был город его мечты, город, в котором он был настолько счастлив, что до глубокой старости сохранил о нем самые светлые воспоминания. Чашечка кофе в кафе, свежий выпуск «Юманите» (этот еженедельник он покупал до конца своих дней). В Париже Глущенко увлекся импрессионизмом, и его картины приобрели непередаваемую игру света и цвета.
С самого начала карьеры Николая сопровождала громкая слава. Портреты, которые он создавал, были по-прежнему чрезвычайно популярны, пресса охотно помещала отзывы критиков и статьи о молодом талантливом художнике. Те, кто был вхож в его мастерскую, поражались его работоспособности. Лео Свемп, будущий ректор Рижской академии, вспоминал, что Глущенко работал одновременно на нескольких мольбертах, к тому же – над совсем разными вещами: портрет, пейзаж, интерьер… Хозяин мастерской называл такие моменты «экстазом творчества».
Студия Глущенко была настоящим салоном, где встречались самые разные люди – вне зависимости от политических и иных убеждений. Еще в 1923 г. по совету Довженко художник принял советское гражданство, но его совершенно не смущало, что наряду с выходцами из советской России к нему запросто заходили и бывшие деникинцы, и основатели ОУН Андриевский с Вышиванным. Он встречался с В. Маяковским, П. Кончаловским, написал портреты Ромена Роллана, Барбюса, Синьяка… Разумеется, за ним следили – вначале негласно, затем почти в открытую. А в 1926 г. Глущенко завербовал НКВД – он был вхож в самые разные круги и мог стать ценным источником информации.
Внешне все осталось таким же, как и раньше: Монпарнас, «Ротонда», «Купол», тренировки (Николай Глущенко, кроме всего прочего, был чемпионом Парижа по плаванию). Правда, среди деловых и любовных свиданий приходилось выкраивать время на донесения в Москву… В материалах НКВД того времени упоминается, что Николай Глущенко постоянно просится домой, в Россию. Он действительно рвался на родину, хотя многие знакомые, вкусившие заграничной жизни, совершенно не понимали этого стремления: если уж удалось стать европейцем, зачем рисковать всем?
Глущенко разрешили вернуться только в 1936 г. Нельзя сказать, что его встретили как героя (или даже как просто талантливого художника). Но комната в московской коммунальной квартире обрадовала его гораздо больше, чем собственная студия на чужбине. Он хотел только одного: продолжать писать. Разрешили и это, правда, в качестве «нагрузки» попросили запечатлеть успехи советского народа – но это было обычным явлением. Выставки Николая Петровича пользовались неизменным успехом. Полотна были пронизаны светом, они даже не передавали – создавали настроение. Все это было так не похоже на произведения соцреализма, так по-европейски. Кстати, сам автор вызывал у публики не меньший интерес, чем его картины: одевался он в парижском стиле – клетчатый костюм со штанами, заправленными в толстые гетры, кепи и желтые ботинки.
Прошло всего четыре года с момента, как Глущенко вернулся домой, и его вновь призвали на службу. На сей раз ему предстояло отправиться в Германию, чтобы наладить отношения с референтом по культурным связям Министерства иностранных дел Германии Клейстом. Николай Петрович организовал культурный обмен: в Москве прошла немецкая выставка, в Берлине – советская. Кстати, эту выставку посетил Риббентроп и передал Николаю Петровичу альбом акварелей Гитлера со словами, что тот считает Глущенко одним из лучших пейзажистов Европы (позже НКВД вернуло альбом художнику, и он хранился в мастерской). Весной 1940 г. Глущенко привлекают к сбору разведданных. Он устанавливает связи с представителями антисоветских националистических группировок. И в то же время продолжает писать этюды весеннего Берлина… В 1990 г. В. Попик издал книгу, посвященную Глущенко-разведчику. В ней упоминается, в частности, что именно «Ярема» первым сообщил в Москву о том, что Гитлер готовится напасть на СССР, – на пять месяцев раньше Рихарда Зорге.
Началась война. Глущенко писал пейзажи Москвы, ощетинившейся противотанковыми «ежами». В 1944 г. он переехал в Киев, поселился вместе с семьей в доме на углу Владимирской и Большой Житомирской. После войны ему выделили мастерскую в самом центре Киева, на возрожденном Крещатике. Теперь уже ничто не могло отвлечь его от работы. Николай Петрович ездил по всей стране в «творческие командировки», писал по четыре-пять этюдов в день и был счастлив. Он наконец-то мог целиком посвятить себя главному делу всей жизни – живописи. Одна за другой появлялись картины – «Киев. Март», «Киевская осень», «Цветение», «К вечеру»… Он пишет пейзажи Крыма и Белоруссии, днепровские кручи, безымянные (но не менее прекрасные) лесные пейзажи, работает над портретами. Конечно, писал он и картины, которые можно назвать «социальным заказом». Но к чести художника, уже в зрелом возрасте он отобрал 250 таких полотен и собирался их сжечь. В огонь они не попали, но больше не экспонируются на выставках – сотрудники музеев выполняют волю их творца.
В шестидесятых-семидесятых годах талант Глущенко раскрывается в полной мере. Картина «Зимний день» стала началом нового этапа в творчестве художника, новой манеры письма, которая одним дала повод заявить, что он пишет «ядовито», а других буквально очаровывала. Цвета становятся неправдоподобно яркими. На его полотнах – фиолетовые стволы деревьев, синяя земля, розово-белые вспышки, передающие цветение садов. В 1970-х годах Николай Петрович специально ездит за границу за акриловыми красками – насыщенными, интенсивными. Однако сам он неоднократно подчеркивал: «Краски красками, ими пользуемся, но пишем, рисуем – чувствами. Без чувств созданная картина будет неживой. Так говорили классики. Так оно было и есть». Глущенко обладал уникальным умением чувствовать этот мир, воспринимать его во всех проявлениях. Он с упоением отдавался живописи, общественной работе, дружеским встречам. А еще – любви. Женщины сопровождали его всю жизнь, и он вовсе не чурался их общества. Были и торопливые поцелуи, и свидания. И, если верить глущенковскому афоризму «Какой ты в живописи, такой ты и в постели», личная жизнь художника была весьма бурной. Правда, многочисленные романы не затрагивали семейного очага.
Вскоре Глущенко стал символом творчества, идеальным образом художника, парижанина, каким-то чудом оказавшегося в советском пространстве и в отличие от многих представителей андеграунда не сломленного системой. Его картины висели во многих киевских квартирах, их еще при жизни автора собирали коллекционеры. Посетители выставок оставляли в книге отзывов настоящие признания в любви: «Я влюблен в ваши произведения», «Уже по пути на выставку я знал, что встречу симфонию цветов». Говорили, что его картины цветисты, как радуга, и ярки, как солнечный луч. Как-то на одной из выставок было украдено несколько полотен. Николай Петрович отнесся к этому безо всякой обиды: «Значит, кому-то таки понравились картины!»
Много времени отнимала общественная деятельность. Глущенко был членом правления и президиума Союза художников Украины, возглавлял секцию изобразительного искусства Украинского общества дружбы и культурного взаимодействия с зарубежными странами, работал заместителем главы правления Украинского отделения общества «СССР – Франция». Все остальное время он проводил в мастерской, создавая новые и новые шедевры: «Лунная лирика», «Силуэты берез», «Сад в цвету»…
В последние годы художник хуже слышал, часто чувствовал себя плохо, но не терял жизнерадостности. По его же признанию, богатства его души с лихвой хватило бы на две жизни. Но он уже предчувствовал скорую разлуку с этим миром. На похоронах Юрия Смолича он обронил: «Скоро и моя очередь…» На следующий год, 31 октября 1977 г., его не стало.
Глущенко оставил огромное художественное наследие. Его картины занимают почетное место в музеях восьми стран. Точное количество полотен неизвестно. Только в 1978 г. Мария Давидовна – вдова художника – передала в дар музеям Украины более тысячи его работ. А в ноябре 1978 г. в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства УССР была открыта мемориальная мастерская народного художника СССР Николая Петровича Глущенко. На мольберте – последний натюрморт, над которым он работал, полевые цветы. При взгляде на них вспоминаются слова художника: «Я люблю природу, потому что это – вечность. Потому ее и воспроизвожу. Может, какое-то мгновение вечности и поймал на полотне…»
Голубкина Анна Семеновна (род. в 1864 г. – ум. в 1927 г.)
Выдающийся русский скульптор Серебряного века. Но кроме того, это женщина удивительной судьбы, доказавшая всему миру, что целеустремленный человек может добиться всего, чего пожелает. Она прошла непростой путь от дочери огородников до мастера, чье творчество до сих пор считается эталоном. По этому поводу С.Дягилев говорил о Голубкиной: «Крестьянка… огородница!.. Теперь уехала в Париж и учится у Родена… Поражает всех живостью, экспрессией…» Достигнув вершин славы, она сумела остаться самой собой, и это – еще одно выдающееся достижение Анны Голубкиной.
Анна Семеновна Голубкина родилась в 1864 г. в городе Зарайске Рязанской губернии (ныне – Московская область). Она происходила из семьи, в которой сохранились старообрядческие традиции. Дед Анны, Поликарп Сидорович Голубкин, был старовером-начетчиком, то есть главой, духовным наставником общины беспоповского толка. Он был и фактическим главой семьи, состоявшей из сына Семена Поликарповича, невестки Екатерины Яковлевны, а также их семерых детей. Семья занималась огородничеством (этим словом называли профессиональное разведение овощей на продажу) и содержала постоялый двор. Абсолютная честность (характерная для старообрядцев в принципе) и высокорентабельное хозяйство снискали семье Голубкиных всеобщее уважение.
Когда Анне исполнилось два года, ее отец скончался. Младший брат Анны родился уже сиротой. Потеря кормильца была тяжела не только психологически: хозяйство требовало мужских рук. Поначалу жилось очень нелегко. Детей рано приучали к труду, чтобы они могли внести свою лепту в общее дело. Впрочем, был здесь и важный педагогический момент: в старообрядческой среде труд считался одним из способов служения Богу. Кстати, занятия семьи Голубкиной – странноприимство и огородничество – считались традиционными для староверов. Несмотря на то что семья нередко с трудом сводила концы с концами, образование получили все дети.
Для русских женщин того времени дальше было возможно несколько «сценариев» жизненного пути: или раннее замужество и ведение хозяйства, или три традиционных для женщин занятия – воспитание детей, фельдшерство или художественное ремесло. Анна выбрала последнее. Поначалу ее планы не шли дальше получения навыков росписи посуды или изготовления игрушек. Однако судьба распорядилась иначе.
В 1880-х гг. Анна занялась самообразованием. Она запоем читала книги, собирая собственное мировоззрение по кусочкам, как мозаику. Девушка нашла поддержку в лице педагога А.Н. Глаголева – друга семьи, который вначале взялся руководить ее чтением. Из воспоминаний его жены – Е.М. Глаголевой – мы узнаем об этом следующее: «Александр Николаевич, очень сдружившийся с Анной Семеновной, взялся руководить ее чтением: читали Белинского, Писарева, Добролюбова – все, что было тогда действенно в литературе». То ли эти книги пробудили в Анне жажду действия, то ли она наконец решила следовать своему призванию – неизвестно. Однако в 1885 г. она приехала в Москву, чтобы поступить в Классы изящных искусств архитектора Отто Гунста. На экзаменах по рисунку, живописи и композиции она получила неудовлетворительные оценки – сказалось отсутствие специальной подготовки. Но когда настала очередь экзамена по скульптуре, крошечный этюд Голубкиной «Молящаяся старуха» настолько поразил председателя комиссии Сергея Волнухина, что он даже показал его другим членам комиссии и попросил их определить, кому из известных скульпторов принадлежит эта работа. Участь Анны была решена: ее не только приняли в классы, несмотря на провальные оценки по другим дисциплинам, но и освободили от оплаты за обучение ввиду выдающегося таланта.
Потекли учебные будни. Голубкина усердно занималась живописью и рисунком. Однако классы вскоре были закрыты, и ей пришлось в 1891 г. перейти во второе по значению после Петербургской академии художеств художественное учебное заведение России – Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). На этот раз – вольнослушательницей. Именно здесь она сделала свой окончательный выбор в пользу скульптуры, несмотря на то что этот вид искусства был исключительно трудоемким, дорогостоящим и не столь популярным, как живопись.
Голубкина старалась изо всех сил, стремясь сократить время обучения и как можно скорее стать профессионалом – ведь семья в Зарайске нуждалась в ее поддержке, в том числе и материальной. Меньше чем через год обучения Анна представила портреты двух стариков-натурщиков, в которых уже был заметен грамотный подход к заданию. А еще через год она выполнила целый ряд работ (к сожалению, бо́льшая часть их не сохранилась), самыми выдающимися среди которых были «Мальчик, выходящий на бой» и «Слепые».
Голубкина покинула МУЖВЗ в 1894 году, когда С.И. Иванов оставил преподавание, а ей самой стало ясно, что все новое и творческое из этой школы она уже взяла. В эти годы большие надежды возлагались на пережившую реформу Академию художеств, в которой начали преподавать маститые передвижники. Анна Голубкина, относившаяся к своему скульптурному образованию исключительно серьезно, решила продолжить обучение и осенью того же года поступила в академию. Своим родным она послала письмо, в котором рассказала о ближайших планах: «Надо поскорее обобрать эту академию, т. е. получить поскорее те знания, которые она может дать. Уж очень она богата, так что если все, чем она располагает, брать понемногу, то и веку не хватит».
По мере обучения Анна Семеновна все отчетливее сознавала, что занятия по классическим схемам сильно влияют на стиль всех, кто через них проходит, сглаживая вместе с острыми углами и индивидуальные черты. Ее это совершенно не устраивает: «А все-таки надо быть упрямой, чтобы остаться собой… У меня же во всех работах какая-то необузданность. Обещают, что она обратится во что-то порядочное, но это еще вопрос. Во всяком случае, теперешние мои работы считаются переходными. Ну а я что-то не надеюсь, что могу дать иное, да и не хочу. Я хочу остаться самостоятельной. Мне тошны всякие подражания». Выполненные в 1894 г. «Собаки» отражают поиски нового движения и новой глубины. Лепка постепенно избавляется от тщательного следования всем деталям формы. Однако Анна отказывается от продолжения обучения в академии – она уже «обобрала» ее и не видела смысла в том, чтобы и дальше отрабатывать приемы, суть которых ей была уже ясна.
В России уже было просто негде учиться, поэтому она решилась на почти отчаянный шаг: весной 1895 г. уехала в Париж – без денег, без связей и ни слова не понимая по-французски. Во французской столице в это время собирались молодые художники и скульпторы из многих стран. На Анну Семеновну город произвел огромное впечатление прежде всего изобилием возможностей: «Ведь очень уж тут работать хорошо, подумайте, учитель гениальный, первый скульптор в мире, моделей толпы ходят, любую выбирай, мастерские, а ведь у нас этого ничего нет, даже сравнить нельзя». Здесь уже не было изучения азов – в Париже шлифовали мастерство. Однако первое посещение французской столицы закончилось для Анны крайне неудачно: она не только не нашла себе руководителя, но и тяжело заболела. Ей пришлось вернуться на родину, в Зарайск. В 1896-1897 гг. она вместе с сестрой Александрой ездила на Обский переселенческий пункт в Западной Сибири. В пути Анна пережила еще одно потрясение: повсюду была страшная нищета, болезни, страдание. Художница забыла о своих неудачах перед лицом этой – настоящей – беды, касавшейся тысяч и тысяч людей. Она запоминает искаженные голодом и мукой лица, схватывает характерные позы. Результатом поездки стала появившаяся в 1897 г. скульптура «Железный». Это уже был не портрет и не отвлеченный образ – скорее, характерная внешность, скрывающая в себе бесконечный разворот ассоциаций. Это произведение стало поворотным в карьере скульптора.
В том же 1897 г. Голубкина снова едет в Париж – на этот раз почти на два года. Ее восторги по поводу парижских студий уже поубавились, и даже академия Коларосси быстро становится пройденным этапом. Однако судьба в очередной раз улыбнулась Анне – она была представлена О. Родену. Поначалу мастер дал ей стандартное задание – делать руки и ноги моделей в разных пропорциях и масштабах. Обучение обходилось чрезвычайно дорого, и Анна писала: «Чтобы стать художником, нужны большие деньги, нужны тысячи, а это все пустяки и 80, и 100; на них можно только смотреть, как другие работают: вот и все». Но никакие трудности не могли сбить с пути эту удивительную женщину. Уже через месяц Роден выделил русскую ученицу из числа начинающих художников. Голубкина позже вспоминала этот момент: «Он сказал "tres bien" (очень хорошо – франц.), но предупредил меня, что это хорошо для всех и что так работать нельзя… Я хочу работать не так, как все. Это все не то. Это только учеба. Нет, надо искать… И Роден говорит, и я чувствую, надо дальше».
Роден оказался именно тем учителем, которого не хватало Анне Голубкиной. С ним она не боялась потерять индивидуальность и даже пошла на негласное «соревнование» – взяла для своего первого полнофигурного произведения «Старость» модель, которая позировала Родену 14 лет назад. Голубкина беспощадно показала следы, оставленные временем на некогда прекрасном теле. Весь облик произведения направлен на отрицание старости, которая ассоциируется с наказанием, позором и утратой. Работа с Роденом не прошла бесследно: Голубкина стала настоящим мастером, чье творчество несло яркий отпечаток индивидуальности. Однако, несмотря на это, она продолжала учиться всю жизнь. В 1902 г. она вновь едет во Францию, на этот раз – осваивать работу с мрамором, а в 1908 г. подает прошение о возможности заниматься натурной лепкой в классах МУЖВЗ. После отказа (вызванного политической неблагонадежностью художницы, участвовавшей в подпольном революционном движении) Голубкина посещает на правах ученицы частную школу Ф.И. Рерберга. Забегая вперед, надо заметить, что Анна Голубкина отличалась врожденным чувством справедливости и остро сочувствовала всем обиженным. Именно отсюда – «неблагонадежность», участие в революционном движении. И отсюда же – отказ от участия в работах по плану монументальной пропаганды после революции. Голубкина не простила новой власти расстрела министров Временного правительства.
Современники признали ее талант не сразу. Однако нашлись те, кто сумел разглядеть в ее работах особый мир, полный красоты и истинности. Одним из первых написал о выдающейся женщине-скульпторе В.В. Розанов (в 1901 г.). А в 1914-1915 гг. состоялась персональная выставка А.С. Голубкиной, которая пользовалась огромным успехом. Известный критик И. Игнатов так описал свои впечатления от работ Голубкиной: «Когда вы пробегаете эти полтораста скульптур, где есть и портреты известных лиц, и этюды "Тайной вечери", и просто этюды без отдельных наименований, и дети, и старики, и животные, и кариатиды, и фигуры для камина, вы как бы слышите тяжелый рассказ о глубокой думе и сильных страданиях… Человек умер. Да здравствует человек…» Выставка проводилась в пользу раненых: все собранные средства Анна Семеновна направила на создание реабилитационного приюта для инвалидов Первой мировой войны.
Голубкина щедро делилась своим опытом с начинающими скульпторами. Ее дебют (не слишком удачный) в качестве преподавателя состоялся в организованных совместно с И.П. Ульяновым классах живописи и скульптуры (1901 г.). Затем она преподавала в Московском коммерческом училище (1904-1906 гг.), на Пречистенских рабочих курсах (1913-1916 гг.) и в ГСХМ – ВХУТЕМАСе (1918-1922 гг.). Своим студентам она адресовала «Несколько слов о ремесле скульптора» (1923 г.) – пособие, не утратившее актуальности до сих пор.
Для творчества Голубкиной в целом характерны несколько «сквозных» тем, от которых она не может уйти: тема плена, несвободы, порождающей страдание («Кочка», 1904; «Пленники», 1908; «Вдали музыка и огни», 1910), старости как телесного плена («Старость», 1898; «Изергиль», 1904; «Старая», 1906 и 1908; «Ш.А. Брокар», 1912) и, наоборот, тема духовного пробуждения, обретения сознания и воли («Железный», 1897; «Идущий», 1903; «Раб», 1909; «Человек», 1910; «О да!», 1913; «Сидящий человек», 1912). Чрезвычайно интересны и портреты ее работы. Надо сказать, что Голубкина брала в качестве моделей только тех людей, чей мир был ей духовно близок: А.О. Гунст, Андрей Белый, А.Н. Толстой и А.М. Ремизов. А ее горельеф «Волна» и сейчас можно увидеть над боковым входом здания МХАТа в Камергерском переулке.
А.С. Голубкина умерла в 1927 г., завершив работу над двумя самыми известными произведениями – «Березкой» и портретом Л.Н. Толстого. В 1932 году ее сестра – Александра Семеновна Голубкина – передала в дар государству собрание произведений мастера и все оборудование мастерской. А через два года открылся новый невиданный музей – первый в русской истории мемориальный музей художника, первый в мировой истории музей женщины-скульптора.
Гончарова Наталья Сергеевна (род. в 1881 г. – ум. в 1962 г.)
Знаменитая русская художница – живописец, график, иллюстратор книг, театральный художник. Первая женщина-художник, ставшая представительницей авангарда. Участница и организатор большого количества авангардных художественных выставок в России и за рубежом.
Сегодня мало кого могут удивить женщины в искусстве. И действительно – что это по сравнению с женщинами в армии, в правительстве, в космосе, на Северном полюсе? Но еще в начале прошлого века женщина в искусстве была явлением почти уникальным. Любое творчество являлось монополией мужчин, и прекрасному полу необходимо было обладать поистине огромным талантом и не меньшей настойчивостью, чтобы хоть как-то заявить о себе. А женщина в авангарде – такого вообще никто не мог себе представить. До появления знаменитого творческого союза Ларионов-Гончарова. Сегодня эти два художника признаны классиками, их искусство продолжает вызывать интерес во всем мире, а до революции их выставки сопровождались скандалами, творчество подвергалось нападкам. В 30-е годы XX века имена Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, как и имена многих других деятелей авангардного искусства, на долгие годы были вычеркнуты из истории русской культуры. Только после смерти обоих художников, во второй половине 60-х годов, их выставки прошли в Москве, и родина вспомнила о своих талантливых соотечественниках.
Наталья Сергеевна Гончарова родилась 21 июня 1881 г. в деревне Нагаево Тульской губернии. Ее семья принадлежала к известному дворянскому роду, ведущему начало с XIII века, а сама она приходилась двоюродной правнучкой жене Александра Сергеевича Пушкина. Детство Наталья провела в Москве. После окончания гимназии она занималась на историко-филологическом факультете Высших женских курсов, а в 1901 г. поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Сначала она училась на скульптурном отделении, в классе П.П. Трубецкого, затем перешла в класс К.А. Коровина, где занималась уже живописью, с которой и связала всю свою дальнейшую творческую деятельность. Там же она познакомилась со своим будущим мужем, другом и соратником – Михаилом Федоровичем Ларионовым, творческий союз с которым длился более полувека, в результате чего их имена стали просто неотделимыми друг от друга. В 1904 г. художница получила серебряную медаль за этюды животных из глины. С этого же года началась ее активная выставочная деятельность.
До 1906 г. Гончарова писала в основном импрессионистские пейзажи акварелью и пастелью, но с этого года произошел поворот в ее творчестве. Наталья пришла к синтезу кубизма и примитивизма, добавив к ним традиции русского лубка, православной иконы и провинциальной вывески. Ее произведения примитивистского периода посвящены в основном крестьянской и религиозной тематике: «Уборка хлеба», «Беление холста», цикл «Евангелисты», «Жизнь великомученицы Варвары». Произведения Гончаровой, посвященные религиозным темам, несли в себе нечто первобытное, языческое; они настолько расходились с традиционными церковными и классическими канонами, что ее творчество постоянно подвергалось нападкам в прессе, жестокой цензуре, а иногда дело не обходилось и без полиции, конфисковывавшей ее картины как богохульные и порнографические.
Неординарным было не только творчество Натальи Гончаровой, но и ее поведение, образ жизни. С Михаилом Ларионовым они официально в браке не состояли, но сожительства с ним художница не скрывала. Она шокировала почтенную московскую публику небрежной манерой одеваться, появлялась в скандальных фильмах и спектаклях, публиковала вместе с художниками-авангардистами и поэтами-футуристами эпатирующие манифесты. Совместно с ними же тандем Ларионов-Гончарова участвовал в шествиях по Москве с раскрашенными лицами.
С 1910 г. Гончарова и Ларионов были членами авангардного художественного объединения «Бубновый валет», в составе которого организовали ряд крупных выставок. Через два года они отделились от этого общества и организовали свое, с эпатирующим названием «Ослиный хвост». В его состав входили такие известные личности, как К. Малевич, В. Татлин, Н. Удальцова, М. Шагал. Примерно тогда же Ларионов выдвинул идею нового стиля – «лучизма», своеобразного беспредметного искусства, который поддержала и Наталья Гончарова. Ее произведения этого периода – «Орхидеи», «Лучистые лилии», «Кошка (лучистое восприятие розовое, черное и желтое)» – балансируют на грани реального сюжета и беспредметности. Ей блестяще удается соединять различные стили и традиции в одно гармоничное художественное полотно.
Художница проявила себя и как иллюстратор, оформив несколько книг поэтов-футуристов, в основном В. Хлебникова и А. Крученых, используя в них одновременно по несколько совершенно разных художественных приемов – от графики до аппликации. В 1914 г. Наталья Гончарова издала альбом литографий «Мистические образы войны», в которых, как и в ранний период, прослеживаются традиции древнерусской иконописи и лубка. Она использовала в произведениях этого альбома новый прием, впоследствии применяемый многими художниками, – совмещение архаики и современности – в гравюрах «Ангелы и аэропланы», «Град обреченный», «Братская могила».
С 1915 г. по приглашению С. Дягилева Ларионов и Гончарова начинают заниматься сценографией, становятся ведущими художниками-декораторами в его спектаклях. В том же году оба художника принимают участие в «Русских сезонах» в Париже, там же состоялась их совместная выставка. В парижской Гранд-опера декорации, созданные Натальей Гончаровой к спектаклю «Золотой петушок», имели огромный успех. Яркие, грубоватые формы русского лубка как бы подчеркивали сказочность и наивность сюжета, что в сочетании с музыкой Римского-Корсакова и хореографией Фокина создавало целостную и органичную картину народной сказки.
Из Парижа по приглашению Дягилева Наталья Сергеевна вместе с Михаилом Федоровичем уехала в Швейцарию, затем побывала в Италии и Испании. В 1918 г. пара вернулась в Париж, чтобы остаться там навсегда. Гончарова продолжала работать с Дягилевым, оформив несколько балетов на музыку Равеля, Лядова, Мусоргского, Стравинского, создавала эскизы кукол для Парижского кукольного театра.
За много лет совместной жизни Ларионов и Гончарова так и не стали официально мужем и женой. Они жили в типичном для старого Парижа доме, в двухкомнатной квартире, заваленной холстами, книгами, папками. Они организовывали выставки – как совместные, так и персональные, но несмотря на то что отношение к их творчеству в Европе было более благосклонным, чем на родине, художники жили бедно, а во время войны буквально голодали. Они понимали невозможность возврата в советскую Россию, но оставались русскими до конца. Наталья Сергеевна часто говорила, что все, что их окружает, – «это не родина»; Восток художница считала источником вдохновения для Запада. Ларионова и Гончарову называют самой лучшей и самой гармоничной парой русского авангарда, несмотря на то что как люди они были очень разными. Их творческий союз длился более 60 лет, и, хотя Гончарова после переселения во Францию отдавала большее предпочтение театру и сценографии, а Ларионов – живописи, они остались такой парой до конца жизни, несмотря на то что их союз оставался уже только творческим.
Со второй половины 30-х гг. XX века художница жила в забвении, несмотря на работу в театрах и участие в выставках. Интерес к творчеству Гончаровой начал возвращаться с конца 40-х гг., после ряда крупных выставок, посвященных основоположникам авангарда, в нескольких городах Франции, Германии и Бельгии.
В последние годы здоровье Натальи Сергеевны оставляло желать лучшего, но особенно тяготил ее артрит, из-за которого она почти не могла рисовать. Превозмогая боль, Гончарова делала графические наброски, держа карандаш двумя руками.
Умерла первая русская художница-авангардистка 17 октября 1962 г., прожив долгую, интересную и не очень легкую жизнь. Михаил Ларионов пережил свою верную соратницу на полтора года. Все творческое наследие художников хранилось во Франции до 1988 г., когда значительная его часть (около двух тысяч работ и архив) была передана в дар Третьяковской галерее. В московском доме этой знаменитой пары планируется открытие музея Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.
Марина Цветаева, часто посещавшая парижскую квартиру художников, вспоминала: «Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в третьих, все… Такое же явление живописи, как явление природы». Гончарова как явление живописи оставила множество уникальных художественных произведений и большое количество последователей, она остается в памяти небезразличных к искусству людей первой женщиной-авангардисткой, ничуть не уступавшей мужчинам, а многих и превосходившей силой своего таланта, оригинальностью и трудолюбием.
Гордеев Федор Гордеевич (род. в 1744 г. – ум. в 1810 г.)
Известный русский скульптор, представитель барокко и классицизма. Академик (1766 г.) и ректор (1802 г.) Петербургской академии художеств.
Ф.Г. Гордеев – один из крупнейших русских мастеров монументальной и декоративной скульптуры XVIII – начала XIX в. Творчество этого мастера дает нам четкое представление о зарождении и развитии классицизма в России, который постепенно становился ведущим художественным направлением в искусстве. Этот художественный стиль, в основе которого лежит строгая нормативность и неуклонное следование произведениям античности, не являлся для Гордеева холодной догмой. В нем скульптор видел живую цель своего искусства, «простого и ясного, согретого человеческим чувством». Посвятив более 30 лет педагогической деятельности в Академии художеств, Федор Гордеев воспитал новое поколение русских скульпторов. Его творческий путь неразрывно связан с процессом становления и развития отечественной художественной школы.
Императорская Академия художеств, куда в 1759 г. был принят 15-летний Федор Гордеев, была конкретным воплощением идей русского Просвещения XVIII в. Сын дворцового скотника из Саарской мызы (Царское Село), он принадлежал к числу первых воспитанников этого учебного заведения. В академии юноша обучался под руководством профессора Н.Ф. Жилле. Получив несколько серебряных медалей за рисунок, молодой Гордеев в 1766 г. был награжден Второй золотой медалью за исполнение барельефа «Убиение Олегом Аскольда и Дира», а в следующем году – еще одной золотой медалью за барельеф «Заключение мира Олегом с греческими царями… пред стенами Константинопольскими». К сожалению, ни одно из этих произведений не сохранилось. Эти награды давали право на пенсионерскую поездку за границу, и 5 июля 1767 г. вышло постановление об отправке Федора Гордеева во Францию, куда он прибыл осенью того же года.
В Париже молодого скульптора определили к профессору Ж.Б. Лемуану, ректору Французской академии. Этот талантливый мастер был представителем так называемого переходного стиля от рококо к классицизму, который господствовал в искусстве Франции в конце 1760-х гг. В академии Гордеев ежедневно посещал натурный класс. В 1768 г. он исполнил два барельефа, один из которых представлял жен-мироносиц, а другой – Диогена, сидящего в бочке перед Александром Великим (они также не сохранились). Первым дошедшим до нас произведением мастера является скульптурная группа «Прометей». Она представлена в двух экземплярах – в гипсе и бронзе. Скульптура, изображающая поверженного Прометея, прикованного к скале и терзаемого орлом, по своей композиции схожа со скульптурой Э.М. Фальконе «Милон Кротонский», которую Гордеев видел еще в России. Увлеченный популярной в то время темой начинающий скульптор работал над своим творением с огромным интересом и закончил его приблизительно за год. По-видимому, оно было завершено перед самым отъездом его в Италию, куда Гордеев выехал 25 сентября 1769 г. для завершения своего обучения. Римский период жизни русского скульптора – это главным образом осмотр знаменитых итальянских памятников архитектуры, поездки, посещение музеев и галерей, зарисовки с натуры, копирование античных статуй. Все накопленные в Италии впечатления Гордеев впоследствии использует в своем творчестве.
Окончив обучение, скульптор в 1772 г. вернулся в Россию, где вскоре начал педагогическую деятельность в скульптурном классе Академии художеств. В 1776 г. за исполнение барельефа «Меркурий отдает новорожденного Бахуса на воспитание нимфе» Федор Гордеев был удостоен звания академика. В 1802 г. его избрали ректором академии. Столь быструю карьеру ему удалось сделать во многом благодаря тому, что «историческая» скульптура, в области которой он работал, в те годы считалась главной. Она ценилась наиболее высоко, поскольку была предназначена выражать гражданские идеи и одновременно являлась мемориальной, декоративной, монументальной.
Немало времени Гордеев посвятил украшению скульптурными композициями дворцов и парков. Особое место в его творческой биографии занимают работы, связанные с реставрацией скульптур Летнего сада. Еще будучи учеником академии, Федор Гордеев рисовал и копировал статуи из удивительной коллекции произведений античности и западно-европейских мастеров XVII-XVIII вв. Со времени его прихода к руководству скульптурным классом студенты прекратили посещение Летнего сада. Ученики начали заниматься в возглавляемой Ф.Г. Гордеевым Литейной мастерской. В ней скульптор создал множество восковых моделей, по которым были выполнены античные статуи Геркулеса (1783 г.), Флоры, Аполлона Бельведерского, Амазонки Поликлеты, Венеры и др. В этот период творчества Гордеев непосредственно соприкасался с произведениями античности, глубже постигая их гармонию и пластику.
В работах самого Ф. Гордеева античная тематика также преобладала. Заимствование из наследия прошлого тогда не считалось плагиатом, поскольку «античность была признана всеми как недосягаемый образец вечной красоты, найденной раз и навсегда». По своему глубокому гуманизму эпоха Просвещения была созвучна античности, и потому мастера XVIII в. наиболее полно использовали ее богатейшие духовные ценности в своем искусстве. Гордеев буквально воспроизводил в своих творениях жесты и позы отдельных персонажей античной скульптуры и живописи. С особой силой они прослеживаются в созданных им рельефах на зданиях Старого Эрмитажа и Академии художеств, в композициях для Шереметевского дворца. В скульптуре того времени рельеф получил особое распространение. Включавшийся в систему художественного оформления архитектурных сооружений, он имел большое значение для синтеза скульптурных и архитектурных форм. На протяжении всего творческого пути Ф.Г. Гордеев работал в соавторстве со многими выдающимися мастерами архитектуры: И.П. Аргуновым, М.Ф. Казаковым, А.Ф. Кокориновым, Ю.М. Фельтеном и др.
Еще более глубокое восприятие античного искусства проявилось в мемориальной пластике Ф.Г. Гордеева. Не случайно формирование этого жанра в русском искусстве XVIII в. связывают прежде всего с его именем. Исполненные им в 1780-1799 гг. надгробия семейства Голицыных дают представление о творческом методе автора, отражающем общую эволюцию стиля. Памятник Н.М. Голицыной (1780 г.), представляющий собой рельеф с нейтральным фоном, является одним из первых фигурных надгробий в России. Не только в форме мемориального памятника, но и в выразительном образе «плакальщицы», исполненном мастером, заключается новаторство произведения. В 1788 г. в церкви Благовещения Александро-Невской лавры Гордеев создал второе надгробие – фельдмаршала А.М. Голицына. Военная слава покойного требовала пышного надгробия, и потому в этом случае перед Гордеевым стояла совершенно иная задача. Здесь он вернулся к некоторым элементам барокко, что проявилось в изобилии аксессуаров, символизирующих славные деяния А.М. Голицына. Тем не менее, общая композиция надгробия, основой которого является обелиск, очень близка к классицизму.
В 1789 г. Ф.Г. Гордеев создал третье, самое пышное надгробие А.М. Голицыну. Памятник предназначался для церкви при больнице, построенной Голицыным. В нем, как ни в каком другом, ощущается возвращение мастера к традициям барокко. Видимо, задача прославления умершего как крупного благотворителя заставила мастера ввести в свое произведение элементы этого пышного стиля, поскольку новые, классицистические методы возвеличивания еще не были обретены тогда русской скульптурой. Такой возврат к барочным чертам был характерен для многих художников этого переходного периода.
В 90-х гг. Гордеев продолжал заниматься декоративно-монументальной скульптурой. В 1794 г. он заключил договор на 22 рельефа для строившегося Н.П. Шереметевым дворца в Останкино. Одно из высочайших достижений скульптора – шесть барельефов для маленького проходного зала между Итальянским залом и ротондой. На блестяще исполненном фризе изображено более 60 фигур, ни одна их которых не повторяет другую. В основе сюжета барельефов – миф об Амуре и Психее. В гибких и могучих фигурах людей, изображенных преимущественно обнаженными, автор воплотил свое представление о золотом веке. Здесь выразилась мечта просветителя о том давнем счастье человечества, когда жизнь его была полнокровна и радостна. Предполагается, что барельефы выполнялись не только самим Гордеевым, но и другими мастерами, в частности одним из его лучших учеников Г.Т. Замараевым. В действительности Гордеев часто прибегал к помощи своих учеников. Он всегда был загружен огромной административной и организационной работой, и это не могло не отвлекать его от творчества. Поэтому в сравнении с другими мастерами творческое наследие Ф.Г. Гордеева не столь многочисленно.
Последними известными нам творениями мастера являются четыре барельефа для северного портика Казанского собора: «Благовещение», «Поклонение волхвов», «Поклонение пастырей» и «Бегство в Египет». Барельефы, посвященные юным годам жизни Богоматери, изображают ее почти девочкой, трогательной в своей строгости и целомудрии. Представив евангельский сюжет более человечным, Гордеев, по словам современника, «внес новую ноту в религиозную скульптуру».
Работы скульптора последних лет жизни, свидетельствующие о его высочайшем мастерстве и зрелости, заставляют только сожалеть о том, что педагогическая деятельность и административная загруженность не позволили Федору Гордееву оставить потомкам большее число своих творений.
Грабарь Игорь Эммануилович (род. в 1871 г. – ум. в 1960 г.)
«Искусство, искусство, искусство. С детских лет и до сих пор оно для меня – почти единственный источник радости и горя, восторгов и страданий, восхищения и возмущения, единственное подлинное содержание жизни».
И.Э. Грабарь, автомонография «Моя жизнь» (1937 г.)Известный русский художник русинского происхождения, искусствовед, художественный критик, педагог, архитектор, один из основателей музееведения, реставрационного дела и охраны памятников искусства и старины в России. В течение почти 40 лет являлся одним из самых активных участников и руководителей художественной жизни Советского Союза. Лауреат Государственной премии СССР, он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями.
Задумчивый усталый человек, на миг опустив палитру, рассеянно взглянул на того, кто отвлек его от работы. Сам он весь там – среди деревьев, постепенно проступающих из глубины натянутого на подрамник холста. Но вернуться к работе художнику все никак не удается: вот уже почти три четверти века он хочет положить очередной мазок на полотно, забыв о том, что сам является всего лишь картиной…
Это – портрет Игоря Эммануиловича Грабаря. Что мы знаем о нем? Много. И в то же время почти что ничего. Ведь писать об известных людях – дело неблагодарное. Часто монографии, посвященные тому или иному деятелю искусства, культуры или науки превращаются в сухую хронологическую таблицу, читать которую достаточно сложно. Конечно, жизнь любого человека изобилует фактами, которые стоило бы донести до потомков, а научные или художественные методы признанных мастеров заслуживают самого детального изучения, но… Понять, почему же об Игоре Грабаре, сравнительно недавно ушедшем от нас, его известный коллега по цеху С.В. Герасимов сказал: «Нужно считать счастьем для русского искусства, что такой человек действительно существовал», – непросто. И почему все с этим согласились – без возражений и с чистым сердцем – тоже.
Вся жизнь этого деятеля искусств напоминала настоящую гонку. Грабарь хотел постичь все: рисунок, живопись, архитектуру, приемы реставрации и художественной критики; он был великолепным педагогом, талантливым искусствоведом и администратором и при этом имел два университетских диплома! Складывалось впечатление, что Игорь Эммануилович очень торопился жить, спешил овладеть всем, чего жаждала его неуемная творческая натура. Он будто бы боялся, что отведено ему на этом свете мало времени. Грабарь брался за все, но – редкий случай! – начатое всегда доводил до конца. Ему было суждено прожить 89 лет, и до последнего вздоха этот Мастер продолжал работать, сетуя, что успел так немного. Знакомясь с его работами, невольно соглашаешься с ним и начинаешь думать, что такие люди просто не имеют права уходить от нас и их потеря – глубокая несправедливость жизни. Ведь каждое полотно Грабаря свидетельствует не только о могучем таланте и огромном опыте, но и как будто говорит, что у художника еще все впереди, его лучшие картины еще не написаны.
Игорь Эммануилович родился 25 марта 1871 г. в Будапеште, в семье Э.И. Грабаря – учителя, видного общественного деятеля, участника славянского национально-освободительного движения. Чтобы действовать открыто, а не в подполье, отец Игоря согласился выставить свою кандидатуру в депутаты венгерского парламента, куда и был избран в середине 1860-х гг. Матерью художника была старшая дочь признанного главы славянства в Австро-Венгрии, Ольга Добрянская. Игорь и его старший брат Владимир в ранние годы воспитывались в имении деда, который заводил у себя обычаи, вывезенные из Москвы и подмосковных имений. Сам художник позднее писал, что не помнит того времени, когда он «заболел» рисованием, и просто не представлял себя без красок, карандашей, резинки и кистей. В восьмилетнем возрасте Игорь заставил взрослых заговорить о себе как о будущем зодчем: он умудрился организовать «артель» из детворы и построить самый настоящий дом из камня, кирпичей, деревянных досок, балок и листов железа. На строительные нужды он упорно тратил все карманные деньги и не останавливался даже перед тем, чтобы утащить из дедовых лесных запасов необходимые ему материалы. Однако дом получился таким основательным, что в нем даже можно было жить…
В конце 1870-х гг. явная антимадьярская деятельность отца Игоря создала ему репутацию врага государства и правящей династии, в связи с чем Грабари вынуждены были эмигрировать. Ольга с сыновьями уехала к отцу, а Эммануил Иванович бежал в Италию, где в течение трех лет работал преподавателем у детей миллионера-горнопромышленника, князя Демидова-Сан-Донато. Позднее с семьей учеников он отбыл в Париж, а в 1876 г. переехал в Россию и поселился в городе Егорьевске Московской губернии, приняв конспиративную фамилию Храбров. Грабарь-старший, юрист по образованию, воспользовался рекомендательными письмами Добрянского к нескольким влиятельным лицам, однако карьере судебной предпочел деятельность педагога, сдав экзамен на право преподавания французского и немецкого языков. В конце лета 1880 г. в Россию переехала его жена с сыновьями.
В Егорьевске Игорь поступил в четырехклассную прогимназию. Во время учебы он находился в основном под опекой приятелей Эммануила Ивановича – соборного священника Покровского и его жены, поскольку Ольга Адольфовна с началом занятий младшего сына вернулась к отцу (она была его главным сподвижником и занималась вместе с ним большой политикой). С матерью будущий художник увиделся только после окончания гимназии, в 1882 г., в Киеве. Туда Ольга Адольфовна уехала после ареста, нескольких лет заключения и шумного судебного процесса, на котором против нее и свекра выдвигалось обвинение в государственной измене. Мальчик даже не подозревал тогда, что прокурор требовал для его матери смертной казни. Дело было замято, а женщину оправдали после того, как Добрянский пригрозил в письме императору Францу Иосифу, что расскажет о попытке подкупа его самого в обмен на обещание отказа от идей славянского объединения.
Дать приличное образование детям при небольшом учительском заработке было непросто, поэтому родители Игоря решили попробовать определить его стипендиатом в какое-нибудь закрытое учебное заведение. И тут мальчику повезло: основатель и директор Московского лицея цесаревича Николая, редактор и издатель «Московских ведомостей» М.И. Катков взял его под свою опеку. Родители же новоявленного лицеиста уехали в Измаил, где Грабарь-старший получил новое место.
В 1882-1889 гг. Игорь учился в Москве и был завсегдатаем различных художественных выставок. В тот же период будущий художник начал учиться рисунку в Обществе любителей художеств.
Окончив лицей, молодой человек поступил в Петербургский университет, где до 1893 г. сумел закончить сразу два факультета – историко-филологический и юридический. Студенческая жизнь Игоря протекала отнюдь не гладко: незадолго до окончания университета, в 1892 г., он был арестован за участие в студенческой забастовке. Кроме того, крайне стесненный в средствах, Грабарь вынужден был постоянно искать возможности заработка. Поэтому с самого начала занятий он работал рисовальщиком и литератором в журналах «Стрекоза», «Нива» и других. В 1893-1894 гг. новоиспеченный юрист создал иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя.
Окончив университет, молодой человек должен был заменить старый паспорт новым. Он отправился в участок, решив добиться восстановления своей настоящей фамилии. И тут случился казус: подвыпивший паспортист, переписывая данные, умудрился их перепутать. Таким образом, получивший новое удостоверение личности Грабарь с удивлением узнал, что он, оказывается, коренной петербуржец… Игорь Эммануилович попросил исправить ошибку, однако не тут-то было. Паспортист заявил, что в участке лучше самого владельца документа знают, где тот родился (!), так что исправлять он ничего не будет. Дело осложнялось еще и тем, что метрики на руках у Грабаря не было. Так и остался он сыном города на Неве, хоть и не забывал никогда о своей настоящей родине. Добиться внесения в документы подлинных данных художник не смог. Бюрократическая машина оказалась сильнее истины.
Получив образование, Грабарь так и не перестал мечтать о деятельности профессионального художника и в 1894 г. сумел поступить в Петербургскую академию художеств. Здесь упорному и талантливому молодому человеку повезло: его учителями стали такие авторитетные мастера кисти, как И.Е. Репин, П.П. Чистяков, В.Е. Савинский, Н.А. Бруни.
Через год, летом 1895 г., во время каникул, Грабарь смог осуществить свою давнюю мечту и отправился в путешествие в Европу, которое превратилось для него в паломничество по художественным музеям и галереям искусства Берлина, Парижа, Венеции, Флоренции, Неаполя и Рима. Творения мастеров Возрождения, импрессионистов и постимпрессионистов настолько потрясли молодого художника, что он в 1896-1900 гг. буквально колесил по Европе, «изучая мировое искусство и получая архитектурное образование». В 1896 г. Игорь Эммануилович решил задержаться в Мюнхене, где начал обучение в частной школе искусств А. Ашбэ; через год он уже был одним из преподавателей, работавших в ней.
В 1901 г. художник решил вернуться в Россию. Он активно занялся живописью и историей искусства, стал членом «Союза русских художников», на выставках которого постоянно экспонировались его пейзажи и натюрморты. Написанные на пленэре полотна Грабаря отличались особой глубиной пространства и своеобразным освещением, при этом их невозможно было упрекнуть в подражании французским мастерам. Его пейзажи жизнерадостны, пронизаны светом и говорят о необычайно эмоциональном восприятии природы. Образцом творчества этого художника может служить выполненное плотным слоем мазков чистых цветов полотно «Февральская лазурь», которое критика назвала «величественным "портретом" березы».
Чтобы зритель смог бросить на будто бы излучающее свет дерево взгляд снизу вверх, Игорь Эммануилович вырыл для работы глубокую траншею в снегу. Там он писал, невзирая на жестокие морозы, рассказывая позднее о переполнявшей его радости от «перезвонов и перекликаний всех цветов радуги, объединенных голубой эмалью неба», которая помогла ему создать обобщенный образ русской природы.
Поселившись в Петербурге, Грабарь вместе с князем Щербаковым основал крупное художественное предприятие «Современное искусство» и организовал ряд выставок японской живописи, работ отдельных художников, прикладного искусства. Вслед за этим Игорь Эммануилович отправился на Север, где изучал старинную деревянную архитектуру. С 1902 г. его полотна выставлялись за границей (Мюнхен, Париж, Рим). Если на начальном этапе своей творческой карьеры Грабарь оставался реалистом, то со временем его работы стали говорить об импрессионистических тенденциях. Позднее он увлекся разрешением технических задач в живописи, став крупнейшим представителем школы пуантилистов в России. Ряд натюрмортов, созданных в это время, передает бесконечное разнообразие и изменчивую игру освещения, красоту материального мира, окружающего человека. В них художник использовал густые рельефные мазки, приемы, близкие к неоимпрессионизму.
Чтобы полностью ощутить то, как Грабарь воспринимал окружавшие его вполне обыденные вещи, стоит посмотреть картину «Хризантемы». Великолепное сияние приглушенно-золотистых цветов, грациозные изгибы их утонченно-прозрачных нежных лепестков наполняют ощущением тепла полотно, выдержанное, в основном, в светлых холодных тонах. Царственные соцветия невольно навевают грусть и ощущение прохладного дыхания осени, заставляют еще раз мысленно попрощаться с летом. Удивляет также мастерство, позволившее передать игру света, прозрачность кувшинов и тонких стаканов, благородную матовость фарфора посуды.
Но деятельная натура Игоря Эммануиловича не позволила ему стать затворником в собственной мастерской. Он начал активно работать как художественный критик, сотрудничая с журналами «Мир искусства», «Старые годы», «Весы», «Нива» и «Аполлон». В статьях Грабаря сказалось воздействие декадентских течений. В 1906 г. (совместно с издателем И.Н. Кнебелем) Игорь Эммануилович выпустил серию монографий о крупнейших мастерах нового русского искусства. Его перу принадлежат вышедшие в составе серии книги об И.И. Левитане (1913 г.) и В.А. Серове (1914 г.).
Грабарь стал также инициатором издания, редактором и автором ряда важнейших разделов первой научной «Истории русского искусства», пять томов которой вышли в свет в 1909-1914 гг. К сожалению, полностью осуществить издание помешала война, но тем не менее оно сыграло значительную роль в деле самоопределения национальной художественной школы, распространения в России научных принципов искусствознания, организации комплексного метода изучения истории искусства, при котором она рассматривалась в тесной связи с общим развитием культуры и общественной мысли. На подготовительном этапе работы над многотомником Игорь Эммануилович всерьез занялся изучением русского искусства XVIII-XIX веков; ему пришлось исследовать архивы в Троицкой башне Кремля, где художник обнаружил много ценных биографических данных об архитекторах Д.В. Ухтомском, Д.И. Жилярди, В.И. Баженове, О.И. Бове. В те же годы Грабарь отошел от живописи и с увлечением окунулся в новое и очень притягательное для него дело – архитектуру. Проявив себя в новом качестве, он смог возродить торжественность классицизма, сочетав его с воздушной архитектурой итальянского Возрождения. Образцом стиля, предложенного Игорем Эммануиловичем, может служить построенный по его проекту в имении наследников врача Г.А. Захарьина комплекс больничных зданий (позже – санаторий) для туберкулезных больных.
Активная деятельность этого художника, искусствоведа и архитектора, естественно, не могла остаться незамеченной. В 1913 г. его избрали действительным членом Академии художеств и назначили директором Третьяковской галереи (эту должность он занимал до 1925 г.). Неугомонная натура Игоря Эммануиловича продолжала требовать активных действий, и он, заняв новую должность, произвел в 1914-1915 гг. полную реэкспозицию музея, систематизировав произведения искусства и разместив их в хронологической последовательности. В 1917 г. он издал первый полный каталог галереи, имевший большую научную ценность.
После октября 1917 г. Грабарь начал активно сотрудничать с Наркомпросом. На Игоря Эммануиловича было возложено руководство Отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. В те годы, когда большинству не было дела до наследия прошлого, когда «старый мир» норовили «разрушить до основания», выкинув за борт великих мастеров и их творения, Грабарь старался сохранить художественные ценности России до того момента, когда представители новой власти наконец поймут, какие сокровища оказались в руках молодого государства. По собственной инициативе в 1918 г. художник возглавил организованные им же самим Государственные центральные реставрационные мастерские и овладел всеми тонкостями реставраторской работы. Сотрудниками мастерских были открыты, исследованы и спасены от разрушения многие памятники древнего русского искусства XI-XIV веков, в числе которых – иконы и фрески в Новгороде, Пскове, Владимире; в те годы были заложены основы научной истории древнего искусства. Сам Грабарь принимал участие в расчистке икон и фресок в Московском Кремле, в том числе в восстановлении иконостаса Благовещенского собора. Исследования Игоря Эммануиловича помогли расширить знания об отечественной средневековой культуре: он уточнил творческий облик Андрея Рублева и Феофана Грека, серьезно усовершенствовал методику реставрации. Директором мастерских он оставался до 1930 г., а с 1944 г. стал их научным руководителем.
Тогда же Грабарь вошел в состав Художественного совета Малого театра, в котором руководил художественно-декоративной частью.
В 1918-1927 гг. Игорь Эммануилович стал организатором ряда выставок реставрационных работ в Англии и Германии, неоднократно путешествовал по странам Западной Европы, посещал Египет, США и Турцию. А в 1921 г. ему предложили место профессора Московского университета, где художник длительное время читал лекции по теории и практике научной реставрации. Казалось, теперь этот признанный мастер пейзажа и натюрморта, известный педагог, реставратор, архитектор и искусствовед может наконец успокоиться и заслуженно почивать на лаврах. Но не тут-то было! Игорь Эммануилович внезапно ушел от привычного вида деятельности и неожиданно для всех увлекся портретом. Здесь ему также удалось добиться больших успехов, сочетать виртуозность техники и глубокую психологическую выразительность. Его кисти принадлежит целая галерея изображений деятелей советской культуры, жены, детей, ряда друзей и родственников, несколько автопортретов. В 1935 г. он выполнил также серию портретов видных академиков для конференц-зала Академии наук СССР.
Среди всех живописных полотен, созданных Грабарем, необходимо выделить одно. Оно передает жутковатое ощущение боли, тоски и безысходности. Перед нами – небольшая картина, сияющая мертвенно-белым цветом постели. На подушке – голова старой, худой, изможденной недугом женщины. Ее коротко стриженные, темные с густой проседью волосы растрепались, потухшие глаза, в которых застыла боль, безучастно смотрят куда-то за грань этого мира, как бы созерцая дорогу, по которой вскоре предстоит пойти больной. Это последний портрет Ольги Добрянской, матери художника, написанный им в конце апреля 1930 г. Ольге Адольфовне было тогда 87 лет, она умирала от рака. Большей частью больная дремала, но иногда, на час с небольшим, приходила в себя и упорно глядела куда-то вперед своими страдальческими глазами… В один из таких моментов Игорь Эммануилович за каких-то полчаса и запечатлел мать, зная, что это – последний ее портрет. Ольга Адольфовна умерла через три недели после его написания.
Естественно, что в годы советской власти уйти от исполнения «тематических» заказов было практически невозможно – разве что поставив крест на собственном творчестве, а иногда и жизни. Большинство деятелей искусства предпочитали «выдавать на-гора» «соцзаказы», иногда полностью переходя на создание «идеологического ширпотреба». Не ушел от этого и Грабарь. Правда, в его художественном наследии картин такого толка на удивление мало. Можно вспомнить разве что полотна «Ленин у прямого провода» (1927-1933 гг.), «В.И. Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле» (1933 г.), «Крестьяне-ходоки на приеме у В.И. Ленина» (1938 г.).
В 1926-1930 гг. Грабаря назначили редактором отдела изобразительного искусства Большой Советской энциклопедии.
Занятия историей искусства продолжали составлять значительную часть творческой жизни Игоря Эммануиловича. В 1937 г. вышла в свет его двухтомная монография о И.Е. Репине, удостоенная в 1941 г. Сталинской премии, и мемуарная автомонография «Моя жизнь». При участии Грабаря вышла также бо́льшая часть новой «Истории русского искусства» (1953-1969 гг.).
Игорь Эммануилович был талантливым педагогом, охотно делившимся своим грандиозным опытом с представителями молодого поколения художников – будущим русской живописи. В 1937 г. он возглавил институт им. В.И. Сурикова и занимал пост его директора до 1943 г., когда под его начало была передана Всероссийская академия художеств (Игорь Эммануилович проработал там до 1946 г.). А в 1944 г. Грабаря назначили директором Института истории искусств АН СССР.
Народный художник РСФСР, действительный член Академии наук СССР (с 1943 г.) и Академии художеств (с 1947 г.), свой жизненный путь И.Э. Грабарь окончил в Москве 16 мая 1960 г. «Лучший отдых есть перемена работы», – говорил он сам, всегда свято следуя этому принципу, который помогал ему сохранять бешеную работоспособность даже в преклонные годы. Игорь Эммануилович ни минуты не сидел без дела: он или писал, или преподавал, или занимался искусствоведческими исследованиями и подготовкой выставок. От работы его могла оторвать только смерть. Она пришла за Грабарем в тот момент, когда он был занят написанием статьи для «Истории русского искусства», чьим главным редактором он был. Игоря Эммануиловича похоронили на Новодевичьем кладбище. На доме, где он жил в 1936-1957 гг., была установлена мемориальная доска, а имя этого деятеля искусства присвоено Всероссийскому художественному научно-реставрационному центру в Москве. Картины Грабаря хранятся во многих музеях постсоветского пространства, в том числе в Русском музее и Третьяковской галерее. Так что, даже уйдя за ту грань, которая отделяет жизнь от Вечности, он смог оставить нам частичку самого себя, своей большой, неугомонной души, свидетельство того, что при желании человек может совершить невозможное – вместить в одну отпущенную ему жизнь несколько, заставив удивляться этому более ленивых потомков.
Григорьев Борис Дмитриевич (род. в 1886 г. – ум. в 1939 г.)
Известный русский художник, выдающийся мастер рисунка, литератор и педагог. Декан Академии прикладного искусства в Нью-Йорке (с 1935 г.). Автор стихов, романа «Юные лучи» (1912 г.) и книги мемуаров.
В одной из публикаций 1990-х гг. о Борисе Григорьеве писалось: «Только в России, щедрой на таланты, можно было забыть на долгое время такого замечательного художника…» Действительно, для того чтобы вспомнить об одном из блистательных людей Серебряного века, разносторонне одаренном, глубоко чувствующем и сострадающем, потребовалось несколько десятилетий.
Сын потомственной почетной гражданки Клары Ивановны Линденберг Борис родился в Москве. В четырехлетнем возрасте он был усыновлен Дмитрием Васильевичем Григорьевым. Детство и юность будущего художника прошли на Волге, в Рыбинске, где приемный отец служил управляющим местным отделением Волжско-Камского банка. Мальчик много путешествовал, бывал в самых разных местах от Белого моря до Крыма. В 1899 г. он окончил гимназию и поступил в Московскую практическую академию коммерческих наук, а с 1903 г. занимался в Строгановском художественно-промышленном училище у Д.А. Щербиновского.
В 1907 г. Григорьев женился на своей соученице Елизавете (Элле) де Броше, дочери балтийского помещика, вместе с ней переехал в Петербург и поступил вольнослушателем в Высшее художественное училище при Академии художеств, где одним из его педагогов был Д.Н. Кардовский. Годы учебы воспитали в Борисе трепетное отношение к рисунку как самоценному жанру, во всем же остальном его стремления никак не совпадали с академической школой. Молодой Григорьев в своем творческом становлении прошел путь от испытания разных, в том числе и «крайних», стилей, через усвоение старых и новых художественных идей к выверенности и осмысленности своего предназначения в искусстве.
Уже в 1909 г. Григорьев примкнул к группе творчески близких к футуристам художников «Треугольник», возглавляемой Н.И. Кульбиным, участвовал в ее выставке «Импрессионисты». И хотя живописные поиски «треугольниковцев» не прошли для молодого человека бесследно, футуристом он не стал. Ранние его работы были близки, скорее, модерну в мирискуссническом его варианте, с характерной для этого стиля декоративностью и гротесковостью образов. Такими были иллюстрации изданий по русскому фольклору «Святочные гадания», «Сказка о трех королевичах» (оба 1910 г.), «Народный календарь» (1911 г.) и другие, выполненные по заказу библиофила и этнографа А.Е. Бурцева. Примерно в это же время художник начал публиковать свои рисунки и карикатуры в журнале «Сатирикон» (под псевдонимами Б. Г-р и Б. Козерог), ас 1914 г. – в «Новом Сатириконе».
В 1909 г. Борис побывал в Норвегии и Швеции, в 1911 г. – в Австрии; несколько месяцев занимался в Парижской академии Гранд Шомьер. Весной 1913 г. он вновь приехал в Париж для работы над конкурсной картиной, обязательной для получения звания художника, но не написал ее и был отчислен из Академии художеств. Зато несколько месяцев, проведенных в этом удивительном городе, сам воздух которого напоен искусством, вдохновили Григорьева на создание нескольких тысяч рисунков. Консьержки, клоунессы, гарсоны, обыватели, уличные женщины – в изображении этих типажей непарадного Парижа соединилась беспощадная правдивость с грустным изяществом, ирония и гротеск с пониманием и любовью. По возвращении в Петербург осенью 1913 г. художник показал свои работы на выставке «Мир искусства» и, как говорится, наутро проснулся знаменитым. Мастерство, с которым были выполнены эти рисунки, никого не оставило равнодушным, в одночасье прославив Бориса как исключительно талантливого рисовальщика. В них появилась та «божественная линия», гибкая и подвижная, сочная и бархатистая, о которой писали и говорили все, кто когда-либо писал и говорил о Григорьеве. Но лучше всего о линии сказал сам художник, сложив стихотворение в прозе «Линия» (1922 г.): «Она подобна молнии в сознании глаза – зигзаг, уловляющий неуловимое в движении жизни». Созданные как бы на одном дыхании парижские рисунки послужили основой для живописно-графического цикла «Intimite» («Интимность» – с франц.; 1916-1918 гг.), который в 1918 г. был издан в виде альбома.
Талантливый человек талантлив во всем – эта расхожая фраза нашла очередное подтверждение и в случае Бориса Григорьева, который писал статьи об искусстве и художниках, издал (под псевдонимом Борис Гри) роман «Юные лучи» (1912 г.) и книгу мемуаров. Будучи частым посетителем литературных вечеров в артистических кабаре «Бродячая собака», «Привал комедиантов», Григорьев вновь и вновь «восхищал сумасшедшинкой и писанием стихов» собравшихся. В 1915-1916 гг. он вместе с А.Е. Яковлевым и С.Ю. Судейкиным расписал интерьеры «Привала комедиантов» (на темы произведений К. Гоцци), участвовал в оформлении проводимых там театрализованных встреч.
Примерно в это же время Григорьев исполнил ряд портретов, принесших ему славу одного из самых дорогих и престижных портретистов России. Ему позировали художники И.Е. Репин (1915 г.), С.Ю. Судейкин (1916 г.), Н.К. Рерих (1917 г.), поэты В.В. Каменский (1916 г.) и Н.А. Клюев (1918 г.), артист Ф.И. Шаляпин (1918 г.) и режиссер В.Э. Мейерхольд (1916 г.).
Наиболее значительным созданием мастера стал глубочайший по замыслу и выполнению цикл работ под названием «Расея», впервые показанный на выставке «Мира искусства» в 1918 г. Он произвел на современников сложное впечатление, по словам А.Н. Бенуа, «многих охватил одновременно с восторгом от явной талантливости и род ужаса». Григорьев предстал вдруг художником мыслящим, однако мыслящим, по выражению А.А. Блока, «глубоко и разрушительно». Выполненные в иконно-гротескной форме 9 картин и 60 рисунков цикла раскрывали образы безысходной, «звериной», но и святой России, которая, как отмечал А.Н. Толстой, «не касалась ни романтической России Венецианова, ни героической Сурикова, ни лирической Левитана и Мусатова, ни православной Нестерова, ни купецко-ярмарочной – Кустодиева и Судейкина… Эту лыковую Русь и я и вы носите в себе; оттого так и волнуют полотна Бориса Григорьева, что через них глядишь в темную глубь себя, где на дне, не изжитая, глухая, спит эта лыковая тоска, эта морщина древней земли». В числе лучших работ «Расеи» картины «Старуха с коровой», «Девочка с бидоном» (обе 1917 г.), «Деревня», «Олонецкий дед» (обе 1918 г.), «Земля народная» (1917-1918 гг.).
В предисловии к книге «Расея», увидевшей свет в том же 1918 г., Григорьев писал: «Никто не может быть уверен в том, что смерч времени не вырвет и его с корнями у любимой Земли…» Он участвовал в праздничном оформлении Петрограда к 1-й годовщине революции, сотрудничал в журнале «Пламя», выполнил иллюстрации к «Графу Нулину» и «Домику в Коломне» А.С. Пушкина и серию карандашных рисунков по мотивам поэмы В.Л. Пушкина «Опасный сосед». Экспонировал «Землю народную» и другие полотна на Первой свободной выставке всех течений в начале 1919 г. Для постановки оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова в Большом театре Борис Григорьев создал 78 листов; это не только декорации различных сцен, но и многочисленные эскизы костюмов: Боярышни, Скомороха, Царя Берендея – они сохранились в музее самого театра. Жаль, что эта замечательная фольклорная сказка так и не была поставлена.
Кроме того, Борис Дмитриевич преподавал в ГСХМ (Государственные свободные художественные мастерские) – бывшем Строгановском училище. Но «смерч времени» все сильнее закручивался вокруг художника. «Моя душа полна смятения, – писал он В. Федорову 14 сентября 1919 г., – я совсем разболелся, еду куда-нибудь в деревню лечить нервы… сейчас я совершенно ненормален, потому что вокруг меня вся жизнь ненормальна». Спустя месяц Григорьев с женой и пятилетним сыном Кириллом нелегально пересек на лодке Финский залив и после недолгого карантина в Териоках (Финляндия) уехал в Берлин, чтобы больше никогда не вернуться на родину. Так началась его эмигрантская жизнь.
В Германии Борис Дмитриевич сотрудничал как художник в журналах «Жизнь», «Русь» и «Русский эмигрант», в русских и немецких издательствах. Оформил книги «Детский остров» Саши Черного (1921 г.), «Анфиса Петровна» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1923 г.), «Первая любовь» И.С. Тургенева (1923 г.). В 1921 г. он поселился в Париже, в следующем году посетил Нормандию, а еще через год – Бретань, где часто бывал и в дальнейшем.
Путешествуя, художник впитывал в себя не только жизнь и природу разных стран, но и их искусство. Так, в германских работах Григорьева можно уловить влияние экспрессионизма, в итальянских портретах появились темные фоны, как у Гойи, и удлиненные болезненные линии Эль Греко. Большой цикл нормандских и бретонских картин (пейзажи, натюрморты, портреты крестьян и рыбаков, жанровые сцены) написан в неоклассической манере, восходящей к традициям «малых голландцев». Однако не о подражании идет речь – обладая сильной творческой индивидуальностью и волей, мастер не боялся никаких влияний, он уверенно все делал «своим».
Европа оценила Григорьева: он широко выставлялся в Берлине, Венеции, Лондоне, Париже, других городах, картины его охотно покупали лучшие музеи и крупные коллекционеры. По-прежнему плодотворно работал он как пейзажист и портретист, переиздав «Расею» на русском и французском языках (1921, 1922 гг.) и дополнив ее новым альбомом «Лики России» (на французском и английском; 1923, 1924 гг.), включившем, в частности, портреты актеров Московского Художественного театра, гастролировавшего в то время во Франции. Это живописные этюды и стремительные карандашные наброски К.С. Станиславского, А.Л. Вишневского, Н.Г. Александрова, И.М. Москвина, В.И. Качалова, Л.М. Кореневой и других в ролях или вне ролей.
В 1923 г. по предложению американского критика К. Бринтона Григорьев впервые приехал в Нью-Йорк, где в Бруклинском музее была открыта обширная выставка русских художников-эмигрантов. На ней экспонировалась и григорьевская «Расея», принесшая ее автору необычайно шумную международную славу. Его называли «великим Григорьевым», о нем писали сотни статей и покупали, покупали его картины. Художник был очарован Америкой и в дальнейшем с удовольствием проводил там зимние сезоны, создавая пейзажи Флориды, портреты деловых людей, светских дам, деятелей искусств: А.М. Ремизова (1924 г.), С.А. Есенина (1923 г.), Ф.И. Шаляпина (1922-1923 гг.) и др.
В 1926 г. Григорьев создал портрет А.М. Горького, своего рода эпилог к «ликам России». Преклоняясь перед внутренней силой писателя, Борис Дмитриевич в течение семи лет вынашивал в сердце его образ. «Никто и никогда не поймет Вас кистью так, как я», – уверял он Алексея Максимовича в письме 1924 г. Композиция портрета сродни тем скульптурным памятникам, где писателя изображают в окружении собственных персонажей: Горький идет полем, а за ним – толпа героев его книг. Лицо его светло, задумчиво и печально, правая рука поднята высоко ладонью к зрителю, словно отгораживаясь или отмахиваясь от чего-то. Работая над картиной на пике вдохновения, Григорьев старался подчеркнуть огромную духовную глубину Горького. Эту работу и автор и модель считали лучшим своим портретом.
В 1927 г. Борис Дмитриевич приобрел участок земли в провансальской деревушке Кань-сюр-Мер, близ Ниццы, и построил там дом, окрестив его «виллой Борисэллой», соединив в названии свое имя с именем жены и намереваясь окончательно здесь обосноваться. Однако в дальнейшем проводил в «Борисэлле» лишь краткие периоды между поездками.
В том же году Григорьев получил приглашение чилийского правительства на должность преподавателя Академии художеств в Сантьяго. Но в 1929 г., после правительственного переворота в Чили, досрочно разорвал контракт и отправился с женой и сыном в путешествие по Аргентине, Бразилии, Эквадору и Уругваю. Рисовал природу, быт и типажи Латинской Америки, с интересом изучал живописный фольклор индейцев. Попутно провел персональные выставки в Вальпараисо, Сантьяго, Буэнос-Айресе и Монтевидео (1928-1929 гг.). В 1930 г. возвратился в Кань-сюр-Мер, где написал огромную многофигурную композицию «Лики мира», посвятив ее Лиге наций. Это полотно, несмотря на явный неуспех картины на парижском Осеннем салоне 1930 г., послуживший причиной тяжелого внутреннего кризиса художника, приобрел один из музеев столицы Чехословакии после персональной григорьевской выставки в Славянском институте в Праге (1932 г.).
В 1930 г. Борис Дмитриевич преподавал в Русской художественной академии Т.Л. Сухотиной-Толстой в Париже, а после ее закрытия в конце года открыл школу на своей вилле. Иллюстрировал «Детство» М. Горького (1931 г.) и выполнил цикл из 60 рисунков к «Братьям Карамазовым» Ф. М.Достоевского (1932-1933 гг.). В 1935 г. он стал деканом факультета в Академии прикладного искусства в Нью-Йорке, одновременно рисуя для журналов и рекламы. В 1936 г. отправился во второе путешествие по Латинской Америке, вновь получив приглашение из Чили, посетил также Бразилию, Колумбию, Эквадор, Перу и Кубу.
В 1938 г. художник вернулся во Францию уже смертельно больным человеком и через несколько месяцев после операции по удалению раковой опухоли завершил свой жизненный путь. Незадолго до смерти Григорьев написал последний автопортрет, как бы поставив точку в замечательном списке созданных им портретов русской интеллигенции начала XX в. Похоронен Борис Дмитриевич в Кань-сюр-Мер.
Дионисий (род. около 1440 г. – ум. между 1502-1508 гг.)
Выдающийся русский иконописец, большой мастер фрески.
…Среди суровых северных лесов и неподвижных ярославских озер вознесся к небу храм Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Стоит ли короткое прохладное лето, метет ли зимняя вьюга, вошедшего в церковь путника согреют краски солнечного дня на его древних фресках – голубые, розовые, янтарные. Вот уже более 500 лет здесь всегда светло и радостно… Именно полтысячелетия тому назад пришел сюда старец-иконописец с учениками, дабы расписать стены храма. Звали его Дионисий.
Имя это долго было сокрыто от потомков под пластами непростой русской истории. «Открыл» Дионисия в начале XX века знаток русской старины Василий Георгиевский. С тех пор интерес к творчеству иконописца не ослабевал. Но о его жизни нам до сих пор известно очень мало.
Дионисий родился приблизительно в конце 30-х – начале 40-х гг. XV ст., скорее всего в Москве. О семье художника исследователи знают немного. Согласно синодику, его род начинается с царевича Петра. Правда, непонятно, какой из царевичей имеется в виду.
Так же непонятно, кто был учителем Дионисия. Принято считать, что им мог быть иконник Митрофан. Вместе с ним Дионисий работал над росписью церкви Рождества Богородицы в Пафнутьев-Боровском монастыре (1467 г.). Русский писатель XV в. ростовский архиепископ Вассиан Рыло, упоминая данную роспись, называет имя Митрофана первым. Видимо, старый иконник руководил работой.
В отличие от большинства иконописцев того времени, Дионисий не был монахом. Более того, художник-мирянин не отличался смирением и святостью помыслов. Существуют свидетельства, что он не соблюдал постов. Несмотря на запрет игумена Пафнутия вносить в монастырь скоромное, Дионисий однажды принес в обитель баранью ногу, зажаренную с яйцами. Яйца оказались несвежими, и иконописец тяжело заболел. Но покаявшись перед Пафнутием, он был исцелен.
В 1482 г. Дионисию доверили восстановить обгоревшую после пожара русскую святыню греческого происхождения – икону «Богоматерь Одигитрия». По сути, Дионисию пришлось писать ее заново. Его Мария строга и холодна. Это не юная мать, а царица, заступница, «женщина-вождь» (именно так переводится греческое слово «одигитрия»). Такой «воинственный» образ не случаен. Божья Мать всегда считалась покровительницей русского войска.
В 1480 г. была одержана окончательная победа над монголами. В свое время большую роль в борьбе против Золотой Орды сыграли митрополиты Петр и Алексий. Кисти Дионисия принадлежат житийные иконы этих святых. Такой ответственный заказ свидетельствует о признании иконописца на самом высоком уровне. Написанные на разных досках, композиционно иконы представляют собой единое целое. Следует заметить, что вместе Петра и Алексия никто до Дионисия не писал. Петр, первый московский митрополит, давно почитался святым. Алексий был канонизирован только в 1448 г. Каждая икона состояла из средника с фигурой святого и окружающих его нескольких клейм-картин, иллюстрирующих великие дела митрополитов. В этих иконах ощутим особый стиль письма Дионисия. Желая подчеркнуть духовную сущность святых, иконописец рисует их очень легкими, безобъемными, будто вовсе лишенными веса. Их светлые удлиненные фигуры парят в пространстве. Дионисий подобрал очень нежные оттенки желтого, голубого, зеленого. Но основным цветом является белый – символ спокойной духовной силы. Ощущение покоя иконам придает и размеренный, торжественный ритм, заданный композицией клейм. В отличие от эмоциональных «жизненных» рублевских образов, у Дионисия фигуры несколько условны. Каждый жест, поза, цвет, линия являются символом, решают некую художественную задачу. В данном случае такая задача заключается в желании иконописца представить митрополитов защитниками русского народа. Логичность, рациональность были тем, что привнес Дионисий в русскую иконопись.
В 80-е гг. XV в. художник со своей артелью без работы долго не оставался. Для Успенского собора Кремля Дионисий и его ученики создали многоярусный иконостас. За эту работу он получил огромную по тем временам сумму – сто рублей. Расписывал он и другие храмы, но, к сожалению, не все из созданного иконописцем сохранилось до наших дней. В 1547 г. сгорела Спасская церковь московского Чигасова монастыря. Летописец с прискорбием замечал, что «…подпись тоя церкви чудна была Дионисия иконописца…»
«Апокалипсис» – одна из немногих сохранившихся работ Дионисия, принадлежащих к московскому периоду. В 80-е гг. XV в. верующие жили в ожидании конца света, предсказанного церковью на 1490 г. Дионисий не запугивает зрителя. Для него «Страшный суд» – это торжество праведников.
В 1484-1486 гг. в Иосифо-Волоколамском монастыре был воздвигнут храм Успения Богоматери. Через несколько лет игумен монастыря Иосиф Волоцкий пригласил для росписи храма Дионисия с его учениками. К этому времени в иконописной артели работали уже и сыновья мастера – Феодосиq и Владимир. В описи монастыря упоминается 87 икон, созданных Дионисием. Ни одна из них не сохранилась до наших дней.
Очень высоко ценил творчество Дионисия Иосиф Волоцкий – довольно колоритная фигура своего времени, общественный деятель и публицист. Живописцу адресован его трактат о религиозном искусстве «Послание иконописцу». Сохранились летописные упоминания о том, что Иосиф Волоцкий ставил иконы Дионисия рядом с иконами Рублева. Как-то он поссорился с удельным князем Волоколамским Федором Борисовичем. Желая примирения, Иосиф послал князю «иконы Рублева письма и Дионисьева». Таким образом, очевидно, что в конце 90-х гг. XV в. иконописец пользовался признанием в духовных и великокняжеских кругах. За росписи он получал огромные деньги. Однако неожиданно Дионисий отправился на север, в далекий Ферапонтов монастырь. Такое странное решение престарелого художника можно объяснить общественно-религиозными событиями, происходившими в то время на Руси. Официальная церковь преследовала так называемых еретиков, помимо прочего, выступавших против стяжательства монастырей. Осуждал «вещелюбие» и крупнейший философ Нил Сорский. Его философия была очень близка Дионисию, особенно постулат о «сердечном (умном) делании», постоянном нравственном самоусовершенствовании. Игумен Ферапонтова монастыря Иоасаф посвятил этой идее жизнь, отказавшись от официальной церковной карьеры – сана архиепископа Ростовской епархии. Будучи родственником Вассиана Рыло, Иоасаф, видимо, хорошо знал творчество и взгляды Дионисия. Он-то и пригласил знаменитого художника в глухой северный монастырь.
Согласие Дионисия было во многом связано с его желанием работать самостоятельно, следуя идеям «умного делания». И он получил независимость. Это чувствуется во многом: обычный канон росписи собора сильно изменен. Акафист Богородицы, сюжеты, повествующие о жизни Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, о Вселенских соборах, – все это никогда ранее в русских церквях не изображалось. Подобные росписи встречаются разве что в Византии и Сербии. Есть мнение, что, прежде чем отправиться в Ферапонтов монастырь, Дионисий побывал на Афоне.
Роспись покрывает стены храма Рождества Богородицы полностью – от купола и до пола. Однако фрески не равноценны: кое-где, особенно в темных углах, они порой даже не закончены. Это объясняется тем, что старый мастер не мог уже много работать, большинство росписей выполняли его ученики. Фрески в западном портале и на арках внутри церкви принадлежат руке самого Дионисия.
Роспись мастера торжественна и возвышенна. Интересна композиция фресок. Часто в их центре – не божество, а либо некий предмет (купель, чаша), либо пустое пространство. По мнению многих искусствоведов, эта ритмическая пауза вызывает у зрителей чувство ожидания чего-то сверхъестественного. Человек на втором плане, стоящий в «толпе», у Дионисия, как правило, лишен какой-либо индивидуальности. Однако при этом художник очень тщательно прорисовывает все детали одежды своих персонажей (можно легко определить социальный статус каждого из них). Создавая легкие, парящие образы, Дионисий использует сочные краски, теплые тона. Благодаря этому зрителя не оставляет ощущение праздника, ликующей радости.
Последними дошедшими до нас работами Дионисия являются две иконы, созданные им для церкви в Павлово-Обнорском монастыре предположительно в 1500 г., – «Спас в силах» и «Распятие». В исполнении последней особенно чувствуется влияние Рублева – Дионисий во многом повторяет его «Распятие» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Однако строгая логика композиции, гармония «чистого разума» отличают стиль Дионисия от великого предшественника.
В 1508 г. над росписью Благовещенского собора Московского Кремля работал уже «мастер Феодосий, Дионисиев сын с братиею». Видимо, к этому времени знаменитый иконописец либо уже не мог работать из-за старости или болезни, либо умер.
«Последним взмахом крыльев древнерусского живописного творчества» называют Дионисия искусствоведы. После его смерти развитие иконописи на Руси пошло по другому, тяготеющему к украшательству пути. По пути, ведущему прочь от глубокого философского осмысления творчества, от духовной глубины церковного искусства…
Зверев Анатолий Тимофеевич (род. в 1931 г. – ум. в 1986 г.)
Известный русский художник-авангардист, большой мастер портрета, пейзажа и натюрморта, создатель циклов графических работ, автор более 30 тысяч произведений. Участник Третьей выставки молодых художников Москвы и Московской области (1957 г.); многочисленных выставок за рубежом (в Париже, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Сен-Реституте, Пугано, Далласе, Копенгагене, Гренобле, Вене, Западном Берлине, Сент-Луисе, Монжероне, Джерси-Сити, Венеции, Лондоне, Туре, Шартре, Женеве, Денвере и др.). Обладатель золотой медали VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957 г.).
«Гений человека всегда одновременно и его рок». Эти слова С. Цвейга удивительно точно отражают судьбу Анатолия Зверева, в которой жизнь и творчество составляют единое целое. Художник жил по велению своей гениальности, и потому его биография была так же далека от общепринятых мерок, как великое искусство – от обычного добротного ремесленничества. Превыше всего на свете он ценил независимость и искусство и ненавидел всяческие условности, отнимающие время и энергию у творчества.
В работе самым важным и дорогим для Зверева был процесс «творения» и то впечатление, которое производил он на окружающих. Ведь в отличие от других художников все свои произведения он создавал не в тиши мастерской, а непосредственно на глазах у зрителей, поражая легкостью, артистизмом, неистощимой фантазией и импровизацией. Каждый, кто присутствовал на таких творческих сеансах, соприкасался с чудом, таинством рождения шедевра.
Слава, звания, деньги – все эти желанные житейские атрибуты спокойного и благополучного существования были для Зверева не существенны. И хотя большую часть жизни он не имел своего угла, одежды, нередко голодал и часто бывал битым, никогда не жаловался, не сетовал на свою неустроенность и неприкаянность. И не страдал от общественного непризнания.
Лишь о маленьком отрезке биографии художника можно сказать – «все как у всех», уложив события в обычные рамки анкетных данных: родился, учился, работал. Об этом сам Анатолий Тимофеевич рассказал в «Автобиографии», снабженной причудливым посвящением «Тебе, Тибету» (художник любил вращать корневую структуру слов, придумывая оригинальные логаны). Из нее известно, что родился он в Москве в бедной простой семье: отец – тамбовский крестьянин из старинного рода иконописцев, инвалид Гражданской войны, почти лишившийся зрения, мать – рабочая.
О своих детских годах художник рассказывал немногословно: «Учился очень неровно и имел оценки всякие: по отдельным предметам или "отлично", или контрастное "два". Впоследствии мне удалось каким-то образом окончить семилетку и получить неполное среднее образование, чем я гордился перед самим собой, кажется, больше, нежели перед другими. Детство в основном проходило дико, сумбурно… Желаний почти что никаких, кажется, не было».
Живопись вошла в жизнь Анатолия как будто случайно. «Что же касается искусства рисования, – писал он, – то художником я не мечтал быть. Но очень хотелось, чтобы троюродный брат рисовал мне всегда коня. Тем не менее рисование мне, по-видимому, удалось, и впоследствии оно так или иначе прижилось. Когда был в пионерском лагере, не стесняясь могу сказать – создал шедевр, на удивление руководителя кружка: "Чайная роза, или Шиповник", а когда мне было шесть лет (еще до упомянутого случая), изобразил "Уличное движение" по памяти…»
Это детское «творчество» было прервано войной. Вместе с родителями и двумя сестрами десятилетний Анатолий оказался в Тамбовской области. Потом были трудные годы военной разрухи. И лишь после войны в его альбомчике «появились рисунки черной тушью, исполненные пером». Талантливый подросток продолжал любительские занятия рисованием, живописью, лепкой и гравюрой по линолеуму в московских домах пионеров и студиях для взрослых. А затем пошел учиться в ремесленное училище на маляра.
В 1951 г. Зверев поступил в Московское художественное училище им. 1905 года, но уже с первого курса был отчислен, по одним данным, «из-за внешнего вида», по другим – «из-за богемно-анархического поведения». Видимо, имели место обе причины, так как юноша, живший в тяжелых материальных условиях, действительно выглядел не лучшим образом, а характер имел гордый и независимый.
Звереву ничего не оставалось, как податься в маляры. Он работал в московских парках: благоустраивал детские площадки, красил заборы и скамейки, поправлял песочницы и грибки. Занятий живописью не оставлял. Правда, денег на краски не было, и он зарабатывал их игрой в шашки.
Вот, собственно, и все, или почти все, чем была «богата» житейская биография Зверева. Но вслед за этим началась непростая биография творца, способного, по словам искусствоведа С. Кускова, «превращать в живопись буквально все, что попадало в поле его внимания». Она окружена различного рода мифами, слухами и легендами, наполнена многими интересными, а порой и судьбоносными встречами. Первая из них произошла у Анатолия в начале 60-х гг. в парке «Сокольники» с известным актером Камерного театра Александром Румневым. Этот утонченный ценитель искусства стал свидетелем любопытной сценки. Он увидел, как один из рабочих парка – бледный худощавый паренек в слишком большом для него овчинном тулупе и разных сапогах – хромовом и кирзовом, принес ведра с белилами и киноварью. Подойдя к фанерному щиту, он начал с небрежным артистизмом водить по нему обычным кухонным веником, поочередно опуская его в ведра с красками. И буквально через несколько минут на грязной фанере «поселились» диковинные птицы, яркие и лучистые. Румнев понял, что перед ним – несомненный талант, самородок. Они познакомились.
Александр Александрович стал первым меценатом, принявшим участие в судьбе Анатолия Зверева. Он приютил его у себя в доме и познакомил со многими представителями художественного мира столицы. Вскоре юноша попал в дом известного коллекционера Георгия Дионисовича Костаки, который был не только собирателем произведений русского авангарда 20-х гг., но и живо интересовался творчеством современных художников московского андеграунда. Именно здесь Зверев начал проводить свои виртуозные художественные сеансы. Рисовал много, жадно, истово, рождая нередко за одну ночь по нескольку десятков работ. Часто присутствовавший на зверевских сеансах известный дирижер Игорь Макаревич вспоминал: «Во время работы Зверев достоин камеры Клузо. Им овладевает исступление: рука, как бы управляемая приказом, выбрасывает бурный поток образов, за которым едва успевает мысль. И такая быстрота переходов мысли, что некоторые картины Зверева тому, кто видит их рождение, представляются художественными энцефалограммами». Это были портреты самого хозяина дома – Г. Костаки и его гостей, представителей московского бомонда и художественной интеллигенции, натюрморты, пейзажи, графические иллюстрации к произведениям литературы.
Художник мог работать чем угодно, используя для этого любые подходящие, по его мнению, предметы. Его коллега Дмитрий Плавинский рассказывал: «Анатолий работал стремительно. Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью и акварелью, напевая для ритма: «Хотят ли русские войны, спросите вы у сатаны», – он бросался на лист бумаги, обливал бумагу, пол, стулья грязной водой, швырял в лужу банки гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлепал по нему помазком, проводил ножом 2-3 линии, и на глазах возникал душистый букет сирени!» Подобным образом Зверев создавал и один из своих шедевров, за который получил золотую медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 г. Один из американских корреспондентов, бывший очевидцем этого, писал: «Наши рассчитывали ошеломить русских потоком "агрессивных" абстракций. Сняли пенки с самых авангардных течений и всей этой эклектикой надеялись нокаутировать социалистический реализм. Живописный конвейер вертелся без перерыва. Не успев "прикончить" один холст, хватали следующий. Русские растерялись. Такие темы оказались для них неожиданностью. Воспитанникам академистов ничего не оставалось, как доказывать правоту словами. Спорили энергично. Нас обвиняли в уходе от социальных проблем. Мы возражали: сначала научитесь свободно обращаться с материалом! Это продолжалось до тех пор, пока в студии не появился странноватый парень с двумя ведрами краски и с намотанной на палку тряпкой для мытья пола. Раскатав холст, насколько позволяло помещение, он выплеснул на него оба ведра, вскочил в середину сине-зеленой лужи и отчаянно заработал шваброй. Все не заняло и десяти секунд. Мы замерли от восхищения. У наших ног распростерся огромный женский портрет, исполненный виртуозно, изысканно, с тонким пониманием. Парень подмигнул кому-то из остолбеневших американцев, хлопнул его перепачканной ладонью ниже спины и сказал: "Хватит живописью заниматься, давай рисовать научу!"».
Несмотря на столь ошеломляющую скорость и технику работы, картины Зверева в большинстве своем не были виртуозными поделками. Они поражали мыслью, точностью характеристики, удивительным способом подачи сюжета. В них не было беспредметности, напротив, его живопись отличала фигуративность, узнаваемость, которым не мешали экспрессия и чувственность манеры письма. Особенно интересны в этом отношении портреты матери художника, которые он написал в разные годы. На одном она предстает брейгелевской старухой с обвисшим подбородком и толстыми оттопыренными губами. Гротескность портрету придает преувеличенный до уродства нос с горбинкой. Другой портрет, где она изображена за стиркой белья, полон экспрессии. В нем все – и фигура женщины, и складки одежды, и как бы двоящийся силуэт спины – подернуты рябью, передающей характер движения.
Особым стилевым разнообразием отличаются 34 автопортрета художника. Эти графические работы (тушь, перо) – то импульсивные и мрачные, то гротескные и беспощадные в саморазоблачении, то реалистические.
Во многих работах Зверева проявляется особо темпераментный живописный стиль, который исследователи называют «фигуративным ташизмом». В одном из интервью художник заявлял: «…ташизм, кстати, я изобрел, только никто об этом не знает… еще в ремесленном училище!» Именно в этой манере написаны «Портрет Георгия Костаки» (1956 г.), «Сосны» (1959 г.), «Женский портрет» (1966 г.), «Портрет Марфы Ямщиковой» (1979 г.), многие рисунки зверей и животных, которых Анатолий Тимофеевич особенно любил рисовать, а также лепить из серой глины. «Он часто посещал зоопарк, где делал удивительные наброски. Время исполнения – доли секунды. Манера рисования настолько экстравагантна, что разжигает нездоровое любопытство публики. Спящий лев рисуется одним росчерком пера. Линии рисунка – от толщины волоса до жирных, жабьих клякс. Или прерывисты, словно он рисует в автомобиле, скачущем по кочкам. Характер поз, прыжков животных точен и кинематографичен».
Молва о феноменальных способностях Зверева быстро разнеслась по Москве. Слава его росла не по дням, а по часам. Но знал о нем лишь узкий круг поклонников: произведения художника-самоучки не участвовали в выставках и официальным искусством не признавались. Единственным корифеем живописи, по достоинству оценившим зверевский талант, был Р. Фальк, но ведь и его самого не жаловали «чиновники от искусства». Глядя на работы молодого художника, он изумленно восклицал: «Как умеет он, не видев ни одного экспрессиониста, свободно пользоваться их открытиями! И при этом оставаться реалистом, предметником!.. О, ему не грозит ересь формализма, слишком он психолог. А экспрессионистская манера… Это всего лишь наиболее подходящая форма самовыражения его необузданной натуры». Фальк был прав во всем, в том числе и относительно зверевской необузданности. Своевольный нрав художника проявлялся не только в творчестве. Он никому и ни в чем не подчинялся, даже своим благодетелям. Жил свободно и независимо: мог в любой момент уйти из приютившего его дома, мерзнуть, ходить в обносках, бродяжничать, создавать рискованные ситуации.
Единственным периодом, когда Анатолий вел оседлый образ жизни, было время его женитьбы на молодой художнице Люсе, с которой он познакомился все у того же Костаки. Супруги решили жить в деревне, но очень скоро выяснилось, что жена-горожанка не приспособлена к таким условиям. Зверевы вернулись в Москву и поселились у родителей Люси. Денег катастрофически не хватало (художник умел работать и совершенно не умел продавать свои картины), но ревнивый Анатолий категорически воспротивился желанию жены устроиться на службу. В семье участились скандалы, и вскоре Зверев оказался на улице. Но это его мало волновало. Всегда находилось жилье, под кровом которого он мог страстно, до самозабвения заниматься своим искусством. Но рядом с этой страстью все чаще появлялась и другая – к алкоголю. Сначала водка была источником вдохновения, поддерживала силу его таланта, еще не успевшего полностью раскрыться, повышала столь необходимую ему работоспособность. Ведь Зверев все больше входил в моду и заказы сыпались со всех сторон. Известный лингвист Галина Маневич писала: «…денно и нощно эксплуатировалась импровизация Зверева, подогреваемая большим количеством алкоголя, к которому был неравнодушен молодой художник. Я сама в начале 1960-х видела у Г. Костаки более сотни рисунков тушью, выполненных Зверевым за одну ночь по мотивам апулеевского "Золотого осла". По степени свободы, остроте ракурса, минимальности линий и капель, оставленных на листе бумаги, их можно сравнить лишь с графикой великих французов – Матисса и Пикассо. Часто происходившие программно-направленные показательные ночные сеансы, конечно, обостряли зрение, возбуждали психику – и обернулись агонизирующей экспрессией».
Художник продолжал творить, не щадя себя. Он создал замечательные иллюстрации к «Сорочинской ярмарке», «Вию», «Страшной мести» и «Мертвым душам» Н.В. Гоголя и несколько трагично-печальных портретов любимого писателя, 36 листов трепетных одухотворенных иллюстраций к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и портрет самого поэта. Но больше всего художник любил рисовать женщин. С трогательной нежностью и теплотой им были выполнены портреты Полины Лобачевской, Натальи Шмельковой, преданного друга и хранительницы его архива, а также вдовы поэта Н. Асеева Оксаны Михайловны Асеевой, ставшей для Зверева «ангелом-хранителем», «солнцем его судьбы».
Бродяга-художник и пожилая «дама из высшего общества» познакомились в одной московской коммуналке, и сразу же прониклись друг к другу особой симпатией. Оксана Михайловна – человек высокой культуры, добрая и отзывчивая женщина – смогла по достоинству оценить и талант, и душевные качества Зверева. Их любовь, несмотря на большую разницу в возрасте, была трогательной, глубокой и необходимой обоим. Возможно, если бы не было в судьбе художника этой женщины с ее теплотой, заботой и огромным терпением, жизнь его могла бы оборваться гораздо раньше.
В последние годы, после смерти Асеевой, психическое здоровье Зверева, подорванное спиртным, особенно ухудшилось. «Казалось, пьянство – естественное состояние его жизни», – вспоминал художник В. Калинин. В 1986 г., после очередного лечения в больнице, Зверев скончался.
«Каждый взмах его кисти – сокровище, – говорил о нем Р. Фальк. – Художники такого масштаба рождаются раз в столетие». Огромное наследие Зверева разошлось по всему миру. Сегодня его картины и рисунки есть во многих знаменитых музеях. Но большую часть своих работ он просто дарил людям, приговаривая при этом: «По рисункам моим и картинам молено видеть и слышать меня».
Иванов Александр Андреевич (род. в 1806 г. – ум. в 1858 г.)
Выдающийся русский живописец реалистического направления, большой мастер исторических полотен, автор картины «Явление Христа народу» (1837-1857 гг.).
Наверное, А. Иванову была предопределена судьба художника. Все обстоятельства складывались так, что никем иным он стать не мог. Его окружение жило искусством. Двенадцатилетним мальчиком Сашу зачислили в младший класс Императорской Академии художеств. До тех пор он обучался дома. Русскому и иностранным языкам его учила мать, всему остальному – преподаватели академии. Главным наставником был отец, профессор Андрей Иванович Иванов – один из зачинателей исторической живописи в русском искусстве первой трети XIX столетия. Лучшим его учеником был К. Брюллов.
Квартира Ивановых располагалась на Литейном дворе академии, соседями были известные художники и скульпторы С. Пименов, И. Мартос, С. Гальберг. Кроме Саши в семье росло еще девять детей, поэтому шум и суета в доме были привычными. Когда глава семейства стал старшим профессором и получил большую квартиру с мастерской в главном корпусе академии, ученики не только приходили позаниматься, но и жили здесь.
Саша как старший из мальчиков был ближе всех к отцу. От него он унаследовал твердый характер, аккуратность и целеустремленность, глубокую религиозность, преданность искусству и понимание долга. А тот, в свою очередь, видел в сыне надежду на будущее и вкладывал в его воспитание свой талант художника и педагога.
Академия художеств была закрытым учебным заведением, единственной кузницей национальных талантов. Основанная на строгом академизме, она давала замечательную базовую подготовку. Но собственной живописной школы в России не существовало, и после академического курса, который длился 15 лет (9 – в воспитательном училище и 6 – в самой академии), наиболее одаренные ученики уезжали за границу. Тогда это был единственный путь совершенствования мастерства.
В отличие от других учеников, Саша жил дома и работал в мастерской отца. Он замечательно усвоил традиции академического искусства, изучил классические образцы, овладел азами мастерства и, когда пришло время держать серьезный экзамен, получил золотую медаль за картину на сюжет из «Илиады» – «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824 г.). Его дипломной работой, которая дала бы ему право учиться в Италии за счет Общества поощрения художников, стала картина на библейский сюжет «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице хлебодару и виночерпию» (1827 г.). Она принесла Иванову звание художника и большую золотую медаль. Некоторые считали, что молодой выпускник превзошел в ней Брюллова, а кто-то высказал подозрение в значительной помощи отца. Начались неприятности. В работе усмотрели намек на казнь декабристов, потому что автор изобразил на стене темницы египетский рельеф – казнь четырех человек. Если бы это «открытие» не замяли, последствия могли быть печальными; Иванову же предложили сделать новую работу. Он не стал искушать судьбу и обратился к античной мифологии. Сюжет назывался «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Идея его была проста: самодержавие расправляется с химерой революции. На эту картину ушло почти два года.
Тем временем в жизнь молодого человека вошла любовь. Предметом его обожания стала дочь г-на Гюльпена – преподавателя музыки в академии. Но по академическим законам женатый художник не имел права на пенсионерскую поездку за границу. Александр стоял перед выбором: он горячо любил девушку, но не менее страстно хотел учиться. Красноречивым призывом к благоразумию была судьба отца, который вот так же когда-то полюбил Катеньку Демерт и женился на ней, пожертвовав мечтой об Италии. Простой и безродный человек, просто-напросто подкидыш, он в возрасте шести с половиной лет попал из Москвы на обучение в Петербургскую академию художеств, вырос и возмужал в ней, добился высот мастерства и должности старшего профессора, но отсутствие заграничного опыта висело над ним как дамоклов меч. С начала 1826 г., когда академия перешла из Министерства духовных дел и просвещения в ведомство Императорского двора, Андрей Иванович опасался не только за свою карьеру, но и за будущее сына.
В конце концов здравый смысл взял в Александре верх. Хотя не без придирок профессоров и проволочек, полотно было закончено. Предстояла разлука с любимой и семьей. В мае 1830 г. Александр покидает Петербург. И очень своевременно. Через несколько месяцев по приказу Николая I Андрея Ивановича в числе четырех самых заслуженных профессоров академии отправили в отставку.
Вначале планировалось, что Александр едет на три года, а вышло – почти на всю оставшуюся жизнь, в которой он так и не обретет семью, всецело посвятив себя творчеству и достижению той цели, которую поставил себе с молодых лет. Еще в академические годы юноша проявлял интерес к истории и теории искусства, следил за современными воззрениями в этой области. Он искренне верил, что искусство способно духовно преобразить человека, а значит, и избавить все человечество от пороков. Идея нравственного обновления мира полностью захватила его. Как искренне верующий человек Иванов считал переломным событием приход Мессии на землю. Перечитывая Евангелие, он нашел сюжет, который еще не разрабатывался в живописи, – на берегу реки Иордан Иоанн Креститель с группой людей наблюдает первое появление Христа. Окончательный замысел сформировался весной 1833 г.
Отныне все, что художник знал, видел и рисовал, было подчинено этой идее, хотя, выполняя предписания петербургских наставников, он делал и обязательные работы. Одной из них была копия с плафона Сикстинской капеллы. Посетив Дрезденскую галерею, художник рисует голову Сикстинской Мадонны Рафаэля (этот рисунок висел в его мастерской всегда), работает в Мюнхене, Вене, Флоренции, Венеции, изучает античные памятники и произведения эпохи Ренессанса. Неповторимая природа Италии и возможность соприкоснуться с подлинными шедеврами вдохновляли его лирическую душу. На таком подъеме Иванов написал одно из самых поэтичных полотен – «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1836 гг.), в котором с наибольшей полнотой воплотил принципы классической живописи: продумал четкую композицию, грамотно разместил фигуры античной красоты, выдержал традиционный колорит. Но уже в этой работе просматриваются реалистические черты, которые впоследствии станут доминирующими в творчестве А. Иванова.
Проект задуманной молодым художником картины был настолько грандиозен, что даже отец отговаривал его, предвидя колоссальные трудности в реализации. Не говоря уже об академии, которую заботила прежде всего дороговизна и неопределенность сроков окончания работы. Иванову не разрешили поездку в Палестину, ограничивали в размерах картины (площадь ее достигала 40 кв. м), но художник упорно настаивал на своем, подчеркивая, что это не икона, а историческое полотно и пишется не для церкви.
Грандиозный замысел требовал огромной подготовительной работы. Чтобы выполнить ее, Иванов экономит на всем и отправляется на север Италии изучать классические произведения, пишет пейзажи и огромное количество этюдов, рисунков с обнаженной натуры. Первой попыткой приблизиться к задуманному полотну была картина «Явление Христа Марии Магдалине», над которой художник работал в 1834-1835 гг. Она была сначала выставлена в Риме, потом отправлена в Петербург и принесла автору звание академика. Успех окрылил Иванова. Но подобной радости испытать ему больше не довелось.
Годами художник искал композицию будущей картины, варианты размещения фигур, тщательно прорабатывал характеры персонажей, модели и детали, рисуя с натуры. Натурная работа все больше приближала его к обычной жизни, к бытовым сюжетам и простым лицам. Даже центральная фигура Иоанна Крестителя была лишена у него академической картинности. И уже совсем немыслимым для традиционной живописи было введение в композицию фигуры раба. Большие сдвиги произошли в изображении людей, усилилась психологическая разработка персонажей. Об этом свидетельствует огромное количество написанных с натуры портретов, преимущественно женских, а также появление на полотне героев, имеющих сходство с Н. Гоголем и самим художником.
Значительные успехи были достигнуты Ивановым в пленэрной живописи. Ряд этюдов и картин из серии «купающиеся мальчики» стали настоящими шедеврами. В них он уделял внимание не только колориту, но и свету, причудливой игре бликов утреннего солнца. Всему этому Иванова научила Италия, ведь на родине он не написал ни единого пейзажа.
В течение десяти лет в мастерскую художника-затворника никто не допускался, кроме близких друзей: поначалу доброго советчика, датского скульптора Торнвальдсена, затем Гоголя, следившего за ходом работы, позже переехавшего в Рим младшего брата Сергея. Одиночество и бедность были постоянными спутниками художника. Он так и не смог увидеться с родителями (мать умерла в 1843 г., отец – в 1848-м, причем на погребении присутствовала только внучка; академия, в которой он прослужил почти 33 года, не нашла даже денег на похороны). После этих потрясений Александр некоторое время был не в состоянии работать, но все-таки вернулся к картине, осознавая: «Сего труда ни один человек, кроме меня, кончить не может».
Пока шла работа, многое менялось в жизни и в сознании Иванова. Он живо интересовался революционными событиями в Италии, восхищался личностью Д. Мадзини (одного из руководителей движения карбонариев, основателя организации «Молодая Италия», впоследствии главы правительства Римской республики), жадно ловил новости из России. Через друзей А. Герцена, И. Огарева, И. Сеченова, Д. Щепкина получал интересующую его литературу. Особенно важны были для него новые веяния в толковании библейских и евангельских текстов. Постепенно в нем зародились сомнения, наметился перелом в мироощущении, а отсюда и новое понимание темы картины «Явление Христа народу» – о роли героической личности в жизни народа. В начале 1850-х гг. своеобразным толчком к новому постижению смысла своего труда для Иванова стала книга Д. Штрауса «Жизнь Иисуса», в которой содержалась критика прежних воззрений. Она поколебала слепую веру в церковные догматы. И, завершая огромное произведение, художник-подвижник начал сомневаться в его нужности.
Следует упомянуть еще одно знаменательное событие в творчестве А.А. Иванова. В 1845 г. ему предложили создать запрестольный образ «Воскресение Христово» для храма Христа Спасителя в Москве. И хотя этого не случилось (заказ передали К. Брюллову, а потом и вовсе отменили), работа Иванова над эскизами и обращение к монументальной живописи послужили началом нового этапа в его творчестве. Художник со свойственным ему размахом задумывает создать стенную роспись, состоящую из 500 (!) произведений. Так же одержимо он начинает писать заготовки, так называемые «библейские эскизы», раскрывающие общечеловеческий смысл религиозных легенд и их связь с мифологией и, как считал сам художник, отмеченные «идеями новой цивилизации». Эти работы как будто принадлежали кисти другого мастера. По силе мысли и выразительным средствам они превосходили «Явление Христа». Появившаяся мощь и монументальность делали их далекими от общепринятой трактовки образов. Такие работы, как «Шествие пророков», «Сбор манны в пустыне», «Хождение по водам», «Благовещение», «Проповедь Иоанна Крестителя» и другие, ломали каноны иконографической живописи: простые смертные здесь превозносились до божественного величия, а сверхъестественные существа представали в облике реальных людей. Все это определило собственный стиль художника.
В начале 1858 г. Иванов возвратился в Россию. Он полон планов и идей: думает о создании новой российской художественной школы, не уступающей европейским, об устройстве учебных заведений для молодых художников, мечтает проложить «высокий и новый путь» искусства. Художник опять планирует побывать в Палестине, а затем, поселившись в Москве, построить особое здание (не церковь), посвященное истории человеческих верований и идеологий, внутри которого должны расположиться его фрески.
Удивительно, что столь оптимистичные планы художник строил далеко не в лучшем состоянии духа. Труд всей его жизни «Явление Христа народу», показанный монарху и выставленный в залах Академии художеств, был встречен критикой сдержанно или резко отрицательно. Официальных ценителей пугала новизна живописи Иванова. От него отвернулись при дворе и в академических кругах. Император не спешил давать обещанные за картину деньги. Тягостное чувство, что титанический труд не принес ни признания, ни относительного благосостояния, не покидало художника. Что ждало его впереди?
Ответ на этот вопрос был внезапен и трагичен: 3 июля 1858 г. Александр Андреевич заболел (в Петербурге вспыхнула эпидемия холеры) и через несколько дней умер. Буквально несколько часов спустя посыльный из придворной канцелярии уведомил, что царь приобретает картину за 15 тыс. рублей – это ничтожная сумма – и жалует живописцу орден Святого Владимира.
Память выдающегося художника почтили только друзья, в «Колоколе» был помещен некролог. Скорбели молодые ученики академии, восторженно принявшие прогрессивные тенденции живописи Иванова. Достоянием широкой публики творчество Александра Андреевича стало только в 1880 г., когда М. Боткин и В. Стасов опубликовали его письма, а Русский архитектурный музей осуществил издание «библейских эскизов». Но по достоинству оценили подвижническую жизнь художника-новатора, масштаб его личности и значение творчества гораздо позже. Не зря Н. Чернышевский причислил его к «небольшому числу избранных гениев, которые решительно становятся людьми будущего».
Кавалеридзе Иван Петрович (род. в 1887 г. – ум. в 1978 г.)
Скульптор-монументалист, мастер малой пластики, художник, кинорежиссер, сценарист. Народный артист УССР (1969 г.). Старший научный сотрудник Академии архитектуры в Киеве (1944 г.). Основоположник авангардного направления в украинской скульптуре.
Судьба Ивана Петровича напоминает ветку, срезанную с грузинского дерева, которую прищепили на чужой земле. Все его творчество связано с Украиной, и может быть, поэтому искусствоведы часто называют его Украинским Микеланджело XX столетия. А история его жизни развивалась так. После окончания Кавказской войны генерал Ладанский вывез из Грузии в свое поместье на Полтавщине несколько семей и превратил их в своих крепостных. Так на хуторе Ладанском (ныне Сумская обл.) появилась маленькая грузинская диаспора. Сын Васо Кавалеридзе Петр женился на украинке Килине Кухаренко, молодожены поселились в Ромнах на Сумщине, где 1 апреля 1887 г. и родился их первенец Иван. Говорят, что мальчик появился на свет «в сорочке», что обычно предрекает счастливую жизнь. Возможно, это было бы действительно так, если бы Украина не захлебнулась революцией.
Следуя за своей мечтой, Иван в 1909 г. окончил отделение скульптуры Киевского художественного училища, а затем скульптурное отделение Петербургской академии художеств. Его талант был так многообещающ, что он получил собственную мастерскую в помещении Киевского оперного театра, где создал знаменитый портрет-бюст великого певца Федора Шаляпина (1909 г.), который сейчас находится в киевском музее И. Кавалеридзе. Интересно, что после этого Иван Петрович никогда больше не встречался с артистом и лепил его по памяти. Так появились скульптуры малой пластики, где Шаляпин был представлен в образах оперных персонажей – Олоферна, Ивана Грозного и Дон Кихота, – на концерте, вместе с Горьким. Не оставляла Ивана равнодушным и монументальная скульптура (два варианта памятника Тарасу Шевченко для Киева). В 1910 г. свои навыки Кавалеридзе шлифовал в Парижской скульптурной мастерской Аронсона. Здесь он довольно коротко сошелся с Огюстом Роденом и Александром Архипенко. Сам великий Роден однажды написал на фото его скульптуры: «Это сильно. Виден талант, но нужно работать».
Вернувшись в 1911 г. в Киев, Иван Петрович получает первую премию за проект многофигурного памятника сразу четырем историческим персонажам, установленного на Михайловской площади перед зданием Реального училища. На постаменте из розового гранита в центре расположено скульптурное изображение княгини Ольги, слева на возвышении находился апостол Андрей Первозванный, справа восседали просветители славянского мира – Кирилл и Мефодий. Открытие памятника состоялось 4 сентября, но скульптора не пригласили на скромные торжества, потому что автор, даже учтя «серьезные критические замечания» (убрать меч, надеть наперсный крест, правую руку согнуть в локте, кисть княгини поднять и положить на грудь), сохранил свое представление о собирательнице земли Русской. Левой рукой Ольга крепко зажала в кулаке конец плаща, и вся фигура высотой в 9 м по-прежнему сохраняла воинственность и присущую княгине властность, как было задумано в проекте. В результате Кавалеридзе попал в опалу, но памятник стоял, пока в разгар борьбы с монументами царизму не был разбит на 17 кусков и закатан под асфальт. Только в 1995 г. обломки откопали, а спустя два года композицию восстановили из мрамора, и теперь она вновь украшает Михайловскую площадь. История лишний раз доказала, что истинные ценности не подчиняются влиянию моды и самодурству политиков, а настоящий талант обязательно будет оценен по достоинству.
Но в те далекие годы Кавалеридзе не был понят. А ведь он оказался разносторонне одаренным человеком и мыслил образами. Не найдя признания, Иван Петрович увлекся новейшей изобразительной технологией – кино – и в 1912 г. начал работать на кинофирме П. Тимана и Ф. Рейнгарда художником-декоратором, автором портретных гримов и скульптурных эскизов мизансцен в «Русской золотой серии», где тоже мог высказаться пластически. В том-то и специфика гения Кавалеридзе, что он как прирожденный нарушитель границ искусств склонен был формировать само движение. Иван Петрович долгое время сотрудничал с Я. Протазановым, постигая азы кинематографа.
Революцию, как и большинство творческих людей, Кавалеридзе принял восторженно, даже командовал в 1917 г. батальоном и по поручению Временного правительства ездил на Всеукраинский военный съезд, созванный Центральной Радой в Киеве. Но прислушавшись к разумному совету Симона Петлюры, он уехал в родные Ромны, чтобы вновь заняться творчеством. Там вскоре возводятся созданные им памятники Тарасу Шевченко и «Жертвам революции» (позже это будет звучать как «Герои революции»). Но ему было тесно в рамках только одной скульптуры, и Иван Петрович в 1918-1921 гг. работал режиссером в театре украинской драмы при отделении Наробраза.
А так как революция выдвинула на передний план новых героев, то их следовало увековечить в скульптуре. Преклоняющийся перед динамикой Кавалеридзе одержал победу на конкурсе проектов памятника знаменитому революционеру Артему (Сергееву). По замыслу скульптора-новатора 15-метровая статуя революционера должна была стать воплощением новой эпохи. В выбранном для памятника материале железо символизировало силу, а бетон – стойкость. Склон внушительного пьедестала представлял собой трибуну, под которой находился проезд для транспорта. Для работы над памятником скульптор переехал в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, где устроился художником в издательство «Коммунист». Здесь же ему выделили под жилье крохотную комнату, в которой чуть раньше обитал П. Тычина. Позже Кавалеридзе вспоминал, как приходилось спать на кипе газетной бумаги и работать в пальто. Он был измотан правительственным надзором и писал жене: «Зарплату задерживают. Фигуру заканчиваю; сил нет. Повторяется прошлогодняя история: полчаса работаю – час лежу».
Этот памятник Артему установили в Бахмуте (ныне – Артемовск). (Впоследствии, когда Хрущев увидел монумент, то буквально «похоронил» Кавалеридзе, обвинив его в авангардизме. «Был такой скульптор», – прозвучало как приговор. На что мастер ответил лаконичной телеграммой: «Я живой».) После этого власти заказали Кавалеридзе скульптуру Ленина-оратора для здания ВУЦИК и памятник Ленину для привокзальной площади, который так и остался неосуществленным. В 1926 г. скульптор принял участие в конкурсе на монумент Шевченко в Каневе, но победителем там стал Манизер. На этот раз Кавалеридзе удалось превратить свое поражение в триумф. Конкурсные идеи он реализовал в двух великолепных памятниках Кобзарю для Полтавы и Сум. Один из них был выполнен в стиле конструктивизма, из железобетона, и представлял собой могучую фигуру Кобзаря, вырастающую из скалистого кургана.
Однако творчество не давало достаточных средств к существованию, и, чтобы свести концы с концами, Кавалеридзе устроился заведующим художественно-скульптурной мастерской при Центральной комиссии помощи детям (1924 г.). Под его руководством сироты, вчерашние беспризорники, осваивали азы искусства и зарабатывали на жизнь лепкой предметов домашнего обихода: пепельниц, чернильниц, пресс-папье. Неожиданно для Ивана Петровича эти подростки стали ему бескорыстными и преданными помощниками, охотно помогая изготавливать каркасы будущих памятников.
Последний год пребывания Кавалеридзе в Харькове стал самым плодотворным в его творчестве. На двух выставках мастер с успехом продемонстрировал 10 работ и создал свой самый знаменитый монумент – гигантскую 30-метровую скульптуру Артема в стиле конструктивизма, которую установили на высокой меловой горе в г. Славяногорске. Эта работа одновременно стала и памятником беззаветного, бескорыстного служения искусству: гонорар был почти полностью потрачен на возведение монумента, и автор получил из причитающихся ему 5 тысяч всего 92 рубля.
Памятник Артему в Славяногорске стал последней крупномасштабной скульптурой художника – бесконечно сооружать памятники вождям революции Иван Петрович не хотел. В конце 1920-х гг. Кавалеридзе уезжает в Одессу, где, не оставляя скульптуры как таковой, всерьез окунается в кинематограф. Его режиссерские опыты в кино вошли в историю как авангардный эксперимент по нащупыванию специфических пластических основ нового киноязыка, как уникальная попытка представить фильм своего рода движущейся и драматургически организованной… скульптурой. Сюжеты лент Кавалеридзе неизменно избирал эпические, монументальные уже по материалу: сперва снял по своему сценарию «Ливень» («Офорты к истории гайдаматчины», 1929 г.) и «Штурмовые ночи» (динамическая поэма о строительстве индустриального гиганта ХТЗ, 1931 г.), затем «Колиивщину» (1933 г.), сценарий которой пришлось переделывать 17 раз. Кинокартину «Днепр» ему вообще запретили ставить. В 1936 г. по указанию Сталина видный журналист М. Кольцов написал статью для «Правды» под названием «Грубая схема вместо исторической правды», в которой громил фильм «Прометей» (1935 г.). После этого Кавалеридзе отстранили от руководства молодежными выпусками «Украинские песни на экране», а работу над фильмом «Богдан Хмельницкий» передали другому режиссеру.
Не многие знают, что гонения на художника усилились с окончанием Великой Отечественной войны. Съемочную группу трагические события застали в лесах Западной Украины, где разворачивалась работа над картиной «Песня о Довбуше». Так Кавалеридзе с группой остался на оккупированной территории. Узнав о том, что здесь в глуши застрял знаменитый режиссер, фашисты разрешили ему вернуться в Киев, где 8 октября 1941 г. он вошел в Союз украинских писателей. Как писала тогда газета «Украинское слово», правление считало «своей первой задачей объединить всех украинских литературных работников и направить их творческую работу на пользу украинской национальной культуре». Отдел искусств в городской управе возглавил Кавалеридзе, до этого ради пропитания продававший свои картины на рынке. Но его хватило всего на несколько месяцев: вскоре он оставил должность и просто прятался от фашистов. А когда к нему однажды пришел немецкий офицер и заказал бюст Гитлера, Кавалеридзе схитрил: «Без натуры не леплю», хотя Ленина и Сталина лепил по памяти – обоих видел издали, выступающими с балкона и трибуны. Но этого было достаточно, чтобы впоследствии обвинить скульптора в сотрудничестве с захватчиками. Поэтому долгие годы ему больше запрещали, чем разрешали.
А после печально известного хрущевского скандала на выставке в Манеже на Кавалеридзе навесили ярлык формалиста. По приказу ретивых чиновников за одну ночь уничтожили памятник Шевченко в Сумах, под постоянной угрозой разрушения оказались монументы в Полтаве и Ромнах. Сценарии Кавалеридзе перестали включать в планы съемок киностудий. Но используя свой бесценный опыт сценариста и режиссера, Иван Петрович начал писать драмы. Однако из 12 его законченных пьес в условиях творческих гонений удалось поставить только четыре. Одна из них, «Перекоп», с успехом прошла только в 1967 г. в Харьковском театре украинской драмы. Так харьковчане поддержали автора, который в Киеве находился под негласным запретом.
Кавалеридзе по праву называют зачинателем украинского исторического кино. Ему же принадлежит идея озвучивать музыкальные фильмы голосами признанных певцов. Так, чтобы «оправдаться» перед Сталиным за «Прометея», Кавалеридзе «сделал приятное вождю народов», сняв шедевры украинской классики – кинооперы «Наталка-Полтавка», где исполнительница главной роли Катерина Смеловская поет голосом Литвиненко-Вольгемут; и «Запорожец за Дунаем» с Лесем Сердюком (за кадром звучит голос Козловского). Это была творческая находка режиссера, новое слово в кинематографе. Следует сказать, что он первым увидел в Людмиле Гурченко драматическую актрису и пригласил ее на главную роль в картину «Гулящая» (1961 г.) по роману П. Мирного. Критика в те годы отнеслась к фильму прохладно: ведь звезда «Карнавальной ночи» играла проститутку, которая сначала заболела сифилисом, а потом и вовсе замерзла у порога собственного дома. Картина по этой причине имела не слишком широкий прокат, хотя в основе фильма – классическая литература. Может быть, и по этой причине Кавалеридзе больше практически не снимал.
Тем не менее в 1969 г. «не признанному» чиновниками скульптору и кинорежиссеру присвоили звание народного артиста Украинской ССР. В общем-то, актером Иван Петрович никогда не был, но если толковать это слово в его давнем значении – человек, который достиг высокого мастерства в целом, – то это звание создано как будто специально для Кавалеридзе. И трудно определить в каком из искусств – в кино, драматургии или в скульптуре – он раскрылся полнее всего. Возможно, единственное, что объединяет все его творчество, – это любовь к историческим личностям, главенствующее место среди которых занимал странствующий философ и поэт Григорий Сковорода. В характере художника было много черт сродни этому независимому, свободолюбивому человеку. И его образ Кавалеридзе «лепил» на протяжении всей жизни. Судьба Сковороды вдохновила художника на создание пьесы «Григорий и Параскева», фильма «Григорий Сковорода» и шести памятников. Первый из них был поставлен в 1922 г. на родине философа в Лохвице, и заказ на него был для Ивана Петровича приятным сюрпризом. Он выполнил его практически за свой счет в течение трех месяцев. В отличие от общепринятых изображений философа он мало похож на портрет, а скорее всего, это характер, мысль, действие и именно это поражает воображение. Начиная с «Лохвицкого» памятника, сковородинская тема становится для Кавалеридзе делом всей жизни. Он создал целый ряд погрудных портретов, несколько барельефов, мемориальную доску для здания Киево-Могилянской академии, а напротив альма-матер Сковороды стоит последний памятник бродячему философу с котомкой за плечами работы Кавалеридзе (1976 г.). Но если лохвицкий Сковорода – настоящий озорник и бесконечно мудрый бродячий философ, то киевский – по мнению многих, не соответствует оригиналу. Сам Иван Петрович к моменту, когда фигуру отливали в бронзе, уже плохо видел и не заметил множества технических промахов. В результате, по его же словам, киевский Сковорода вышел «опецькуватым». Мастер создал семь вариантов этого монумента, один из которых в 1992 г. был установлен в Харькове возле стены Свято-Покровского монастыря.
До конца своих дней скульптор, художник и кинорежиссер продолжал трудиться, передавал опыт и знания молодежи в Академии архитектуры в Киеве. Он с теплотой вспоминал свою не очень обеспеченную материально, но по-своему счастливую юность, хотя до самой смерти (скончался в 1978 г.) корифей, по сути, не знал достатка и жил на средства от продажи своих картин и небольших скульптур. Однако большинство своих работ он щедро раздаривал, а сам носил старые башмаки, жена постоянно латала его одежду и из ничего готовила обеды, чтобы оправдать кавказское гостеприимство мужа.
Даже в весьма почтенном возрасте мэтр скульптуры и кинематографии сохранил великолепную память и галантность джентльмена. Когда он на 91-м году жизни попал в больницу, врачи с удивлением смотрели на «женскую очередь», выстроившуюся проведать больного «дедушку». В ответ на подтрунивание ближних он заявил: «А я вот давеча умирал в больнице и решил вспомнить женщин, которые меня на этом свете держали. Взял листок бумаги: с одной стороны написал два столбика, перевернул, со второй написал еще два столбика и понял, что всех не вспомню, порвал и решил больше этим никогда не заниматься». Кавалеридзе был известным женолюбом. Только официально он был женат четыре раза и оставил троих детей, которым никогда не отказывал в помощи. К тому же он со своей последней женой Надеждой (она прощала ему все творческие страсти) вырастил племянницу Нонну, дочь младшего брата, погибшего в лагерях. Возраст был бессилен перед этим необыкновенным мужчиной, а грузинская кровь не давала ему покоя до конца дней.
К сожалению, Кавалеридзе, которого за многогранность дарования О. Гончар сравнивал с титанами Возрождения, не дожил до того часа, когда его работы получили вторую жизнь, не узнал, что его 100-летний юбилей отмечали по всему миру по календарю ЮНЕСКО.
Кандинский Василий Васильевич (род. в 1866 г. – ум. в 1944 г.)
Выдающийся русский живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства. Один из организаторов общества «Синий всадник» и ИНХУКа, организатор художественных объединений «Фаланга», «Общество Кандинского», «Синяя четверка» и др. Автор теоретических работ «Пункт и линия к плоскости», «О духовности в искусстве» (1911 г.), «Ступени. Текст художника» (1918 г.) и др.
Абстрактное искусство уже существовало, когда Василий Кандинский начал создавать свои творения, но в истории живописи именно ему принадлежит почетная роль «изобретателя» этого направления. И это не случайно, поскольку именно он сумел дать абстракционизму «масштаб, цель, объяснение и высокое художественное качество».
Удивительно, что человек, достигший невероятных успехов в живописи, занялся ею гораздо позже многих своих соратников. Василию Кандинскому было 29 лет, когда он принял решение оставить успешную карьеру юриста и посвятить себя искусству. А поначалу жизнь этого человека складывалась так, что никто не мог и предположить, что его ожидает судьба всемирно известного художника.
Василий Кандинский, сын торговца чаем, родился в Москве, но детство его прошло в Одессе. В 1871 г., когда родители мальчика развелись, его отдали на воспитание тете. В 1886 г. двадцатилетний Кандинский начал обучаться экономике и праву в Москве. После получения ученой степени, в 1893 г. он женился на своей кузине Анне Чимякиной, с которой развелся в 1904 г.
Поворотным событием в жизни молодого Кандинского стало посещение выставки французских импрессионистов. Именно после этого блестящий правовед решил оставить привычную профессию и обучаться искусству живописи. В 1896 г. он уехал в Мюнхен, который был в то время центром европейского академического образования. В этом городе, названном художником «островком духовного в громадном мире», жил и работал теоретик нового искусства Август Эндель, статьями которого зачитывался молодой Кандинский. «Мы стоим в преддверии совершенно нового искусства, слияние форм которого ничего не представляет, не изображает, не рассказывает, но которое захватывает душу так глубоко, как это способна сделать лишь музыка!» – эти строки Энделя, ставшие пророческими, особо запомнились начинающему живописцу.
Обучаясь у мюнхенских профессоров Антона Ашбе и Франца фон Штука, Кандинский создавал свои ранние произведения, для которых в основном позировали профессиональные модели. Первыми полотнами, в которых воплотилась самостоятельная, «несколько импрессионистическая манера» начинающего художника, стали написанные в 1901-1902 гг. в Швабии и подмосковной Ахтырке небольшие натурные этюды. Те же незамысловатые деревенские и пригородные пейзажи, порой напоминающие полотна И.И. Левитана, художник продолжал писать в 1906 г. в Сен-Клу и в 1908 г. в Мурнау близ Мюнхена. В эти годы появились картины, в которых явственно ощущается близость Кандинского таким мастерам, как И.Я. Билибин, Н.К. Рерих, А.Я. Головин. Композиции, изображающие русские сцены базаров, парусных прогулок, гусляров и грустящих красавиц, художник писал в так называемой «мозаичной» технике декоративной пуантели, столь типичной для эпохи модерна.
В это же время В. Кандинский занимался гравюрой, к которой обратился под влиянием творчества Поля Гогена и Эдварда Мунка. По своему стилю гравюры «Игра на гуслях», «Свет луны» (1907 г.) близки самым современным исканиям тех лет. Формирующаяся эстетика Кандинского ярко выразилась в серии гравюр «Стихи без слов» (1904 г.), изданных в виде книги, где художник использовал возможности сочетаний изображения, звука и слова.
Полотна «Синяя гора», «Купола», «Пейзаж с лодкой», «Дамы в кринолинах» (все 1909 г.) стали первыми работами, свидетельствовавшими о серьезных изменениях в живописной манере Кандинского. В этих картинах-ландшафтах, для которых были характерны энергичные краски и простые сменяющие друг друга контуры, образы едва угадываются. За счет этого композиции стали весьма близки к абстрактным. Традиционный «пейзажизм» Кандинского, взаимодействуя с поиском «синтетического» стиля, постепенно образует в его творчестве «новые жанры»: впечатления, импровизации и композиции. Сам художник считал, что «впечатления» передают эффект видимой натуры, «импровизации» выражают внутренние впечатления, а «композиции», что особенно важно, представляют их синтез. Слово «композиция», по собственному признанию мастера, звучало для него как «молитва» и вызывало «внутреннюю вибрацию».
Еще летом 1901 г. Кандинский основал художественную группу «Фаланга», в которой стремился воплотить свою мечту о «сообществе творцов». Вообще, необыкновенная организаторская деятельность художника на всех этапах его жизненного пути поражает. Он с гордостью говорил, что «никогда не чуждался общественных дел» и организаторская и преподавательская работа приносила ему неизменную радость. Вслед за первым объединением «Фаланга» художник организовал в разные годы «Новое художественное общество Мюнхена», «Синий всадник», «Общество Кандинского» и «Синюю четверку». Важно отметить, что при создании этих объединений он привлекал художников самых разных направлений, не предъявляя единых эстетических требований. Кандинский всегда был настроен на «интернационализацию передового искусства» и являлся яростным противником националистической ограниченности. С большим уважением художник относился к различным мировым культурам и постоянно изучал их особенности.
Будучи заядлым путешественником, Кандинский побывал во многих странах мира: Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции, Голландии, Италии, Бельгии, Египте, Сирии, Турции, Тунисе, Греции. Часто приезжая на родину, он посещал не только Москву и Санкт-Петербург, но и много путешествовал по русскому Северу и другим местам. Художник искренне верил, что именно из России грядет «постепенное освобождение духа». Как глубоко верующий человек Кандинский ассоциировал «свет из России» с христианством, «корнем духовности», которое, по его мнению, было сродни тому, что «мы постигаем в искусстве». О русских художниках он говорил как о «принадлежащих русскому народу носителях космополитической идеи». Живописец ценил все русское, навсегда сохранив «любовь к глубокой сущности русского народа». Не случайно его вилла в Мурнау, стены которой были расписаны в русском народном стиле, так и называлась – «русской». О том, чтобы поддерживать в доме «русский дух», заботилась и мать художника, которая жила с сыном в Германии. Еще одной хозяйкой «русской виллы» была художница Габриэль Мюнтер, бывшая ученица Кандинского, ставшая его подругой жизни. Вместе с ней он увлекался теософией, что было крайне популярно в те годы среди людей искусства. Многие термины – «вибрация», «созвучие», «восхождение», – ставшие впоследствии ключевыми в теоретических работах художника, он позаимствовал из теософских и оккультных трактатов. Большое воздействие на него оказывали также идеи русского символизма, с которыми он знакомился, ежегодно приезжая в Россию.
Абстракционист Василий Кандинский, тем не менее, особо ценил реалистические традиции в истории искусства. Одними из первых живописных работ художника стали копии полотен В.Д. Поленова и В.М. Васнецова, выполненные в 1888 г. Он мог по памяти нарисовать картины Рафаэля, Пуссена, Хальса, Рембрандта, что однажды и сделал, создав так называемый «воображаемый музей». В наследии прошлого Кандинский больше всего чтил Эль Греко, Рембрандта, Делакруа, Грюневальда. Мало кто в начале XX в. так знал и любил творчество старых мастеров. Досконально он знал и произведения современных живописцев, со многими из которых был знаком лично, а творчество Матисса, Сезанна, Руссо, Руо, Ван Гога ценил особо, находя в нем «связь цвета и рисунка» и «выход в тайну».
Увлекаясь теософией и идеями символизма, Кандинский прочно связал себя с романтической традицией в искусстве. В 1911 г. он создал картину «Романтический пейзаж», о которой говорил впоследствии, что она написана так, как ее смог бы написать «ранний романтик». Художник полагал, что «смысл, содержание искусства – романтика, и мы сами виноваты в том, что ищем ее в истории, рассматриваем ее только как исторический феномен». Именно в «абстрактной, фантастической, музыкальной, поэтической» живописи реализовались концепции романтиков.
По традиции работы Кандинского 1909-1914 гг. считают абстрактными, хотя во многих из них легко угадываются изобразительные элементы, трактованные автором как некие символы. Эти полотна легко отличить от так называемой «Первой абстрактной акварели» которая в действительности, вовсе ничего не изображает. Абстрактная картина была создана после того, как художник пришел к выводу, что предметность как таковая диаметрально противостоит его живописи. Кандинский стремился представить «движения души» посредством одной лишь чистой гармонии цветов, прибегая только к языку знаков и символов. Период с 1909 по 1914 г. в творчестве художника считается, пожалуй, самым интересным, самым экспериментальным и самым интенсивным – только живописных работ за это время он создал более двухсот.
В своих знаменитых «Созвучиях» (1913 г.), состоящих из 38 поэм с 12 цветными и 54 черно-белыми гравюрами, художник сумел синтезировать поэзию, музыку и живопись. Это стало возможным благодаря универсальности его творчества. Ведь помимо живописи и графики Кандинский занимался музыкой, поэзией, был теоретиком искусства. В Мюнхене он вместе с композитором Томасом фон Хартманом и танцовщиком Александром Сахаровым сочинил либретто балета «Желтый звук», а в «Баухаузе» осуществил постановку «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского, в которой взаимодействовали музыка, освещение, пантомима и краски. Кроме того, художник занимался оформлением интерьеров, проектировал модели одежды, создавал эскизы росписей по фарфору, интересовался фотографией и кинематографом. В искусстве будущего он видел «потрясение привычных форм делений и перегородок между отдельными искусствами».
В предвоенные годы в предчувствии мировых катаклизмов Кандинский обратился к библейской теме, что нашло отражение в картинах «Потоп», «Рай», «Трубный глас», «Всадники Апокалипсиса». В начале Первой мировой войны художник вернулся на родину. Там в 1916 г. он познакомился с дочерью генерала Ниной Андреевской, которая через год стала его женой. Словно находясь в раздумьях, писал в то время художник очень мало. Он почти не обращался к абстрактным композициям, напротив, в его творчестве вновь появились полуимпрессионистические пейзажные композиции. Картина «Красная площадь», написанная в 1917 г., своей манерой исполнения напоминает полотна 1908-1909 гг.
После революции 1917 г. Кандинский начал работать в комиссариате народного искусства и стал профессором Московских государственных художественно-технических мастерских. В 1920 г. в Москве состоялась выставка работ художника. Среди его произведений вновь появились абстрактные полотна («Композиция на белом фоне»). Он вводит в них «геометризированные элементы», которые наметили переход к последней, так называемой «золотой» живописной манере Василия Кандинского. Впрочем, живописью художник все еще по-прежнему занимается мало, уделяя основное внимание организационной, преподавательской и исследовательской деятельности.
В 1921 г., получив разрешение на командировку, Кандинский уехал в Германию. В следующем году он начал преподавать в Веймаре в школе «Баухауз», в которой разрабатывалась концепция создания единого искусства, не имеющего внутренних границ. Здесь же в 1926 г. художник написал свой известный труд «Пункт и линия к плоскости». Его живопись тех лет, для которой стала характерна геометрическая строгость, претерпела заметные изменения. Графические циклы «Малый мир» (1922 г.), «Композиция VIII» (1923 г.), в которых преобладают круги, треугольники и косые линии, существенно напоминают супрематические композиции Казимира Малевича. Новые приемы Кандинский пытался совместить со своими прежними в картинах, которые называл «ландшафтами» («Холодная энергия», «Темный пульс» и др.). В таких полотнах, как «Убежденный» (1926 г.) и «Акцент в розовом свете» (1926 г.), контуры изображения почти полностью разложены на косые и диагональные линии.
В 1928 г., осознав, что связи с родиной оборваны, Кандинский получил немецкое гражданство. Спустя пять лет, после закрытия национал-социалистами школы «Баухауз», художник обосновался в Париже. В нацистской Германии его произведения были причислены к «вырожденческому искусству». В 1939 г. появилась последняя крупная работа Кандинского – «Композиция X». Художник продолжал писать до последних дней жизни, экспериментируя, пробуя различные «соединения, сдвиги, ритмы» («Небесная голубизна», 1940 г.; «Сумерки», 1943 г.). Он скончался в 1944 г. в Париже от кровоизлияния в мозг.
Вся творческая деятельность Василия Васильевича Кандинского была направлена на то, чтобы вызвать в людях «радостную способность переживать духовную сущность в материальных и абстрактных вещах». По-своему понимая «ритмы истории искусств», живописец считал, что его искусство получит свою оценку только через сто лет. Но необходимость в художественном наследии Василия Кандинского потомки ощутили гораздо раньше. Сегодня творчество великого абстракциониста, которого по меньшей мере три страны готовы объявить своим национальным достоянием, знают и ценят во всем мире.
Кипренский Орест Адамович (род. в 1782 г. – ум. в 1836 г.)
Выдающийся русский живописец, большой мастер портрета, представитель романтизма. Обладатель золотой медали за картину «Дмитрий Донской по одержании победы над Мамаем» (1805 г.) и звания академика портретной живописи (1812 г.).
«Кто сказал, что чувства нас обманывают!» – восклицал романтик Кипренский, когда ему вновь и вновь мерещился тот вечный идеал человеческой красоты, найти который было задачей всей его жизни.
Стремление постичь духовное в человеке всегда оставалось сильнейшим в натуре этого художника. Вместе с лицами он старался запечатлеть на холсте души. И не удивительно, что современники О.А. Кипренского, находясь наедине с его портретами, слышали голоса людей: то бас генерала Чаплица, то альт калмыцкой девочки Баяусты.
Друзья запомнили живописца таким: «Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым». На автопортретах Орест Кипренский предстает то мальчишкой-романтиком, то светским франтом, то мастером кисти. Но всем этим ипостасям одинаково присущи взлетающие куда-то в небо брови, непокорные завитки волос и скрывающиеся за ними пылкость и легкомысленность, которые ни на мгновение не покидали творца.
С детства живописца преследовало чувство одиночества. Орест Адамович Кипренский был незаконнорожденным сыном крепостной крестьянки и помещика. Он не унаследовал фамилии ни матери Анны Гавриловой, ни родного отца А.С. Дьяконова, ни отчима Адама Швальбе. На крестины младенцу придумали фамилию Копорский по месту его рождения в селе Копорье вблизи Ораниенбаума Петербургской губернии. И только через шесть лет, когда мальчика отдали в Воспитательное училище, фамилию поменяли на более благозвучную – Кипренский.
Юность Ореста Кипренского прошла в Академии художеств. В 1797 г. он был записан в класс исторической живописи, где одаренных детей обучали строгие старожилы искусства – Угрюмов и Дойен. Ранние рисунки Ореста – «Иосиф и его жена Пентефрия», «Гектор и Андромаха», «Смерть Клеопатры» – выполнены с огромным прилежанием и полностью соответствуют классическому стилю. В традициях классицизма написана и картина «Дмитрий Донской по одержании победы над Мамаем», за которую О.А. Кипренский в 1805 г. получил первую золотую медаль.
Но еще годом раньше, в 1804 г., этот неугомонный искатель красоты и правды, буйный романтик, пишет портрет приемного отца, Адама Карловича Швальбе. Такого сильного, властного, мужественного характера в соединении с самыми сокровенными душевными порывами еще не знало русское изобразительное искусство. Когда этот портрет экспонировался на выставке в Неаполе (1830 г.), критики признали его шедевром и не поверили в авторство О.А. Кипренского, настолько совершенной была эта картина.
Блестяще окончив академию, двадцатитрехлетний Кипренский с нетерпением вырвался из плена строгого академизма на долгожданную волю. Его манили творческие вечера и балы. Молодой красавец уже предвкушал сладость от улыбок прекрасных дам (ради одной красавицы он даже упадет в ноги императору Павлу и будет умолять, чтобы его взяли в военные). И потому талантливый художник сразу же с головой окунулся в ночную жизнь города, закрепив за собой титул петербургского повесы. Однако веселые развлечения пока еще не мешали упорному труду кистью и карандашом. Портреты А.Р. Томилова, А.И. Корсакова, И.В. Кусова (все в 1808 г.) писались быстро и легко, талант говорил сам за себя. Мастер радовался и поднимал бокал вина за успех своих картин.
В 1809 г. живописец едет из Петербурга в Москву, чтобы помочь скульптору И.П. Мартосу в работе над памятником Минину и Пожарскому. Здесь все ново для художника: места, люди, нравы. Москва благотворно повлияла на О.А. Кипренского. Он с большим упоением трудится над картинами, возникают прекрасные портреты А.А. Челищева, Е.П. Ростопчиной, Е.В. Давыдова. Последний, правда, писался в деревне Аксинино, куда художника пригласил дядя Дениса Давыдова. Вернувшись в 1812 г. в Петербург, О.А. Кипренский получил за эту и другие картины звание академика портретной живописи.
Плодотворная работа художника продолжается в Петербурге. Персонажами его картин в это время (1812 г.) становятся героические личности – участники минувшей войны: братья Ланские, ополченцы Томилов и Оленин, генерал Чаплиц. Также появляются теплые и душевные портреты дорогих его сердцу людей: Батюшкова, Жуковского, Крылова. Вслед за этим художник преподносит поклонникам целую галерею детских и юношеских портретов.
Мастерство О.А. Кипренского было высоко оценено его современниками. Художника признали гением портрета, о нем без умолку говорили в высших кругах общества, слухи о его популярности достигли Западной Европы. Орест, как дитя, радовался лести, купался в славе, мечтал, что она принесет ему богатство, вечный праздник жизни. Он хотел покорить весь мир и с этим намерением в мае 1816 г. отправился в Италию.
Но родина художников приняла О.А. Кипренского равнодушно. Хотя и здесь о нем знали многие, но того восторга и поклонения, которые его окружали в России, не было. И спустя недолгое время художник с горечью осознал, что покорить Италию ему не по силам, былой талант отвернулся от него, последними его проблесками стали картины 1819 г.: портрет князя Голицына и карандашный портрет княгини Щербатовой, а также «Автопортрет», заказанный для галереи Уффици. Ему не хватало поддержки родной земли, друзей. В кругу соотечественников, русских художников, живших в Италии, он часто скучал, а дружба с лучшими из них – Брюлловым и Тамаринским – почему-то не заладилась. И все же, не теряя надежды на успех, Кипренский принимается за картины «Анакреонтова гробница» и «Цыганка с миртовой веткой в руках».
Для их написания он нашел красивую натурщицу с маленьким ребенком. Но вдохновения не было: писал вяло, стараясь приятностью красок и аккуратностью мазков вызвать восхищение. Однажды утром его красивую натурщицу нашли мертвой. По-видимому, она умерла от ожогов: на ней лежал обгорелый холст, облитый скипидаром. На О.А. Кипренского падают подозрения в убийстве. На него косо смотрят, за его спиной шепчутся, немногочисленные знакомые его избегают. Орест не выдерживает этой травли. Он устраивает осиротевшую дочь натурщицы Мариуччу (Марию Фалькуччи) в монастырь, а сам бежит прочь из Италии. Художник ищет убежища в Париже, но и там за ним ползет зловещий шлейф слухов. И, не имея никакого выбора, в июле 1823 г. он возвращается в Россию. Здесь Кипренский сталкивается с теми же гнусными сплетнями, многие друзья от него отворачиваются, в домах, где он раньше был званым гостем, его больше не принимают. Орест опять одинок, он топит свое горе в вине.
К тому же мода на портретиста Кипренского в России уже прошла, он больше здесь не нужен. Отныне его уделом оставалось писание слащавых и фальшивых картинок с жеманных провинциальных помещиц, скучных богатых людей и равнодушной знати. Однако судьба подарила ему еще одно огромное, последнее в его жизни творческое событие – работу над портретом А.С. Пушкина. Кипренский исполнил ее с большим вдохновением, сознанием исторической ответственности за создание правдивого образа великого поэта. Недаром один из современников отмечал : «Гений Поэта как будто бы воодушевил художника…» В этом портрете проявилось тонкое сочетание выразительности формы с правдивостью, умение показать характер с возвышенным идеалом. Сам А.С. Пушкин высоко оценил эту работу, считая, что именно в ней он запечатлен в своей «высшей типичности», как поэт серьезной и трагической музы.
В 1827 г. Кипренский опять едет в Рим. Он надеется вернуть былую славу. Но вместо нее пришла любовь. Художник полюбил Мариуччу. Молодая девушка чувствовала большую признательность к своему опекуну, но и только. Привязанность заменила любовь. Они поженились, но супружеская жизнь не складывалась. Не приносило удовлетворения и искусство. Былое вдохновение и мастерство не вернулись. Вместо них в жизнь великого Ореста вошли холодное молчание Петербурга, хроническое безденежье и кредиторы. Рано постаревший художник через силу «мастерил» пейзажи с видами неаполитанской бухты и дымящимся на горизонте Везувием или копировал произведения старых итальянских мастеров. Орест понял, что чувства обманули его и идеал, к которому он стремился всю жизнь, так и остался недосягаемым.
Кипренский стал сильно пить. Здоровье его к тому времени было уже подорвано. И после очередной простуды 5 октября 1836 г. художник скончался. Перед смертью он бредил: «У меня тяжелая кровь. Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце».
Похороны замечательного живописца были очень скромными. Один из его друзей вспоминал: «Жаль видеть стоящий на полу простой гроб с теплящейся лампадой… Прискорбно смотреть на сиротство славного художника на чужбине».
Ни Петербург, ни пресса почти не откликнулись на это печальное событие. Промолчали и многие представители академического искусства. Лишь Александр Иванов, работавший тогда в Италии, с горечью сказал: «Стыд и срам, что забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в известность в Европе…»
А спустя столетие К. Паустовский напишет в своем очерке о художнике: «Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно гнула к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек». Это и есть истинная оценка творческого пути и судьбы великого Ореста.
Козловский Михаил Иванович (род. в 1753 г. – ум. в 1802 г.)
Известный русский скульптор, превосходный рисовальщик, гравер, один из основоположников классицизма в русском искусстве. Почетный член Марсельской академии искусств (1780 г.), академик (1794 г.), член академического Совета (1795 г.) и старший профессор Петербургской академии художеств (1797 г.).
Осенью 1799 г. по Петербургу, любимому детищу Петра Великого, недостроенному и постепенно разрушающемуся, шли знаменитые скульпторы: Федот Шубин, Федосий Щедрин, Иван Прокофьев и гордость Академии художеств – Михаил Козловский. Многие годы молчали фонтаны большого каскада, широкими каменными ступенями сбегавшего к заливу. Но в этот день сверкающие струи били в небо. Водная пелена окутывала беспомощно искривленные статуи из непрочного свинца, былое величие которых предстояло возродить. И перед мысленным взором Михаила Ивановича рождалась центральная статуя скульптурного ансамбля. Скульптор даже не предполагал, что богатырь Самсон станет его лебединой песней – несравненным памятником таланту своего создателя…
Он родился в Петербурге 25 октября 1753 г. и был сыном военного музыканта, «трубаческого мастера галерного флота» Ивана Козловского. Семья жила небогато, но начальную учебную подготовку Михаил получил в родительском доме. Рано обнаружившиеся у мальчика способности к рисованию позволили ему на одиннадцатом году жизни поступить в Академию художеств, причем не в первый, а сразу в «третий возраст». Блистательный юный ученик вначале мечтал стать живописцем, но после трех лет обучения распределился в скульптурный класс профессора Жилле. Воспитатель многих талантов сохранял приверженность барочным традициям, но копирование памятников античного искусства и огромное влияние руководителя натурного класса А. Лосенко подготовили Козловского к восприятию новых для того времени идей классицизма. Интерес Михаила к нарождающемуся стилю заметен в ученическом гипсовом барельефе «Князь Изяслав на поле брани» (1772 г.), за который ему была присуждена золотая медаль первой степени.
Козловский стал победителем дипломного конкурса с правом пенсионерской поездки в Италию. Его барельеф «Возвращение Святослава с Дуная» (1773 г.) был лучшим среди работ талантливых соучеников и соперников – Щедрина, Мартоса и Трутовского. Мотивы стремительного движения фигур, усиленные резкими «живописными» контрастами светотени еще близки к скульптуре барокко, но композиция рельефа, подчиненная простым и четким ритмам, уже изысканно декоративна, сдержанна и уравновешена строгими принципами классицизма. Получив в том же году большую золотую медаль за барельеф «Свидание Святослава с матерью и детьми по возвращении с Дуная», 20-летний скульптор отправился в Рим.
Новые художественные впечатления, знакомство с европейскими эстетическими теориями, изучение памятников прошлого помогли Козловскому определить свой путь в искусстве скульптуры. Среди русских мастеров он первый переложил в пластику теорию и литературную доктрину классицизма. Преодолевая от работы к работе устарелые каноны, Михаил Иванович вырабатывал комплекс художественных средств, способных отобразить новое мировоззрение. Независимость творческого мышления особенно ощутима в «Журнале», присланном пенсионером в качестве отчета в Академию художеств в 1776 г. Он с уважением отзывается о Рафаэле, восторженно говорит о Пуссене и отрицательно оценивает все новейшее итальянское искусство: «Художества в Италии весьма ослабели, а особливо скульптура, которая должна много стыдитца перед Антиками и модернами до время Карло Морати…» Но первое место Козловский оставляет для «Страшного суда» Микеланджело и его «ужасного дарования».
К сожалению, из римских работ начинающего скульптора до наших дней почти ничего не сохранилось, но присвоенное ему в 1780 г. звание академика и почетного члена Марсельской академии искусств свидетельствует о значимости и популярности произведений Козловского.
Дошедшая до нас мраморная группа «Юпитер с Ганимедом» (1776 г.) отличается стройной линией замкнутых контуров и спокойной статикой. Но особенно интересны прекрасные рисунки пенсионерского периода, один из которых представляет великолепный эскиз для двух круглых скульптурных групп укротителей коней. Вздыбленным в неистовом порыве лошадям придана такая стремительность, какой еще не знала скульптура. С безупречным знанием пластики и анатомии Козловский моделирует напряженную мускулатуру юношей, сдерживающих их бег. В этом рисунке впервые воплотилась тема борьбы, ставшая в творчестве мастера ведущей.
В 1780 г. Козловский вернулся в Россию и занял достойное место в петербургских художественных кругах, выполняя многочисленные работы по украшению архитектурных памятников. Классический стиль его работ поддерживал живую связь с традициями драматических образов барокко, усиливая динамизм и реалистическую выразительность скульптуры, а аллегория, ставшая преобладающей формой художественного мышления, позволила создавать произведения, пронизанные пафосом высокой гражданственности.
Совместно со знаменитыми мастерами Ринальди и Шубиным молодой скульптор участвовал в оформлении Мраморного дворца. Идея гражданской доблести и любви к отечеству нашла отражение в двух барельефах – «Прощание Регула с гражданами Рима» и «Камилл, избавляющий Рим от галлов» (начало 1780-х гг.). Органичного слияния скульптуры с архитектурой Козловский достигает при оформлении наружного фасада концертного зала, носящего название «Храм дружбы». Общей темой восьми гипсовых барельефов цикла стала музыка. Она плавно звучит в гармоничных движениях контура, в сложных и разнообразных узорах. Благородная ясность и сдержанное спокойствие стиля дополняют строгий и торжественный облик аллегорических фигур.
Архитектурная декоративная пластика привлекала Козловского меньше, чем трехмерная станковая скульптура. В 1784-1785 гг. он изваял большую мраморную статую Екатерины II в образе Минервы, придав ее облику выражение величавого спокойствия и выдержав композицию произведения с присущей ему классической цельностью. Аллегорический смысл несет и мраморная статуя «Бдение Александра Македонского» (конец 1780-х гг.). Юный Александр изображен как герой, стремящийся к просвещению и воспитывающий свою волю для великих деяний. Естественна его поза в состоянии полудремы; сейчас из расслабленной руки выскользнет шар, и звон от его падения в вазу разбудит юношу. Дух спокойствия и глубинной силы воли исходит от мраморной статуи. Такая же уравновешенность композиции, реальность образов, сдержанность ритмов характерны для прекрасных эскизных и графических работ Козловского этого периода («Оплакивание Христа», «Самсон и Далила», «Суд Соломона»).
В 1788 г. академический Совет удовлетворил его прошение о поездке в Париж для совершенствования мастерства и, «уважая знаменитость, какую Козловский художеством своим приобрел», поручил ему контролировать обучение пенсионеров во Франции. Скульптор подыскал талантливых педагогов каждому ученику, а сам, проникаясь достижениями классицизма, продолжал оттачивать свой стиль в этом направлении. Светлый жизнеутверждающий образ, созданный им в скульптуре «Пастушок с зайцем» (1789 г.), свободный от каких-либо идей, обнаруживает такую силу пластического чувства и гармонию линий, каких раньше не знало творчество Козловского. Но главным произведением парижского периода стал не идиллический «Пастушок», а распятый богами «Поликрат» (1790 г.) – образ, навеянный бурными событиями Французской революции. Этот обобщенный символ борьбы, страстной жажды свободы, мучительного страдания и обреченности представлен в виде прикованной к дереву фигуры. Рассчитанная на круговой обзор скульптура слева подчеркнуто динамична, воплощая последний предсмертный порыв героя к освобождению. А его поникшее в мучительном крике лицо, безвольно опущенная рука придали правой стороне статуи мотив изнеможения и отчаяния. Эта реальная до мельчайших деталей работа определила характер последующих петербургских произведений Козловского. Главной задачей для скульптора стало выражение живого чувства.
К сожалению, большинство его произведений 1790-х гг. не сохранилось (конная статуя Иосифа II, барельефы для Военной коллегии, «Гиппократ», «Амур и Венера»). Об исканиях и достижениях этой поры опять свидетельствуют только многочисленные эскизные рисунки и графика («Мерона», серия на тему Троянской войны и подвигов Геркулеса и Тезея), а также многочисленные декоративные произведения – «Спящий Амур» (1792 г.), «Гименей», статуя Екатерины II с атрибутами богини правосудия Фемиды (обе в 1796 г.), «Психея». Идиллическая скульптура имела огромный успех у меценатов и вызывала восторг у современников. Но эти самые живописные поэтические образы в русской скульптуре классицизма не были для Козловского ведущим жанром. Свое трагическое мироощущение Михаил Иванович облек в надгробных памятниках П.И. Мелиссино (1800 г., бронза) и С.А. Строгановой (1801-1802 гг., мрамор). Страстный протест против неумолимости судьбы и безысходное горе проявились здесь в напряженной пластике и тревожном ритме скульптурных линий.
Но в центре внимания Козловского по-прежнему была историческая и героическая тематика. В 1797 г. им была создана мраморная скульптура «Яков Долгорукий». Бронзовая статуя «Геркулес на коне» (1799 г.) по силе воздействия признана современниками символическим памятником, прославляющим победный переход Суворова через Альпы. С огромным увлечением приступил Козловский к созданию памятника генералиссимусу. Согласно требованиям классицизма образ полководца идеализирован и героизирован и не несет индивидуальных черт. Фигура в рыцарских доспехах полна волевого напряжения и создает впечатление торжественного спокойствия и незыблемости, а властное движение руки с занесенным мечом передает всепобеждающую непреклонную волю полководца. Монумент был открыт 5 мая 1801 г. в глубине Марсова поля (в 1820 г. перенесен к набережной на площадь им. Суворова). Именно с этого памятника началась история русской монументальной скульптуры XIX в.
Свою творческую жизнь Михаил Иванович тесно связал с преподавательской деятельностью. Еще в 1794 г. он был признан академиком и «в уважение к его дарованиям» назначен профессором. Превосходный рисовальщик и вдумчивый педагог выпестовал в своей мастерской плеяду талантливых скульпторов: С. Пименова, И. Требнева, В. Демут-Малиновского.
Смерть забрала Козловского в зените славы 18 сентября 1802 г., на 49-м году жизни. Он не успел завершить многие начатые и задуманные работы. Последним шедевром, который выдающийся мастер успел закончить и увидеть установленным, стала центральная группа Большого каскада в Петербурге – «Самсон, разрывающий пасть льва» (уничтожен в годы Великой Отечественной войны, точная копия создана скульптором В. Симоновым в 1947 г.). Эта библейская аллегория стала символом победы русского оружия над Швецией (лев – государственный герб страны) под Полтавой. Могучей фигуре героя с титаническими мышцами придана суровая напряженность облика и спокойная уверенность победителя. Поставленная на высокой искусственной скале, бронзовая композиция дышит несокрушимой богатырской мощью. А бьющая в небо из разорванной пасти льва 20-метровая струя воды поет победоносную песню несокрушимой силе России и своему гениальному создателю – Михаилу Ивановичу Козловскому.
Кончаловский Петр Петрович (род. в 1876 г. – ум. в 1956 г.)
Выдающийся русский художник, график, автор натюрмортов, пейзажей, портретов, жанровых картин, театральных декораций.
В истории русской живописи XX века Петр Петрович Кончаловский занимает особое место. Живопись была его призванием, потребностью, образом жизни. За 60 лет неутомимого, вдохновенного труда мастер создал свыше полутора тысяч холстов, около пятисот акварелей, множество рисунков – этого хватило бы на целый коллектив художников. Писал он много и быстро, но в то же время ярко и артистично, в полную силу. Перепробовав множество стилей, художник в начале 20-х гг. перешел от бескомпромиссного авангардизма к реализму. Став одним из официально признанных мастеров социалистического реализма, Кончаловский не утратил ни своего неповторимого таланта, ни авторитета в среде творческой интеллигенции. Он был поистине баловнем судьбы: к нему вовремя пришли слава и богатство, он стал народным художником, лауреатом госпремии, академиком… Хотя всегда оставался в стороне от политики, никаких идеологических заказов не выполнял и по всем статьям биографии подходил в жертвы сталинских репрессий.
После перестройки авангардное творчество молодого Кончаловского было заново открыто и получило высокую оценку и признание. Но классиком он стал все-таки благодаря картинам, написанным уже в советское время. Художественный мир Кончаловского – радостный, сверкающий всеми красками мир природы и предметов, окружающих человека. Все его картины дышат безмерной любовью к жизни, к ее красоте и щедрому многообразию.
Будущий художник родился 9 (21) февраля 1876 г. в городе Славянске Харьковской губернии (ныне Донецкая область), в семье помещика-предпринимателя. Мальчик начал изучать основы живописи еще в Харькове, в студии М. Раевской-Ивановой. В 1888 г. семья переехала в Москву, это и сыграло решающую роль в его творческой судьбе. Отец Петра Петровича был человеком образованным, занимался переводами и литературно-издательской деятельностью. В доме Кончаловских часто бывали Серов, Врубель, Коровин. Среда художников стала близкой и желанной для любознательного мальчика.
Юный гимназист посещает вечерние классы рисования Строгановского художественно-промышленного училища, по заданию Врубеля лепит скульптуры для особняка Морозова на Спиридоновке. В 1892 г. Кончаловский познакомился со знаменитым историческим живописцем Василием Ивановичем Суриковым, и эта встреча стала поистине судьбоносной. Суриков одобрил первые опыты юного художника, оценил их «горячий колорит»: «Краски и живопись – первое дело… Есть колорит – есть художник, нет – так нет и художника».
В 1897 г. Кончаловский едет в Париж, чтобы продолжить обучение. Два года он провел в академии Жюлиана. Именно французская живописная школа определила яркость, артистизм его манеры письма. Вернувшись на родину в 1899 г., Кончаловский поступил в Петербургскую академию художеств. Через три года он женился на дочери Сурикова, Ольге Васильевне. По словам внука художника, Андрея Кончаловского, у них «была страшная любовь. Была верность. Они прожили больше полувека вместе. Никогда не расставались. Путешествовали всей семьей, со всеми детьми».
А путешествовать Кончаловский любил. Жажда новых впечатлений вела его в самые разные места. Он объездил пол-России, и каждый раз привозил домой уйму этюдов, набросков, готовых картин. Побывав в Архангельске и Кандалакше, художник создал картину «На севере. Рыбаки на берегу моря» (1903), за которую позже Совет академии присвоил ему звание художника.
В 1907 г. Кончаловский окончил обучение в академии и снова отправился в Париж. Теперь он отходит от академической манеры письма. Во Франции и по возвращении домой художник пишет серию импрессионистских этюдов и картин в духе Клода Моне. В этом же году молодой живописец впервые становится участником выставки в салоне «Золотого руна». А в 1908 г. его картины были выставлены в Париже, в Осеннем салоне и Салоне независимых.
В 1910 г. Кончаловский отправляется вместе со своим знаменитым тестем в южную Францию и Испанию. Именно эта поездка помогла художнику обрести наконец свой неповторимый творческий почерк: стремясь передать на холсте экзотику юга, он сменил и палитру, и манеру письма. Сказалось и влияние французских постимпрессионистов. «Меня поразила яркость красок, этот желтый песок, синее небо и совершенно изумрудные тени на песке. Я все боялся взять краски в полную силу – никто бы не поверил такой невероятной яркости в цвете», – описывал позже Кончаловский свои испанские впечатления.
Теперь художник боготворит Ван Гога и Гогена, Сезанна и фовиста Матисса. Вернувшись в Москву, он стал одним из основателей и бессменным председателем общества «Бубновый валет», весьма эпатажной художественной группировки. В костяк группы вошли Машков, Кончаловский, Куприн, Лентулов, Фальк – все правоверные фовисты и сезаннисты. Недаром в знаменитом двойном портрете Машкова, где он сам и Кончаловский представлены в виде борцов-тяжеловесов, на книжной полке рядом с Библией стоит томик Сезанна. Искусство «валетов» – это буйство ярких, открытых цветов, наивная, но выразительная грубость форм. Их привлекали грубоватые, против всяких правил, но зато лаконичные и броские провинциальные вывески, лубочные картинки, росписи трактирных подносов.
Эти подносы, кстати, то и дело всплывают в натюрмортах Кончаловского. Его «Хлебы на фоне подноса» (1912 г.) отливают золотом, а красно-зеленый поднос с неказистым рисунком создает фон картины и подчеркивает общее впечатление обнаженной простоты и красоты. Трактирной эстетикой отдает и знаменитый натюрморт «Пиво и вобла» (1912 г.), на котором вещи словно оживают: гордо стремится вперед пароходик на красном подносе, в другую сторону плывут рыбины на тарелке, а две пивные бутыли высятся, как готические шпили. Уже в этих авангардных работах угадывается поздний Кончаловский – непревзойденный мастер натюрморта.
«Ощущение жизни человека среди других предметов – это какое-то чувство космического порядка…» – скажет он позже. В этих словах содержится все творческое и жизненное кредо Кончаловского. На его картинах то и дело встречаются повседневные предметы – хлеб, самовар, посуда, цветы… Целая серия натюрмортов с цветами (1911-1912 гг.) как бы предвосхищает знаменитую серию «Сиреней» начала 30-х гг. К «бубнововалетскому» периоду относятся и многочисленные портреты («Портрет Г.Б. Якулова», 1910 г.; «Автопортрет», 1912 г.) и знаменитый «Бой быков в Севилье», и заграничные пейзажи, сделанные в сезанновской манере («Гора Кассис», 1913 г.; «Сиена», 1912 г.).
Кончаловскому было чуждо игровое поведение, дух балагана, которым пронизано все творчество «валетов». В скандалах, в жарких диспутах он практически не участвовал, за исключением суда над Репиным в 1914 г. в Политехническом музее. Тогда Ольга Васильевна, жена Кончаловского, вскакивала на стол и кричала Репину: «Вы не художник, вы фотограф!», а тот оправдывался. Но уже после революции, когда на одно из собраний художников пришел Маяковский, Петр Петрович сказал: «Футуристам у нас места нет». И безуспешно пытался успокоить зал во время учиненного Маяковским скандала. Среди «своих» Кончаловский слыл спокойным, уравновешенным европейцем.
Со временем влияние примитива в творчестве Кончаловского слабело и в конце десятых годов сошло на нет. Его постепенный отход от авангарда объясняется не конформизмом, а отказом от крайностей, стремлением более полно и органично выражать свои впечатления. Кончаловский много работает на природе, обращается к пейзажной живописи («Абрамцево. Дубовая роща осенью», 1921 г.). Вернувшись к реалистической манере, он стал одним из ведущих мастеров русской живописи.
В 1920-е гг. Петр Петрович вел преподавательскую деятельность, участвовал во многих зарубежных выставках советского искусства. В 1922 г. проходит первая его персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее. В 1924 г. он вновь посещает Италию. С середины 1920-х гг. Кончаловский – член общества «Московские живописцы» и заслуженный деятель искусств (1926). К художнику приходит слава, признание и достаток.
Персональная выставка в Париже (1924 г.) была настолько успешной, что он вполне мог не возвращаться в Советский Союз… Но мастер возвращается и снова ездит по стране, помногу бывает в Новгороде, на Кавказе и в Крыму. После каждой такой поездки появляются новые живописные серии.
В жанровых картинах, натюрмортах и пейзажах талант Кончаловского развернулся в полную силу. Упоение чувственной красотой мира позволило художнику создать полные жизни портреты родственников (портреты жены и дочери, 1925 г.) и близких друзей (портрет С. Прокофьева, 1934 г.; портрет А.Н. Толстого, 1941 г.), развернуть обыденную домашнюю сцену в сверкающий красками двухметровый холст («Миша, сходи за пивом!», 1926 г.) и воспеть простые радости жизни («Листья табака», 1929 г.; «Сирень», 1933 г.; «Хлеб, ветчина и вино», 1948 г.). «Вы говорите, что мне надо поехать в командировку, чтобы влюбиться в тему, а я и так уже влюблен. Влюблен безмерно во всю сказочную прелесть всего того, что меня окружает», – говорил Петр Петрович.
В 1932 г. Кончаловский приобрел усадьбу И.И. Трояновского Бугры-Белкино (ныне город Обнинск). С женой Ольгой Васильевной и детьми Михаилом и Натальей (а потом и с внуками) он ежегодно проводил здесь лето, осень и часть зимы. В Москву обычно возвращались не раньше ноября. Так продолжалось до самой смерти художника. Жизнь в Буграх подробно описана в воспоминаниях жены и в рассказах дочери, писательницы Н.П. Кончаловской. Здесь он создал многие известные произведения: серию «Сиреней», портреты А.Н. Толстого, С.С. Прокофьева и другие. Именно в Буграх и окрестностях были созданы почти все его среднерусские пейзажи.
Усадьба стала для семейства Кончаловских настоящим заповедником загородно-дворянского быта. Здесь Петр Петрович смог полностью отдаться трем излюбленным занятиям – живописи, садоводству и охоте. Здесь отдыхали талантливые дети и росли не менее талантливые внуки (атмосфера дома в Буграх отражена во многих фильмах Никиты Михалкова). Здесь бывали самые разные гости – А.Н. Толстой, С.С. Прокофьев, В.В. Иванов, К.М. Симонов, А.А. Фадеев… И все, кому довелось знать Кончаловского, вспоминали о нем как об удивительно жизнерадостном, открытом, общительном человеке. Огромного роста, богатырского сложения, он до глубокой старости сохранял ясный ум, потрясающую мощь и жизнелюбие. Обожал Пушкина и Моцарта, мог без конца цитировать по памяти стихи, за работой напевал арии из опер. Кончаловский нежно любил жену и детей, имел множество друзей, уйму времени тратил на охоту и ведение хозяйства, собственноручно окапывал деревья, коптил окорока и готовил черносмородиновую настойку – знаменитую «кончаловку»; однако жил он прежде всего творчеством и не мыслил своего существования без живописи. Каждое утро начиналось с работы над очередной картиной…
Может показаться, что суровая эпоха обошла Кончаловского стороной. Но совсем не радостная нота звучит в портрете Всеволода Мейерхольда (1938 г.): на фоне нарядной восточной вышивки выделяется измученное лицо человека, загнанного в тупик и ожидающего гибели. И был еще один портрет, так и не написанный, который сыграл тем не менее зловещую роль в судьбе Кончаловского, – портрет Сталина. «Вождь народов» не пожелал позировать, а художник отказался работать по фотографии, заявив, что может писать только с натуры. После этого случая о персональных выставках пришлось забыть до самой смерти руководителя государства. Конечно, все могло обернуться гораздо хуже, если бы жена художника не была дочерью самого Сурикова, имя которого было неприкасаемым: Сталин назвал Сурикова в числе десяти величайших русских гениев. Потому и жила семья Кончаловских в мире, счастье и изобилии; потому и могла Ольга Васильевна при случае перебивать речь министра культуры.
По причине своей полной «безыдейности» Кончаловский был не в чести у сталинского руководства. Портрет Пушкина, на котором поэт изображен зимним утром в Михайловском, только что проснувшимся, вызвал на первой же выставке возмущение: один из партийных руководителей потребовал дописать одеяло, чтобы закрыть голое колено поэта. И все же, с оглядкой на популярность в народе, художника признавали одним из мастеров соцреализма: его картины можно было рассматривать как проявление счастливой жизни советских людей. В 1946 г. Кончаловскому присвоили звание народного художника РСФСР, а в 1947 г. он стал действительным членом Академии художеств СССР.
Умер Петр Петрович Кончаловский в Москве 2 февраля 1956 года. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Большая часть картин художника находится в Государственной Третьяковской галерее (Москва) и Русском музее (Санкт-Петербург).
Корин Павел Дмитриевич (род. в 1892 г. – ум. в 1967 г.)
Русский живописец и реставратор, иконописец, мастер портретной живописи. Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР (1958 г.), народный художник СССР (1962 г.). Лауреат Сталинской (1952 г.) и Ленинской премий (1963 г), на Всемирной выставке в Брюсселе был удостоен золотой медали (1958 г.).
«Я художник не только по призванию, но и по рождению», – говорил о себе Павел Дмитриевич Корин, и в словах этих нет ни грамма преувеличения. Родился он 8 июля 1892 г. во всемирно известном селе Палех и принадлежал к династии потомственных иконописцев, чья история прослеживается по документам и иконам с XVII в. Семья, несмотря на то что имела собственную мастерскую, была небогата, и мальчик с детства познал все тяготы крестьянского труда: ухаживал за скотом, помогал в поле и на огороде. Но вместе с тем Корины были людьми образованными: отец выписывал произведения Тургенева и Гейне, журналы «Нива» и «Живописное обозрение», мать всем развлечениям предпочитала чтение; старшие братья, помогавшие отцу в иконописи, хотели выучиться на художников. Сам Павел в 11 лет окончил сельскую школу и по традиции продолжил учебу в палехской иконописной школе под руководством Е. Стягова. Познавал Корин семейное мастерство с удовольствием – растирал краски, писал фоны для икон и образов, – и считался одним из лучших учеников, а через пять лет получил звание мастера-иконописца. Однако чувствовал он себя, словно со связанными руками, все больше задавался вопросом, мучившим с детства: почему художники, чьи репродукции и литографии видел в журналах, пишут совершенно иначе, нежели в Палехе. Вскоре Павел понял, что искусство иконописи просто не позволяет ему выразить все то, что он чувствовал и видел. Так юный художник в 1908 г. принял решение уехать на учебу в Москву.
Первое посещение Москвы оказалось для Корина неплодотворным, и он вернулся в Палех, а единственное, что запомнилось из поездки, – Третьяковская галерея, где иконописец впервые ощутил подлинный трепет от встречи с искусством. Но судьба его словно была предрешена: вскоре случай свел Павла с московским художником К. Степановым, который, разглядев в юноше неограненный талант и жажду работы, пригласил его в иконописную палату Донского монастыря, а уже в 1911 г. на ее выставке Корин представил свое произведение. Там молодого живописца приметил Михаил Васильевич Нестеров, ставший его добрым гением. Вместе с ним Павел принимал участие в росписи церкви Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители, переняв у живописца строгую технику, сдержанность колорита и, одновременно, экспрессию рисунка. В Марфо-Мариинской обители Корин встретил и свою будущую жену Пашеньку Петрову, бывшую там воспитанницей. Впоследствии Прасковья Тихоновна стала реставратором, принимала участие в работе мужа, а после смерти Павла Дмитриевича сохранила его произведения для потомков.
С подачи Нестерова художник А.Е. Архипов начал готовить Павла к поступлению в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и в 1912 г., пройдя огромный конкурс – 30 человек на место, – он был принят. Молодой человек был жадным до знаний и весьма усердным учеником крупнейших мастеров К. Коровина и С. Малютина. Последний как-то заметил о стиле Корина: «Рисуй, рисуй, Рафаэлем будешь…» И действительно, сравнивая работы двух художников, можно найти немало общего: одинаковое спокойствие фигур, одухотворенность лиц, которые в портретах зрелого Корина похожи скорее на иконописные лики. Но несмотря на то что, по словам Коровина, Павлу был дан «дивный дар рисования», его первая самостоятельная, дипломная работа «Франческа да Римини. Данте в аду» не сохранилась: Корин сам уничтожил картину, потому что наставник назвал ее крайне неудачной. Через два года по окончании училища Корин был удостоен звания классного живописца, а вскоре после этого Малютин пригласил бывшего ученика ассистировать ему в Свободных художественных мастерских. Через полгода Павел стал там преподавателем рисунка и живописи.
Есть разные сведения, с какими настроениями Корин встретил революцию 1917 г. Ни в те бурные, изменчивые 1920-е гг., ни в дальнейшем он не создал ни единой картины, прославляющей новый строй, власть перемен, мощь великой социалистической державы, как делали это многие его коллеги. Однако и в эмиграцию Павел Дмитриевич не уехал. Его выбор казался золотой серединой – не отрекаясь от своих прежних идеалов, выжить среди начавшихся гонений на старый мир. Корин работал с «Окнами РОСТА», создавая агитплакаты по эскизам своих друзей по училищу Маяковского и Бурлюка, рисовал коммунистические транспаранты и лозунги, но одновременно в мастерской на Арбате в атеистических Советах появлялись на свет прекраснейшие, словно светящиеся изнутри иконы, портреты частных лиц и милые сердцу художника палехские и московские пейзажи («Палех», «Москва с Ленинских гор», панорамная «Моя Родина»). Павел Дмитриевич не только учил талантливую молодежь рисунку в Музее изящных искусств (1926-1931 гг.), но продолжал сам усердно и много учиться: в течение двух лет работал в анатомическом театра 1-го Московского университета, чтобы видеть будущие полотна взглядом не только живописца, но и врача; в Музее изящных искусств делал копии с классических образцов, занимался обмерами слепков скульптур Древней Греции, Рима и эпохи Возрождения. Он путешествовал по северу России, посетил Вологду, старую Ладогу, Ферапонтов монастырь, Новгород, где изучал росписи в соборах и церквах, делал зарисовки церковной утвари, фресок старых мастеров Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия…
Еще в 1920 г. в записной книжке Корина появилось упоминание о задуманной, но так и не осуществленной картине на религиозную тему «Благослови, душе моя, Господа». Возник этот замысел, скорее всего, под влиянием картины А. Иванова «Явление Христа народу». Вообще, Иванов был, пожалуй, единственным подлинным кумиром Корина из отечественных живописцев. Он говорил об Александре Андреевиче: «Вот что значит быть художником! Иванов – самоотверженность и благородство, стремление к истине. Светоч жизни – Иванов. Картина его – школа мастерства, школа великого духа». Кропотливая работа по копированию «Явления…» в размер подлинника продолжалась пять лет, и все это время не отпускали душу Павла Дмитриевича тяжкие думы о судьбе исчезающего в чекистских застенках, гонимого русского духовенства – «За всю Церковь нашу переживал, за Русь, за русскую душу…» Так он шаг за шагом приближался к созданию первой из трех самых известных своих картин.
1925 год стал переломным: скончался патриарх Московский и Всея Руси Тихон, и Корин делал зарисовки на похоронах в Донском монастыре, которые легли в основу нового полотна. Он и название дал ему заранее – «Русь уходящая», объясняя это так: «Для меня заключено нечто невероятно русское в понятии "уходящее": когда все пройдет, то самое хорошее и главное – оно все останется». (Однако имеются сведения, что название это дал картине Горький, а сам художник назвал ее куда более жестко и неумолимо – «Реквием».) Восемь лет ожесточенной, изнуряющей душу и тело работы, и вот они все, исполненные в небогатой контрастной, черно-коричнево-серо-белой гамме: «Схимница из Вознесенского Кремлевского монастыря в Москве», «Отец Сергий Успенский-старший», «Схиигумен Митрофан и иеромонах Гермоген», «Отец и сын Чураковы» – резчик по дереву и реставратор, непреклонность духа и мечтательность, две русские судьбы, о которых Павел Дмитриевич скажет: «В этих двух я верю». Далее шли «Архимандрит», «Митрополит Ленинградский Пимен» и «Митрополит Трифон», замученные молоденькие монахи и монашки, слепые и калики, сирые и убогие… Это была Русь Корина, Русь уходящая… Все портреты и наброски должны были превратиться в великое, поистине пророческое произведение искусства, да так и остались разобщенными, с лишь наметившимися связками, чудом сохраненными «Этюдами», потому что не посмел художник воплотить в картине неоконченную, недовыстраданную мысль…
Но все эти годы, несмотря на безусловный талант, сквозивший в любом из полотен, Корин оставался бедным безвестным художником, ютящимся с Прасковьей Тихоновной и братом Александром на чердаке-мастерской под самым небом. Жил он уединенно, но коллеги-художники, знающие о мастерстве Павла Дмитриевича, рассказали о нем А.М. Горькому, защитнику и опекуну талантливой интеллигенции. Их судьбоносная встреча состоялась 3 сентября 1931 г., и писатель, пораженный увиденным, предложил Корину поехать с ним в Европу для знакомства с лучшими образцами эпохи Возрождения. Италия, позже, в 1935 г., Франция… Художник ни на секунду не расставался с альбомом для зарисовок. Когда-то он говорил жене: «Мне хотя бы на мгновение увидеть Микеланджело, хотя бы пройти мимо фресок Рафаэля», – а теперь его мечта была осуществлена, и Корин писал из Рима: «Хожу здесь… и все вспоминаю Иванова…, как он любил Рафаэля, как его изучал! Иванов жил в "высокой тишине Рима" (это его выражение) 28 лет!» Сам художник с 1933 г. и до конца жизни жил в отведенном для него стараниями Горького огромном доме-мастерской (ныне дом-музей Корина) на Девичьем поле в «высокой тишине Москвы».
На даче у Алексея Максимовича в Сорренто в 1932 г. был написан первый «официальный» портрет Корина – портрет писателя. Он очень боялся браться за эту работу, потому что многие художники писали Горького – и все неудачно. Долго присматривался Павел Дмитриевич к Горькому, создавая образ из мельчайших деталей, потом так же долго длились натурные сеансы – и вот вырисовалась неестественно высокая фигура писателя на фоне прекрасно прописанного волнующегося моря и неба, волосы чуть подняты ветром, рука крепко сжимает палку, взгляд то ли серьезен, то ли грустен, то ли просто задумчив: «Всем нравится. Сам Алексей Максимович доволен. Вот его слова: "Много с меня писали, и все неудачно, ваш портрет удачный…"»
После смерти Горького Павел Дмитриевич три года не мог прийти в себя. Силы и желание творить вернулись к нему лишь в 1939 г., когда Комитет по делам искусств дал ему заказ на написание целой галереи портретов выдающихся деятелей советского искусства. Так раскрылась еще одна грань дарования художника, казалось, он проникал в самую душу своих моделей, видел их сильные и слабые стороны, и поэтому для каждого портрета характерны индивидуальная цветовая палитра и акцентирование какого-либо признака, наиболее точно характеризующего личность. Учитель и друг художника М.В. Нестеров написан в момент жаркого спора, изо всей его фигуры, стремительно подавшейся вперед из кресла, изливается неукротимая жизненная энергия, и нет никакого намека на старческую немощь. Строго и непреклонно смотрится на холодном сером фоне театрального занавеса В.И. Качалов. Артист запечатлен в полный рост, и даже застывшая поза не может скрыть вдохновенного порыва. Колоритный, динамичный, прорисованный яркими красками, глубоко задумавшийся скульптор С.Т. Коненков выглядит необычайно ярко и мощно, даже дико – столько чувств самого Корина вложено в этот портрет.
Кисти художника также принадлежат портреты Н. Пешковой, А. Толстого, Н. Гамалеи, Ф. Толбухина, Л. Говорова, К. Игумнова. Последний является одним из самых замечательных и тяжелых по исполнению среди образов, созданных Павлом Дмитриевичем: профиль пианиста писался в одном месте, рояль, на котором он играл, – в другом. И руки, тщательно, любовно выписанные в движении по клавишам руки, которые, по словам Корина, являются таким же зеркалом человеческой души, как и лицо. Вообще, нелегко приходилось моделям, позировавшим художнику. Он, считавший рисование по памяти «болезнью живописи», предпочитал натурные сеансы, и количество их порой доходило до 50. Но «мучение» того стоило, и не было недовольных результатом. Один из самых страшных людей того времени Г.Г. Ягода отблагодарил Павла Дмитриевича деньгами, фотографией с портрета и личной защитой. Драматический актер Л.М. Леонидов сказал Корину: «Вот когда через много лет будут писать об актере Леонидове, пусть поглядят на этот портрет. Спасибо вам». Маршал Г.К. Жуков сделал официальное заявление о своем портрете: «Председателю Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко. Мой портрет, написанный тов. Кориным П. Д., я считаю, выполнен хорошо. Он правдиво отражает действительность. Г. Жуков».
Пришло и признание. В 1958 г. за портрет художника М.С. Сарьяна Корин получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе, а в Советском Союзе ему было присвоено звание народного художника РСФСР и действительного члена Академии художеств СССР (народный художник СССР – 1962 г.). Пятью годами позже за портреты М. Сарьяна, Р. Симонова, Кукрыниксов и художника Р. Гуттузо (написан во время второго путешествия по Италии) Павлу Дмитриевичу была присуждена Ленинская премия. В 1965 г. по личному приглашению А. Хаммера в Художественной галерее Нью-Йорка была организована персональная выставка 50 работ Корина, прошедшая с огромным успехом.
В нелегкие годы войны Павел Дмитриевич, конечно же, не смог остаться в стороне от людского горя и надежд. Так появился триптих «Александр Невский», представленный в 1943 г. на Всесоюзной художественной выставке «Героический фронт и тыл». Из трех частей – «Северная баллада», «Александр Невский» и «Старинный сказ» – наиболее известна центральная. Мощная высокая фигура, опирающаяся на двуручный меч, спрятанный в ножны, пронизана «непокорным духом нашего народа» и словно бы предсказывает будущую победу, дарованную Нерукотворным Спасом, чей лик изображен на хоругви за спиной Александра.
В 1941-1947 гг. художник по заказу правительства выполнял эскизы и картоны фриза «Марш в будущее» для Большого зала Дворца Советов. Однако это аллегорическое, неведомое «светлое будущее» не вызывало у Корина никаких ассоциаций с реальными образами, и работа так и не была завершена. Может, именно благодаря тяге к родной земле и людям нашли прекрасное воплощение работы Павла Дмитриевича в декоративном искусстве. Исполненные им монументальные мозаичные панно, изображающие воинские подвиги русского народа со времен Александра Невского и Дмитрия Донского до Парада Победы 1945 г. по сей день украшают станции «Московской кольцевой линии» метро. За эти работы в 1952 г. художник был удостоен Сталинской премии. Ему принадлежит также исполнение эскизов витражей и мозаик для станций «Новослободская» и «Арбатская», мраморный фриз на «Смоленской», оформление актового зала Московского государственного университета.
Проявил себя Корин и как прекрасный педагог (Московский государственный художественный институт им. Сурикова, 1949 – 1950 гг.), но всемирную известность принесла ему не живопись даже, а скорее долгие годы, отданные кропотливому искусству реставрации. В течение 27 лет он возглавлял реставрационную мастерскую Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, а с 1960 по 1964 г. – Государственную центральную художественно-реставрационную мастерскую им. Грабаря. Павел Дмитриевич участвовал в реставрационной промывке культовой для себя картины «Явление Христа народу» и реставрации панорамы Ф.А. Рубо «Бородинская битва». Через его бережные, любящие руки прошли сотни полотен Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Десять лет жизни было посвящено трудоемкой реставрации испорченных водой бесценных картин западно-европейских мастеров живописи из собрания Дрезденской галереи… Это был поистине титанический труд!
В 1966 г. Корин приступил к работе над своим последним произведением – грандиозным триптихом «Сполохи», посвященным героям-защитникам древнерусской земли, но успел написать только центральную часть – раненого князя Даниила Галицкого. Весной следующего года он ездил в родной Палех, словно предчувствуя близкую кончину. 22 ноября 1967 г. великий художник умер.
В одной из его записных книжек времен поездки в Париж и работы над эскизами к «Руси уходящей» есть такие слова: «Боже мой! Неужели и мне закрыт путь к Великому Искусству? Понимая всю пошлость и низость падения, неужели и я должен свалиться туда? Боже! Как же, как же подняться к высотам чистого искусства? Слышите ли Вы меня, Великие? Кричу Вам, зову Вас, помогите, помогите, помогите!!! …Как я остро ощущаю Гений у других и преклоняюсь перед ним. Боже, неужели у меня нет этого пламени? Тогда не стоит жить…» Кажется, что в них и заключена вся душа Корина, сгоревшего в благородном пламени духа и любви к своему народу, по совести причислившему его к сонму гениев русской живописи XX столетия.
Коровин Константин Алексеевич (род. в 1861 г. – ум. в 1939 г.)
Русский живописец, тонкий мастер пленэра, театральный декоратор, писатель, автор более 360 мемуарных очерков, рассказов, сказок, книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», воспоминаний «Моя жизнь», рукописи «Воспоминания о современниках».
«Живопись, как музыка, как стих поэта, всегда должна вызывать в зрителе наслаждение. Художник дарит зрителя только прекрасным», – говорил К.А. Коровин, живописец огромного самобытного таланта и редкого творческого темперамента. В чем бы ни проявлялось мастерство этого человека – в станковой живописи, пейзажах, натюрмортах, монументально-декоративных панно или в театральных декорациях и костюмах, – его произведения неизменно доставляют эстетическое наслаждение, являют «праздник для глаз». Как никто другой, Коровин умел находить красоту во всем, в каждом кусочке зримого мира – в незамысловатом русском деревенском пейзаже и в ярких крымских ландшафтах, в суровой природе Севера и в солнечных образах Италии, в парижских улочках и в горных селениях Кавказа. Он находил красоту в самой жизни, и потому его живопись так жизнерадостна и полнокровна.
Родился Константин Коровин в Москве, на Рогожской улице. Здесь, в доме деда, где он жил с родителями и братом, прошли его детские годы. Дед будущего художника, Михаил Емельянова, был очень колоритной личностью. Богатырского сложения, ростом «в сажень без полвершка», он дожил до ста одного года, сохранив на всю жизнь удалой ямщицкий дух. Простой крестьянин, ямщик Владимирской губернии, он сумел «выйти в люди» и добиться относительного богатства. Константин хорошо помнил те времена, когда «почти вся Рогожская улица принадлежала» деду, владельцу ямщицкого «извоза»: «Сплошь постоялые дворы. Кареты в них на рессорах, с кухнями, а на столах в квартире ассигнации кипами, бечевками перевязанные». Правда, процветание дела длилось недолго, так как вскоре дед разорился, и семья перебралась в подмосковную деревню Большие Мытищи. «После большого богатства, в котором я родился и жил до десяти лет, мне пришлось сильно нуждаться. Уже пятнадцати лет я давал уроки рисования и зарабатывал свой хлеб», – писал художник в своих воспоминаниях.
Атмосфера в доме Коровиных была особой: независимый могучий дух сочетался с патриархальной благочинностью, деловая хватка – с фанатической религиозностью. Большое влияние на будущего художника оказали родители, культурные и образованные люди. Отец Константина окончил университет, мать хорошо играла на арфе, рисовала акварелью. Оба они всячески стремились пробудить в своих детях художественные наклонности, в чем им помогали друзья дома – дальний родственник Коровиных художник И.М. Прянишников и пейзажист Л.Л. Каменев. С ранних лет Костя, отличавшийся богатым воображением и фантазией, проявлял живой интерес и любовь к природе. Поэтому для родителей не было неожиданностью, когда он, по примеру старшего брата Сергея, решил поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 1875 г. четырнадцатилетний Костя Коровин начал заниматься на архитектурном отделении училища, однако уже через год перешел на живописное. Его учителями стали блистательные мастера, художники-передвижники В.Г. Перов, И.М. Прянишников, В.Е. Маковский, А.К. Саврасов. Не отличавшийся большими успехами в изучении общеобразовательных дисциплин Константин Коровин, признанный «колорист», был одним из первых по специальным предметам. Более того, выполненные им рисунки головы В.Г. Перов ставил ученикам в пример.
Немаловажно, что уже в ученические годы Коровин отдавал предпочтение пейзажу, который станет его излюбленным жанром на протяжении всего творческого пути. Уже в 1887 г. художник написал в своем дневнике: «Пейзаж… В нем должна быть история души, он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словами. Это так похоже на музыку…» Обучаясь в пейзажной мастерской у А.К. Саврасова, Коровин, как и И.И. Левитан, стал одним из любимых учеников этого педагога. «Ступайте писать – ведь весна, уже лужи, воробьи чирикают – хорошо. Ступайте писать, пишите этюды, изучайте, главное – чувствуйте», – вспоминал Коровин напутственные слова своего учителя. Следуя советам, он вместе с другими молодыми художниками «шел в природу и писал с натуры этюды», стараясь вложить в работу все свои чувства и переживания. Так рождались его первые лирические пейзажи, несущие в себе новые эстетические принципы. Наиболее известна из первых зрелых работ художника картина «Ранняя весна», наполненная поэтической прелестью пробуждающейся природы.
В 1882 г. Константин оставил Училище живописи и поступил в Петербургскую академию художеств. Однако уже через несколько месяцев он был разочарован «духом академического обучения» и вернулся назад, в Москву. Как раз тогда в училище появился новый преподаватель, одаренный художник В. Поленов, ставший для Коровина любимым педагогом и духовным наставником. Впечатлительный Константин, подверженный острым приступам меланхолии, неверия в свои силы и частой смене увлечений и настроений, находил в своем учителе трогательную заботу и внимание. Оставшийся к этому времени без отца и матери, он проводил много времени в семье Поленова, которая стала для него родной.
От Поленова, провозглашавшего в своем творчестве «культ глубокой натуры», Константин впервые узнал об импрессионистах. Работая в его мастерской, он написал несколько пейзажей, в которых уже ощущалось то неудержимое стремление передать яркость и чистоту цвета, трепетность солнечного света и воздуха, которое так характерно для искусства импрессионистов. Спустя годы об одном из таких этюдов художника, «Последний снег», С. Глаголь сказал, что именно Коровин «подметил и написал тот весенний мотив с остатками снега на задворках, который так долго царил затем в русском пейзаже». «Внутренняя общность в подходе к натуре» объединяет «Последний снег» с «Портретом хористки», исполненным художником в 1883 г. Хотя сама женщина, по словам автора, «некрасива, даже уродлива», живописное истолкование образа раскрывает в модели какую-то особую, неуловимую с первого взгляда прелесть. Игра света и воздуха на лице, блики на шляпке и платье вносят в образ трепетность и очарование. Этот портрет резко отличался от произведений портретного жанра второй половины XIX в., что выразилось в отсутствии психологического анализа образа, в стремлении к выражению в нем поэтического начала, в «ином, чем прежде, понимании эстетически прекрасного». Картина вызвала бурные обсуждения и почти единодушный протест преподавателей Московского училища живописи, которые усмотрели в поиске Коровина покушение на незыблемые каноны красоты, отход от принципов психологического портрета и не сумели оценить новаторства молодого живописца. Даже Поленов, так понимавший своего ученика, не мог на этот раз простить ему «небрежности исполнения» и посоветовал снять картину с выставки. И тогда Константин Коровин записал на обороте этюда мнение И. Репина, которое произвело на него самое сильное впечатление: «Это живопись для живописи только. Такое бывает позволительно испанцу, но у русского – к чему это?» Эти слова прозвучали для художника как вызов. Всю свою жизнь Коровин будет отстаивать самоценность живописной выразительности без какого-либо литературного начала. Портрет харьковской хористки стал первой попыткой изображения свежих красок, словно растворимых в световоздушной среде, что по существу явилось первым импрессионистическим опытом не только в творчестве Коровина, но и во всей русской живописи. Несколькими годами позже, когда Константин Алексеевич побывает в Париже и познакомится с современной французской живописью, он воскликнет: «Импрессионисты… у них нашел я все то самое, за что так ругали меня дома, в Москве».
В 1885 г. благодаря Поленову Константин познакомился с известным промышленником и меценатом, человеком редкой художественной одаренности Саввой Мамонтовым, который не только сам пробовал заниматься музыкой, поэзией и скульптурой, но и всячески поддерживал талантливых людей. Еще в 70-е гг. в его подмосковном имении Абрамцево собирались известные художники, артисты, поэты, среди них – Репин, Васнецов, Шаляпин, Станиславский. В 80-е гг. мамонтовский кружок вместе с Левитаном и Врубелем стал посещать и Коровин. Остроумный, подвижный и талантливый Костенька Коровин, как его тогда называли, быстро стал любимцем общества. Для театра Мамонтова молодой художник начал создавать свои первые декорации. Оформив по эскизам В. Васнецова декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», Коровин открыл в себе дар театрального художника. Не случайно в первые годы самостоятельного творчества в художественных кругах Коровин был известен больше как декоратор, нежели живописец. В течение 16 последующих лет его деятельность была связана с оформлением постановок Частной оперы, которая образовалась из Любительского театра Мамонтова. «Аида», «Кармен», «Псковитянка», «Орфей», «Орлеанская дева», «Фауст» и еще множество других спектаклей были поставлены при активном участии Коровина. В Частной опере он сформировался как художник сцены и приобрел широкую известность в театральном мире. Весь свой накопленный опыт он с успехом использовал позже, оформив около 150 постановок императорских театров.
Частному оперному театру суждено было сыграть особую роль и в личной жизни Коровина. В эти годы художник сблизился с артисткой мимического ансамбля оперы Анной Яковлевной Фидлер, впоследствии ставшей его женой. Она была очень красива, того типа романтической жгучей красоты, который всегда пленял Коровина. Современники вспоминали, что видели в мастерской художника холст с изображением женщины-демона, в которой нетрудно было узнать А.Я. Фидлер. В конце 90-х гг. у художника родился сын Алексей. Легкомысленный повеса и весельчак, Коровин оказался трогательным и любящим отцом. В его дальнейшей жизни постоянные заботы о благополучии сына, довольно болезненного и нервного, занимали значительное место.
На рубеже XIX-XX вв. творчество сорокалетнего Константина Коровина вступило в пору своего расцвета. К этому времени художник сформулировал в общих чертах свое творческое кредо. Он уже заявил о себе как автор монументально-декоративных панно для выставки в Нижнем Новгороде, как станковист – в картинах «За чайным столом», «У балкона. Испанки Леонора и Ампара», «Зимой», «Бумажные фонари»; как портретист – в работах «Портрет Т.С. Любатович. Дьепп», «Портрет Солюд Отон» и др. Наконец, он показал себя как блистательный театральный декоратор и активный член мамонтовского кружка. В числе первых уже достаточно известный художник Константин Коровин был приглашен к участию в новом объединении «Мир искусства», члены которого видели главную задачу искусства в воплощении «вечных», «общечеловеческих» ценностей и стремились к преобразованию жизни с помощью и по законам зрительной красоты. Общество «Мир искусства», составившее оппозицию академизму и критическому реализму, объединяло множество знаменитых людей, в него входили: А.Н. Бенуа, Ф.В. Боткин, А.М. Васнецов, М.А. Врубель, И.И. Левитан, М.В. Нестеров, В.А. Серов, Л.С. Бакст и др. Это объединение занималось организацией выставок не только в России, но и за рубежом, где картины К. Коровина демонстрировались вместе с произведениями мастеров, творчеством которых он так увлекался, – Пюви де Шаванна, Э. Дега, К. Моне. Во второй половине 80-х гг. живописец начал выезжать за границу. Увлеченный творчеством импрессионистов и постимпрессионистов, блестяще использовав свой опыт излюбленного пленэризма, он написал по возвращении картины: «В лодке», «За чайным столом», «Настурции», изображающие природу, как бы увиденную глазами горожанина. Огромный успех имел выполненный Коровиным для Международной выставки в Париже в 1899 г. проект Кустарного отдела России. В бревенчатом павильоне, представляющем собой целый сказочный городок с деревянными теремками, башнями и крылечками, нетрудно узнать образы северного деревянного зодчества, пленившего Коровина еще во время его путешествий на Север.
Жизнь художника в 90-е гг. была насыщенной, полной трудов и творческих исканий. Можно только удивляться, как при довольно слабом здоровье (Коровин часто болел и был очень мнительным) художнику удавалось успевать так много: титанически трудиться в театре, делать эскизы для обоев, проектировать мебель, постоянно работать как живописец-станковист и преподавать в портретно-пейзажном классе Училища живописи, а затем еще и в Строгановском училище. При этом его хватало и «на бурное времяпрепровождение артистической богемы, и на отшельническую жизнь охотника и рыболова в деревне; на яркие и мимолетные вспышки сердечных увлечений и глубокие сердечные чувства». Коровин был «артист-художник до мозга костей», и этим объясняется поразительная безмерность его жизненных и творческих сил. С 1903 г. он стал художником Большого театра, а с 1910 – главным декоратором и консультантом Московских императорских театров. Казалось бы, на театральной сцене с тем необъятным полем деятельности, которое она предоставляла художнику в те годы, мастер мог удовлетворить все свои творческие запросы. Тем не менее Коровин, такой изменчивый по своей натуре, остался верен станковой живописи. В эти годы он создал множество разных по своей значимости произведений («Весна», 1909 г.; «Гурзуф», 1912 г.; «Розы», «Бульвар Капуцинов», «Парижские огни», «Портрет Ф.И. Шаляпина», «Зимний пейзаж», все в 1911 г.; «Лунная ночь. Зима», 1913 г. и др.). «Он писал этюды – как импровизируют песни. И с необычайной щедростью он пел эти песни… и никак не ценил их. Редко кто с таким расточительством относился к своим произведениям. Порой, когда не было денег (а денег часто не было, несмотря на высокий заработок в театре, так как Коровин был очень широкой натурой и, ненавидя деньги, старался их быстро тратить), он расплачивался этюдами за любимые им рыбу и икру с хозяином рыбного магазина…» – писала о художнике Д.З. Коган.
К концу первого десятилетия XX в. к К.А. Коровину пришло широкое признание. Но разразившаяся Первая мировая война внесла существенные изменения в жизнь художника. В начале 1914 г. Коровин был временно откомандирован на фронт. Он гордился присвоенным ему воинским званием, прекрасно выполняя возложенные на него обязанности. Этот нелегкий год принес тяжелые переживания и в личную жизнь художника: произошел несчастный случай с его сыном. Душевные страдания, вызванные этим событием, окончательно подорвали здоровье К.А. Коровина – он тяжело заболел. Переехав с семьей в Крым, художник тем не менее продолжал писать, создавая в этот период в основном станковые работы: жанровые сценки, городские пейзажи, портреты и натюрморты («Рыбы, вино и фрукты», «Фаэтон в Севастополе», обе в 1916 г.; «Гурзуф», «Рыбы», обе в 1917 г. и др.). В 1918 г. К. Коровин писал Ф. Шаляпину, дружба с которым связывала его долгие годы: «Я много работаю, ищу в живописи иллюзию и поэзию, желая уйти от внешнего мастерства».
В 1923 г. художник с семьей уехал за границу, где провел последние 15 лет своей жизни. О жизни Константина Алексеевича в Париже известно немного, но воспоминания современников воссоздают картину тяжких жизненных обстоятельств. «Коровину пришлось пережить подлинную трагедию. Жена заболела туберкулезом; сын – инвалид, для лечения которого он уехал из России, пытался наложить на себя руки; денег не было – человек, обещавший устроить выставку, скрылся с картинами. Художник казался очень усталым, очень одиноким. Тяжелое, неизгладимое впечатление произвела на меня эта встреча», – вспоминал бывший ученик художника М.С. Сарьян. Все сочувствовали Константину Коровину, но никто, даже когда-то самые близкие люди, не приходил ему на помощь. Беспросветное одиночество отягощало и без того трудные годы жизни живописца. На чужбине он жил лишь прошлым, с грустью вспоминая милую его сердцу Россию. Тоска по родине привела мастера к занятиям литературным трудом. В 1925 г., когда сын художника Алексей пытался покончить жизнь самоубийством, Коровин, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал делиться с ним светлыми воспоминаниями из своей жизни. «…Я живу воспоминаниями о друзьях… Каждый час я вспоминаю и даже написал целую книгу…» – сообщал Константин Алексеевич в письме одному из своих друзей. Однако более серьезно писательской деятельностью Коровин занялся несколько лет спустя, когда серьезно заболел. «Был я болен, живописью заниматься не мог, лежал в постели. И стал писать пером – рассказы. Закрывая глаза, я видел Россию, ее дивную природу, людей русских, любимых мною друзей, чудаков, добрых и так себе – со всячинкой, которых любил, из которых «иных уж нет, а те далече»… И они ожили в моем воображении, и мне захотелось рассказать о них», – вспоминал К.А. Коровин. Так в 1929 г. появился новый талантливый русский писатель Константин Алексеевич Коровин, было ему тогда уже 68 лет.
В эти годы художник продолжал заниматься и живописью, а также театрально-декорационной деятельностью, оформил несколько постановок из русского оперного и балетного репертуара для театров Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Буэнос-Айреса. Утверждая в своем творчестве эстетическую ценность всего, что связано с Россией, Коровин до конца своих дней был истинно русским художником. Он так и не сумел войти в жизнь Франции, навсегда оставшись в ней только гостем. Глубоко справедливы слова С.А. Щербатова об этом замечательном художнике: «Трем предметам глубокой искренней своей любви Коровин остался верен всю свою жизнь, а именно: России, искусству и природе».
Костанди Кириак Константинович (род. в 1852 г. – ум. в 1921 г.)
Художник-пейзажист, автор картин бытового жанра, педагог, академик живописи, представитель импрессионизма, но импрессионизма особого – «костандиевского», полного гуманизма. Его имя тесно связано с деятельностью Одесской Рисовальной школы и Товарищества южно-русских художников. Илья Репин, один из учителей Кириака Костанди, называл его картины «бриллиантами», а по словам художника Амшея Нюренберга, его воспитанника, работы Костанди обладают «секретом неувядаемого очарования».
Кириак Костанди родился 3 (15) октября 1852 г. в селе Дофиновке неподалеку от Одессы. Его отец, греческий эмигрант со сложными для русского произношения отчеством и фамилией – Константин Константиниди Василькети – был рыбаком. Занятие это приносило, конечно, небольшой доход, и прокормить на скудный заработок многодетную семью было сложно. Детство Кириака прошло в бедности. В 1859 г. отец умер и семья потеряла кормильца. Это были самые тяжелые годы в жизни Кириака Костанди. Уже с девяти лет мальчику пришлось работать – сначала на посылках в бакалейной лавке, а потом в винном погребке в Одессе. А потому он не мог ходить в школу и учился грамоте у старшей сестры, которая сама умела лишь немного читать и писать.
Кириак очень рано начал рисовать. Еще в раннем детстве ему очень нравились лубочные картинки, развешанные на стенах хаты. По словам самого художника, именно они «дали первый толчок и возбудили интерес к изображению». Но заниматься мальчиком и развивать его способности было некогда, да и некому.
Все могло сложиться по-другому, но, похоже, судьбе было угодно видеть еще одного великого художника. И ему был дан шанс пробиться. В 1868 г. Кириак познакомился с одесским фотографом Бюловым, который заинтересовался рисунками юноши. Бюлов взял его к себе в фотомастерскую и преподал основы ретуши. Именно он надоумил Кириака поступить в Рисовальную школу Одесского общества изящных искусств, в которой, как выяснилось, талантливые дети из бедных семей могут учиться бесплатно.
Спустя два года, в 1870 г., Кириак Костанди стал учеником Рисовальной школы. Здесь раскрылись незаурядные способности юноши, на него обратили внимание как на перспективного воспитанника. Все четыре года обучения в школе Кириак был одним из лучших. За выпускные работы Костанди по решению общего совета учителей Рисовальной школы был награжден серебряной медалью, а сами картины были отправлены на выставку в Академию художеств.
И тут Кириаку Костанди повезло еще раз. Его талантливые произведения заметил известный маринист И.К. Айвазовский, который часто бывал в Одессе со своими выставками и каждый раз посещал местную Рисовальную школу. Решив, что Костанди «обладает большими способностями», он выхлопотал юноше стипендию для обучения в Петербургской академии художеств.
В конце 1874 г. Костанди, которому исполнилось уже 22 года, прибыл в Петербург с рекомендательным письмом от И.К. Айвазовского, адресованным конференц-секретарю Академии художеств. Он поступил в академию сначала вольнослушателем, а в 1877 г. стал полноправным учеником. Ему пришлось сдать дополнительно все экзамены по общеобразовательным предметам, подготовиться к которым помогли товарищи по учебе. Занятия проходили успешно – Кириак несколько раз получал поощрительные медали и дважды – серебряную медаль первой степени за свои рисунки.
Одним из учителей Костанди был П.П. Чистяков, «всеобщий учитель» русских художников, который очень сильно повлиял на начинающего художника. Именно он вложил в Кириака идею о «непреходящей ценности изучения творчества великих мастеров прошлого». По совету учителя Костанди много времени стал проводить в Эрмитаже, копируя шедевры знаменитых художников.
Период жизни Костанди в Петербурге ознаменовался подъемом революционных настроений в стране. Эти веяния отразились и в искусстве. Чрезвычайно популярным стало Общество передвижных художественных выставок, основанное в 1870 г. Молодежь, учившаяся в академии, по примеру передвижников организовывала студенческие «художественные» кружки, в один из которых вошел Костанди. Члены кружка собирались по вечерам в небольшой комнатке на Васильевском острове, где рисовали и за чашкой чая обсуждали насущные проблемы искусства. Кириак в одном из писем домой отмечал, что подобный досуг не только «разнообразит жизнь», но и «развивает художественные познания, которые недостаточно воспитаны академией». Иногда в гости к кружковцам заходили уже знаменитые мастера кисти – И.Е. Репин, И.Н. Крамской, А.И. Куинджи… Именно здесь было положено начало дружбе Костанди и Репина, который позже признавался в симпатии «к этому прекрасному художнику и безукоризненному человеку».
В 1884 г. на XII выставке передвижников, одной из крупнейших и самых значительных со времени их организации, появилось полотно Костанди «У больного товарища». Его заметили, и с этих пор художник стал постоянным участником передвижных выставок. На следующей выставке он экспонирует уже три картины: «В люди», «Праздник» и «Прощание», написанные в том же реалистическом ключе. Первая из них – «В люди» – приобрела большую известность, о ней писали, и даже Крамской, «строгий и взыскательный критик», отметил целый ряд достоинств картины.
В 1885 г. Кириак Константинович возвратился в Одессу, куда его пригласили преподавать в родную Рисовальную школу. Благодаря его участию она стала одной из лучших на юге России. Его учениками были И. Бродский, М. Греков, А. Шовкуненко, П. Волокидин, братья Лаховские и др., ставшие впоследствии знаменитыми художниками.
Летом 1887 г. Костанди впервые отправился за границу. Вместе с ним поехали братья Дмитрий и Николай Кузнецовы, с которыми он дружил и у которых часто бывал в гостях в их загородном имении в Одессе. Побывав во Франции, Германии, Австрии, Италии, он поближе познакомился с современным западным искусством, выразив свое отношение к нему поговоркой: «Не так страшен черт, как его малюют».
Вернувшись в Одессу, Костанди продолжал свою преподавательскую деятельность и с головой окунулся в творчество. После трехлетнего перерыва он снова участвует в передвижных выставках, посылая на них свои лучшие работы: «Больная на даче», «Гуси», «К сумеркам», «За ягодами», «Странствующий музыкант», «Первенец», «Поздние сумерки», «Старички», «Ранняя весна», «За вышиванием». В это время, продолжая писать сюжетные картины, он обращается к пейзажу. В основном это были виды окрестностей Одессы: «южная прибрежная дача, тихие розово-желтые закаты, щедро разросшиеся сирени и акации, уснувшие в садах церковки, редкие фигуры грустящих монахов и стариков и семья со всем ее бытом – вот и все…» Интересно то, что за всю жизнь художник, живущий у моря, не написал ни одной картины с его изображением. Один из его учеников, А. Нюренберг, писал: «Костанди первый открыл тонкую и горячую красоту одесского пейзажа. И теперь вся одесская природа как будто носит на себе легкую печать его изумительного глаза, взволнованного сердца. Левитан открыл поэзию северной природы. Костанди – южной».
И снова А. Нюренберг: «О палитре Костанди можно писать целые трактаты. Его краски чисты, ярки, звучны, как краски уральских самоцветных камней. Он хорошо знал законы контрастов цвета и широко пользовался ими. Четкий, уверенный рисунок, деликатный и вместе с тем живой мазок и всегда тонко обработанная поверхность. И прав был Репин, когда, восхищаясь небольшими полотнами Костанди, называл их "бриллиантами". Да, это настоящие, никогда не потухающие бриллианты!..»
К началу 1890-х гг. Костанди занял ведущие позиции в культурной жизни города. В 1890 г. при его активном участии группа художников (Н. Кузнецов, О. Попов, Б. Эдуардас, Г. Ладыженский, М. Скадовский и др.) организовала в Одессе Товарищество южнорусских художников, просуществовавшее 30 лет. В 1892 г. Кириак Константинович стал его председателем и почти 20 лет занимал этот пост, несмотря на то что был сильно загружен педагогической работой в Рисовальной школе. Члены объединения – соратники и ученики художника – единодушно считали его «душой товарищества».
90-е годы оказались для Костанди довольно тяжелыми. Художник жил в постоянной нужде, поскольку картины в Одессе покупали неохотно, а на заказ он почти не рисовал. Ему приходилось, помимо преподавания в Рисовальной школе, давать частные уроки и вести занятия по рисованию в местных гимназиях. В письме И.Е. Репину он жалуется: «Ведь и то немногое, что делаю, приходится выполнять только в летние месяцы. Остальное время приходится бегать с утра до вечера по урокам. Чем дальше, тем бремя это становится более тягостным. Только сильная любовь к природе, солнцу, свету спасает меня от окончательного омертвения». Однако в этот период художник создал свои лучшие произведения, которые экспонировались на передвижных выставках. Его работы были отмечены не только в России, но и за рубежом. Две его картины – «Ранняя весна» и «Старички» – получили медали на всемирных художественных выставках. А в 1907 г. «за искренность на художественном поприще» Костанди был избран академиком Академии художеств.
После революции он стал директором городского художественного музея и взял на себя еще одно направление деятельности, теперь он – эксперт одесской комиссии по охране памятников старины. И по-прежнему продолжает преподавать, работая в должности профессора и будучи руководителем мастерской станковой живописи в реорганизованном художественном училище.
В 1921 г. серьезно ухудшилось состояние здоровья художника – у него было больное сердце, – и он едет в санаторий. Однако лечение уже не смогло ему помочь, и 31 октября 1921 г. Кириака Константиновича не стало.
Костанди воспитал целую плеяду талантливых художников. Среди них были Т. Дворников, П. Нилус, Е. Буковецкий, Г. Головков, Ю. Бершадский и др. – люди, которые сумели до конца своей жизни сохранить любовь к учителю. П. Нилус в 1910 г. писал: «Кириак Костанди – наша художественная совесть». «Для нас, учеников Костанди, имя его – символ не только замечательного художника и великолепного педагога, но и чудесного человека», – так отзывался о нем художник Нюренберг. После смерти Кириака Костанди его ученики и друзья – И.И. Бродский, П.Г. Волокидин, М.Б. Греков, А.А. Шовкуненко и др. – в память о замечательном художнике основали в Одессе общество, носящее его имя. Это была попытка увековечить имя человека, труд которого, по словам И.Е. Репина, «как драгоценный камень, выделялся и ликовал при всей скромности своих размеров и незатейливости сюжетов».
Крамской Иван Николаевич (род. в 1837 г. – ум. в 1887 г.)
Знаменитый русский художник-портретист, теоретик изобразительного искусства, создатель Артели художников (1865 г.), один из организаторов и руководитель Товарищества передвижных выставок (1870 г.), академик живописи. Обладатель почетных наград: серебряной медали за картину «Смертельно раненный Ленский» (1860 г.), золотых медалей за картины «Поход Олега на Царьград» и «Моисей источает воду из скалы» (обе в 1861 г.).
Ф.М. Достоевский проницательно писал: «Каждый из нас чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он описывает, и не было ее вовсе на лице». Это высказывание ярко характеризует творчество И.Н. Крамского, создавшего галерею портретов, запечатлев в них дух своих современников, передав облик эпохи через сотни лиц.
Будущий «бунтарь» и «оригинальный человек» родился в уездном городе Острогожске Воронежской губернии. Иван был внуком и сыном писаря городской управы и сам, даже не окончив школу, был пристроен писарчуком. Бедная хата под соломой, мать с ухватом у печи, долгие вечера уездного захолустья, церковный хор и мечта рисовать – таким он вспоминал свое детство. Приезд в город фотографа Я. Данилевского резко изменил тихое течение этой жизни. Он взял Ивана к себе ретушером. Фотография тогда была несовершенной. Отпечатки получались бледными и нечеткими. И талантливый юноша по фотографической основе «оживлял» лица и фигуры тушью и красками. Вместе с Данилевским в 1856 г. Иван пустился в странствие по городам России и со временем добрался до Петербурга. Здесь он был принят в лучшую столичную фотографию А.И. Деньера. Иногда ему казалось, что всю свою жизнь он проведет безвестным ретушером в модном салоне. Но многочисленные друзья советовали Ивану развивать свои способности, и осенью 1857 г. Крамской был принят в Академию художеств.
Иван был одним из тех молодых людей, которые поступили учиться «от сохи», и поэтому не только получал художественное образование, но и стремительно наверстывал упущенное. Двадцатилетний «вахлак» не просто читал Гегеля, Лессинга, Шопенгауэра, Прудона, Байрона, Гейне, Гомера, Диккенса, но и стал равноправным собеседником Толстому, Стасову, Менделееву, Петрушевскому.
«В 57 году я приехал в Петербург слепым щенком. В 63 году уже настолько подрос, что искренне пожелал свободы, настолько искренне, что готов был употребить все средства, чтобы и другие были свободны». За шесть лет обучения в душе Ивана созрела буря против академических порядков, и он сплотил вокруг себя ватагу. Молодые бунтари, 14 лучших учеников выпуска 1863 г. – К. Маковский, А. Морозов, А. Корзухин, Н. Дмитриев-Ориенбурский, Ф. Журавлев, К. Ленох, А. Литовченко, М. Песков, И. Перов, Н. Шустов, В. Венич, А. Григорьев, В. Крейтан и их организатор И. Крамской – отказались писать заданную картину «Пир в Валгалле» на право получения большой золотой медали и пенсионерской поездки в Италию, требуя свободного выбора тем. Академия отказала им в просьбе. И они дружно покинули ее стены, лишив себя крыши над головой, бесплатных мастерских и материальной поддержки академии. Бунтарей спасла дружба и организаторские способности Ивана Николаевича, объединившего всех в 1865 г. в Артель художников. Это было второе рождение Крамского – рождение художника, для которого, по точному выражению Антокольского, «главное не то, что он сделал в искусстве, а то, что он сделал для искусства».
Цель создания артели, как гласил ее Устав, состояла в объединении творческих усилий для того, чтобы «упрочить и обеспечить свое материальное положение и дать возможность сбывать свои произведения публике, и открыть прием художественных заказов по всем отраслям искусства». Артельщики писали портреты, копии с картин, иконостасы, рисовали для журналов, лепили скульптуры и плафоны. По просьбе профессора Маркова, своего бывшего учителя, Крамской выехал в Москву расписывать купол в храме Христа Спасителя. Это был длительный, утомительный, но хорошо оплачиваемый труд. Из 16 тыс. рублей, полученных за четырехлетнюю работу, Ивану Николаевичу достались 4 тысячи, а остальные он разделил между товарищами. Для него, уже отягощенного семьей, тысяча в год была крохами. Но Устав артели и благо для всех – это святое.
Окончив работу, Крамской возвратился в Петербург, в большой общий дом артельщиков, где скромный уют создала его жена, Софья Николаевна. Иван Николаевич познакомился с ней в 1859 г. в доме своего приятеля-художника, у которого она жила не то содержанкой, не то возлюбленной. Три года понадобилось ему, чтобы поверить, что и она любит его, преодолеть себя, забыть, что в ее жизни был другой мужчина, и взять в жены «падшую» женщину. Это был не жест, не великодушие «правильного» человека, а взвешенное решение: «Я не очарован и не влюблен, а люблю просто и обыкновенно, по-человечески, всеми силами души, и чувствую себя только способным если не на подвиги, то, по крайней мере, на серьезный труд». Крамской написал несколько портретов Софьи Николаевны – в ее глазах надежда и доверие, на лице покой и воля. А артельщик Кошелев на холсте «Урок музыки» (1865 г.) рассказал о счастье их молодой семьи. Иван Николаевич делал все для благополучия и покоя в доме. Софья Николаевна родила дочь и четырех сыновей (двое младших умерли в раннем возрасте) и разделила с мужем его интересы и заботы, взяв на себя все домашнее хозяйство артели.
Но вскоре стало ясно, что союз артельщиков скреплен только идеей и подвижничеством Крамского. Встав на ноги, каждый мог уже обойтись без «ватаги». Почувствовав разброд среди товарищей, Иван Николаевич первым вышел из артели и 2 ноября 1870 г. вступил в Товарищество передвижных выставок, став одним из его организаторов и руководителей. П.М. Третьяков говорил, что «Крамской немыслим в одиночестве», он просто считал себя обязанным действовать на благо других. Титаническая работа была проделана им, Н. Ге, Г. Мясоедовым по разработке и осуществлению демократической программы развития художественного творчества. Свобода и независимость товарищества были направлены на просвещение и пропаганду достижений в области искусства. Крамской принимал активное участие в привлечении художников в товарищество, в подготовке и проведении выставок по всей России, помогал творческой молодежи в период становления. Организация гарантировала передвижникам успешную продажу их произведений и получение доходов от выставок. И при такой общественной загруженности Крамской успел создать сотни прекрасных полотен.
На Первой передвижной выставке художник представил полотно «Русалки. Майская ночь» (1871 г.), созданное под впечатлением от повести Н.В. Гоголя. Картина получилась неудачной: объективная правдивость ее пейзажа и натуры разрушила поэтическое настроение замысла. Изображение природы и большие композиции всегда будут слабым звеном в творчестве Крамского. Но картина «Христос в пустыне» (1872 г.) стала событием Второй выставки передвижников. Здесь художник поверил своему воображению и воссоздал «навязчиво встававший перед ним образ Христа». Нужны были и пять лет напряженного труда, и поездка в Европу, чтобы увидеть, что сделано до него, и встреча с крестьянином Строгановым, чтобы «свет на лице появился, чтобы душу нарисовать». Крамской придал картине характер монументального произведения: большой размер, устойчивость композиции, затемненность фигуры на фоне предрассветного неба – все подчеркивало внутреннее движение души и мысли, «в смиренной простоте» раскрывало «истинное величие и силу». «Я написал своего собственного Христа», – скажет о своей работе Крамской. Его Христос до конца живой и подлинно большой человек, изнемогающий под бременем задачи выше человеческих сил, думающий о будущей судьбе мира.
Вслед за «Христом в пустыне» художник в 1877 г. приступил к ее смысловому продолжению. Если на первом полотне Христос стоял перед выбором, то в картине «Хохот» («Христос осмеянный») Крамской хотел изобразить его человеком, нашедшим решение, как сделать людей счастливыми, но в благодарность получил лишь насмешки и непонимание. Выстраданная художником идея картины оказалась ему не по силам. Сложная многофигурная композиция напоминала сцену из оперы. Но «Хохот» преследовал Крамского до последних дней жизни как символ не воплотившихся замыслов.
Жанровые картины «Осмотр старого барского дома» (1873 г.), «Лунная ночь» (1880 г.), «Деревенская кузница» (1874 г.) по своему замыслу были намного выше исполнительского мастерства, оставаясь какими-то театральными. И только полотно «Неутешное горе» зазвучало в полную силу. Горе матери, потерявшей ребенка, было близко сердцу художника, ведь они с женой похоронили двух младших сыновей. В картине Крамской сумел найти наиболее убедительные в своей простоте черты, выразившие чувство вечной скорби матери. Даже при обилии деталей в интерьере «не потерялось» лицо героини, ее руки, судорожно прижавшие платок к губам, опухшие покрасневшие веки и отсутствующий взгляд. И это, скорее, не жанровая картина, а большой портрет.
«Я любил и люблю человеческую физиономию», – говорил Крамской, «невольник-портретист», как он сам себя называл. Его овальный «Автопортрет» (1867 г.) овеян романтикой борьбы, в глазах горит внутренний огонь, манит и зовет за собой. Это изображение уверенного в своем предназначении человека. Репин вспоминал: «Крамского я представлял иначе… Так вот он какой! Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся… Какое серьезное лицо!» Даже в себя самого художник вглядывался, чтобы уловить «главную мысль лица». Глаза с «Автопортрета» (1874 г.) придают лицу драматическое выражение, взгляд отчаян и трагичен, пугает неподвижной сосредоточенностью мысли о том, что жизнь проносится мимо, а он, «человек-идеалист», теряет надежду что-либо изменить в ней. Звание лучшего художника-портретиста тяготеет над ним, и он не рад своему таланту, так как все его творческие силы уходят на выполнение заказов. Ведь Крамской любому труду отдавал частицу себя.
«Для меня портрет менее всего "посадил – написал": для меня портрет – мысли мучительные и заветные, боль душевная, стремление осознать мир и время, в которых человек живет, я полжизни своей должен положить в этот портрет», – рассказывал художник о своей работе. Не потому ли известные люди за честь почитали позировать Крамскому? Именно к Ивану Николаевичу обратился П.М. Третьяков с просьбой помочь собрать для общества лучшие творения отечественной живописи и создать серию портретов выдающихся русских деятелей. Третьяков точно знал, что такой «заказ» не может оставить равнодушным Крамского, первоклассного портретиста, способного воссоздать портрет личности даже по фотографии и воспоминаниям. Такими стали знаменитые портреты Т.Г. Шевченко в смушевой шубе и шапке и Грибоедова, написанный с небольшой акварели и по воспоминаниям старого актера Каратыгина.
Среди лучших работ, написанных с натуры, – портрет Л.Н. Толстого (1873 г.). Крамской выполнял одновременно два портрета (по заказу Третьякова и самого писателя), установив мольберты в разных точках зала. «Все те высокие и своеобразные элементы, которые образуют личность графа Толстого: оригинальность, глубина ума, феноменальная сила творческого дара, доброта, простота, непреклонность воли – все это с великим талантом нарисовано Крамским на лице графа Толстого», – скажет о портрете Стасов. Писатель и художник понравились друг другу, нашли общие точки соприкосновения, и может быть, поэтому оба портрета были написаны на одном дыхании, получились «честными», с «огнем», очень похожими и в то же время разными. Это не копии, а самостоятельные работы, а вот художник Михайлов из романа «Анна Каренина» получился у Толстого просто копией Крамского.
Приступив к портрету Д. Григоровича (1876 г.), художник почувствовал, как быстро «расползается» внешний образ. Сквозь изящество манер, мягкие, холеные аристократические черты веселого барина, хлопотуна, благотворителя проступили не скрывшиеся от взгляда мастера ненадежность и позерство писателя, пережившего свой талант.
Два года потребовалось Крамскому для создания знаменитого портрета М. Салтыкова-Щедрина (1879 г.). Монументальная фигура, неподвижная, словно сдерживаемая изнутри, суровое сосредоточенное лицо, открытый ясный лоб, скорбный отрешенный взгляд раскрыли зрителю извечную трагедию писателя-сатирика, трагедию любви к человеку и великой боли за него.
Широко известны три портрета художника И. Шишкина, с которым Иван Николаевич был очень дружен. Они стали лучшими изображениями «дедушки-лесовика».
Для П.М. Третьякова Крамской создал целую портретную галерею деятелей культуры, науки и искусства. Среди них портреты: И. Гончарова (1874 г.), Я. Полонского (1875 г.), П. Мельникова-Печерского (1876 г.), С. Аксакова (1877 г.), Ф. Васильева (1871 г.), М. Дьяконова (1875 г.), В. Верещагина (1883 г.), А. Деньера (1883 г.), А. Суворина (1881 г.), С. Боткина (1880 г.) и самого заказчика (1876 г.). А всего в художественном наследии Крамского более 430 портретов современников. Иван Николаевич постоянно мучился сознанием того, что он «заказной художник», воспринимал такую работу как крушение своего творчества, гибель таланта. И тут же сам признавался, что он не просто «снимает копию» с лица, но пропускает через свое сердце «симпатии и антипатии» к людям. Не потому ли художник так и не смог написать портрет И. Тургенева, не найдя с ним ни одной точки соприкосновения. Зато портреты Некрасова стали одними из его лучших работ.
«Ведь нужно быть чертом или Крамским, – говорил Ф. Васильев, – чтобы суметь создать классический портрет поэта одновременно с портретом «Некрасов в период "Последних песен"» (1877 г.). Художник сумел соединить внешнюю изнеможенность и физическое страдание с внутренней духовной силой. А умирающий поэт помог изгнать на какое-то время из его мозга «понравившуюся ему мысль умереть». Некрасовские строки «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом» стали болезненно близки художнику, особенно после многочисленных высказываний о том, что он «более нужен для искусства, чем в искусстве». Усталость и отчаяние наваливались на Крамского от сознания, что на очереди новый портрет, новый заказчик. Он устал писать лица царя, наследников престола, великих княгинь, надрываться, пропуская через свою душу их безликость. Но эти «генеральские» и салонные портреты были так же нужны для отражения сути эпохи, как и лица крестьян, с такой теплотой написанные художником. Гнетущая обреченность, мужицкая трагедия в глазах старика украинца (1871 г.); светлый образ пасечника; дородный мельник с пронзительным взглядом ухватистого человека; все знающий о жизни бунтарь-полесовщик (1874 г.); думающий свои горькие думы крестьянин Пирогов (стал иллюстрацией к «Парадному подъезду» Некрасова); пытливое улыбающееся лицо и жесткий взгляд «Мины Моисеева» (1873 г.) – так и остались самостоятельными самобытными портретами к еще одному неосуществленному замыслу Крамского о «крестьянском сходе». Большая картина так и не будет написана и, как «Хохот», станет для него неоплаченным долгом перед своей совестью художника и гражданина.
Особняком среди портретной галереи стоит легендарная «Неизвестная» (1883 г.). Ее сопоставляли с Анной Карениной, с Незнакомкой Блока, но в том, что это «кокотка», не сомневался никто. Властная, манящая и какая-то опустошенная красота женщины, низведенной до уровня шикарной вещи, больше привораживает взгляд своей презрительностью и непроницаемостью, отстраненностью от окружающей ее жизни.
Сам же художник, несмотря на трудности, «честно бился всю жизнь и устал вот только под конец». Мысль, что «девять десятых жизни» он должен был «делать против желания», иссушила его. Его художественные идеалы остались прежними, как и потребность в общении и непрерывном труде. Однако физическое состояние не позволяло строить планы относительно своего творчества. Но «за все русское искусство я спокоен, – говорил Крамской. – Я знаю, что оно рано или поздно завоюет уважение широкое». Превозмогая чудовищный кашель и сердечную боль, накачивая себя морфием, художник трудился до последней своей минуты, создавая портрет доктора К. Раухфуса. 25 марта 1887 г. он скончался, упав у мольберта.
В статье, посвященной памяти Ивана Николаевича Крамского, его друг и ученик И. Репин писал: «…могучий человек; выбившийся из ничтожества и грязи захолустья, без гроша и посторонней помощи, с одними идеальными стремлениями… Достоин ты национального монумента, русский гражданин и художник!»
Кричевский Федор Григорьевич (род. в 1879 г. – ум. в 1947 г.)
Украинский художник, заслуженный деятель искусств УССР (1940 г.), мастер жанровой и портретной живописи. Первый в Украине доктор искусствоведения. Работам Кричевского свойственны эпичность, широкая, живописная манера письма, монументализация формы и богатая цветовая гамма. Наиболее известные произведения: «Невеста» (1910 г.), триптих «Жизнь» (1925-1927 гг.), «Победители Врангеля» (1934 г.), «Веселые доярки» (1937 г.), «Цветущая Украина» (1938-1939 гг.).
В созвездии выдающихся творцов украинского художественного искусства XX ст. Федору Кричевскому принадлежит одно из главных мест. Замечательный и самобытный мастер, он сделал немало для развития жанровой и портретной живописи Украины. Свой творческий путь Федор Кричевский начал на стыке двух столетий, во времена сложные и бурные, когда борьба всевозможных художественных направлений была особенно острой. Но Кричевский, подобно таким мастерам, как А. Архипов, Б. Кустодиев, З. Серебрякова, которым всегда была близка тема народных обычаев и традиций, сумел найти свой путь в искусстве. Он был не просто иллюстратором народного быта, хотя, создавая картины, стремился и к этнографическому правдоподобию, и к национальному колориту. Художник «своего времени», он придавал народной теме монументальный размах и значительность, определяя тем самым ее эпический характер.
Истоки творчества Федора Кричевского, которому столь мила была народная тема, берут свое начало в поэтической стране детства, полной ярких и незабываемых впечатлений. Родился будущий художник 10 (22) мая 1879 г. в небольшом городке Лебедин на Харьковщине (ныне Сумская обл.), в семье земского фельдшера. Детство его прошло в живописном селе Ворожба, где царил колоритный народный быт среди удивительной по своей красоте природы. Художественные способности, которые проявились у Федора очень рано, раскрывались очень разнообразно. Мальчик постоянно что-нибудь рисовал, лепил из глины и теста и даже вязал и вышивал. Одним словом, чем бы ни занимался будущий живописец, его одаренная натура проявлялась во всем. Но родители Федора, жившие довольно скромно, не могли дать сыну возможность развивать свои способности. К счастью, способным мальчиком заинтересовался граф В.А. Капнист. Потомок известного российского поэта В.В. Капниста, он был человеком очень образованным, занимался историей, археологией и искусством. В графском имении, в селе Михайловка, имелась великолепная коллекция живописи и графики западно-европейских и отечественных мастеров. Для Федора Кричевского, который часто бывал там, эти полотна стали источником первых художественных знаний и впечатлений. Граф Капнист позволял юноше пользоваться библиотекой, делать копии с альбомов и картин.
В 1895 г., когда решение учиться живописи было принято окончательно, 17-летний Федор Кричевский отправился в Москву. Однако его сразу же постигла неудача: в Училище живописи, ваяния и зодчества, куда он хотел поступить, закончился прием документов. Отчаявшемуся юноше помог случай: работы, которые он привез с собой, попались на глаза старшему преподавателю училища К. Савицкому. Картины и рисунки произвели такое впечатление на опытного преподавателя, что он не мог остаться безучастным к судьбе талантливого юноши. Педагог поселил Федора в своем доме и в течение года готовил к поступлению в училище. Осенью 1896 г. Кричевский успешно сдал вступительные экзамены и стал учеником К. Савицкого. Московское училище живописи, славившееся своими демократическими и передвижническими традициями, переживало в это время подъем, связанный с приходом новых преподавателей – В. Серова, А. Архипова, Л. Пастернака. Обучаясь под руководством таких видных мастеров, Кричевский делал первые настоящие успехи в живописи. За некоторые из своих академических работ он был награжден медалями. Уже в этих ранних произведениях наметилась основная тематика творчества художника, которой он будет верен всегда: портретные образы украинских крестьян, бытовые сюжеты, пейзажи.
В 1901 г. Кричевский закончил училище и осуществил свое первое путешествие за границу, в Лондон, куда его послали зарисовывать празднества по случаю коронации Эдуарда VII. С огромным интересом знакомился художник с богатейшими коллекциями лондонских музеев и галерей. Особое впечатление произвели на него картины прославленного портретиста Д. Уистлера.
Вернувшись на родину, Федор Кричевский решил продолжить художественное образование и поступил в Петербургскую академию художеств. Однако из-за болезни и материальных трудностей на некоторое время был вынужден оставить учебу. Перерыв в учебе, который растянулся на годы, художник до краев заполнил работой. Он очень много рисовал, писал с натуры, постепенно вырабатывая свою собственную живописную манеру. В то время Кричевский создавал преимущественно портреты, в которых черты его стиля уже достаточно заметны («Портрет Л. Старицкой в зеленом платье», «Головка девочки в платочке» (оба 1906-1907 гг.). В 1907 г. он возобновил учебу в академии, где его учителем стал известный баталист, замечательный живописец Ф. Рубо (автор известной панорамы «Оборона Севастополя»). Во время учебы с огромной пользой для себя Кричевский посещал скульптурную мастерскую проф. В. Беклемишева; изучал технику офорта у такого великого мастера, как В. Матэ. Период учебы молодой художник завершил двумя полотнами, выставленными на академический конкурс, – «Погребение» и «Невеста». Последняя из картин – это уже вполне зрелое произведение, которое по сути стало художественной программой Федора Кричевского. Воплотив традиционный сюжет из народного свадебного обряда, художник изобразил героинь полотна – молодых украинских девушек, – исполненными чувством внутреннего достоинства, сильными духом и прекрасными не только внешне, но и душевно. Кричевского всегда вдохновляли сохранившиеся издревле народные обычаи, традиции, красота родной природы и, конечно, жизнелюбивые и самобытные земляки-современники. Местом постоянных и щедрых впечатлений в этом отношении стало для художника село Шишаки на Полтавщине. Здесь, в одном из красивейших и живописных мест Украины, он жил и творил многие годы. Здесь им были задуманы и созданы лучшие произведения. Связь Кричевского с этим краем никогда не прерывалась, и где бы он впоследствии ни был, в мыслях всегда возвращался в свои «пенаты».
По окончании Академии художеств живописец снова получил право на заграничную поездку. Он посетил Париж, Берлин, Мюнхен, Рим, Венецию, Геную, Турин. Дольше всего Кричевский пробыл в Италии, где по-настоящему ощутил могучую силу творений великих мастеров Возрождения. Полный новых незабываемых впечатлений, он написал там картины «Старый город во Флоренции» и «Беатриче». Вернувшись на родину, художник получил место преподавателя в Киевском художественном училище, а вскоре был назначен его директором. Так началась плодотворная педагогическая деятельность мастера, которой он посвятил более 30 лет жизни. Школу Кричевского прошло несколько поколений выдающихся мастеров украинской живописи – Т. Яблонская, С. Кириченко, Е. Волобуев, А. Петрицкий и многие другие. Живописец с потрясающим чувством цвета, Федор Григорьевич не любил вялой, серой и невыразительной живописи и всегда учил своих учеников видеть цвет в природе, находить множество цветовых нюансов и при этом избегать излишней декоративности. «Не нарушайте главного принципа живописи – гармонии», – часто говорил он. Самому же Кричевскому смолоду было присуще умение не только соблюдать гармонию, создавая картины, но и оставаться гармоничным в своем творчестве. Даже в сложной обстановке 1910-х гг., когда на Украине, как и в России, произошло резкое размежевание противоположных художественных сил и нужно было определять свои взгляды и вкусы в искусстве, он сумел постепенно выработать собственную позицию. В те годы одно за другим возникали новые течения и направления, в которых главную роль играли художники-модернисты. Не поддаваясь кратковременным увлечениям и влияниям, Кричевский вместе с тем внимательно присматривался ко всему новому. В своих поисках он опирался на традиции народного искусства. Взгляды художника формировались также под влиянием связей с близкими ему своими программами художественными объединениями – Товариществом украинских деятелей и Товариществом киевских художников. И все же путь живописца в поисках собственного стиля не был простым и ровным. В одних работах он ограничивался монохромной живописью, в других, напротив, стремился к ее декоративной звучности. Представления об этих исканиях дают многие работы тех лет – «Портрет мальчика» (1910 г.), «Портрет жены» (1910 г.), «Портрет Л. Старицкой на золотом фоне» (1914 г.), «Три возраста» (1913 г.) и др.
После Октябрьской революции 1917 г., когда началась реорганизация высшей художественной школы, Кричевский принял активное участие в основании своего любимого детища – Киевского художественного института. Он возглавил в нем живописный факультет, параллельно руководя мастерской станковой живописи. При активном участии Федора Григорьевича было также создано художественное объединение АХКУ (Ассоциация художников Красной Украины), председателем которого он и стал. В творческой жизни художника тоже произошли существенные изменения. В те годы стремление к монументальным формам искусства стало особенно популярным, и Кричевский не остался в стороне от запросов времени. Правда, он практически не принимал участия в получившем распространение художественном оформлении общественных зданий, улиц и площадей, но многие из его работ тех лет приближались к стенописи («Комсомолка», «Мальчик с птичкой» и др.). Свои картины, в которых художник отдает предпочтение плоским и линейным формам, он пишет теперь темперой, часто используя как материал гладкие доски.
Но наиболее значительные художественные достижения тех лет сконцентрированы в триптихе «Жизнь» (1925-1927 гг.). Все три его части – «Любовь», «Семья», «Возвращение» – обобщают жизненный путь украинской крестьянской семьи со всеми ее радостями и печалями, как бы символизирующими извечные этапы человеческой жизни вообще. Не случайно в 1928 г. на Международной выставке биеннале в Венеции композиция триптиха «Семья» была единогласно признана «фаворитом» украинского отдела.
Несмотря на смелые творческие эксперименты, Кричевского часто обвиняли в «отсталости» и «консерватизме». Но художник не менял своих взглядов, доказывая правомерность того, во что верил и считал основой настоящего искусства. В художественном институте, где он работал, и в АХКУ, которой руководил, полемика на этот счет была настолько острой, что в 1929 г. Кричевский вышел из состава организации и создал новую – УИО (Украинское искусствоведческое объединение). А в начале 1930-х гг. Федор Григорьевич уехал из Киева и перешел в Харьковский художественный институт. Невзирая на трудности, он писал новые картины, в которых его талант раскрылся еще более ярко. Все, кому довелось увидеть большое историческое полотно художника «Довбуш», написанное в 1932 г., говорили, что это – лучшее произведение мастера. Историческим событиям в картине, воссоздающей эпизод освободительной борьбы опришков в XVII в. под руководством легендарного Олексы Довбуша, он придает значение народного эпоса. К сожалению, это полотно, хранившееся в Харьковском художественном музее, погибло во время Великой Отечественной войны.
Большое место в творчестве художника в 1930-е гг. занимает и современность. «Всюду кипит, расцветает новая жизнь, – говорил Ф. Кричевский. – Она дает нам могучее вдохновение, она вооружает нас на работу над произведениями, которые могут быть достойны нашей героической эпохи». Многие тематические картины тех лет («Веселые доярки», 1937 г.; «Цветущая Украина», 1938-1939 гг.; «Праздник колхозного урожая», конец 1930-х-начало 1940-х гг.) оптимистично и бодро, в полном согласии с идеологией Советского государства, отображают жизнь простых украинцев. Но эти работы, передающие ощущение светлой радости, красоты молодости и полноты жизни, нельзя считать «конъюнктурными», сделанными «на заказ». В них столько колорита и выразительности, что, видя их, понимаешь – художник рисовал согласно своему радостному мироощущению, искренне веря в силу и красоту окружающей его действительности.
На протяжении всей жизни Ф. Кричевский творил свой мир людских образов, частичкой которого был и он сам. Часто эти образы мастер воплощал в портретах, составляющих целую галерею в его творчестве. Как портретист Кричевский проявил себя, еще будучи учеником. На формирование его портретного стиля повлияли такие мастера, как Д. Уистлер и Ф. Ходлер. Большое значение имели для художника и традиции старинного украинского портрета XVII – XVIII вв. В портрете, как и во всем творчестве, Кричевский стремился создать представление о современнике, причем не обобщенное, а с позиции человеческой индивидуальности. Больше всего в людях художник ценил собранность, цельность натуры, силу духа. Такими он изображает героев своих произведений – Л. Морозову, жену Н. Кричевскую, профессора Г. Павлуцкого. Таким, видимо, был и сам мастер, которому была чужда «внутренняя рефлексия».
В 30-е гг. авторитет Ф. Кричевского в мире искусства был очень велик. Живописец был назначен заместителем председателя Союза художников Украины, затем членом Президиума Союза художников СССР. Его приглашали всюду, где были необходимы его опыт и талант. В 1933 г. Кричевский выступил в необычной для себя роли театрального художника, оформив спектакль «Тарас Бульба» для Харьковского театра оперы и балета. Затем он заявил о себе как скульптор, приняв участие в конкурсе на создание памятника Т.Г. Шевченко для Харькова. Проект получил одну из первых премий жюри конкурса, но воплощен не был. В 1940 г. вместе со своими студентами Кричевский побывал в Прикарпатье – на родине своего любимого героя Олексы Довбуша. Здесь он задумал создать картину «Гуцульская свадьба», в которой хотел раскрыть самобытность жителей Прикарпатья и их народных обычаев. Но осуществить этот замысел художнику не удалось – началась Великая Отечественная война. После войны, уже будучи тяжело больным, живописец написал полотно «Молотьба», сделал эскизы к картине «На новостройке», но было ясно, что силы его на исходе – неизлечимая болезнь приближала последнее мгновение. 30 июля 1947 г. жизнь Федора Кричевского оборвалась.
Куинджи Архип Иванович (род. в 1841 г. – ум. в 1910 г.)
Известный русский художник-пейзажист, автор более 500 картин и рисунков. Член Товарищества передвижных выставок (с 1815 г.), профессор Петербургской академии художеств, руководитель пейзажной мастерской (с 1894 по 1897 г.).
…Летом и осенью 1880 г. Куинджи работал над новой картиной. По городу прошел слух о ее необыкновенной красоте. Под любым предлогом друзья и знакомые художника пытались «одним глазом» взглянуть на это «чудо». По воскресеньям на два часа открывал Архип Иванович желающим двери мастерской, и петербургская публика шла валом.
О картине «Лунная ночь на Днепре» сочиняли целые легенды. Мастерскую Куинджи посетили И.С. Тургенев и поэт Я.П. Полонский, великий химик Д.И. Менделеев, известные к тому времени художники И.Н. Крамской и П.П. Чистяков. К картине приценивался издатель и коллекционер К.Т. Солдатенков. Прямо в мастерской, еще до выставки, «Лунную ночь на Днепре» за огромные деньги купил великий князь Константин Константинович и, по свидетельству Тургенева, не расставался с полотном, даже отправляясь в кругосветные путешествия.
А затем открылась необычная экспозиция (подобных еще не было в России) – выставка одного живописца и одной картины. «Лунная ночь на Днепре» была размещена для обозрения в Обществе поощрения художеств. Успех превзошел все ожидания – выставка стала крупным общественным событием в жизни Петербурга. Слух о ней прошел по всей России. Стремясь увидеть необычное полотно, люди выстраивались в длинные очереди, часами ждали на улице. «Какую бурю восторгов поднял Куинджи, – писал И.Н. Крамской И.Е. Репину. – Вы, вероятно, уже слышали. Этакий молодец – прелесть!»
От картины действительно невозможно было оторваться. Широкое уходящее вдаль пространство. Зеленоватая лента реки почти сливается на горизонте с облачным небом. Но вот облака разошлись и выглянула луна, осветив Днепр, хатки и сбегающие к реке тропинки. Все в природе притихло, завороженное сиянием неба и днепровских вод. Таинственный фосфоресцирующий свет, исходящий из лунного диска, был настолько насыщен, что некоторые из зрителей пытались заглянуть за картину в надежде увидеть его источник – фонарь или лампу. Но там ничего не было, а луна продолжала излучать свой волшебный свет. Тишина и величие… И поневоле приходили раздумья о гармонии и красоте мира.
Высказывались даже предположения о каких-то необычных красках и странных художественных приемах, которые якобы использовал художник. Некоторые пытались уличить его в фокусах, даже в связи с нечистой силой. На самом же деле секрет заключался в замечательных человеческих качествах художника: его трогательной любви к природе, откровенности и прямоте, неуемной творческой фантазии, настойчивых поисках новых технических решений, необыкновенной трудоспособности.
Работая над «Лунной ночью…», Куинджи стремился создать иллюзию реального ночного освещения широкого пространства. И справился с этой задачей блестяще. Для ее решения художник применил сложный живописный прием. Теплый красноватый тон земли он противопоставил холодным оттенкам воды и тем самым углубил пространство, а мелкими темными мазками в освещенных местах создал ощущение вибрирующего света.
Все газеты и журналы Петербурга восторженно откликнулись на показ картины. Тысячами экземпляров пресса разошлась по всей России. Публику приводила в восторг иллюзия натурального лунного света, и люди, по словам Репина, в «молитвенной тишине стоявшие перед полотном А.И. Куинджи, уходили из зала со слезами на глазах».
Успех «Лунной ночи…» не был случайным. Несколькими годами ранее, на Пятой передвижной выставке, Куинджи показал «Украинскую ночь». В ней все было построено на разработке тональных отношений, богатстве цветовых сочетаний. В 1878 г. это полотно экспонировалось на Всемирной выставке в Париже. Здесь некоторые «знатоки» искусства пытались сравнивать Куинджи с французскими импрессионистами. Но это оказалось пустым занятием. Творчество русского романтика было полностью оригинально и своеобразно. Он ничего не придумывал и не изобретал – шел от реально существующего явления, натуры. А чтобы сохранить достоверность на полотне, прибегал к неожиданным контрастам, увиденным пристальным оком художника у той же самой Матушки Природы. «Куинджи, – писала французская критика, – бесспорно самый «интересный» между молодыми русскими живописцами. Оригинальная национальность чувствуется у него еще больше, чем у других».
Сам Куинджи считал себя русским. Но его большому доброму сердцу в одинаковой степени были доступны чувства русского и украинца, татарина и грека – человека любой другой национальности. Он родился в Малороссии, на окраине Мариуполя в семье бедного сапожника – грека Еменджи. Фамилия Куинджи была дана Архипу по прозвищу деда, что по-татарски означает «золотых дел мастер». Рано осиротев, мальчик жил у родственников, но на хлеб себе зарабатывал сам: прислуживал у торговца, заменял подрядчика на постройке церкви, работал ретушером у фотографа.
Грамоте мальчик научился у знакомого учителя-грека, а потом ходил в городскую школу. И рисовал… на стенах домов, заборах, обрывках упаковочного картона. Иногда удавалось получить заказ. Сохранился, к примеру, написанный им в юные годы портрет купца Шаповалова, дочь которого, Вера, впоследствии стала женой художника.
Узнав, что знаменитый маринист Айвазовский живет неподалеку, в Феодосии, Архип отправился учиться к нему, но к тому времени тот уже покинул Крым. Встреча не состоялась. И юноша решил добираться в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств.
Он дважды держал экзамены – и оба раза неудачно. Тогда упрямый грек решился выступить самостоятельно на академической выставке с картиной «Татарская сакля». За эту работу совет академии признал Куинджи достойным звания неклассного художника, а в том же 1863 г. он был принят в академию вольнослушателем.
Куинджи сразу же ушел с головой в атмосферу художественной жизни. Он подружился с И. Репиным и В. Васнецовым, познакомился с И. Крамским, идеологом передвижников. Молодого провинциала поражало своим многообразием творчество Сурикова, Ярошенко, Маковского, Савицкого, Верещагина, Васнецова, Поленова. Но, восхищаясь их талантом, Куинджи, которому уже исполнилось двадцать шесть лет, понимал, что ему необходимо искать свой путь в живописи. Будучи от природы человеком прямым и правдивым, он быстро завоевал признание новых друзей и учителей, покоряя своими независимыми суждениями, оригинальной самобытностью дарования, неуемной трудоспособностью. В 1875 г. он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок.
В этом же году Куинджи обвенчался с купеческой дочерью, гречанкой Верой Кетчерджи-Шаповаловой. Вместе они отправились в свадебное путешествие на остров Валаам. Стояла осень. Когда они плыли по Ладожскому озеру, поднялась буря, пароход напоролся на камень, и молодые еле успели спастись на лодке. Краски, кисточки и все принадлежности утонули, зато пережитые впечатления послужили позже прекрасным вспомогательным материалом при создании картины «Север». Вместе с двумя другими («После грозы», «Березовая роща») она составила трилогию – итог размышлений, раздумий автора о величественной красоте суровой природы – и была представлена на очередной выставке передвижников. Наибольший успех пришелся на долю «Березовой рощи». Толпы людей простаивали у картины, любуясь ее выразительностью, композицией, насыщенностью солнцем, ослепительной яркостью зеленой поляны.
Поэзия и красота природы южной и средней полосы России были милее всего сердцу художника. И он сумел замечательно выразить их в большинстве своих полотен: «Степь вечером», «Степь в цвету», «Чумацкий тракт в Мариуполе», «Днепр утром» и др. Публика и критика неизменно проявляли интерес ко всем работам Куинджи, но после «Лунной ночи на Днепре» ни одно из его полотен уже не вызвало такой бури восторга. И художник «замолчал».
После 1882 г. он не только не устроил ни одной выставки, но не показывал новых работ даже своим друзьям. Все упиралось в обостренное чувство ответственности, свойственное Куинджи. Он понимал, что для новых художественных открытий необходимо углубленное творческое экспериментирование в мастерской. И окунулся в работу: писал этюды на натуре и в закрытом помещении, делал опыты всевозможных сочетаний красок, разрабатывал решения разных мотивов, искал новые сюжеты для больших полотен… Эксперимент затянулся более чем на двадцать лет. На новую прижизненную выставку своих произведений Куинджи так и не решился. Его последним произведением стала картина «Ночное», которая была полна величавой и торжественной красоты. В ней и в ряде незаконченных полотен («Крым», «Облако», «Туман на море») художник пришел к философскому осмыслению природы.
Творческое наследие А.И. Куинджи – а это более пятисот больших и маленьких полотен, выполненных маслом, многочисленных рисунков (карандаш, уголь, тушь), – к сожалению, до сих пор мало изучено. Не исследована и экспериментальная деятельность художника последних лет, когда поиски новых проявлений световых эффектов позволяли ему открывать в природе новые, еще никем до него не использованные мотивы и сюжеты.
Не менее интересной и важной страницей биографии художника была и преподавательская деятельность в Академии художеств, куда А.И. Куинджи, теперь уже профессор, был принят в 1894 г. в качестве руководителя пейзажной мастерской. Это произошло после того, как в состав преподавателей вошли И.Е. Репин, И.И. Шишкин, В.Е. Маковский. Преподавание Куинджи, как и все, что он делал, было талантливо и оригинально. Ученики буквально обожали учителя. С седеющими кудрями, вьющейся бородой, он чем-то напоминал доброго Зевса. В каждом из них Архип Иванович видел прежде всего индивидуальность и всячески старался исключить какое бы то ни было подражание. Достаточно назвать некоторых из воспитанников Куинджи, чтобы судить о его педагогическом мастерстве: А. Рылов, Н. Рерих, К. Богаевский, А. Борисов, В. Пурвит и многие другие.
К сожалению, существование мастерской Куинджи было непродолжительным. В 1897 г. в академии вспыхнули студенческие волнения. Куинджи, который всегда вставал на защиту справедливости, поддержал студентов, за что был заключен на два дня под домашний арест и отстранен от преподавания. Эти события вызвали возмущение прогрессивной интеллигенции. А Куинджи продолжал заниматься со своими учениками (теперь уже частным образом) и даже устраивал им за свой счет стажировку за границей. Когда студенты задумали создать Общество имени А.И. Куинджи, художник передал в его собственность все свои картины и денежные средства, а также принадлежавшие ему земли в Крыму.
В последние годы жизни Архип Иванович тяжело болел. 11 июля 1910 г. его не стало. За гробом на Смоленское кладбище шла большая толпа. В ней можно было увидеть не только живописцев и деятелей культуры, но и безвестных простых людей, которым А.И. Куинджи был дорог и как художник, и как благородный, добрый человек большой души.
Кульчицкая Елена Львовна (род. в 1877 г. – ум. в 1967 г.)
Известный украинский график, народный художник Украины, прекрасный иллюстратор и выдающийся мастер декоративно-прикладного искусства. Ее художественное наследие – это более 400 работ, выполненных в самых разных жанрах. На ее родине, во Львове, с 1971 г. действует художественно-мемориальный музей Кульчицкой, а одна из улиц носит ее имя.
Елена Львовна Кульчицкая родилась 15 сентября 1877 г. в Бережанах, одном из живописных уголков Гуцульщины. Ее отец, местный судья, был человеком образованным и не чуждым чувства прекрасного. Именно он впервые ввел дочь в яркий мир изобразительного искусства, дал ей первые уроки живописи. Умение видеть красоту проснулось в девочке довольно рано. И не случайно: природа родной земли, своеобразная архитектура, поэтика народных песен и сказок будили ее фантазию, заставляли чутко всматриваться и вслушиваться в окружающий мир. Наверное, именно в детстве зародилась та особенность творчества Елены Кульчицкой, которая удивляла и продолжает удивлять всех исследователей ее художественного наследия: способность работать практически с любым материалом. Она занималась и живописью, и графикой, и народными ремеслами, находя в каждой из техник нечто особенное и создавая настоящие шедевры.
Безусловная одаренность Елены требовала огранки. Ей было необходимо художественное образование. Поначалу она занималась с инспектором средних школ Стефановичем, но довольно быстро усвоила все, чему он мог ее научить. Следующим шагом на пути к творчеству стало обучение в студии Р. Братковского и С. Качора-Батовского во Львове (1901-1903 гг.). Следующие четыре года, с 1903 по 1907 г., Кульчицкая провела в Венеции, в Художественно-промышленной школе. Затем по примеру многих художников того времени отправилась в путешествие по Западной Европе. Она побывала в Мюнхене, Париже, Лондоне. Все это дало ей возможность познакомиться с творчеством выдающихся европейских мастеров и в полной мере освоить профессиональные навыки.
Нередко бывает так, что первые работы молодых художников после обучения находятся под сильным влиянием их кумиров. Однако Елена Кульчицкая, вернувшись на Украину, сразу же нашла и свой стиль, и тематику, которой оставалась верна до конца жизни. Большинство ее работ было тесно связано с Гуцульщиной, с ее прошлым и настоящим, с ее традициями и фольклором. Поначалу Кульчицкая жила в Косове на Гуцульщине, позже переехала во Львов. Именно во Львове в 1909 г. были выставлены первые работы художницы. Среди них были и жанровые композиции «Жнива» («Жатва»), «Дети со свечками», и портреты, и многочисленные пейзажи, и натюрморты. Среди экспонатов выставки было также несколько эмалей – некогда традиционной для Украины техники, к которой Елена Львовна позже возвращалась не раз. Имя Кульчицкой сразу же стало известным, ее работы называли необычайно талантливыми. В украинской художественной среде того времени еще не было случая, чтобы женщина добилась такого успеха.
Во Львове Кульчицкая пробыла недолго. Некоторое время она давала уроки живописи, но вскоре переехала в Перемышль, где ей предложили постоянную работу в гимназии. На этом месте, в должности учителя рисования, она проработала без малого тридцать лет (1910-1938 гг.).
В 1912 г. Елена Кульчицкая впервые приняла участие в Киевской украинской художественной выставке. Офорты «При лампе», «У колодца», циклы «История княжеских времен» и «Украинские писатели» стали событием для украинского искусства. Не уступая европейским образцам, эти работы в то же время были глубоко народными, обладали ярко выраженным национальным колоритом.
Во время Первой мировой войны художница не смогла остаться безразличной к человеческим страданиям. По ее любимой Украине огненными волнами катились пожары, тысячи людей погибали на полях сражений, дети оставались сиротами, жены – вдовами. Казалось, сама земля стонет от горя. В эти страшные годы Елена Кульчицкая продолжает работать, создавая летопись трагических событий. Никто из украинских художников не показал страшную правду войны так, как она.
После войны культурная жизнь на Галичине постепенно начала возрождаться. В это время Елена Львовна освоила новое для себя поле деятельности – книжную графику. Она иллюстрировала детские издания, создала серию картин на исторические темы. Наибольшей известностью пользовались ее иллюстрации к «Слову о полку Игореве» и «Теням забытых предков» М. Коцюбинского. Сборники сказок с ее иллюстрациями переиздавали по нескольку раз. Одновременно с этим Кульчицкая занималась и декоративно-прикладным искусством: работала с бронзой, эмалями, майоликой. Ее выставки проходили в Варшаве, Познани, Киеве, Полтаве. Когда на Галичине решили возродить производство ковров, именно Кульчицкая была одной из первых художников, давших согласие на сотрудничество. Прекрасно зная традиционные украинские орнаменты, Елена Кульчицкая сумела не просто воспроизвести наиболее красивые мотивы, – она создала новые рисунки для современных ковров, которые были продолжением традиций народного искусства. Художница предложила более 80 узоров, многие из которых используются и сейчас. Кстати, некоторые из ее достижений в области ковроткачества безуспешно пытаются разгадать современные мастера – секреты пропорции, ритмов, мелодики не поддаются простому копированию. А это – один из признаков работы настоящего Мастера.
Интерес к истории и быту родного народа проявлялся у Елены Львовны буквально во всем. Она не только возрождала традиционные ремесла, но и стремилась сохранить в своем творчестве памятники старинной архитектуры, особенности национального костюма, собирала фольклор. Ее альбомы «Народная архитектура западных областей Украины» и «Народная одежда западных областей Украины» имеют не только художественную, но и научную ценность. Елена Львовна была также автором проекта железного креста на могиле павших украинских воинов в Прикуличах (недалеко от Перемышля), позже уничтоженного поляками.
После Великой Отечественной войны Елене Львовне предложили место преподавателя графики в Украинском полиграфическом институте во Львове. Она передавала свой опыт студентам до 1954 г., в 1948 г. стала профессором. К преподавательской деятельности Кульчицкая подходила так же творчески, как и к созданию своих художественных произведений, и ее студенты на занятиях учились не только технике, но и умению видеть и воссоздавать прекрасное, ценить художественное наследие родного края, не бояться экспериментировать.
Последние годы жизни Елены Львовны разительно отличались от времени ее молодости и зрелости. Раньше ею восхищались, газеты писали о ней восторженные статьи, ее приглашали на многочисленные мероприятия. Когда художница вышла на пенсию, ей был 71 год. Привыкшая к деятельной и активной жизни, она оказалась прикована к постели: отказали ноги. На выручку пришли друзья, которые навещали Кульчицкую, оказывали ей помощь. Если бы не их забота, великая художница, которая подняла украинское искусство до европейского уровня, умерла бы в нищете и страданиях. Накануне смерти Елене Львовне сообщили, что она стала лауреатом Шевченковской премии. А восьмого марта 1967 г. ее не стало.
Елена Львовна Кульчицкая оставила огромное художественное наследие – более 400 произведений. После ее смерти они экспонировались в Берлине, Варшаве, Венеции, Москве, Праге, Риме, Торонто, Хельсинки, Чикаго. В 1971 г. во Львове открылся художественно-мемориальный музей Елены Кульчицкой. А жители Тернополя назвали в ее честь одну из городских улиц. Но, пожалуй, лучший памятник художнице – это ее произведения, которые вызывают восхищение даже у тех, кто раньше никогда не слышал слова «Украина». Это книги с ее иллюстрациями и ковры, сделанные по ее эскизам, – все то, что пробуждает в современных украинцах чувство сопричастности к истории родной земли и ее красоте.
Кустодиев Борис Михайлович (род. в 1878 г. – ум. в 1927 г.)
Выдающийся русский художник-портретист, жанрист, иллюстратор, театральный декоратор, рисовальщик, гравер и скульптор. Академик живописи. Обладатель почетных наград: золотых медалей на выставках в Венеции («Портрет Матэ») и Вене («Портрет Билибина»). Соучредитель «Нового общества художников».
Радость жизни, яркий праздник, широта и внутренний свет русской души озаряют искусство выдающегося художника Бориса Кустодиева. Он кистью написал своеобразную, интереснейшую повесть о России, о красоте ее природы и быта людей.
Родился будущий художник в Астрахани. Его отец, преподаватель словесности, скончался, когда Борису было полтора года. В семье было еще трое детей, и заботы об их воспитании легли на плечи матери, Екатерины Прохоровны. На казенный счет Борис учился в духовном училище и семинарии. Все яркое и красивое притягивало его внимание. И всю жизнь в памяти теснились удивительно четкие впечатления детства. Словно зачарованный, рассматривал будущий мастер полотна Репина, Сурикова, Поленова на приехавшей в город выставке художников-передвижников. Их прекрасные картины решили его судьбу. Осознав свой дар, Кустодиев увлекся рисованием до самозабвения. Первым его учителем стал единственный в городе живописец-профессионал Павел Алексеевич Власов. Ему Борис Михайлович был благодарен до конца жизни.
В 1896 г. Кустодиев бросает семинарию и, подготовленный Власовым, едет в Петербург, где сдает вступительный экзамен по живописи самому Репину. После двух лет обучения в общих классах академии он поступает в мастерскую великого живописца. Среди учеников Репина Борис был не только самым талантливым и трудолюбивым, но и наиболее разнопланово одаренным. В первые годы обучения он пишет исторические полотна на сюжеты древнерусской истории («Возмущение слобод против бояр», «Кулачный бой на Москве-реке»), затем осваивает книжную иллюстрацию («Тарас Бульба» и «Тяжба» Н.В. Гоголя), но лучше всего ему удаются портреты. И даже ранние его работы отличает высокий уровень профессионализма и глубокий талант. Оценив мастерство ученика, Репин приглашает Кустодиева (а также Куликова) для совместной работы над огромной заказной картиной «Торжественное заседание Государственного совета» к 100-летию «славного Российского Олимпа». Это полотно стало для художника второй академией. Из сотни главных сановников самодержавной России Борис Михайлович написал 20 портретов. Выполненная тремя художниками картина поражала слитной манерой исполнения.
Еще обучаясь в академии, Кустодиев написал серию великолепных портретов (соученика И.Я. Билибина, замечательного русского гравера В.В. Матэ), которые были высоко оценены как соотечественниками, так и на зарубежных выставках. В 1903 г. Русский музей приобретает большой портрет Ю.Е. Прошинской, которая вскоре стала женой Кустодиева. Юлия Евстафьевна, наделенная нежной душой и спокойным разумом, была единственной любовью и опорой художника, поняла его одержимость искусством и посвятила себя мужу и детям.
Вообще 1903 г. был для Кустодиева счастливым, удачливым годом. Женитьба. Рождение сына. Окончание академии и пенсионерская поездка на год за границу для знакомства с мировой живописью. Из Парижа он посылает в Россию на выставку только что организованного «Нового общества художников» картину «Утро», где изображена его жена, купающая маленького сына, полотно, полное оптимизма и свежести, пронизанное счастьем материнства и любви. Борис Михайлович пробыл за границей только пять месяцев. Его неудержимо тянуло домой, в Россию. «Человек, имеющий дом, долго не может скитаться», – говорил художник.
Русское искусство, как и вся Россия того времени, было на переломе, стояло на пороге революционных перемен. Кустодиев пытается уйти от привычного портретного стиля. Его творчество этого периода связано с графикой и рисунком. Художник иллюстрирует рассказы Л.И. Толстого и повести И.В. Гоголя, делает сатирические рисунки для журналов «Жупел» и «Адская почта». Его графика сурова и резка. Особенно выразителен рисунок «Москва. Вступление» (1905 г.), где изображен баррикадный бой на заснеженной московской улице и гигантский скелет-смерть, мчащийся по городу, графическая серия о рабочих-путиловцах. Кустодиев много и вдохновенно работает, но его тяготит холодный Петербург. В глуши Костромской губернии художник строит небольшой дом-мастерскую «Терем» и здесь упорно и настойчиво ищет свой путь в искусстве. Он, как и раньше, пишет превосходные портреты, но их спокойный строй все больше раздражает его, кажется скучным. И, отбросив кисти, он делает портретные бюсты певца И.В. Ершова, художника В.М. Добужинского, писателей А.М. Ремизова и Ф.К. Сологуба. Однако увлечение пластикой остается лишь эпизодом в его творчестве.
Кустодиев пытается постичь народное представление о красоте, ищет прекрасное в том, что любит народ, и определяет для себя главную черту – жизнелюбие. Понимание, что в представлении народа искусство неизменно связано с праздником, с ощущением радости, приводит его к созданию ярких, бодрых, полных жизни картин о России. Художник соединяет портретный реализм с наивностью и простодушием народного лубка. В картине «Ярмарка», в цикле «Деревенские праздники» резкие, чуть грубоватые краски, всплеск открытого цвета отражают характер народных празднеств. У мастера появляется своя тема, свои герои и образы, свой стиль. Так возникает тот Кустодиев, которого любят и знают сегодня.
Русская провинциальная жизнь, аромат старинного бытового уклада, образы типичных обывателей (купцов, мещан, чиновников) ложатся на полотна, отражая то тихую и неторопливую, то веселую и удалую жизнь народа («Купчиха», «Чаепитие», «Христосование», «Домовой»). Идя от лубка, от красочности жостовских подносов, Кустодиев заполняет холсты светом и пестрыми, звенящими красками, которые, сплетаясь, создают характерный колорит, и на этом фоне «пишет типы русской жизни». Своеобразные картины-портреты – «Купчиха», «Девушка на Волге», «Купчиха с зеркалом», «Купчиха за чаем», «Красавица» – это русский вариант народного видения женской красоты. Свободное, гладкое, бело-розовое тело, покой и мечтательность, губки бантиком и туманный взгляд, бездумное полусонное существование – русские Венеры в расписных нарядах и без них.
Картины праздников – «Масленица», «Троицын день», «Балаганы», «Вербный торг в Москве» – это живописный итог творческих исканий Кустодиева. Все холсты полны света, веселого озорства, радости. Трудно поверить, что эти бодрые, искрящиеся оптимизмом полотна были созданы тяжелобольным художником. Боли в плече и руке не утихали уже много лет, а в 1911 г., когда шла работа над скульптурным бюстом царя Николая II, даже одночасовые сеансы стали даваться ему с большим трудом, причиняя неимоверные мучения. Врачи не могли поставить диагноз, и лечение шло вслепую годами. Доктора отправили Кустодиева в Швейцарию. Но надежда на исцеление вскоре сменялись отчаянием, а тут еще известие о смерти Серова. В письмах художника из Лейзена прорывалась горькая мысль: «Как завидна такая скорая смерть – без изнуряющей медленной болезни».
В 1913 г. Кустодиева прооперировал известный немецкий хирург Оппенгейм, предупредив, что через год надо сделать еще одну операцию на спинном мозге и художник будет здоров. Это был первый врач, который возвратил надежду. Но началась война, и немецкий профессор стал недосягаем. Линия фронта отрезала Кустодиеву путь к выздоровлению. Болезнь обострилась, приобрела тяжелую форму. Оттягивать операцию было больше нельзя. Он находился под наркозом более 5 часов. Хирург, обнаружив опухоль спинного мозга и не надеясь на удачный исход, спросил у Юлии Евстафьевны, которая не отходила от постели мужа и была его неизменной сиделкой, что сохранить пациенту – руки или ноги? Страшный вопрос и единственный ответ: «Руки!» После операции ему запретили работать. Неподвижный Кустодиев медленно угасал от сознания, что не может писать. И тогда жена, понимая, что для него лучшее лекарство – творчество, принесла мужу альбом и карандаши. Он рисовал по памяти, делал сотни набросков, а потом в палате установили мольберт и художник, сидя в инвалидной каталке, начал писать свою «Масленицу». Хирург Стуккей, оперировавший больного, посетил выставку общества «Мир искусства» в 1916 г. Он стоял перед этой картиной Кустодиева и думал: «Откуда такая звонкая красочность, такое жизнелюбие, такой заразительный праздник? Откуда? Он делает праздник людям – и лечит себя…»
Так, запертый в стенах мастерской, прикованный к каталке Борис Михайлович встретил революцию. Как и многие художники, он видел в ней надежду на возрождение России, радовался энтузиазму масс и воспринимал февральское восстание как праздник. В последние десять лет жизни (1917-1927 гг.), несмотря на тяжелые физические страдания, Кустодиев переживает небывалый творческий подъем. Он пишет картины, оформляет спектакли, иллюстрирует книги. Всего за 14 дней заканчивает картину «Степан Разин», но долго и упорно работает над идеей «красного призрака» – гигантской фигуры с красным флагом, шагающей через дома («Большевик»). Однажды в холодную промерзлую мастерскую к «Островскому в живописи» пришел великий Федор Шаляпин, чтобы лично попросить оформить оперу «Вражья сила». Певец был поражен жизнестойкостью художника, а Кустодиев – могучим обликом и голосом великого артиста. На премьеру спектакля Шаляпин на руках внес живописца в ложу, а затем переадресовал ему гром аплодисментов – за его талант и мужество. Они подружились. Кустодиев написал величественный портрет певца. В.В. Воинов о трудностях исполнения этой работы вспоминал: «Сам Шаляпин такой огромный, комната для него мала, так что художник не мог охватить его фигуру целиком… Тут нужен был отход по крайней мере в два-три раза больше. Был выполнен этюд и ряд подготовительных рисунков. Затем перенесение на огромный холст по клеткам. После этого картину наклоняли так, что Борису Михайловичу, сидя в кресле, приходилось работать, глядя вверх (это с его-то болями в шее, в руках!). Борис Михайлович говорит, что порой он сам как-то плохо верит в то, что написал этот портрет. Настолько он работал наугад и ощупью. Мало того, он ни разу не видел этого портрета целиком в достаточном отдалении и не представляет себе, насколько все удачно вышло. Это поразительно! Ведь это один из самых «цельных» и удивительно слитных портретов Кустодиева. Трудно себе представить, как мог Борис Михайлович создать такую махину, видя лишь небольшие участки своей работы.... Какой изумительный расчет и уверенность в своей работе!»
Лишь силой духа Кустодиев выиграл бой за это гигантское полотно. Вдохновленный победой, он задумывает писать «Русскую Венеру». «Она не будет лежать обнаженной на темном бархате, как у Гойи, или на лоне природы, как у Джорджоне, – говорил художник дочери Ирине, которая позировала ему. – Я помещу свою Венеру – в баню. Тут обнаженность целомудренной русской женщины естественна». Полотно требовалось большое, достать его было негде, и тогда Кустодиев решил писать на обороте старой картины «Терем». На эту картину ушло много месяцев изнурительного труда. Художнику разрешали работать лишь несколько часов в сутки, и близкие очень строго следили за этим, помогали ему во всем. Работая, он, казалось, забывал о мучительных болях, подъезжал и отъезжал на коляске от полотна сотни раз, чтобы найти точность в изображении, практически не охватывая всей картины в целом. Заканчивая двухлетний труд, он был счастлив, что написал «неплохую вещь». Это была его последняя картина.
Через все болезни и операции, через десятилетия угнетающей неподвижности Кустодиев пронес упрямое желание работать, творить – картины, рисунки, скульптуры, декорации. Этот труд приносил ему огромное удовольствие. Несколько художников из одного и того же куска жизни могут написать совершенно разные картины. Существует для этого всего два инструмента – рука и глаз, но создаются они из сплава ума и души. Картины жизни «по Кустодиеву» именно потому и получались такими яркими и веселыми, что в них было и то и другое.
Лансере Евгений Евгеньевич (род. в 1875 г. – ум. в 1946 г.)
Русский график и живописец, иллюстратор и оформитель книг, художник-монументалист, один из основоположников советской монументальной живописи, театральный художник, мастер станковой живописи, педагог, автор ряда искусствоведческих статей. Член художественного объединения «Мир искусства», действительный член Академии художеств (1916 г.), заслуженный деятель искусств (1933 г.), народный художник РСФСР (1945 г.), награжден Сталинской премией (1943 г.).
«…Для меня бесспорно, что реализм как основной принцип искусства был и останется той живительной почвой, землей, прикосновение к которой давало и дает искусству, как Антею, новые и новые силы», – написал в одной из своих последних работ Евгений Евгеньевич Лансере, мудрый и талантливый человек, которому еще при жизни удалось вкусить всю сладость славы и признания. Но как схожи эти спокойные уверенные слова с искренним порывом юного, начинающего художника: «Я хочу правды… какой бы она ни была!» И трудно представить, что между двумя этими высказываниями лежит путь длиной более полувека, жизнь, полная творческих исканий и раздумий о судьбе родного народа.
Уже будучи зрелым человеком, Лансере признавался, что «интерес, пристрастие к исканию верного бытового жеста, интерес к этнографической характеристике своих персонажей и… виньеточную живопись» он перенял прежде всего от отца, Евгения Александровича Лансере, известного скульптора, мастера малых форм и композиций. Но не только от него мальчик унаследовал свой талант: по линии матери, Екатерины Николаевны, он принадлежал к славному роду Бенуа. Родился Женя 23 августа 1875 г. в Павловске, воспетом в пейзажах его дяди, Александра Бенуа. Детство с пятерыми братишками и сестренками он провел в с. Нескучном под Харьковом, живописном месте, где позже одна из сестер, известная художница Зинаида Серебрякова, создаст свои лучшие картины. В 11 лет Евгений лишился отца, и осиротевшая семья перебралась поближе к родственникам матери – в Петербург.
В доме деда, известном во всей столице «Доме Бенуа у Николы Морского», где искусство в разных его воплощениях было своеобразным «фамильным делом», Лансере-младший сознательно выбрал свое будущее: «Прежде всего – быть отличным художником». Евгений как губка впитал в себя семейную наследственную культуру, широкую историко-художественную эрудицию, взыскательное отношение к вопросам профессионального мастерства, но вместе с тем позже говорил о юношеских годах как о «книжных» и «ретроспективных», отдавая дань уважения скульптору-анималисту А. Оберу, другу отца, который открыл ему манящую привлекательность живой природы. В 1892 г. юноша поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств, а в 1895-1897 гг. по году провел в стенах парижских академий Коларосси и Жюльена, преподаватели которых дали молодому художнику прочную профессиональную подготовку, однако не смогли увлечь новыми направлениями живописи. Но главным учителем Лансере стала натура: на протяжении всей жизни он не расставался с блокнотом и карандашом, а его творческое наследие насчитывает сотни зарисовок, около 50 альбомов, заполненных натурными рисунками и этюдами.
По возвращении из Франции Евгений обнаружил, что многие его знакомые, с которыми он еще в конце 1980-х гг. входил в «кружок самообразования», возглавляемый А. Бенуа, составили ядро нового художественного объединения «Мир искусства», развившего бурную выставочную, исследовательскую, пропагандистскую и издательскую деятельность, объединившего людей различных творческих направлений и стремившегося пересмотреть старые взгляды на искусство согласно веяниям наступившего времени. Принципы «повышения мастерства», проповедуемые «мирискусниками», нашли отклик в сердце Лансере, как и дядино убеждение, что культура русского народа остро нуждается в приобщении к мировой культуре, а в особенности молодой художник загорелся идеей создания «нового цельного искусства книги», в основу которой был заложен абсолютно новый подход к исполнению оформления и иллюстраций.
Свои силы в создании рисунков для книг Евгений впервые испробовал в 1898 г., когда на выставке русских и финляндских художников, организованной С. Дягилевым, была представлена книга «Легенды о старинных замках Бретани» Е. Балабановой с его иллюстрациями. Эту работу предваряла ознакомительная поездка по Бретани и как результат – масса набросков пейзажей и замков Франции, где уже в некоторых рисунках, преимущественно в виньетках, тонким проволочным черно-белым штрихом начинал вырисовываться собственный стиль Лансере: органическая связь текста с иллюстрациями, интересное декоративное решение, одновременно способное передать эмоциональную характеристику легенды. Однако для достижения подлинного мастерства иллюстратора художнику потребовались годы упорного труда. Он принимал активное участие в оформлении журналов «Художественные сокровища России», «Детский отдых», а также «Мир искусства», в редакцию которого входил и вместе с В. Серовым, М. Добужинским, А. Остроумовой-Лебедевой и Б. Кустодиевым составлял его прогрессивную группу.
Первоосновой всей иллюстрационно-оформительской деятельности Лансере был прежде всего неутомимый поиск, он не подчинял свои рисунки одной-единственной манере, искусно используя и сочные стилизованно-капризные растительные орнаменты, и тщательно продуманную ажурную, строго-чеканную легкость изображения. Увлекшись на некоторое время модерном, Евгений Евгеньевич вскоре отбросил этот стиль как неподходящий. «Не могу пожертвовать, расстаться со стройностью и логичностью настоящей ветки, человеческой фигуры», – признавался он впоследствии.
За 1900-е гг. им были выполнены многие десятки виньеток и страничных иллюстраций в книгах и альманахах, журналах и экслибрисах. Это и «История царской и императорской охоты на Руси» Кутепова (1902-1905 гг.), «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны» Бенуа (1904-1912 гг.), «Сирийские рассказы» С. Кондурушкина (1908 г.), которым присуща изысканная, мажорная по настроению историческая стилизация; фантастические композиции к «Царю Голоду» Андреева и стихотворениям Бальмонта, работы для журналов «Золотое Руно» и «Ежегодник Императорских театров», карикатуры для сатирических «Жупела», «Зрителя» и «Адской почты», из которых наиболее известны «Радость на земле основных законов ради», «Тризна» и «Рады стараться, ваше превосходительство». Лансере разрабатывал рисунки для почтовых марок, театральные и выставочные афиши, а в 1902 г. совершил путешествие на Дальний Восток, в Маньчжурию и Японию, и пейзажные зарисовки, привезенные оттуда, легли в основу серии модных новинок – художественных открыток. После приглашения в 1912 г. на пост заведующего художественной частью гранильных фабрик, фарфорового и стекольного заводов ведения «Кабинета Его Императорского величества» занимался он и прикладным искусством: помимо контроля за качеством продукции, художник сам сделал несколько эскизов и проектов для художественных изделий. А постоянная работа с книгами побудила Евгения Евгеньевича к изучению типографских и полиграфических технологий и привела к тому, что он первым в России стал выполнять постраничный макет оформления книги, создавая стройную гармонию графических элементов, что в последующие годы было принято за образец работы.
Но наивысшего расцвета иллюстративная деятельность художника достигла в годы работы над оформлением произведений Льва Толстого «Хаджи Мурат» (1912-1915 гг.) и «Казаки» (1917-1936 гг. с перерывами). Так, чтобы выполнить иллюстрации к «Хаджи Мурату», Лансере посетил все места действия повести, впервые побывал на Кавказе – в результате чего была создана сложная система иллюстрирования, в которой удалось воспроизвести многоплановое развитие действия: здесь природа Кавказа переплетается с историей жизни самого Хаджи Мурата, иллюстрации с изображением жизни простых людей – с изображением роли Воронцовых и Николая I в судьбе героя, сложные многофигурные композиции соседствуют с видами старого Петербурга. В «Хаджи Мурате» Евгением Евгеньевичем впервые была применена техника композиции на развороте, а благодаря особому колористическому решению первое издание книги явилось значительным событием в истории русской книжной иллюстрации.
Важную роль в творческом наследии Е. Лансере занимает станковая графика и живопись – как пейзажи, так и портретные зарисовки, исполненные в отличие от иллюстрационных работ просто и неизысканно, но вместе с тем не лишенные подробностей быта, яркой передачи характера персонажей и даже некоторой этнографичности. Одной из излюбленных тем художника был Петербург, однако он сумел избежать «исторического сентиментализма», присущего многим мастерам «Мира искусства». Архитектурные пейзажи Лансере – это не только величественное прошлое города с его торжественными колоннадами зданий и древними храмами, но и прозаическое, известное каждому современнику настоящее: баржи, идущие по Неве, коляски, везущие пассажиров, невзрачные окраины – все то, что в полной мере дает ощутить себя причастным к жизни «Северного Рима» («Петербург в XVIII веке. Здание Двенадцати коллегий», «Никольский рынок в Петербурге», «Калинкин мост», «Петербург начала XVIII века», «Мост через Зимнюю канавку», «Старый Зимний дворец», «Васильевский остров. 7-я линия»). Картины художника на историческую тематику также отличаются реалистичностью и характерностью образов. Полотна «Прогулка по берегу моря» (1908 г.), «Корабли времен Петра I» (1909 г.), «Цесаревна Елизавета в кордегардии Зимнего дворца» (1910 г.) отмечены яркой динамичностью сюжета, освобождены от схематичности, а цветовые гаммы «лепят» отдельные элементы композиций, связывая их в гармоничное единство, мастерски оттененное светотеневыми контрастами, а его остроироничную станковую картину «Императрица Елизавета в Царском Селе» (1905 г.) Л.Н. Толстой охарактеризовал как «безобразие величия».
Не мог не затронуть художника, чуткого к возвышенному, и «театральный гений», который пленял почти всех членов семьи Бенуа. Впервые его столкновение с театральной живописью произошло, когда Лансере еще шел по стопам старших коллег, поголовно увлеченных театром, – в 1901 г. он создал декорации для последнего акта балета «Сильвия» на музыку Делиба, но уже здесь ему удалось показать свое собственное понимание задач, стоящих перед художником театра. В своем творчестве в отличие от многих «мирискусников» Евгению Евгеньевичу удалось избежать ретроспективизма и определенной специализации в передаче стиля какой-либо эпохи: самым главным в искусстве декорации он считал создание такой атмосферы на сцене, которая бы помогла актеру еще больше вжиться в роль, а зрителю почувствовать непередаваемый аромат эпохи. Первых громких успехов он достиг в 1907 г. во время оформления совместно с А. Бенуа пьесы Н. Евреинова «Ярмарка на индикт Св. Дениса» («Уличный театр») для петербургского «Старинного театра», для которой он с тщательной достоверностью выполнил шесть эскизов, передающих вид средневекового французского городка в разное время суток. Для того же театра в 1911 г. Лансере создал декорации к «Чистилищу Св. Патрика», в которых еще раз подтвердились его способности к созданию архитектурного пейзажа. После выхода этого спектакля работа художника в театре прервалась на долгих 13 лет и возобновилась во время московской постановки трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь». В 1920-х гг. также были созданы декорации к опере Сен-Санса «Самсон и Далила», «Макбету» и «Королю Лиру», к которым Евгений Евгеньевич также продумывал костюмы и макияж, совмещение «строенных» и «писаных» декораций, но которые так и не были поставлены. Следующее десятилетие было отмечено его работами над оформлением кинофильмов «Ануш» и «Туристическая Армения» и вершиной его творчества как театрального художника – разработкой декораций для спектакля «Горе от ума» Грибоедова (1937 г.), для которого Лансере создал «задник» – пейзаж старой Москвы с видом на Кремль и соборы, – и в декорацию для каждой сцены ввел определенную цветовую доминанту, которой были подчинены все остальные гаммы. Сотрудничество художника с театрами продолжалось до самой его смерти.
В 1916 г., исполнив свою давнюю мечту: «Жить бы в деревне, работать бы в тайне», – Евгений Евгеньевич переехал в Псковскую губернию в небольшое имение Усть-Крестище, где, «наслаждаясь природой», создал несколько прекрасных лиричных пейзажей, среди которых «Ранняя весна» и «Освещенная солнцем аллея». Еще в 1912 г. по рекомендации И. Репина и В. Матэ за многочисленные заслуги перед искусством художнику было присвоено звание академика, а в 1916 г. он стал действительным членом Академии художеств. Послереволюционная зима 1917 г., принесшая с собой многочисленные трудности, заставляет Лансере с семьей переселиться на Кавказ, в Тифлис, ставший его домом до 1934 г., когда он осел в Москве. Революцию Евгений Евгеньевич не принял и в 1918-1919 гг. сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро армии Деникина, но позже отношения с новой властью стали налаживаться. Он много ездил по СССР и зарубежью (Грузия, Армения, Нагорный Дагестан, Зангезур, Сванетия, Париж, Анкара), и его наследие пополнялось великолепными пейзажами (особенно много их посвящено Кавказу), преподавал в Грузинской Академии художеств (1922-1932 гг.), Московском архитектурном институте и монументальной мастерской академии художеств в Ленинграде, от Тбилисского этнографического музея участвовал в археологических экспедициях. В 1933 г. в связи с 35-летием творческой деятельности ему присваивается звание заслуженного деятеля искусств, в связи с 70-летием – звание народного художника РСФСР, а выполненные им за многие годы монументальные росписи в 1943 г. удостоились Сталинской премии.
Евгений Лансере, пожалуй, даже больше, чем иллюстратор-оформитель, известен как один из основателей советской монументальной живописи: это искусство, к которому он пришел в 1906 г. (не вполне удачное ввиду отсутствия опыта панно для Большой московской гостиницы), в 1930-1940-х гг. стало главенствующим в его творчестве. Художник выполнил массу работ в этом стиле, их особенностям посвящено много искусствоведческих работ, поэтому имеет смысл лишь кратко рассказать о некоторых из них. В 1910-1912 гг. были созданы плафон и фриз для особняка Тарасова в Москве, в 1915 г. – роспись «Памятного зала» Академии художеств, в которых Лансере стремился возродить принципы ренессансных монументалистов. Следующий год принес Евгению Евгеньевичу одно из самых грандиозных предложений в его жизни: принимать участие (с другими «мирискусниками») в росписи плафона в зале первого и второго класса Казанского вокзала, а чуть позже – в росписи зала правления Казанской железной дороги. Эти сложнейшие по технике исполнения проекты, работу над которыми Лансере не прекращал, при его жизни так и не были полностью воплощены.
Первая мировая, и потом и Гражданская войны на несколько лет прервали занятия художника монументальной живописью. Только в 1921 г. он обратился к ней вновь, выполнив ряд эскизов, а потом и росписей для общественных зданий по всему СССР («Выступление батумского пролетариата в 1922 году», «Закладка Закавказской ГЭС вблизи Тбилиси», панно для фойе театра Дворца рабочего в Харькове – «Крым» и «Кавказ»; майоликовые панно для станции метро «Комсомольская» и др.). Лансере принадлежат также эскизы росписи Дворца Советов (1939 г.), плафона зрительного зала Большого театра в Москве (1937-1939 гг.), росписи нового здания Госбиблиотеки им. Ленина (1935-1940 гг.). Все эти многочисленные работы позволили ему создать несколько теоретических трудов: «Моя работа по росписи Казанского вокзала», «Живопись и ее окружение», «О композиции монументальных картин», «О монументальной живописи».
Великая Отечественная война не позволила осуществиться многим замыслам художника, но он по-прежнему интенсивно работал. Его альбомы и записные книжки заполняются карандашными зарисовками и акварельными набросками, но наиболее значительным произведением военного периода явилась серия небольших гуашей, объединенных общей темой – «Трофеи русского оружия». Пять торжественных ступеней славной отечественной истории – Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавская битва, Отечественная война 1812 г. и кульминационный эпизод – советские воины у захваченных огромных орудий после одной из побед 1942 года – были представлены на выставке «Великая Отечественная война». А сам художник всеми своими помыслами был уже в светлом послевоенном будущем: в 1944 г. он оформил книгу архитектора А. Щусева «Проект восстановления города Истры» – города, лежавшего тогда в руинах.
Весной 1945 г. 70-летний Евгений Евгеньевич Лансере приступил к очередному этапу по росписи Казанского вокзала – светлым, радостным панно «Победа» и «Мир». Но 13 сентября 1946 г. безжалостная смерть прервала созидательный труд художника.
Ларионов Михаил Федорович (род. в 1881 г. – ум. в 1964 г.)
Известный русский художник-модернист, график, театральный декоратор, иллюстратор. Один из основоположников русского авангарда. Создатель живописного метода «лучизма».
Выдающийся мастер русского художественного авангарда Михаил Ларионов родился в небольшом провинциальном городе Тирасполе в семье скромного военного фельдшера. Самыми яркими воспоминаниями его детства стали «рубашечка с вишенками», человеческая фигурка из мякиша черного хлеба, вылепленная бабушкой Ольгой Львовной, и задача, которую будущий художник поставил перед собой в семь лет: «Не забыть взрослым человеком ощущений детства». «Я видел разницу чувств взрослых и детей, отсюда возникла эта мысль, но, к сожалению, мои чувства не изменились, и я не вижу разницы между прошлым и настоящим в моей личной жизни. Я не потерял связи с детьми, но с взрослыми я ее не могу никак наладить», – вспоминал Михаил Федорович в конце своей жизни, больше похожей на театральное представление, но наполненной творческими исканиями и открытиями.
После окончания реального училища Михаил в 1898 г. поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился в классах К.А. Коровина и В.А. Серова до 1910 г. Уже в первые годы занятий он подавал большие надежды стать знаменитым живописцем, но тем не менее был трижды исключен за нестандартное поведение и художественное вольномыслие. Ларионова привлекала живопись П. Гогена, Ван Гога и П. Сезанна. Одна из наиболее ранних известных его картин «Куст сирени в цвету» (1904 г.), написанная в стиле позднего импрессионизма, была куплена Третьяковской галереей. Художник был наделен огромным живописным темпераментом, острым чувством света и цвета. Его пейзажные работы наполнены интенсивной вибрацией световоздушной среды и красочными нюансами. На выставке «Мир искусства», устроенной С. Дягилевым в 1906 г., Ларионов показал семь своих работ. Это была серьезная заявка на стремительную карьеру молодого художника. Все дальнейшие взлеты Михаил «устраивал» себе сам: писал непривычные картины и декларации, организовывал выставки и группировки, устраивал скандалы, чтобы подогреть внимание публики к себе и своему творчеству.
Рядом с именем Ларионова с 1900 г. постоянно звучала фамилия его подруги, соратницы и не менее именитой художницы Гончаровой. Наталья Сергеевна родилась в известной дворянской семье и была двоюродной правнучкой жены А.С. Пушкина. Училась она вместе с Михаилом, только вначале в скульптурном классе П. Трубецкого, а затем пути в живописи у двух молодых талантов неразрывно переплелись, ведь недаром их назвали «самой лучшей и самой слитной парой русского авангарда». Творческий дуэт двух незаурядных художников продолжался более 60 лет и был до предела насыщен творческой инициативой и готовностью порвать с уже достигнутыми результатами для обретения новых перспектив. Но все же Гончарова как-то призналась: «Ларионов – это моя рабочая совесть, мой камертон. Есть такие дети, отродясь все знающие. Пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя». Они никогда не были конкурентами, а дополняли и обогащали друг друга.
Но если Гончарова просто творила, то Ларионов стал признанным лидером русского авангарда, главным выдумщиком, организатором скандальных акций и создателем новых живописных направлений. Это был бунтарь и потрясатель академических основ искусства.
Вернувшись из поездок в Лондон и Париж (Осенний салон 1906 г.), Ларионов творчески переосмыслил идеи фовизма и достижения западного «наивного» искусства. Привнесенные им в живопись новшества были основаны на простонародном и детском восприятии красоты. Русская икона, лубок, росписи вывесок и подносов, рисунки на заборах смешались в красочном сверкании новой живописной гармонии примитивизма (серия «Парикмахеры», 1907 г., и сценки провинциального быта).
Для продвижения своего авангардного искусства Ларионов развернул бурную деятельность. В 1908 г. он совместно с Д. Бурдюком организовал первую в Москве авангардную выставку «Венок Стефана». Как один из вожаков бунтующей молодежной богемы, художник вошел в состав основателей (П. Кончаловский, Д. Бурлюк, А. Лентулов, К. Малевич) общества «Бубновый валет». Но вскоре вместе с Бурлюком оставил компанию «валетов», обвиняя их в отсталости, академичности и фотографизме. «Для меня Малевич, – писал Ларионов в газету, – как футурист является "необитаемым туземцем"». От живописца-забияки доставалось и врагам и друзьям, но ему многое прощалось за тот огромный талант, которого могло хватить не на один десяток художников.
После непродолжительного пребывания на сборах в солдатских лагерях, где ему так понравилась настенная живопись в казармах, в творчестве Ларионова появились многочисленные сценки из армейской жизни, часто сдобренные откровенной похабщиной («Маркитантка Соня», «Отдыхающий солдат», «Курящий солдат», все в 1911 г.). Все работы «солдатской» серии стали своеобразной вершиной примитивистского периода творчества, где мягкую иронию и откровенный реализм Ларионов успешно сочетал с изысканной живописью.
Продолжая потрясать «общественные устои», художник совместно с Гончаровой, Малевичем, Татлиным и другими приверженцами авангарда создал группу «Ослиный хвост» (1912 г.) и под этим скандальным названием организовал две выставки. Работы, которые там экспонировались, были возведены критиками в разряд «анархического бунтарства». Художники требовали свободы для своих формальных экспериментов. Когда деятельность этой группы дошла до логического предела, Ларионов организовал выставку «Мишень» (1913 г.) и Первую выставку лубков в Москве (1913 г.). Однако при всей своей неуживчивости и ершистости Михаил Федорович успевал выставляться и на вполне «приличных» показах. Так, только за 1906 г. его работы (помимо Лондона и Парижа) побывали на экспозициях Товарищества передвижников, Союза русских художников, Московского товарищества художников. Особенно долго оставался верен Ларионов объединению «Мир искусства». Его руководитель, известный художник и критик А. Бенуа, ужасаясь от ларионовского «Портрета дурака», все же чувствовал под внешней бравадой и эпатажностью глубину его молодого дарования.
На осенней выставке «Мир искусства» в 1912 г. состоялся и показ первых картин, исполненных художником новым, изобретенным им живописным методом – «лучизмом». Используя его, Ларионов изображал не сам окружающий мир, а потоки света и цвета, излучаемые предметами, теряющими свой реальный облик в этих потоках. «Лучизм» считается одним из первых опытов беспредметного (абстрактного) искусства и ярким проявлением авангардизма в русской живописи, наряду с супрематизмом Малевича и футуризмом Татлина. Ларионов этим методом достигал небывалых художественных форм, создавал новую причудливую реальность. Но даже в работах, где, кажется, вообще ничего не изображено («Стекло/прием лучизма», «Этюд лучистый», «Лучистая камбала и скумбрия», «Лучистый петух», все в 1912 г.), где все окутано волнами окрашенного света, смутная предметная реальность проступает в виде народного изофольклора, вспыхивая одновременно чем-то неземным и фантастическим. В стиле «лучизма» были оформлены иллюстрации к книге Крученых «Старинная любовь» (1912 г.), где текст естественно переплетается с рисунками, создавая целостный художественный образ.
Причудливые и полупристойные «Венеры» (1912 г.) – «Кацапская», «Бульварная», «Солдатская», «Еврейская», «Негритянская» – написаны в стиле примитивизма, как и четыре больших полотна под общим названием «Времена года» (1912 г.). Картины, окрещенные критиками как «инфантильный примитив», больше напоминали искусно выполненные детские рисунки, которые очень высоко ценил сам художник. Каждое полотно Ларионов сопровождил по-детски наивными стихотворениями. На холсте «Весна» он написал: «Весна ясная, прекрасная. С яркими цветами, с белыми облаками». В стиле примитивизма выдержаны иллюстрации к сборнику футуристических стихов «Мирсконца» Хлебникова. В оформлении книги Крученых «Полуживой» Ларионов использует стилистику наскальных изображений. А издание «Помада» современники сравнивали с филигранным ювелирным украшением, настолько оригинально выглядели его иллюстрации на золотых паспарту. Живописная фантазия Ларионова была безгранична и не знала повторений.
Творческую самобытность и «авангардность» художник подкреплял постоянным «ошарашиванием» публики своим поведением «в миру» и созданием шума вокруг собственной персоны. Авангардным было не только его искусство, но и личная жизнь. Ларионов с Гончаровой многое делали «впервые»: приняли участие в съемках первого русского футуристического фильма «Драма в кабаре №13» (1914 г.), участвовали в ими же организованном шествии с раскрашенными лицами по улицам Москвы (1913 г.). Это был первый публичный «боди-арт», звучно названный «убийством лица». Для большей убедительности акции Ларионов выпустил манифест «Почему мы раскрашиваемся», где апеллировал к «русскому балагану, площадному циркачеству и весеннему розыгрышу». Если же газетный шум и улюлюканье в его адрес смолкали, художник в срочном порядке публиковал «саморекламные монографии» под псевдонимом Эли Эганбюра и Варсанофия Паркина. Исследуя его творчество, искусствовед А. Корзухин писал: «Делание навыворот, наизнанку, "мирсконца", антиприличие под стать искусству протеста или подчеркнутое приличие как кукиш вместо ожидаемого скандала, короче, антибуржуазность вкупе с антипарадностью, – вот что такое жизнь в авангарде. Жизнь конечно суматошная и нервная (что усугублялось вспыльчивой задористостью характера Ларионова), но зато рождавшая новый сплав картины и личности, где не было места пошлым условностям и рыночным законам».
Сергей Дягилев, известный организатор выставок русского искусства в рамках «Русских сезонов» в Париже (с 1907 г.) и создатель труппы Русского балета (1911-1926 гг.), одним из первых открыл неподражаемый дар Ларионова и Гончаровой. И он же в 1915 г. предложил супругам заняться сценографией в его антрепризе. Совместно с балетной труппой они объехали с гастролями Швейцарию, Италию, Испанию, а с 1918 г. поселились в Париже. Результаты работы художников над «карнавальным миром» театральных декораций и костюмов ошеломили европейскую публику, покорили новизной замыслов, красочностью и экзотичностью. Их творческий вклад в успех русского балета был огромен. Виртуозная фантазия, изощренный вкус, пиршество красок, мир сказочных причудливых образов обогатили сценическое искусство XX в. И хотя оформленные ими спектакли стали достоянием истории, но эскизы театральных костюмов, декораций и мизансцен, портреты композиторов, хореографов и артистов балета вошли в художественную сокровищницу их творческого наследия. В 1915-1917 гг. Ларионов и Гончарова оформили спектакли «Ночное солнце», «Литургия», «Садко» Римского-Корсакова; «Кикимора», «Русские сказки», «Баба-Яга» Лядова; «Испанская рапсодия» Равеля. В период с 1921 по 1932 г. – «Шут», «На Борисфене» Прокофьева; «Снегурочку» Римского-Корсакова; «Лисицу», «Жар-птицу» Стравинского; а в 1930-1940 гг. – балет «Богатыри» Бородина и оперу «Кощей Бессмертный» Римского-Корсакова. Это был огромный многоплановый труд, всегда оригинальный, содержащий неожиданные решения.
Более 50 лет прожила эта знаменитая «авангардная пара» в Париже, в причудливом старинном доме, из окон которого можно было любоваться крышами города. Все комнаты и мастерская были заполнены книгами и картинами. Ларионов создавал камерные композиции, занимался книжной графикой и живописью (рисунки, натюрморты, пейзажи), а также начал писать мемуары. Наталья Сергеевна в последние годы из-за артрита почти не могла работать и очень страдала из-за этого. Превозмогая боль, она двумя руками сжимала карандаш, чтобы сделать хоть небольшой рисунок. 17 октября 1962 г. Наталья Сергеевна Гончарова умерла, а вскоре, 10 мая 1964 г., в Фонте-о-Роз, близ Парижа, скончался и Михаил Федорович Ларионов. Все творческое наследие художников хранилось во Франции. В 1988 г. по завещанию второй жены Ларионова, Александры Клавдиевны Томилиной, значительная его часть (две тысячи работ) и архив были переданы в дар Третьяковской галерее. В Москве в доме в Трехпрудном переулке, где до 1915 г. жила эта блистательная пара русского и мирового авангарда XX в., будет открыт музей Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. А это вселяет надежду на то, что спустя сто лет их творчество наконец станет широко известным русским ценителям искусства.
Левитан Исаак Ильич (род. в 1860 г. – ум. в 1900 г.)
Выдающийся русский живописец-пейзажист, создатель «пейзажа настроения», превосходный рисовальщик и колорист. Академик живописи (1897 г.), член Товарищества передвижных выставок (с 1887 г.), действительный член Мюнхенского художественного общества «Сецессион» (1897 г.). Участник международных выставок в Мюнхене (1896, 1898, 1899 гг.), Всемирной Парижской выставки (1900 г.). Руководитель пейзажного класса в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (с 1898 г.).
Понятия «левитановский пейзаж», «левитановская осень» давно вошли в нашу жизнь, став синонимами красоты русской природы. Не каждому живописцу удавалось так поэтично и возвышенно увековечить свое имя в памяти потомков, как Левитану. А между тем к сложному искусству постижения природы этот гений пейзажа шел путем трудным, а порой и мучительным. И даже будучи уже признанным мастером, он нередко чувствовал неудовлетворенность своим творчеством, страдал от невозможности передать на холсте всю божественную красоту мироздания. В письме к А.П. Чехову в 1887 г. художник писал: «Может ли быть что-то трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения…»
Современники нередко называли Левитана «удачливым неудачником». В этом парадоксальном определении выразились и сладость творческих побед художника, и горечь его несчастливой человеческой судьбы. За свои неполные сорок лет он сполна испытал нужду и унижения, часто жил в разладе с самим собой и окружающими, переживал творческие кризисы и вновь возрождался к жизни через искусство. И потому, говоря о себе, Левитан утверждал: «…я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не понимаю себя вне живописи».
Будущий художник родился в местечке Кибарты бывшей Ковенской губернии в бедной еврейской семье. Его отец окончил раввинское училище, но затем, пристрастившись к иностранным языкам, стал зарабатывать на жизнь уроками. Знание французского языка особенно пригодилось ему, когда началось строительство Ковенской железной дороги, в котором участвовали инженеры из Франции. Левитан-старший стал служить на железнодорожной станции сначала переводчиком, а затем кассиром.
В 1869 г. семья переехала в Москву. В 1873 г. Исаак был принят в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где уже учился его старший брат Адольф. Семья жила бедно, а после смерти родителей (матери – в 1875 г. и отца – в 1877 г.) четверо детей, оставшихся сиротами, впали в крайнюю нужду. Известный художник М.В. Нестеров, бывший товарищем Исаака по училищу, вспоминал: «Левитан сильно нуждался, про него ходило в школе много полуфантастических рассказов. Говорили о его большом даровании и о великой нужде. Сказывали, что он не имел иногда и ночлега. Бывали случаи, когда Исаак Левитан после вечерних классов незаметно исчезал, прятался в верхнем этаже огромного старого дома Юшкова… выждав последний обход опустелого училища солдатом Земляникиным, прозванным «Нечистая сила», оставался один коротать ночь в тепле, оставался долгий зимний вечер и долгую ночь с тем, чтобы утром, натощак, начать день мечтами о нежно любимой природе».
Но, несмотря на голод и бесприютность, талантливый юноша учился гораздо лучше многих состоятельных одногруппников. Уже в 1875 г. Левитана, как получившего «первые номера по художественным занятиям», награждают ящиком красок и дюжиной кистей (для нищего художника это было целое состояние), а в 1876 – 1879 гг. освобождают от платы за обучение «ввиду крайней бедности» и как «показавшего большие успехи в искусстве». И в это же время Исааку пришлось почувствовать на себе всю тяжесть унижения человеческого достоинства. В 1879 г., после покушения народовольцев на жизнь Александра II, он, так же как и другие евреи, вместе с братом и сестрой Анной был выслан из Москвы (второй раз Левитана, уже известного живописца, вышлют в 1892 г.). «Изгои» поселились на даче в подмосковной деревне Салтыковка. Жили впроголодь, и, чтобы добыть средства к существованию, начинающий художник создает свою первую картину «Вечер после дождя». Писать ее было трудно: Исааку, одетому в красную старую рубаху, дырявые брюки и опорки на босу ногу, приходилось прятаться за кустами, чтобы своим жалким видом не привлекать внимание нарядной гуляющей публики. Попросив одежду у шурина, он поехал в Москву, где на Покровке продал эту картину за 40 рублей и был несказанно счастлив.
В октябре 1879 г. Левитан был зачислен Советом преподавателей училища на получение стипендии им. В.А. Долгорукого. Тогда же им написана картина «Осенний день. Сокольники», сразу же приобретенная П.М. Третьяковым. Уже в ней проявилась основная черта левитановского творчества – неотделимость природы от мира человеческих чувств. Все в этой картине – и низкие серые облака, и стоящие вдоль пустынной аллеи деревья, горящие последней, увядающей красотой, и опавшая осенняя листва – созвучно печали одиноко бредущей женской фигурки (она была нарисована художником Николаем Чеховым). Такому восприятию природы научили молодого живописца его замечательные учителя – А.К. Саврасов и В.Д. Поленов, которые всячески развивали и поддерживали дарование Левитана. К примеру, Поленов привлекал его к работе над декорациями для Частной оперы С.И. Мамонтова, часто приглашал в свое имение «пожить и поработать». Но даже эти маститые мэтры не смогли изменить решение Совета училища о том, что дипломная работа их ученика не достойна большой серебряной медали. И, закончив в 1883 г. учебу, Левитан получил не звание художника, а диплом учителя чистописания.
Уже первые его пейзажи, написанные в 1883-1884 гг., очаровывали необычайной свежестью живописи. Картины «Мостик. Саввинская слобода», «Саввинская слобода под Звенигородом» и этюд «Первая зелень. Май» (одноименное полотно было написано в 1888 г.) наполнены ослепительным солнцем, сочной и ажурной зеленью трав и деревьев, ощущением радости от буйства красок и жизненных сил пробуждающейся природы. Между тем творческое настроение самого художника в это время было отнюдь не радостным. Крушение надежд, неотступная нужда, ощущение себя изгоем общества часто повергали его в состояние депрессии. В такие периоды он уходил от людей, из мягкого и деликатного человека превращался в молчаливого или грубого и непредсказуемого. Весной 1885 г. он даже предпринял попытку самоубийства, первую и не последнюю.
Но лето, проведенное Левитаном с семейством Чеховых на даче в Бабкино, вернуло ему жизнерадостность и силы для работы. Это был редкий для художника период беззаботной жизни, полной молодого веселья, дурачеств и розыгрышей. Здесь Левитан особенно близко сошелся с А.П. Чеховым, и эта дружба, омраченная впоследствии единственным трехлетним перерывом, продлилась до конца жизни художника. Несмотря на прелести летней дачной жизни, он успевал много и плодотворно работать. Флигель, в котором жил Левитан, был сверху донизу завешан этюдами, которые потом стали основой многих его знаменитых картин.
Большую роль в творчестве художника сыграли его поездки на Волгу в 1887-1890 гг. Благодаря им он создал необычные пейзажные полотна, в которых органично соединились эпический размах и тонкая лиричность, задушевность и созерцательность, глубокие размышления о непреходящей красоте мира и светлая грусть («Вечер на Волге», «Вечер. Золотой плес», «После дождя. Плес», «Березовая роща», «Золотая осень. Слободка», «Тихая обитель»). Поездки на Волгу взбудоражили Левитана. Он перестал хандрить, повеселел, и это радостное настроение отразилось в его полотнах. А.П. Чехов очень их расхваливал: «Знаешь, – заметил он другу, – на твоих полотнах даже появилась улыбка». В волжских работах Левитана особенно сильно проявился национальный характер русского пейзажа. Они принесли художнику известность и признание. Одна из них – картина «На Волге», представленная на конкурсе Московского общества любителей художеств, была удостоена первой премии. С этого времени Левитан становится желанным гостем в домах московской художественной интеллигенции. Особенно часто он посещает вечера, устраиваемые художницей С.П. Кувшинниковой, которая сопровождала его во всех поездках по Волге. По словам М.П. Чеховой, сестры писателя, «Софья Петровна была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина». Она хорошо рисовала, и некоторые ее работы даже были представлены в Третьяковской галерее. Неудивительно, что пылкий и темпераментный Левитан не на шутку увлекся ею. Их отношения легли в основу чеховского рассказа «Попрыгунья», что надолго рассорило художника с Антоном Павловичем.
Это увлечение было не единственным в жизни Левитана. Долгое время он был влюблен в Лику Мизинову, делал предложение Марии Павловне Чеховой. Впоследствии она вспоминала: «У Левитана было восхитительное благородное лицо и очень выразительные глаза. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал… Левитан был неотразим для женщин, и сам он был влюбчив необыкновенно. Его увлечения протекали бурно, у всех на виду, с разными глупостями, до выстрелов включительно». История с выстрелом, о которой вспоминает Мария Павловна, была описана Чеховым в пьесе «Чайка». Она произошла в июле 1895 г. в имении Турчаниновых, куда художник приехал писать этюды. Причиной, по которой Левитан хотел застрелиться, стало соперничество увлеченных им Анны Николаевны Турчаниновой и ее дочери Вари. К счастью, и на этот раз смерть миновала его. Но пережитое потрясение еще долго мучило душу художника. В письме В.Д. Поленову он писал: «…жить нет сил, умереть также; куда деть себя?!!» Целительную силу Левитан, как всегда, нашел в искусстве.
С 1891 г. художник работает в мастерской, любезно предоставленной ему С.Т. Морозовым. Здесь он создает лучшие свои произведения: «У омута», «Владимирка» (обе в 1892 г.), «Над вечным покоем» (1893-1894 гг.), «Золотая осень», «Март», «Свежий ветер. Волга» (все в 1895 г.), «Весна – большая вода» (1897 г.) и др. Эти полотна поражают своим колоритом, продуманностью композиции, новыми, небывалыми для русской пейзажной живописи сюжетными мотивами, а главное – философским звучанием. Раздумья художника о мире и человеке в нем особенно сильно выражены в картине «Над вечным покоем». В ней отчетливо звучит тема бренности человеческого существования и безграничной власти природы. Сам Левитан писал об этой картине: «…В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием…» Не менее монументальный пейзажный образ создан художником и во «Владимирке», которая, по словам М.В. Нестерова, «может быть смело названа русским историческим пейзажем, коих в нашем искусстве немного».
В последнее десятилетие своей жизни Исаак Ильич часто бывает за границей: во Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии. Там он знакомится с искусством старых и современных европейских мастеров, ищет новые живописные формы, пишет пейзажи («Близ Бордигеры. На севере Италии», «Берег Средиземного моря», 1890 г.; «Озеро Комо», 1894 г.). Но заграничные картины художника в России успеха не имели. Критика ядовито писала о том, что Левитан «уже спел свою песенку и умер для русского пейзажа». Знакомясь с подобными высказываниями, очень ранимый и чувствительный художник не мог найти себе места. К тому же все больше давали знать о себе признаки тяжелой сердечной болезни. В 1897 г. врачи сказали Исааку Ильичу, что у него порок сердца и расширение аорты. Он был очень опечален тем, что болезнь не дает ему возможности работать, и говорил: «Так рано складывать оружие больно».
Но, несмотря на запреты врачей, Левитан продолжает много писать. Он создает тончайшие лирические поэмы в красках – «Сумерки», «Стога. Сумерки», «Летний вечер», «Поздняя осень» и большое, давно задуманное полотно «Озеро. Русь», которое современники назвали «песней без слов». Именно об этих работах художника А.П. Чехов писал: «…До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да и не знаю, дойдет ли кто после».
Гениальный пейзажист скончался 22 июля 1900 г., в пору цветения любимых им флоксов. Они были положены на его могилу молодыми художниками – теми, кого он учил постигать природу глубоко и проникновенно, так, чтобы слышать «трав прозябанье».
Левицкий Дмитрий Григорьевич (род. в 1735 г. – ум. в 1822 г.)
Выдающийся русский художник-портретист, крупнейший мастер парадного камерного портрета. Академик живописи за «Портрет А.Ф. Кокорина» (1770 г.), член совета Академии художеств (1776 г.) и руководитель портретного класса (1771-1787 гг.).
История России в лицах – так можно коротко сказать о творческом наследии Д.Г. Левицкого, живописца редкого дара, чья кисть зеркально отразила на полотнах эпоху XVIII века. Цари и царедворцы, философы и светские львы, холодные красавицы и писатели, промышленники и дипломаты, аристократы и купцы, чиновники и военные, родители и дети – их портреты говорят о прошлом гораздо значимей любых слов. Сотни лиц – умных и глупых, злых и добрых, чувственных и холодных – и за каждым человеческая судьба. Это не просто представители екатерининского века, они его олицетворение, они его созидатели. Художник выполнил сполна свою миссию живописца истории (хотя не создал ни одной исторической картины) и за это его современники вначале вознесли на пьедестал славы, а затем благополучно забыли, поглощенные своими делами, интригами и расчетами. И не известно под каким холмиком на старом Смоленском кладбище похоронен человек, сумевший обессмертить их облики.
Жизненный путь Левицкого начался в небольшом украинском селении на Полтавщине в старинном поповском роду, ведущем начало от священника Василия Носа. Отец Дмитрия, Григорий Кириллович, образованный и талантливый человек, тринадцать лет провел в Польше, где в совершенстве освоил граверное дело и стал крупнейшим украинским графиком. Из-за границы он вернулся не только зрелым мастером, но и с новой фамилией Левицкий, поселился в Киеве, а свой церковный приход сдавал по найму другим священникам. Его творческая жизнь часто переплеталась с деятельностью Киевской духовной академии и Киево-Печерской типографии. В семье Григория Кирилловича и его жены Агафьи, урожденной Левицкой, росли четверо сыновей и дочь. Старший, Дмитрий, унаследовал от отца своеобразный дар композиции, совершенство рисунка и уверенную работу с натуры. Выросший в кругу украинской художественной интеллигенции и духовенства, он был хорошо образован, начитан, уверен в своих способностях и бесспорно очень талантлив.
Возможно, еще в 1752-1755 гг. Левицкий познакомился с известным художником А.П. Антроповым, который тогда расписывал Андреевскую церковь в Киеве. А в 1758 г. Дмитрий приезжает в Петербург и не только становится учеником прославленного мастера, но и живет в его семье почти шесть лет. В качестве помощника Антропова в 1762 г. он выполнял росписи Триумфальных ворот по случаю коронации Екатерины П. Два года спустя молодой художник уже самостоятельно реставрировал это сооружение, а в 1767 г. совместно с В. Васильевским создал два иконостаса и 73 образа для Екатерининской и Кироиоановской церквей и добился очень высокой оплаты своей работы.
Неизвестно, были ли другие учителя у Левицкого, но уже в первых портретах его стиль в корне отличался от антроповского. Его манера самостоятельна и более созвучна западно-европейской своей непринужденностью, гаммой полутонов, лессировкой, смягчающей интенсивность цвета, и характерной световоздушной средой. За портреты исторического живописца Г.И. Козлова и его супруги Левицкий в 1769 г. получил звание «назначенного» в академики. А следующий год стал для него годом почти невероятного, головокружительного взлета. Среди 39 работ, представленных на выставке в «Императорской академии трех знатнейших художеств», шесть принадлежали «вольному малороссиянину» Д. Левицкому, который затмил уже именитых художников – Гроота, де Лапьера, Лосенко и Вельского. И лица, изображенные на портретах, совсем не рядовые. Один – изысканно галантный, ироничный граф А.С. Строганов. Он явно некрасив и простоват среди парадной обстановки кабинета, но удивительно человечен и умен. Другой – дипломат, хитрец и предатель, великолепный переводчик, музыкант и композитор, профессиональный живописец, а также тайный советник и будущий сенатор А.Г. Теплов. Его властный оценивающий взгляд, волевой подбородок, презрительно искривленные губы странно сочетаются с незаурядным умом и мечтательной впечатлительностью. На третьем портрете изображен коллежский советник и опекун Императорского Московского воспитательного дома Б.В. Умской (как считали современники, побочный сын императрицы Елизаветы Петровны). А рядом с ним хитрый, сообразительный мужик, откупщик графа П.Б. Шереметева, делец и меценат Н.А. Сеземов – пренеприятнейшая личность с одутловатым желтым лицом. Здесь же портрет штаб-лекаря X. Виргера «102 лет от роду». Но «гвоздем выставки» стала программная работа на звание академика – «Портрет архитектора А.Ф. Кокорина», ректора Академии художеств. Внешняя мишура дорогого парадного костюма, выписанная до мельчайших подробностей и цветовых нюансов, не затмевает, а акцентирует внимание на ласковом, простодушном лице, взгляде умных глаз, едва заметной усмешке и выразительных руках творческого человека.
В 1772 г. Левицкий получил звание академика, а спустя год ему поручили вести портретный класс в академии. В течение 17 лет «превосходно эрудированный в вопросах искусства господин академик» три раза в неделю спешил к ученикам. И здесь он ни в чем не был похож на других преподавателей. Своим подопечным мастер давал очень разнообразные и обширные профессиональные знания, предлагал для копирования картины Ван Дейка и Рембрандта, Лосенко и «персонных дел мастера» И. Никитина. Питомцев Левицкого ценили за их профессиональную эрудицию и мастерство.
На такую высоту художника поднял не только его несравненный дар, но и покровительство приближенных к Екатерине II сановников И.И. Бецкого и А.Г. Теплова. Это они обеспечивали замкнутому по натуре Левицкому высокопоставленных заказчиков, таких как вице-канцлер князь А.М. Голицын (1772 г.), фельдмаршал А. А Прозоровский, директор придворной капеллы М.Ф. Полторацкий, князь Г.Г. Орлов (все в 1780 г.), статс-секретарь императрицы А.В. Храповицкий (1781 г.) и ее фаворит А.Д. Ланской (1782 г.). Все парадные портреты отличаются, как и положено, блеском наград, переливом драгоценностей, пышностью одежд. Для портретируемых главное – демонстрация знатности, богатства, дворянских достоинств, власти и почета, но за этим «натюрмортом» от художника не скрывается человек и его внутренний мир.
Среди парадных изображений резко выделялся портрет «русского чудака XVIII столетия» П.А. Демидова (1773 г.), который скорее напоминал картину и воспринимался как одна из «выходок» портретируемого. Освобожденный от внешних признаков богатства, в нарочито простой домашней одежде, этот садовод-любитель с лейкой и цветочными горшками выглядел на портрете величаво и помпезно на фоне колоннады. В результате образ получил усложненную характеристику личности, лишенную ясности духа и внутренней гармонии.
Живописное мастерство Левицкого было настолько совершенно, что парадные портреты императрицы Екатерины II, написанные на основе утвержденных ею «эталонов», намного превзошли все имеющиеся образцы. Особенно знаменит портрет-аллегория «Екатерина Законодательница в храме богини Правосудия» (1783 г.). «Ее Императорское Величество, сжигая на алтаре маковые цветы, – как описывает картину сам Левицкий, – жертвует драгоценным своим покоем для общего покоя». На полотне все охвачено движением: бархатный занавес, клубы жертвенного дыма, стремительно легкая и праздничная фигура Екатерины, задрапированная в переливающееся бледно-желтое атласное платье. Сам Державин откликнулся на великолепную картину одой «Видение Мурзы». Так же, на основе чужого портрета, без единого натурного сеанса, был исполнен художником один из лучших портретов философа Д. Дидро (1773-1774 гг.).
В ансамбле из семи портретов воспитанниц и выпускниц Смольного института благородных девиц Левицкий с гениальной живописной силой передал одну из сторон дворянской культуры XVIII в. Эти картины, построенные как костюмированные представления, покоряют четко продуманной декоративностью и разноплановым изображением очаровательных юных героинь, раскрывают сценические дарования девушек. Театральные эффектные костюмы усиливают жизненность и естественность образов «смолянок». Художник не пытается скрыть от зрителя излишне заостренный нос Хованской, мальчишеские черты Хрущевой и детскую угловатость Ржевской. Словно куколка на музыкальной шкатулке, с искрящимися смехом глазами стоит Нелидова. Изумительные бальные платья Алымовой и Молчановой, переливаясь богатством белых, желтых и жемчужных оттенков, сияют матовым блеском, подчеркивают грациозность фигур и жестов. Бросается в глаза абсолютная живописность приемов, которые служили Левицкому для передачи всех проявлений жизненной красоты.
«Разве не поэт Левицкий? – позднее сказал о нем художник К. Коровин. – Какие и как у него переданы женщины!» Они очень разные по возрасту, общественному положению и внешности. Вот помещица Бакунина (1782 г.), располневшая, рыхлая, с порозовевшим носом женщина, небрежно одетая в домашнее платье. Все ее душевные волнения остались в прошлом, сейчас это спокойная, решительная и хлебосольная хозяйка. А рядом с ней светская львица У. Мнишек (1782 г.) – вся в блеске атласа и переливов шелковых кружев. У нее пышная напудренная прическа, кукольная внешность и тронутый горечью внимательно-насмешливый взгляд. Среди броской мишуры художник разглядел сильный и достаточно жесткий характер остроумной, начитанной и темпераментной женщины.
Несмотря на множество официальных заказов, Левицкий всегда изыскивал время для встреч с близкими ему людьми и создания их портретов. В его дружеское окружение входили братья Бакунины (портреты 1782 г.), семья Полторацких (ок. 1780 г.), литераторы И. Долгоруков (1782 г.) и Н. Новиков (середина 1780 г.) и др. Художник был тесно связан с семьей графа Воронцова и создал парные изображения супругов (оба в 1782 г.), их четырех дочерей (все ок. 1790 г.). С особой теплотой относился Левицкий к другу юности архитектору Н.А. Львову (портреты 1773, 1789 гг.) и его жене (1778, 1781 гг.). Он хорошо знал романтическую историю их брака, сильные характеры и добрые души, что помогло создать обаятельные и гармоничные образы.
Жизнь Левицкого протекала в основном в академии и в огромной мастерской, где в работе одновременно было до полусотни холстов. Здесь поражало глаз обилие богатых нарядов (одежда рисовалась после натурного сеанса), тканей и всевозможных аксессуаров. Сам же художник был очень прост и в личных потребностях скромен. Обустроившись в собственном доме, Левицкий познакомился с живущей по соседству миловидной девушкой, дочерью сенатского служащего Настасьей Яковлевной и нашел в ней доброго друга и верную жену. Вместе пережили они большую утрату – двое сыновей умерли в младенчестве. Дочь Агафью растили не в роскоши, но и не бедствовали (небольшое академическое жалованье с лихвой компенсировалось гонорарами). Часто супруги принимали друзей-художников и литераторов. Не забывал Левицкий и родственников: помог брату Павлу получить столичное образование инженера, на свои средства женил его, пристраивал племянников. В доме его постоянно жили ученики.
Но этот благополучный период жизни закончился в конце 1780-х гг. В опалу попали покровители художника И. Бецкий, А. Безбородое, А. Воронцов, за «мартинистские» взгляды (масонство) на 15 лет в тюрьму угодил Н. Новиков. Возможно, почувствовав шаткость своего положения в академии, Левицкий в 1787 г. попросил об отставке, мотивируя свой уход «слабостью здоровья и зрения». Прошение было моментально удовлетворено, причем «пенсион» руководителю портретного класса, воспитавшему плеяду видных портретистов (Щукин, Дрождин и др.), был назначен мизерный. Правда, в 1807 г. Левицкий был восстановлен хлопотами друзей в звании члена Совета академии с достойным его многолетних трудов жалованьем.
По свидетельству современников, в последние 25 лет жизни всегда религиозно настроенный художник всецело отдался религии. Этому сопутствовало и состояние безнадежности, которые царило в просвещенных кругах. В числе многих интеллигентных людей того времени он поддался мистическим настроениям и вошел в тайную масонскую ложу «Умирающий сфинкс», во главе которой стояли секретарь Академии художеств А.Ф. Лабзин и его друг Н.И. Новиков. Возможно, там Левицкий искал духовного и эмоционального прибежища. Но его тревожные думы не наложили чувства растерянности и разочарования на произведения последних лет. Мастер портретной живописи, посвятивший все свое творчество радостному прославлению человека, остался верен себе до конца жизни и у мольберта молодел душой, проникаясь верой в каждого человека и радость бытия. Сколько мог, он продолжал работать («Портрет молодого человека со сфинксом», начало 1790-х гг.; четыре портрета дочерей Павла I, 1790-е гг.; портрет брата Павла, конец 1790-х гг.; «Портрет молодого человека», 1799 г.; двенадцать неоконченных портретов Владимирских кавалеров, 1800 г.; портреты купцов Билибиных, оба в 1803 г.). Последний холст Левицкого датирован 1812 г. Это портрет младшего брата художника, священника Прокофия. И все… Жесточайший ревматизм и почти полная слепота окончательно сковали творческие силы живописца. Дмитрий Григорьевич Левицкий, с чьим именем связана слава и гордость отечественной культуры и высочайшие достижения русской школы живописи, скончался 7 апреля 1822 г. Его уход был оплакан только семьей, и запись в церковной книге стала единственным откликом об ушедшем из жизни и быстро забытом современниками художнике. Но по-прежнему сказочными жемчужинами вспыхивают портреты «смолянок», сочными светотеневыми эффектами поражает «Портрет священника» (1779 г.), сверкают парадные мундиры и бальные платья, не затмевая своим блеском истинного героя искусства Левицкого – реального человека.
Лентулов Аристарх Васильевич (род. в 1882 г. – ум. в 1943 г.)
Известный русский живописец, график, театральный художник, иллюстратор, прекрасный колорист, мастер декоративного панно, один из представителей авангарда.
«Моя страсть к солнцу и яркому свету сопутствовала мне, что называется, с рождения», – признавался «балаганный богатырь» русской живописи Аристарх Лентулов – большой, дружелюбный, увлекающийся, музыкально одаренный человек широкой и доброй души. Друзья в шутку называли его Ярилой за необычайную солнечность его картин. Это он, веселый и затейливый, в первомайские праздники разрисовал Охотный ряд ослепительными завитками и зигзагами, а в Октябрьскую годовщину выкрасил деревья аллей Театральной площади Москвы в неистово-фиолетовый цвет. Его чудное и озорное искусство «пугало» обывателей. Не успев «приучить» зрителей к постимпрессионизму своей живописи 1910-х гг., Лентулов удивлял их футуристическими опытами, заполнившими 1912-1918 гг., и озадачивал кубистической сюитой 1918-1922 гг. А декоративный натурализм 1923 – 1925 гг. легко менял на декоративную романтику полотен 1925-1929 гг. И наконец, сразил всех наповал лентуловским реализмом последних лет. Надо сказать, что все эти «измы» в интерпретации художника как-то органично и непринужденно сплавились с русским лубком и иконой, вышивкой и игрушкой, и особенно древнерусской архитектурой, ставшей его «коньком» и непреходящей любовью. Многим это давало повод считать Лентулова парадоксальным художником.
Родился Аристарх в семье приходского священника, сосланного в пензенскую глубинку, по семейному преданию, за буйный нрав. Когда мальчику было всего два года, его мать овдовела и, оставшись с четырьмя детьми на руках, перебралась из села Воронье, где жила семья, в Пензу к родственникам. Маленький Аристарх быстро нашел общий язык со своим родным дядькой и проводил дни напролет в барском имении, где тот состоял на службе. Любимой вещицей ребенка стала старинная музыкальная шкатулка, очаровавшая его маленькое сердечко. «Я каждый раз плакал от восторга. А мелодии эти запечатлелись в моей памяти на всю жизнь, – вспоминал многие годы спустя художник. – Какие только картины не рисовались мне под эту музыку. И никогда больше не испытывал я подобного наслаждения от исполнения даже самых лучших музыкантов, какое получал тогда от этой маленькой шкатулки с наполовину истертыми валиками, отчего некоторые ноты проскакивали и не звучали». И, уже будучи сложившимся мастером, он создавал, исправлял и дописывал свои картины под несмолкаемые аккорды – «творил песнями».
Как сын священника Аристарх был принят в духовное училище, а затем и в семинарию. Он мог пойти по стопам отца, но в шестнадцатилетнем возрасте вопреки уговорам матери поступил в Пензенское художественное училище им. Н. Селиверстова. Вероятно, «буйный нрав» перешел от отца к сыну, ибо два года спустя, из-за ярого несогласия с творческими позициями своего учителя К.А. Савицкого, Аристарх уехал учиться в Киев. Три четверти года Лентулову, чтобы как-то прожить, приходилось, помимо занятий в художественном училище, зарабатывать уроками, выполнять различные «халтуры». Зато летом он наверстывал упущенное, привозя с каникул иногда по 100 и более работ. Но, поменяв место учебы, Лентулов не изменил своего характера и в конце концов вынужден был вернуться в Пензу. В 1906 г. он предпринял попытку поступить в Петербургскую академию художеств, но, будучи дерзким не только в творчестве, сумел навсегда закрыть для себя двери этого учебного заведения. В ответ на насмешливое замечание преподавателя, где это он усмотрел зеленый цвет на носу натурщицы, Аристарх заявил: «А вы разве не видите? В таком случае мне вас жаль».
Однако его тут же пригласил в свою студию Д.Н. Кардовский. Лентулов изучал классиков в Эрмитаже и одновременно выставлял свои работы на авангардных выставках: «Стефанос» (1907 г.) и «Венок» (1908 г.), где рядом с неоимпрессионистами подвизались еще и символисты «Голубой розы». Тогда же он познакомился с «отцом русского футуризма» Давидом Бурлюком и его братом Владимиром, а также со склонными к «примитивизму» М.Ф. Ларионовым и Н.С. Гончаровой и многими другими, составившими впоследствии ядро объединения «Бубновый валет». «В это время я почувствовал, что попал в свою компанию новаторов, которые хотели делать то же, что и я, которые отрицали господствовавшие тогда художественные вкусы», – вспоминал эти годы Лентулов.
Зима 1908 г. стала счастливой для Аристарха. Его руку и сердце приняла горячо любимая девушка Мария. Одна из дочерей зажиточного новгородского купца Петра Рукина, она с легкостью отказалась от богатого наследства ради не сулившей роскоши жизни с бедным, но милым ее душе художником. Их брак, основанный на глубоком истинном чувстве, не разрушили даже самые тяжелые жизненные испытания. Любимую жену Лентулов рисовал не раз. В числе портретов М.П. Лентуловой – «С розами», «В синем платье» (оба в 1913 г.) и многие другие. Аристарха Васильевича трудно назвать прирожденным портретистом, но у него, несомненно, было свое неповторимое видение каждого человека: «Я не признаю портретов… если они выполняют функцию фотографии, – говорил он. – Я считаю портрет произведением искусства только в том случае, если художник передал свое переживание отданного объекта, свое впечатление, если хотите, даже свое настроение». Именно воплощенным на холсте настроением воспринимаются многочисленные портреты, созданные художником. Среди прочих ему позировала актриса Чебоксарова (1923 г.), арфистка В.Т. Дулова (1940 г.), художница Т.А. Оранская. Созданный в 1908-1909 гг. «Автопортрет в красном» он считал своей этапной вещью.
В 1910 г. живописец с женой переехал в Москву. И вот парадокс: в истории первопрестольной наверняка не было более преданного и восторженного поклонника ее памятников и площадей, ее церковных куполов, чем приезжий Лентулов. Особенно он любил московские церкви XIV-XVII вв., цветные и обильно украшенные, поистине строившиеся «на диво». В его картинах 1910-1920-х гг. формы расчленяются на цветовые фрагменты, как бы двигающиеся в глазке калейдоскопа, то сгущаясь, то, наоборот, разбегаясь от центра, декоративность полотен усиливают кусочки бумаги, ткани и фольги, введенные в живопись. Таковы «Василий Блаженный», панно «Москва» (обе в 1913 г.), «Победный бой», «Звон. Колокольня Ивана Великого» (обе в 1914 г.), «Небозвон» (1915 г.), «У Иверской» (1916 г.) и др.
В столице Лентуловы жили довольно скромно, занимая большую, но почти пустую квартиру: «Потому, что ни я, ни жена не любили загромождать излишней мебелью свое жилище», – вспоминал Аристарх Васильевич. Жили, что называется, открытым домом. К ним захаживали поэты В. Маяковский и И. Северянин, писатель А. Толстой и, конечно же, друзья-художники. Громкие бесконечные споры об искусстве за вином и картами, стихи, песни и музыка… Аристарх Васильевич любил взять в руки гитару, с удовольствием усаживался за рояль, часто пел в компании Ф.И. Шаляпина и, несмотря на свою крупную фигуру, водил хороводы. Сам артистичный от природы, он и собравшихся привлекал к участию в разыгрываемых сценках и пародиях. Вполне вероятно, что в этом уютном гостеприимном доме и было принято окончательное решение о проведении выставки «Бубновый валет» (1910 г.), давшей начало одноименному объединению художников-единомышленников.
В следующем, 1911 г. уже давно увлеченный кубизмом Лентулов «поехал за ним в Париж» – посмотреть П. Пикассо и Ж. Брака. Ближе познакомился с теорией и теоретиками этого направления живописи, обучаясь некоторое время в «Академии палитры» у Ле Фоконье; посетил Италию, а вернувшись в Москву, создал серию тех самых замечательных московских пейзажей, о которых уже упоминалось.
Художник мощного, жизнерадостного темперамента, наглядно выраженного в его «Автопортрете» (1915 г.), Лентулов принял революцию как праздник обновления. Он был участником многих выставок и членом многих обществ, в том числе секретарем (1918 г.) и председателем (1922 г.) «Мира искусства». Работал также как театральный художник. Особенно плодотворным было его соавторство с режиссерами А.Я. Таировым, Ф.Ф. Комиссаржевским и В.И. Немировичем-Данченко. Он оформил, в частности, постановку «Прометея» А.Н. Скрябина на сцене Большого театра (1918 г.); наиболее известной из его театральных работ было оформление спектакля «Испанский священник» Ф. Бомонта и Д. Флетчера во 2-м МХАТе, (1934 г.). Занимался он и педагогической деятельностью: с 1919 г. преподавал во ВХУТЕМАСе (Высших художественно-технических мастерских) и смежных институтах.
Постепенно Лентулов перешел от огромных картин-панно к произведениям менее масштабным и более натурным. Наиболее органичным полем красочного самовыражения стали для него пейзажи и натюрморты, такие, как «Закат на Волге», «Солнце над крышами. Восход» (обе в 1928 г.), «Овощи» (1933 г.) и др. Кто из нас не замирал с восторгом, глядя на буйство красок расцвеченного закатом неба? Или моря? Или Крымских гор? Или замечательно залитой светом улицы, когда она, привычная и серая, вдруг взрывается радужным свечением от одного-единственного солнечного луча? Вот так же ярки и сочны лентуловские полотна тех лет. Вполне естественно недоумение художника: «Меня упрекают и за форму и за содержание моих работ, а ведь всю жизнь я писал только то, что видел, и только так, как видел… Какого же еще реализма они от меня ждут?»
Мастер чувствует и понимает, что в новом видении искусства главной самодовлеющей задачей становится тема, а не ее художественное воплощение. Снижения живописной культуры Лентулов боялся больше всего. Его попытки приспособиться к программе соцреализма, предпринятые в 1939 г. серией картин на тему строительства метрополитена, большого успеха не имели. Стараясь сохранить свое творческое «я», художник уходит в работу над театральными декорациями и, боясь навлечь на себя гнев официальной критики, до минимума сводит свое участие в выставках. Последняя его персональная выставка, отмеченная современниками «как удивительно яркая, сочная и самобытная», состоялась в 1933 г.
В 1941 г. Аристарх Васильевич был начальником эшелона, в котором из Москвы в эвакуацию ехали работники культуры. В дороге он заболел, и ему пришлось сойти с поезда на ближайшей крупной станции – в Ульяновске. В городе живописец прожил около года, работал и даже оформил один из спектаклей местного драмтеатра, а осенью 1942 г. вернулся в Москву. Вернулся, чтобы умереть. Похоронили Лентулова на Ваганьковском кладбище.
Дочь художника Марианна, вспоминая отца, писала, что он «вовсе не был только веселым, легкомысленным человеком, которому все в искусстве и в жизни давалось легко… На самом деле он обладал характером сложным, легко увлекающимся, но и легко уязвимым, уколы и нападки переносил тяжело, но не сдавался».
Вот и еще один парадокс Лентулова, только не художественный, а человеческий.
Лосенко Антон Павлович (род. в 1737 г. – ум. в 1773 г.)
Выдающийся русский исторический живописец, основатель русской художественной педагогики. Автор первого русского учебного пособия «Изъяснение краткой пропорции человека, основанной на достоверном исследовании разных пропорций древних статуй… для пользы юношества, упражняющегося в рисовании, изданное».
В один из сентябрьских дней 1760 г. возле дома русского посла во Франции Дмитрия Голицына остановились двое молодых людей. Они преодолели долгий путь. Тяга к искусству, к новым знаниям привела их в Париж из далекой России. Перед Дмитрием Алексеевичем, дипломатом, ученым, другом знаменитого французского писателя и мыслителя Дени Дидро, предстали пенсионеры русской Академии художеств, начинающие живописцы Василий Баженов и Антон Лосенко. Впоследствии они войдут в плеяду виднейших русских художников XVIII века.
Для Антона Лосенко судьба с детства готовила жизненный путь, связанный скорее с музыкой, чем с изобразительным искусством. Он родился в Украине, в городе Глухове Черниговской губернии, в семье купца. Мать его умерла рано. Отец, разорившись, спился. Воспитывался будущий художник в семье тетки. Здесь сироту не жаловали, попрекали куском хлеба и рады были любой возможности избавиться от него. Желание «добрых родственников» вскоре сбылось. В украинских городах и селах набирали музыкально одаренных мальчиков для придворного певческого хора. Так семилетний Антон оказался в Петербурге. Мальчиков, поющих в капелле, обучали не только музыкальной грамоте, но и русскому языку, арифметике. Певчие могли пробовать силы в самых разных видах творчества. Однако через несколько лет, в 1753 г., капеллу пришлось оставить: Антон «спал с голоса». Да и немудрено: ему было уже шестнадцать. Нужно было либо возвращаться в Украину, где его никто не ждал, либо искать себе новое занятие в Петербурге. Удача улыбнулась юноше. Еще в капелле Антон проявлял интерес к изобразительному искусству и, видимо, делал некоторые успехи. Потому его и еще двоих «спавших с голоса» отдали в ученье к крепостному художнику Шереметевых, замечательному портретисту Ивану Аргунову.
Пять лет молодые люди наблюдали за работой мастера, сами учились копировать и писать с натуры. Здесь Лосенко прошел неплохую школу, о чем свидетельствует картина «Товий и ангел» (1759 г.). Антон сумел передать пространство, прекрасно справился с перспективой.
В 1757 г. была основана русская Академия художеств. Вполне естественно, что одаренный юноша стал одним из первых ее студентов. Получив хорошее образование у Аргунова, Лосенко оказался на голову выше своих товарищей, поэтому в академии он не столько учился, сколько преподавал сам. Сентябрь 1769 г. Антон Лосенко и будущий архитектор Василий Баженов встретили в Париже, куда академия отправила их для усовершенствования мастерства. Здесь Лосенко работал под руководством известного французского живописца Жана Рету. Русский художник много рисовал, посещал музеи, пытался выучить французский язык. Учитель его придерживался в своем творчестве принципов позднего барокко. Антон, перенимая у Рету все лучшее, все же старался как можно меньше подражать французскому мастеру. В Париже Лосенко создал рисунок «Смерть Сократа», за который Французская академия присудила ему Третью медаль (случай для Франции редкий!), копию картины Шарля Лафосса «Христос в пустыне с ангелами» и полотно «Чудесный улов рыбы» (1762 г.).
По приезде Лосенко на родину эта картина стала самым лучшим отчетом о проделанном в Париже. Работа получила высокую оценку русской академии. Картина несколько напоминает одноименное произведение Жана Жувенэ, которое Лосенко, несомненно, видел его в одной из парижских церквей. Однако произведение русского художника вовсе не является точной копией французского образца. Лосенко по-своему трактовал библейский сюжет об одном из чудес, сотворенных Христом. Как-то апостол Петр ловил рыбу, но удача отвернулась от него. Когда в его лодку вошел Иисус, рыбаки попытались снова вытащить сети, но едва смогли сделать это – так много рыбы оказалось там. В отличие от Жана Жувенэ, Лосенко окружил Сына Божьего целой толпой людей, изобразив их очень реалистично, без излишней нарочитости и театральности. Все фигуры расположены как бы по спирали, которая завершается изображением Петра. «Чудесный улов рыбы» видела Екатерина II; картина ей очень понравилась, и императрица приобрела ее для Эрмитажа.
Лосенко пробыл в России всего полгода и снова отправился за границу – сначала опять в Париж, а потом в Рим. В столице Франции он обрел нового учителя, представителя искусства раннего классицизма Ж.М. Вьена. «Упражняюсь я в копировании с рисунков, рисую с натуры дважды всякий день, компоную на бумаге», – писал Лосенко в Петербург. Учил Вьен молодого художника и «карикатуре», мастерству передавать психологическое состояние человека. Упорный труд дал неплохие результаты. В 1764 г. были написаны картина «Венера и Адонис» и «этюд с натуры колерами» – «Андрей Первозванный». Оба произведения – прекрасные примеры правдивого изображения человеческого тела. Особенно искусствоведы ценят то, как Лосенко изобразил голову Андрея. Художник показал апостола перед казнью. Сцепив пальцы рук, Андрей вскинул взор к небу, будто ожидая оттуда помощи. Глаза старика глубоко запали, рот приоткрыт, обрамленное седыми волосами лицо контрастно освещено. Каждая черта свидетельствует о том, что герой находится в тревожном ожидании.
Задержавшись в Париже еще на один год, Лосенко написал композицию «Жертвоприношение Авраама» (1765 г.). Эта картина по достоинству считается одной из лучших в творческом наследии художника. Древнееврейский пророк, дабы показать Богу свое послушание и смирение, собирается принести ему в жертву свою единственного сына Исаака. В последний момент ангел останавливает Авраама, схватив его за руку. Образ старика написан очень экспрессивно и выразительно. Видимо, уроки «карикатуры» не прошли даром. Авраам, идущий ради веры на сыноубийство, изображен довольно реалистично: его глаза полны ужаса, пальцы левой руки судорожно растопырены. Образ Исаака Лосенко трактует иначе: юноша с завязанными глазами абсолютно спокоен и безучастен к происходящему. Ангел, как и положено высшему существу, написан несколько условно и претенциозно.
Вскоре Лосенко сменил изысканный Париж на несколько провинциальный Рим. В этом музее под открытым небом художник мог с головой окунуться в изучение истории, древних памятников искусства. Здесь были написаны «Каин» и «Авель» (обе в 1768 г.), «Зевс и Фемида» (1769 г.), копия с картины Рафаэля «Правосудие». За восемь лет пребывания на Западе Лосенко из пенсионера превратился в зрелого мастера, вполне сложившегося живописца.
Первой большой работой, выполненной Лосенко в историческом жанре, стала картина «Владимир и Рогнеда» (1770 г.). Первой не только в творчестве художника, но и во всем русском искусстве. Она повествует о том, как князь Владимир насильно взял в жены полоцкую княжну Рогнеду, убив ее отца и братьев. В образе Владимира Лосенко сумел передать и княжескую жестокость, и любовь к непокорной женщине. Рогнеда – более абстрактный образ, она почти идеально красива, особенно прекрасны ее голова и руки с тонкими пальцами. В фигуре сидящей справа служанки Лосенко воплотил черты русского национального типа: длинная коса, украшенная жемчугом полоска на голове, сарафан. В ее взгляде – безграничное сочувствие хозяйке. Екатерине II, однажды посетившей мастерскую художника, приглянулся именно этот народный образ. «Коленопреклоненная женщина… написана в манере Рафаэля, сколько можно судить по эстампам», – писала царица.
Хороших результатов Лосенко достиг и в портретной живописи. Недаром его первым учителем был портретист. Из самых ранних портретов кисти Лосенко выделяется написанная еще в мастерской Аргунова парсуна куратора академии И.И. Шувалова. В отличие от множества создаваемых в то время помпезных «парадных» портретов аристократии, Лосенко изображает Шувалова за работой. Лицо его одухотворено и «полно живого чувства». Так же художник запечатлел на своих полотнах драматурга А.П. Сумарокова (1760 г.), актеров А.Д. Шуйского (1760 г.) и Ф.Г. Волкова (1763 г.), секретаря русского посольства в Париже Л. Геннингера (1763-1765 гг.) и др. Все эти работы носят камерный характер, художник проявляет особый интерес к духовному миру человека, что позже станет отличительной чертой русского портретного жанра.
Велика роль Лосенко и на педагогическом поприще. Преподавать он начал еще в студенческом возрасте. В 1772 г. он составил «Изъяснение краткой пропорции человека…». Впоследствии этим учебником пользовались многие художники XVIII и XIX вв. В том же году Лосенко был назначен директором Академии художеств. Неразбериха в учебном процессе, денежные злоупотребления, приостановленное строительство нового академического здания – вот только некоторые из проблем, с которыми столкнулся художник и педагог Лосенко. К тому же в академии царила атмосфера интриг и бездушия. Помощи было ждать неоткуда. Однако новый директор сделал все, что было в его силах. «Сему опытному художнику обязаны все тогда обучавшиеся в академии не токмо живописи, но даже скульптуре и гравированию. Он во многом образовал их и руководствовал к достижению той отличности, которую некоторые после достойно заслужили», – писал его ученик И.А. Акимов.
Борьба с нерадивостью подчиненных, необходимость унижаться перед начальством, невозможность заниматься любимым делом из-за административной работы сломили здоровье художника, которое и без того было слабым. В 1773 г. Антон Лосенко умер, так и не успев завершить свою последнюю, большую историческую картину «Прощание Гектора с Андромахой».
Все оставленное этим художником – от простых карандашных набросков до огромных полотен – явилось своеобразным примером, учебником для многих поколений художников. Творчество Лосенко – корень всей русской исторической живописи. «Искусство нам твое тобою то являет, какой ты в свете был великий человек», – написал после смерти мастера его близкий друг, поэт В.И. Мастков.
Малевич Казимир Северинович (род. в 1878 г. – ум. в 1935 г.)
Выдающийся русский художник польского происхождения, мастер авангарда, основатель супрематизма, педагог и теоретик искусства. Автор сочинений «От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм» (1916 г.), «О новых системах в искусстве» (1919 г.), «Беспредметное творчество» (1919 г.), «От Сезанна до супрематизма» (1920 г.), «Бог не скинут» (1922 г.).
Казимир Малевич принадлежит к числу тех, чье имя было вычеркнуто из истории русского искусства еще при жизни. В Россию, где более полувека художник был предан забвению, он «возвратился» посмертно, на гребне сокрушительной мировой славы. Его легендарный «Черный квадрат» до сих пор вызывает бурю эмоций «своей кажущейся безыскусностью, отказом от общепринятых представлений об изобразительном творчестве» и «оголенной простотой». По праву вошли в золотой фонд мировой культуры живописные картины, рисунки, архитектоны, театральные работы и фарфор Казимира Малевича.
Родился К. Малевич на окраине Киева в польской семье. Его отец, Северин Антонович, был управляющим на сахароваренном заводе. Мать, Людвига Александровна, поэтически одаренная натура, писала стихи на польском языке. В семье Малевичей, в которой Казимир был первенцем, родилось четырнадцать детей, но только девять из них дожили до зрелого возраста. Семья часто переезжала с места на место, как того требовала отцовская служба, и потому детские годы будущий художник провел в украинских селах, окруженных свекольными полями. Яркие воспоминания детства, в которых были «взводы девушек в цветных одеждах», работающих на свекольных плантациях, навсегда остались для художника «воплощенной идиллией, земным парадизом».
С настоящей живописью Казимир впервые познакомился в Киеве, куда отец взял его на ежегодную ярмарку. По воспоминаниям художника, картина, которую маленький деревенский мальчик увидел в витрине магазина, оставила в его памяти «неизгладимое явление, как и от самой природы». До одиннадцати лет Казимир и представить себе не мог, что в мире существуют такие «волшебные предметы», как карандаши, кисти, краски и бумага. «Божественную мощь краски» он открыл для себя самостоятельно, взяв в руки кисть по примеру маляра, который красил крышу, отчего та «становилась зеленая, как деревья и как небо». Отец не одобрял тяготения сына к искусству и прочил его в сахаровары. Считая, что Казимир должен получить «настоящую специальность», он определил его в пятиклассное агрономическое училище в с. Пархомовка, близ Белополья. К слову, это учебное заведение стало единственным, об окончании которого Казимир Малевич получил официальный диплом.
С тех самых пор, когда мать будущего живописца приобрела для пятнадцатилетнего сына дорогостоящий набор кистей и красок, он не прекращал занятий живописью и некоторое время посещал занятия в Киевской рисовальной школе им. Н.И. Мурашко.
В 1896 г. семья Малевичей переехала в Курск, где три года спустя Казимир женился на очаровательной шестнадцатилетней красавице Казимире Зглейц, дочери курского лекаря. Став семейным человеком, он пошел на службу в Управление Курско-Московской железной дороги, но занятия живописью не оставил. Вместе с единомышленниками Малевич организовал в Курске художественный кружок, в котором, подражая настоящим школам, «художники-любители рисовали с гипсов и с натуры». Но «не удовлетворенный своей бескрылой жизнью и мучимый непонятными порывами», он в конце концов решил коренным образом изменить свою жизнь. «…Меня начала мысль о Москве сильно тревожить, но денег не было, а вся загадка была в Москве, природа была всюду, а средства, как написать ее, были в Москве, где жили тоже знаменитые художники…» – писал художник.
Летом 1905 г., приехав в столицу, Малевич предпринял попытку поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но она оказалась неудачной. Тогда он обосновался в Лефортовской художественной коммуне с надеждой на следующий год обязательно поступить. Но и спустя два года Малевича так и не приняли на учебу. Тем временем художник перевез в Москву свою семью, в которой уже было двое детей – сын Анатолий и дочь Галина. Впрочем, к тому времени отношения между супругами уже разладились, и вскоре они разошлись.
В этот курско-московский период художник писал натурные пейзажные этюды в импрессионистической манере («Весенний пейзаж», «Церковь» и др.). Для Малевича, как, впрочем, и для других художников будущего русского авангарда, импрессионизм стал «истоком», «платформой». Художник всегда утверждал, что новейшее искусство и он вместе с ним развивались «от импрессионизма к супрематизму». В большинстве его ранних произведений еще отчетливо проступает рука самоучки, а основное место занимают цвето-световые особенности мотива. Однако уже среди этих картин встречаются и работы, созданные, по словам самого художника, на основе «реальных наблюдений» («Бульвар», «На бульваре», «Девушка без службы», «Цветочницы»). Эти картины, как считает академик Д. Сарабьянов, уже отличаются «значительностью, весомостью художественного высказывания, достаточно высоким мастерством», что свидетельствует «об определенном уровне живописной зрелости, достигнутой их создателем».
Наряду с импрессионистическими работами в первые годы московской жизни художник создает произведения в духе модерна, элементы которого привлекали его вплоть до конца 1900-х гг. В 1909 г. Малевич выполнил серию литографий, изображающих сцены из нашумевшего спектакля Л. Андреева «Анатэма», которые послужили иллюстрациями к альбому, выпущенному к десятилетию МХТа. По сей день остается загадкой, каким образом никому не известный художник смог получить такой престижный заказ.
С 1905 по 1910 г. Малевич обучался в школе-студии И.Ф. Рерберга, отличавшейся гибкой и всесторонней системой преподавания. Он регулярно демонстрировал свои работы на выставках Московского товарищества художников. В школе-студии Малевич познакомился с людьми, которые сыграли важнейшую роль в его художественном становлении. Одним из них был художник И.В. Клюнков, известный в истории русского искусства под псевдонимом Клюн. Живописные полотна Малевича первых московских лет во многом сходны с работами этого художника, большого знатока древнерусской архитектуры и иконописи (цикл «Эскизы фресковой живописи», 1907 г.). Клюн был не просто соратником Малевича, но и преданным другом, который оказывал большую поддержку провинциальному художнику, в том числе и материальную. Следует отметить, что Малевич на протяжении всей жизни испытывал денежные затруднения, лишь в середине 1920-х гг. его дела обстояли относительно благополучно. Но за все годы творчества выдающийся мастер русского авангарда не получил и малой части той суммы, в которую оцениваются его работы сейчас.
И все-таки московский период Малевич считал самым счастливым в своей жизни. В 1910 г. он познакомился с детской писательницей Софьей Рафалович. Хорошо образованная, обладающая острым умом и незаурядным литературным талантом красавица сразу же покорила его сердце. 15 лет, прожитых вместе, показали, что супруги идеально подходили друг другу: их связывала не только глубокая любовь, но и общность интересов. Софья сумела создать в доме атмосферу уюта, радости и покоя, столь благотворную для творческой и научной работы Казимира. А с рождением дочери Уны их счастье не знало границ.
С 1910 г. в творчестве Малевича наступил период, когда на смену «долгому замедленному развитию, подспудному накоплению живописного опыта» пришло время, до предела насыщенное художественными новациями. Он принимает участие в эпатажных выставках нового объединения «Бубновый валет», где демонстрируют свои картины «молодые бунтари», выступает вместе с группой москвичей на выставке петербургского Союза молодежи. Совмещение, взаимопересечение разнообразных тенденций, стилей и манер становится еще более характерно для его творчества. Продолжая работать как импрессионист, вместе с тем он создает полотна, в которых явно ощущается влияние фовистов и экспрессионистов. Как никто другой, Малевич последовательно осваивал опыт новейших достижений, в каждом из них находя для себя то необходимое, что в итоге подвело его к самостоятельным открытиям в искусстве.
Важным этапом в его творчестве становится короткий, но плодотворный период неопримитивизма, последователи которого утверждали в живописи «нарочито огрубленное видение». Работы Малевича 1911-1912 гг. во многом перекликаются с произведениями основоположников неопримитивистской тенденции Н. Гончаровой и М. Ларионова, с которыми в это время сблизился художник. Правда, в отличие от них Малевич в своих полотнах доводит цвет до максимальной силы. Большие локальные цветовые пятна – ярко-красные, звонко-зеленые, желтые, обведенные художником черной, синей, а иногда и красной краской, делают его картины яркими и декоративными («Купальщик», «На бульваре», «Садовник», все в 1911 г.).
В 1910-1920-х гг. одной из основных тем его творчества становится крестьянская жизнь. Жанр, в котором художник изображал сельских жителей, он определил как «трудовой». Полотна первой крестьянской серии, в которых фигуры людей «примитивистски упрощены, преднамеренно укрупнены и деформированы», явно свидетельствуют о «решительном переломе» в искусстве Малевича («Жница», «Плотник», «Крестьянка с ведрами и ребенком», «Уборка ржи»). Создавая эти и другие образы («Женщина с ведрами», «Голова крестьянской девушки»), живописец уже не просто деформировал, а расчленял их на составные геометризированные части, облекая в «универсальную и прочную конструкцию кубизма». Используя кубистические методы, Малевич создал «свой неповторимый русский вариант кубизма». «Предмет, писанный по принципу кубизма, закончен, когда исчерпан диссонанс его… У кубистов есть еще одна ценность – не копировать предметы, а сделать картину», – писал художник. Кубистическое разложение форм совместилось у Малевича с еще одним европейским течением – футуризмом, приверженцы которого, опираясь на научно-технический прогресс, считали, что на смену «гуманитарной культуре должна была прийти новая, электрически-машинизированная». В результате такого слияния появилось оригинальное отечественное направление в искусстве, причудливый синтез, которого не знала европейская живопись, – кубофутуризм. Классическим образцом его стала картина «Точильщик» (1912 г.), написанная в стальной серо-голубой гамме. К кубофутуристическим можно отнести и такие картины, как «Авиатор», «Англичанин в Москве», «Корова и скрипка», написанные в 1913-1914 гг. Особенно примечательна последняя работа. Эпатажный смысл ее сюжета художник прокомментировал на обороте: «Алогичное сопоставление двух форм – «корова и скрипка» – как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудками». Она стала первой «алогичной», «заумной» картиной Малевича, за которой вскоре последовали другие. Интересно, что эту картину, как и кубофутуристические работы «Туалетная шкатулка» и «Станция без остановки», художник написал на полках обыкновенной этажерки, так как не имел денег на холст.
В 1913 г. Малевич оформил постановку футуристической оперы «Победа над Солнцем», которая была показана в «первом в мире театре футуристов». Примечательно, что именно на театральной сцене, а не на полотне впервые явился зрителям знаменитый «Черный квадрат» Малевича, созданный художником как декорация к спектаклю. Это был первый шаг к супрематизму.
На протяжении 1915 г. Малевич создал около пятидесяти полотен, в которых все больше стремился к беспредметности, избавляясь от любого «фигуративного знака, образа, хоть отдаленно напоминавшего что-либо». Эти работы, среди которых главное место, бесспорно, принадлежит полотну «Черный квадрат на белом фоне» (1915 г.), автор назвал супрематизмами. Будучи соратником поэта-футуриста В. Хлебникова, Малевич любил сочинять новые слова, и термин «супрематизм», послуживший названием новорожденному направлению, является самым известным из них. «Черный квадрат» в числе других работ экспонировался на последней футуристической выставке картин «0,10», где его, подобно иконе, расположили в «красном углу» зала «как ключ и наглядный манифест супрематизма». Супрематизм, по словам его основателя, имел «в своем историческом развитии три ступени черного, цветного и белого». «Черный квадрат», «Черный круг», «Черный крест» – три формы, начинающих «черный» этап, стали «тремя китами», на которых зиждилась супрематическая система в живописи. Своей последней стадии супрематизм достиг в 1918 г. В этот период из него ушел цвет – появилась картина «Белый квадрат на белом фоне», утверждающая «знак чистоты человеческой творческой жизни». Таким образом, по собственному мнению, Малевич достиг живописного абсолюта, после чего пришел к выводу, что миссия живописи закончена. «О живописи в супрематизме не может быть и речи, живопись давно изжита, и сам художник – предрассудок прошлого», – писал он.
Теперь в жизни Малевича главным становится постижение мироздания «не кистью, а пером». В 1919 г. он создал первый большой теоретический труд «О новых системах в искусстве». По мнению многих критиков, Малевич оказался самым бесстрашным и последовательным художником, избавившимся от «праха старого мира», чья живопись «лишилась последних «зацепок» здравого рассудка».
Интересно, что родоначальник супрематизма с его мистически-иррациональной сутью мироощущения, рассматривающий «мир как беспредметность», вместе с тем был чрезвычайно активен в практической сфере. Война и социальные катаклизмы еще больше способствовали усилению его общественной деятельности. В 1916 г. Малевич был мобилизован на фронт, где позднее его избрали в Московский совет солдатских депутатов. Затем он занял должность председателя художественной секции. После Октябрьской революции Малевич работал на различных постах в Народном комиссариате просвещения. Он занимался развитием музейного дела в России и педагогической деятельностью, совмещая ее с работой в Свободных государственных мастерских.
В 1919 г. художник переехал из Москвы в Витебск, где сотрудничал с М. Шагалом в организованном им Народном художественном училище. Два с половиной года, проведенные в провинции, живописец-реформатор отдал теоретическому осмыслению собственных открытий в живописи. Кроме того, в эти годы К. Малевич создал группу, названную УНОВИС (Учредители нового искусства). «Новая партия в искусстве» УНОВИС так полюбилась ее организатору, что именно в ее честь он назвал свою дочь Уной. Обладая недюжинными способностями лидера, он умел консолидировать вокруг себя единомышленников. «Малевич имел многих последователей и учеников-фанатиков. Он умел внушить неограниченную веру в себя, ученики его боготворили, как Наполеона армия…» – писал известный критик и историк искусства Н. Пунин. Идейные разногласия, принявшие со стороны Малевича скандальный характер, развели его с Шагалом. Впрочем, оба художника вскоре покинули Витебск.
Вернувшись в Москву, Малевич возглавил Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК). В «гинхуковские» годы он воплощал принципы формообразования супрематизма в реальных объемных моделях, названных им «архитектонами». По его мнению, они должны были служить «реальными проектами нового большого стиля», способного охватить все сферы человеческой жизни – «от архитектуры до кинематографа». В среде «гинхуковцев» распространился лозунг «Супрематизм – новый классицизм». Таким образом, он продолжил развитие утопических концепций русского авангарда и оказал немалое влияние на формирование идей в отечественной и мировой архитектуре. Новаторские поиски Малевича не могли не вызвать подозрений у идеологов большевизма, и в 1926 г. ГИНХУК, названный одним из критиков «монастырем на госснабжении», был ликвидирован, а его сотрудники разогнаны. Сам Малевич смог добиться заграничной командировки. В 1927 г. он побывал в Варшаве, затем посетил Берлин, куда привез большую выставку своих работ и весь рукописный архив.
Творчество русского авангардиста за рубежом оценили по достоинству. «Я думаю, что еще ни одному художнику не было оказано такого гостеприимства. С мнением моим считаются, как с аксиомой. Одним словом, слава льется, как дворником улица метется», – не без самодовольства писал Малевич. Но по возвращении в Россию художник был арестован и лишь благодаря стараниям своего друга, партийца К.И. Шутко, освобожден через несколько недель.
Вскоре после выхода из заключения Малевич овдовел. Он тяжело переживал смерть Софьи. Оставшийся с пятилетней Уной на руках, художник в 1927 г. женился на молоденькой Наталье Манченко, которую запечатлел в своих поздних полотнах.
Малевич оставил живопись еще в конце 1910 г., полагая, что, разработав супрематический проект, он исполнил свое предназначение. Но, оказавшись после разгрома ГИНХУКа и ареста в тяжелой жизненной ситуации, именно в живописи он находит свое спасение. Удивительно, что этот сторонник беспредметного теперь обращается к фигуративной живописи. Из «космических пространств супрематической вселенной» он возвращается на «русскую равнину с ее земным тяготением и реальной перспективой». Появляется второй цикл картин на крестьянскую тему, относящихся к постсупрематическому периоду. В них художник иногда использовал уже знакомые сюжеты и мотивы, почти буквально повторяя ранние композиции («Жница», «На сенокосе», 1928 г.). В поздних работах он изображает обезличенные фигуры людей, словно «скроенных из неких выгнутых жестких плоскостей» («Два крестьянина на фоне полей», «Крестьянка», обе в 1928-1932 гг.). Однако эти образы гораздо более драматичны, чем те, которые художник создал в первой крестьянской серии. С отвлеченно-фигурными изображениями Малевич экспериментировал и в другом обширном цикле постсупрематических полотен, основную часть которых составляют плоскостные женские «Торсы» и «Портреты». Картина «Красная конница» (1928-1932 гг.), также входящая в цикл поздних произведений, долгое время была единственной работой художника, официально признанной советским искусством. Однако эта наполненная «странноватой экспрессией» работа, с ее «пафосом антиутопии», принадлежит к числу самых «опустошенно-трагических» полотен художника.
В этот период Малевич все чаще и чаще менял места своей службы – работал в Государственном институте истории искусств, в лаборатории Русского музея, с 1929 г. ездил читать лекции в Киевском художественном институте. Украинские авангардисты высоко ценили творчество бывшего земляка, а в харьковском журнале «Новая генерация» в те годы печатался цикл статей К. Малевича. В 1929 г. состоялась третья персональная выставка художника, организованная Третьяковской галереей к тридцатилетию его творческой деятельности. Но ее общественный резонанс был незначительным. Все еще оставаясь одной из самых крупных фигур в художественной жизни, Малевич постепенно начинает отодвигаться на второй план. В 1930 г. художник был вновь арестован и несколько месяцев провел в тюрьме. Большое количество его рукописей было сожжено друзьями из предосторожности. Три года спустя искусство великого супрематиста было официально объявлено чуждым советскому народу, а его «Черный квадрат» подвергся уничтожающей критике.
В последние годы своей жизни Малевич писал в основном натурные пейзажи и реалистические портреты, для которых моделями служили его родные, близкие, друзья и ученики. Особенно примечателен ряд портретных полотен, в которых явно проступает ориентация на мастеров итальянского Возрождения («Портрет Н.А. Манченко, жены художника»). Портретная концепция позднего Малевича в полной мере нашла свое выражение в «Автопортрете» (1933 г.), получившем второе название «Художник». Проникнутый ощущением «духовной миссии», он стал последним творением живописца. «Художник открывает мир и являет его человеку… быть художнику среди вещей необходимо, ибо через него открывается новая симметрия, новая природа, он находит (как это принято называть) красоту…» – писал Малевич, уже не считая художника «пережитком прошлого».
Осенью 1933 г. Малевич неизлечимо заболел и в мае 1935 г. скончался у себя дома в Ленинграде. По завещанию художника урна с его прахом покоится в дачном поселке Немчиновка, который при жизни был для него «самым дорогим местом на земле». Над захоронением установлен памятник, спроектированный Н. Сугиным, – куб с черным квадратом. Во время войны могила художника была разрушена, и этот памятный знак восстановили лишь в 1988 г.
Малявин Филипп Андреевич (род. в 1869 г. – ум. в 1940 г.)
Русский живописец и график, один из самых ярких представителей русского модерна.
Филипп Андреевич Малявин родился 10 (22) октября 1869 г. в селе Казанка Бузулукского уезда Самарской губернии, в многодетной семье. Его отец, государственный крестьянин Андрей Иванович Малявин, был великан и силач, лицом удивительно похожий на изображения Христа. Мать, Домна Климовна, невысокая, но очень плотная женщина, отличалась редкостной красотой, мудростью и спокойствием. Фактически именно ей мы обязаны существованием того типа запечатленных на полотне русских крестьянок, которых кто-то из критиков назвал «рязанскими мадоннами». Жизнь была трудной: семья бедствовала, часто не хватало хлеба, поэтому приходилось подрабатывать, катая валенки. Филипп, старший ребенок в семье, с самого раннего детства рисовал, лепил и вырезал фигурки из дерева. Его всегда притягивала церковь и строгие лики на потемневших от времени образах. Мальчик срисовывал святых и все никак не мог решить, кем же хочет быть – живописцем или скульптором.
Когда Филиппу было 14 лет, в деревню к родным приехал погостить молодой монах с Афона. Он предложил Малявину отправиться вместе в Грецию, в русский монастырь, где действовала школа письма. Родители Филиппа понимали: хорошего земледельца из их сына не выйдет, зато может получиться неплохой иконописец. Подумав, они дали согласие. Вот только средств на далекую дорогу не было. Так что пришлось будущему художнику заняться «христарадничанием». Односельчане помогли, и он отправился в путь вместе с монахом.
Прибыв в Грецию, Малявин узнал, что обучаться в небольшой мастерской при монастыре Св. Пантелеймона могли только послушники. Так Филипп стал иноком. На удивление быстро он освоил все приемы иконописи. От парня требовалось точное соблюдение правил и следование образцу. Но образа, которые давались ему для списывания, оказывались измененными до неузнаваемости. «Самодеятельность» Филиппа получила неожиданную поддержку: его работы произвели впечатление в монастыре, и упрямого послушника оставили в покое – пускай рисует, как считает нужным. Малявину даже доверили расписать целую стену в одной небольшой церкви (к сожалению, она вскоре сгорела).
Монашеская жизнь была тяжелой для Филиппа. Смягчала ее только искренняя заботливость и опека доброго отца Гавриила. К тому же у талантливого инока, затмившего своими успехами остальных учеников мастерской, появились скрытые недоброжелатели. Одна их выходка едва не стоила юноше жизни: однажды, расписывая церковный свод, он почувствовал, как вздрогнули и затрещали подмостки; не раздумывая, Филипп одним махом перескочил на другие, едва не сорвавшись с огромной высоты. Оказалось, кто-то подпилил опорные стойки…
И тут на далекий Афон пришел вызов от бузулукского воинского начальника. Получив на проезд деньги, Филипп уехал в Россию.
Но армия обошлась без него. Тот самый вояка, который прислал вызов, решил, что иноку-иконописцу в казарме делать нечего, но потребовал от Малявина написать ему картину «Почтовая тройка». Закончив заказ, Филипп вернулся на Афон. Однако его судьба вскоре неожиданно и круто изменилась.
В 1891 г. монастырь посетил В.А. Беклемишев – скульптор из Петербурга. Новые росписи очень впечатлили его. С удивлением рассматривал приезжий высокого тихого инока. А этюды моря, изображение одного из святых и портрет настоятеля не оставили сомнений в том, что перед ним – на редкость талантливая личность. Беклемишев сумел убедить настоятеля и хозяина мастерской в том, что их подопечному необходимо учиться живописи в столице и, получив разрешение, увез Малявина. Наброски, сделанные по пути Филиппом, говорили о пытливом уме и необычном видении предметов и людей. Но в жизни этот одаренный юноша был абсолютно, по-детски наивен, хотя обо всем имел собственное мнение, очень быстро соображал и умел по одному намеку понимать вопрос и делать вывод. Филипп очень хотел учиться. Но прежде чем пытаться поступать в Академию художеств, ему предстояло выписаться из родного села.
Для того чтобы решить, быть ли Малявину художником, крестьяне организовали общий сход. На нем парню вручили бумагу под названием «Временный увольнительный приговор для поступления в учебное заведение по науке живописи». Документ удостоверили 169 крестьян, из которых только семеро были грамотными… В Петербурге на первых порах Малявин жил в доме Беклемишева. Когда бывший инок успешно сдал экзамены и был принят в Академию художеств вольнослушателем, скульптор выхлопотал своему подопечному стипендию.
Однокурсниками Малявина были люди, имена которых составили отдельную и яркую страницу в истории русского искусства: А. Остроумова-Лебедева, И. Грабарь, К. Сомов, Е. Мартынова, А. Мурашко. На своих новых товарищей Филипп поначалу производил странное впечатление: он ходил, опустив глаза, носил одежду, напоминавшую монашеский подрясник, и шапочку типа скуфейки; развернув работу, торопливо, украдкой крестился и осенял крестом рисунок. Малявин был застенчив, растерян, одинок, наивно откровенен и простосердечен.
Вскоре странного студента заметил Репин, учиться у которого мечтали все, и когда Малявин закончил общий курс обучения, забрал его к себе в мастерскую. Побывав летом 1895 г. на родине, Филипп привез с собой в Петербург несколько больших портретов, один из которых, «За книгой», позднее был приобретен П.М. Третьяковым. Эти полотна произвели огромное впечатление не только на соучеников Филиппа, но и на самого Репина. Его поразила психологическая сложность образов и сдержанная, мерцающая цветовая гамма. Конечно, мастера бытового жанра часто изображали крестьянок, но впервые, в работе студента, еще даже не ставшего настоящим художником, крестьянка была изображена думающей, мечтающей.
Тема села стала основной, но не единственной в творчестве Малявина. Он очень любил рисовать портреты. Моделями служили все: натурщики, педагоги, соученики, друзья.
Сенсацию в академии произвел портрет И. Грабаря. Он был окончен за один сеанс; это настолько ошеломило всех, что уже на следующий день у полотна собрались все профессора. Репин долго восхищался силой лепки и жизненностью изображения. В тот же период бывший инок создал превосходный портрет К. Сомова (1895 г.), сумев передать основные черты изображаемого: уверенность в себе, ленивую медлительность, спокойную замкнутость. Большое значение в творчестве художника имеет также картина «Больная» (портрет художницы Мартыновой, 1897 г.) – полотно однотонной серебристой гаммы идеально соответствует облику хрупкой, недолго прожившей девушки.
Портреты матери, сестры, односельчанок, написанные художником в 1898-1899 гг., производят впечатление значительности и широты обобщения. Особенно интересно полотно «Старуха» (портрет матери) – превосходно выкристаллизованный образ старой и мудрой крестьянки-труженицы, суровой и полной достоинства. Правда, некоторые профессора академии считали этюды и портреты Малявина «баловством». Все с нетерпением ожидали дипломной картины молодого художника.
В 1899 г. Филипп выдал на суд академии картину «Смех»: несколько хохочущих крестьянок в красных сарафанах на зеленом лугу, залитом потоками яркого солнечного света. Впервые после древних иконописных изображений на его холсте заиграл сочный красный цвет.
«Смех» поразил современников. Работа производила впечатление огромного эскиза, стремительно набросанного уверенным в себе, смелым мастером. Краски казались необычно яркими, но все же не уничтожали ощущения световоздушной глубины картины, объемности форм и точности рисунка. Детально, скрупулезно проработанными на полотне казались только лица. Но широкая манера письма уже сама по себе была неприемлемой для официальной художественной школы того времени. А если учесть, что в работе студента отсутствовала повествовательность, обычная для жанровых картин, а образ создавался на одной только эмоциональной основе, то можно было понять, почему взбунтовались профессора «старой» школы. Совет Академии художеств, возмущенный дерзким произведением, не захотел признать Малявина художником и отказал ему в заграничной поездке.
Спас положение Репин. Он пригрозил уйти из академии, если Филипп не получит диплома. Эта психологическая атака возымела желаемое действие, и Малявину все же дали звание художника – правда, не за «Смех», а за ранее написанные портреты.
Тогда в 1900 г. друзья Филиппа вывезли скандальную работу в Париж, на Всемирную художественную выставку. Репин и его сторонники не ошибались: картина Малявина произвела настоящий фурор. Триумф молодого художника был полным: его полотно получило Гран-при, золотую медаль и было приобретено для собрания Галереи современного искусства в Венеции.
Вскоре выпускник академии вошел в круг представителей «Мира искусства». Правда, от полотен других мастеров – утонченных, посвященных любованию ушедшей стариной, – картины Филиппа Андреевича отличались не только широтой живописи, но и здоровым, оптимистическим восприятием жизни. Художник быстро стал одним из модных портретистов петербургского света. В заказных портретах он не чуждался манерности и внешних эффектов.
В начале 1900-х гг. Малявин построил в селе Аксиньино Рязанской губернии усадьбу и переехал туда с семьей. В то время им были написаны картины «Девка», «Три бабы» (1903 г.), «Пляшущая девка», «Две бабы» (1905 г.), «Две девки», «Вихрь» (1906 г.), «Верка» (1913 г.) и другие. Теперь декоративность и отвлеченность полотен Филиппа Андреевича уже ни у кого не вызывали сомнения. Все они представляли собой двух-трех «девок» или «баб» среди струящихся мазков: на фоне хаоса взвихренных ярчайших юбок, платков, блестящих бус – тщательно выписанные темные лица, полные загадочности.
В 1906 г. за «известность на художественном поприще» Академия художеств избрала Малявина академиком.
Но со временем он все больше отходил от полноценных жизненных наблюдений, стал повторяться в содержании, много терять в живописи. Написанный в 1911 г. большой «Автопортрет с женой и дочерью» был единодушно признан манерным и безвкусным. С тех пор Малявин редко выставлялся. Вот только его графика не изменилась. Эту своеобразную, полную нервного подъема манеру и острую жизненность изображения невозможно спутать с работами других художников.
Когда произошла революция, Малявин с семьей поселился в Рязани и занялся преподаванием. В то же время он работал в местном комитете просвещения, участвовал в создании городской картинной галереи и студии живописи, в организации охраны памятников старины. В 1919 г. в городе состоялась персональная выставка художника.
В 1920 г. Малявин переехал в Москву и был избран делегатом на Всероссийскую конференцию. Там Филипп Андреевич познакомился с Лениным и получил свободный доступ в Кремль. В течение последующего времени он исполнил много карандашных зарисовок партийных деятелей. Художник принимал участие в выставках «Мира искусства» (1921 и 1922 гг.), Союза русских художников (1922 г.), Ассоциации художников революционной России (1922 г.).
Осенью 1922 г. Филипп Андреевич с семьей уехал за рубеж для устройства своей передвижной выставки. Как выяснилось несколько позже, возвращаться он не собирался. После недолгого пребывания в Берлине художник поселился в Париже, а в 1924 г., отметив 25-летие творческой деятельности, переехал в Ниццу.
Малявин продолжал много работать, вот только прежней выразительности и живости добиться уже не удавалось; талант художника словно подвял, утратил оптимизм и сочность. Тем не менее во многих городах мира с большим успехом проходили его персональные выставки. Но самым странным было то, что работы художника-эмигранта продолжали время от времени появляться на выставках в СССР. Ситуация совершенно немыслимая, особенно если учесть, что кремлевские наброски Малявина за границей превратились в серию популярных злых карикатур…
В 1940 г. живописец поехал в Брюссель – работать над заказанным портретом. Во время наступления немцев на Бельгию он был схвачен по подозрению в шпионаже. Однако Малявину повезло: среди офицеров был художник, знакомый с его работами. Семидесятилетнего «шпиона» отпустили. С долгими мытарствами, пешком (!), он возвращался к семье. В Ницце Филипп Андреевич в плохом состоянии попал в больницу. Выйти оттуда ему уже было не суждено. Ф.А. Малявин умер 23 декабря 1940 г. Перед смертью художник сетовал, что все сложилось не так, как он хотел. Может, не стоило в свое время молодому иноку покидать Афон в погоне за признанием?
Манизер Матвей Генрихович (род. в 1891 г. – ум. в 1966 г.)
Известный скульптор-монументалист, художник, один из основоположников социалистического реализма; заслуженный деятель искусств УССР, действительный член Академии художеств СССР (1947 г.), народный художник СССР (1958 г.), вице-президент АХ СССР (1947-1966 гг.), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1950 гг.); создал ряд произведений, ставших классикой соцреализма. Ему принадлежат получившие официальное признание в СССР как канонические скульптуры В.И. Ленина, В.И. Чапаева, З. Космодемьянской и т. д. Наиболее известные произведения – памятники: Т.Г. Шевченко в Харькове (1935 г.) и в Киеве (1939 г.); И. П.Павлову в Рязани (1950 г.), А. С.Пушкину в Кемерово (1956 г.), статуя Зои Космодемьянской (1942 г.) и многие другие. Особенно много внимания уделял «ленинской теме»: создал проект памятника у Финляндского вокзала в Ленинграде (1921 г.); две статуи (1925-1926 гг.), которые были размножены и установлены в Пушкине, Кировограде, Куйбышеве (ныне Самара), Хабаровске; памятники в Петрозаводске и Минске (1933 г.), Ульяновске (1940 г.) и др. С 1937 по 1950 г. выполнил помпезные статуи и бюсты И.В. Сталина. Автор ряда бронзовых фигур на станциях метро «Площадь Революции» и «Измайловская» в Москве. Его очерки и выступления об искусстве были опубликованы в книге «Скульптор о своей работе».
Памятники ставили во все времена. Ведь они – определенные символы, которые постоянно, хотя и незримо, влияют на нас. Хорошая скульптура воздействует на сознание так же, как хорошая книга или хороший фильм, пробуждая в человеке лучшие чувства. Достаточно вспомнить величественные памятники Минину и Пожарскому, Суворову, Пушкину, Лермонтову, Петру I, Екатерине Великой. В Уставе Императорской Академии художеств было записано: «Искусство есть средство прославления Отечества и героев». Матвей Генрихович Манизер, один из признанных мастеров монументальной скульптуры первой половины XX в., известен как создатель памятников, каждый из которых по замыслу автора был призван славить родное Отечество и его героев. Как известно, каждый исторический отрезок времени дает миру своих героев, своих гениев Добра и Зла… Матвей Манизер посвятил свои памятники представителям разных эпох, людям разных профессий, разных взглядов и мировоззрений. Героями его произведений стали А.С. Пушкин, Т.Г. Шевченко, И.П. Павлов, И. Мичурин, Д. Менделеев, К. Маркс, В.И. Ленин, И.В. Сталин, З. Космодемьянская и др. Без сомнения, многие из монументов являлись «идеологически востребованными». Матвей Манизер имел репутацию «благонадежного» художника и нередко выполнял правительственные заказы. Скульптор принадлежал к числу тех, кого принято называть официально признанными, «благополучными» мастерами. В отношении него вряд ли можно упомянуть высказывание знаменитого американского мастера Д. Уистлера о том, что «художник – это человек, карьера которого всегда начинается завтра». И все же не в меру обласканного властями Матвея Манизера почему-то кажется невозможным обвинить в прославлении фальшивых ценностей соцреализма. Думается, что, принимая участие в осуществлении плана «монументальной пропаганды», он не лгал сам себе. Манизеровские памятники В.И. Ленину десятилетиями являлись неотъемлемой частью городских площадей и скверов всего Советского Союза. Породив массу копий, они стали эталоном героизированного образа вождя революции. Многие из них во времена перестроечного бума и демократических преобразований были демонтированы, однако такая участь постигла далеко не все монументы. А вот бюсты и статуи «вождя всех времен и народов» И.В. Сталина, созданные скульптором в 1930-1950-х гг., были демонтированы полностью на всей территории СССР, едва был развенчан культ личности диктатора. Но не стоит думать, что среди произведений М.Г. Манизера нет творений со счастливой судьбой. Пример тому – памятники Т.Г. Шевченко в Харькове, Киеве и Каневе, А.С. Пушкину в Кемерово, И.П. Павлову в Рязани и многие другие. Почитаемые, любимые, они и сегодня украшают собой главные площади городов. У их подножия вовсю кипит жизнь: звучат духовые оркестры, встречаются ветераны, выпускники школ и институтов, проходят экскурсии, назначаются свидания, играют дети. Пожалуй, трудно не согласиться с тем, что, как и люди, монументы имеют свои судьбы – у одних признание и почет сменяется забвением, к другим же слава приходит на века. Перед шедеврами вроде «Медного всадника», «Минина и Пожарского» мы всегда испытываем волнующее чувство монументального, величественного. Оно вызывается и глубиной содержания произведения, и совершенством формы, в которую это содержание облечено. Создавать такие творения подвластно поистине только прирожденным талантам. «Нельзя требовать от каждого скульптора создания монументального произведения. С чувством монументальности следует родиться, как с той или иной степенью развития зрения, слуха, голоса, юмористических способностей и т. д., – говорил М.Г. Манизер. – Таким образом, чувство монументальности у художника – если не высшая, то особая категория человеческих способностей, не обязательная для каждого, даже очень хорошего скульптора, но необходимая для того, кто берется за исполнение памятника». Бесспорно, что сам М.Г. Манизер как настоящий скульптор обладал чувством монументальности с рождения. Об этом свидетельствует не только его творчество, но и то, что родился будущий скульптор в семье довольно известного художника академического направления (М.Г. Манизер появился на свет 5 (17) марта 1891 г. в Петербурге). Неудивительно, что Матвей Манизер, еще в раннем детстве проявивший незаурядные творческие способности, повзрослев, воспринял и продолжил семейную традицию. Искусству юноша учился в школе при Училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (1908-1909 гг.), рисовальной школе Общества поощрения художеств (1909-1911 гг.) и Академии художеств (1911-1916 гг.) у Г.Р. Залемана и В.А. Беклемишева. Параллельно с этим он занимался на математическом факультете Петербургского университета, который окончил в 1914 году.
Монументальная скульптура влекла Матвея Манизера еще в годы учебы в Петербургской академии художеств. Отточенный, но холодный академизм его учебных композиций на традиционные античные темы наложил печать и на зрелое творчество скульптора. А новую тематику художнику дала грянувшая в 1917 году революция. С этого момента в области монументальной скульптуры Матвей Манизер выступает как один из основоположников так называемого социалистического реализма. В Москве на стене Петровского пассажа сохранился большой рельеф с изображением обнаженного атлета с маховым колесом – аллегория освобожденного труда «Рабочий» (1920-1921 гг.). Этот выразительный рельеф прошел по конкурсу в качестве эмблемы постоянной промышленной выставки в Москве. В 1920-е годы сложился характерный стиль Манизера, который можно назвать «академическим модерном» с чертами неоклассики. Во Всесоюзный конкурс 1929 г. на сооружение памятника Т.Г. Шевченко в Харькове включился уже довольно зрелый мастер, убежденный сторонник реалистического искусства. Работая над проектом, Матвей Манизер совершил путешествие по шевченковским местам, сделал большое количество пейзажных и жанровых этюдов. Он тщательно изучил переписку и портреты Т.Г. Шевченко. Особенно ценными для скульптора были автопортреты художника и поэта, его немногочисленные фотографии и посмертная маска. М.Г. Манизер многократно перечитывал «Кобзарь», воспоминания поэта. «Каждый день приносил что-то новое, интересное и очень нужное, – рассказывал скульптор, – а Тарас становился все ближе и роднее. Иногда мне уже так живо представлялся облик Шевченко – его рост, походка, выражение глаз, лица, – что, казалось, встреть я его на улице – нисколько не удивлюсь!» Не сразу пришел скульптор к образу такого Шевченко, который предстал для нас в бронзе. Первый проект памятника (1929 г.) скульптор выполнил в несколько конструктивистской манере. Огромных размеров голова Шевченко была установлена на цилиндрическом постаменте с барельефом коленопреклоненного гайдамака-повстанца, гневно потрясающего цепями. В другом проекте (1931 г.) М.Г. Манизер разместил статую поэта на пьедестале с низким барельефом, на котором были изображены персонажи из произведений Кобзаря. И только третий вариант проекта (1933 г.) наконец принес скульптору удовлетворение и долгожданную победу в конкурсе. Окруженная целым хороводом колоритных персонажей фигура Кобзаря, решенная в три натуры (5,5 метра), доминирует в памятнике. Но монументальность памятника следует искать вовсе не в его размерах, а в том, в чем почувствовал и запечатлел ее для нас автор, – в повороте головы, в жесте руки, в энергии застывшего движения… В точно найденном ракурсе слегка наклоненной головы, в энергичном жесте правой руки – во всей фигуре Шевченко прочитываются решительность и огромное внутреннее напряжение. Ярко выраженный силуэт скульптуры рельефно вырисовывается в пространстве – ее легко можно узнать издали. Фигуры, окружающие пьедестал, – вдвое меньше статуи Шевченко. Они воспринимаются в основном с близкого расстояния. В создании скульптур, близких к шевченковским образам, неоценимую помощь автору оказали выдающиеся мастера украинской сцены – актеры харьковского театра «Березиль», впоследствии народные артисты СССР Н.М. Ужвий, А.М. Бучма, И.А. Марьяненко, А.И. Сердюк и др. «Это были первоклассные художники! – вспоминал позднее М.Г. Манизер. – Всю жизнь я им буду очень благодарен…» Тарасу Шевченко М.Г. Манизер впоследствии посвятил еще два памятника – в Киеве и Каневе (оба 1939 г.).
И в дальнейшем весь творческий путь мастера будет отмечен проектами памятников, многие из которых осуществлены в разных городах страны. За относительно короткий срок М.Г. Манизер создает целый ряд монументов: в 1921 г. – памятник К. Марксу (для Калуги), в 1925 г. – памятник В. Володарскому (для Ленинграда), в 1931 г. – памятник жертвам 9 января 1905 г. (для Обухова под Ленинградом), в 1932 г. – памятник В.И. Чапаеву (для Куйбышева, ныне Самара); 1947 г. – памятник Зое Космодемьянской в Тамбове (этот монумент восходит к ее станковой фигуре (1942 г.), за которую художнику в 1943 г. была присуждена Сталинская премия); в 1949 г. – памятник И.П. Павлову (для Рязани; Сталинская премия, 1950 г.) и др. Одновременно мастер работал над воплощением в скульптуре образа В.И. Ленина, создав целую «лениниану». Манизеровские памятники В.И. Ленину в Хабаровске (1925 г.), в Ульяновске (1940 г., Сталинская премия 1941 г.), в Курске (1956 г.) и др., став признанным эталоном образа вождя пролетариата, были размножены и установлены во многих городах Советского Союза. Без этого обязательного атрибута «социалистической действительности» невозможно было представить ни одной главной городской площади. Со второй половины 1930-х годов главным героем работ Манизера являлся И.В. Сталин. Все новые и новые сталинские бюсты и статуи Манизер создавал в довольно помпезной манере в 1937, 1938, 1946, 1949, 1950 годах. В 1936 г. по заказу правительства Манизер выполнил большие монументальные скульптуры для московского метрополитена. Наиболее известна станция «Площадь Революции» (1936-1939 гг.), где в низких углах арочных проходов размещены сухо вылепленные большие фигуры с атрибутами различных родов деятельности – пограничник с собакой, птичница с курицей, молодой рабочий с шестеренкой и т. д. Во время Великой Отечественной войны эти бронзовые статуи были эвакуированы. Когда после войны их привезли в Москву, скульптуры являли собой ужасное зрелище. Их разрозненные части – головы, туловища, руки, оружие и другие детали – лежали в общей куче на платформе депо. Много терпеливого труда и умения литейщиков, чеканщиков и других мастеров потребовалось для восстановления статуй. Все скульптуры тщательно осматривал и принимал сам М.Г. Манизер. Работа облегчалась тем, что каждая скульптурная композиция повторялась четырежды, поэтому всегда находилась хотя бы одна, по которой исправлялись остальные. В конце войны, в 1944 г., скульптор выполнил 18 фигур для станции «Измайловская». Для московского метрополитена ваяла и жена мастера, известный скульптор Е.А. Янсен-Манизер. Ею выполнены мраморные барельефы станции «Добрынинская», а также небольшие фаянсовые медальоны-барельефы на станции «Динамо». На станции «Серпуховская» Еленой Янсен изготовлены 12 барельефов на тему «Народы Союза ССР». Произведения эти, изображающие людей вместе с животными, по-своему забавны: у овец, например, умные, практически собачьи глаза, а вот свинья демонстрирует хищный оскал; там зоркий сокол, тут, словно живая, корова… На многих барельефах заметны выцарапанные автографы Янсен. В семье известных скульпторов творчеством занимался и их сын – Гуго Матвеевич Манизер стал художником, в 1981 г. он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Во второй половине 40-х годов Манизером были выполнены бюсты Героев Советского Союза П.М. Камозина, А.И. Покрышкина; русских ученых (для высотного здания МГУ) Д. Менделеева, И. Павлова, В. Жуковского, И. Мичурина. В послевоенные годы М.Г. Манизер создал свою скульптурную пушкиниану. Его памятники великому поэту в разное время были установлены в нескольких городах СССР. Так, в 1954 г. состоялось открытие памятника А.С. Пушкину в Кемерово. На фоне лиры гусиное перо пересеклось с веткой лавра. Вот и все, пожалуй, скромное украшение пьедестала монумента. Фигура поэта, отлитая в бронзе, как говорится – в натуру, и поднятая довольно высоко пьедесталом, смотрится вполне монументально среди невысоких зданий, обступивших уютную и лиричную площадь. Вспоминая процесс создания монумента, М.Г. Манизер писал в своих очерках: «…Работая над Пушкиным, я сделал свыше десяти вариантов фигуры, причем каждый из них был как бы подсказан тем или иным стихом Пушкина. Были тут: "Брожу ли я…", "И пальцы тянутся к перу", "Люблю тебя, Петра творенье…", "Я памятник себе воздвиг…", "Здравствуй, племя младое, незнакомое…" и т. д. Из них наиболее отвечающим по содержанию современности был последний, и дальнейшую разработку его я и осуществил». Позднее Манизер еще не раз обращался к образу гениального поэта. Последней крупной его работой в области монументальной скульптуры стала выполненная совместно с группой молодых скульпторов многофигурная композиция «Борьба за мир» (1950 г.).
Всю свою жизнь Матвей Генрихович Манизер много работал, времени ему всегда не хватало. Но скульптор очень любил поговорку: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Часто вспоминая ее, он всегда уточнял: что отложено – то потеряно. Поэтому старался никогда ничего не откладывать, все успеть… Этому он учил и своих учеников, которых у него было очень много. До сих пор художественное образование в области монументальной скульптуры в России – одно из лучших в мире. Немалая заслуга в этом принадлежит Матвею Манизеру. Многие годы, начиная с 1921 г., он активно занимался преподавательской работой в художественных институтах Петрограда-Ленинграда и Москвы. С 1947 г. по 1966 г. М.Г. Манизер был вице-президентом Академии художеств СССР. Многие первоклассные скульпторы, последователи русской академической школы, которые работают сегодня, – это ученики Матвея Генриховича Манизера. Среди них талантливый скульптор Анатолий Андреевич Бичуков, ректор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова – знаменитой «Суриковки», подарившей отечественной культуре немало выдающихся имен. В своих произведениях, как и его знаменитый учитель, Бичуков прославляет Отечество и его героев. Его выразительная трехфигурная композиция, установленная на Поклонной горе в Москве, очень точно символизирует идею преемственности доблести защитников Отечества: воплощенные в бронзе, плечом к плечу стоят русские воины – ратник Куликовской битвы, участник Бородинского сражения, солдат Великой Отечественной… А памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре смело можно назвать народным: у его подножия всегда живые цветы, рядом играют малыши, читают стихотворения почитатели поэта. Сегодня А. Бичуков – народный художник России, вице-президент Российской академии художеств, академик. Как и все ученики, он помнит и любит своего учителя, которого уже почти 40 лет нет в живых. Матвей Генрихович Манизер ушел из жизни 20 декабря 1966 г. С тех пор многое изменилось вокруг. Давно нет Советского Союза, на благо и для процветания которого работал художник. Отечество обрело новых героев, а современные мастера – новые образы для воплощения… Но продолжают жить своей особой жизнью манизеровские памятники, в каждый из которых их создатель вдохнул душу. Ведь только те художники, которые оставляют в своих творениях частичку собственной души, тем самым наделяя их жизнью, могут считаться настоящими мастерами. Ибо, как сказал когда-то знаменитый А. Дюма-сын: «Держит ли художник в руке резец, перо или кисть, художник действительно заслуживает этого имени лишь тогда, когда вселяет душу в материальные предметы или сообщает форму душевным порывам, когда, одним словом, он идеализирует реальное, которое видит, и реализует идеальное, которое чувствует».
Мартос Иван Петрович (род. в 1752 г. – ум. в 1835 г.)
Выдающийся русский скульптор, мастер мемориальной и монументально-декоративной пластики, представитель классицизма. Профессор (в 1194 г.), ректор (с 1814 г.) и почетный ректор (с 1831 г.) Петербургской академии художеств.
Творчество Ивана Петровича Мартоса пришлось на период первого блистательного расцвета русской скульптуры, который по праву называют золотым веком в истории этого искусства. Именно тогда, на рубеже XVIII-XIX bb., в России создавались грандиозные архитектурные ансамбли Адмиралтейства, Казанского и Исаакиевского соборов, украшались скульптурой фонтаны Петергофа, дворцы в Царском Селе и Павловске, возводились памятники на городских площадях. Многие из тех произведений, вошедших в бесценный фонд русской культуры, принадлежат Мартосу. Но с наибольшей силой талант этого ваятеля раскрылся в мемориальной скульптуре. Свойственные творческой индивидуальности Мартоса «проникновенный лиризм, поэтическая одухотворенность и благородная простота» со всей полнотой проявились в созданных им надгробиях. Пленительная красота, совершенное мастерство и глубокая проникновенность творений Мартоса позволяют сравнить его искусство с «нежным благоуханием цветка, с волнующим звуком скрипки».
Родился И.П. Мартос в 1752 г. (по другим сведениям, в 1750 или 1754 г.) в Украине, в местечке Ичня Черниговской губернии. Его отец, отставной корнет Петр Мартос был обедневшим помещиком. В десятилетнем возрасте Ивана определили в только что учрежденную Петербургскую академию художеств, где он обучался в течение девяти лет. Его учителем был замечательный педагог Н. Жилле, воспитавший немало выдающихся русских ваятелей. Окончив академию, Иван Мартос продолжил свое образование в Италии. В Римской академии он учился у теоретика классицизма, живописца Рафаэля Менгса и итальянского скульптора Карло Альбачини, под руководством которого выполнил копии с античных голов «Минервы» и «Весталки». В эти годы молодой скульптор, совершенствуя свое мастерство, основное время уделял изучению античного наследия.
Из дошедших до нас произведений Мартоса наиболее ранними являются портретные бюсты семьи Паниных, созданные им вскоре после возвращения в Россию в 1779 г. Бюст своего покровителя Н.И. Панина (1780 г.) скульптор исполнил в духе древнеримского портрета, изобразив русского вельможу в облике античного философа-стоика. Позднее этот портрет Мартос использовал в надгробии графа Н.И. Панина (1790-е гг.). Как самостоятельный жанр, портрет не занимает в творчестве мастера значительного места. Свое дарование Мартос предпочел отдать не воплощению в скульптуре своих современников, а восхвалению в бронзе и камне их посмертной славы. Первые двадцать лет своей творческой деятельности он почти исключительно посвятил надгробной скульптуре. Обычай сооружать скульптурные надгробия распространился в России только в конце XVIII в. Кладбища, где хоронили знатных людей, быстро превратились в настоящие музеи мемориальной пластики. Поскольку Россия почти не имела своих традиций в этой области, Мартосу и его коллегам пришлось потрудиться над выработкой своеобразного русского типа надгробия. В разработке его он пошел своим путем. В надгробиях Мартоса нет того «темного чувства страха смерти», от которого не могли избавиться западные ваятели, и смерть не представляется безжалостным роком, а воспринимается как «непреложная закономерность того мира, в котором все кажется естественным и прекрасным».
Уже в первые годы после возвращения в Россию Мартос создал два замечательных надгробия – С.С. Волконской и М.П. Собакиной (1782 г.). Они исполнены в характере античной надгробной стелы – мраморной плиты с барельефным изображением. В стеле Волконской изображена молодая печальная женщина – само олицетворение скорби. Печаль не нарушает красоты юной плакальщицы. Надгробный памятник умершей в глубокой старости С.С. Волконской стал произведением, воспевающим жизненный дух и вечную красоту. Тем же настроением проникнут и памятник М.П. Собакиной, который можно считать одним из первых многофигурных скульптурных надгробий в России. Образы надгробия очень символичны. Смерть представлена в облике прекрасного юноши – гения смерти, погасившего горящий факел – символ человеческой жизни. Тема скорби тихо и элегично звучит в образе юной плакальщицы. Современники отмечали, что в произведении чувствуется «такая зрелость мысли, такая правда чувства, какая нелегко давалась даже самым блестящим западно-европейским мастерам надгробной скульптуры XVIII века».
Успешное исполнение надгробий принесло молодому скульптору первое признание. Получая множество заказов, Мартос одно за другим выполнил надгробия Брюс, Турчанинова, Куракиной, Лазарева, Гагариной, Павла I и др. Эти торжественные, значительные, призванные прославить умершего произведения свидетельствовали о все более ощущавшихся в творчестве скульптора чертах зрелого классицистического стиля. До конца своих дней Мартос работал в мемориальной пластике, исполнив еще немало удивительных произведений. Наиболее совершенен среди них «Памятник родителям» в Павловске – результат счастливого сотрудничества скульптора Мартоса и архитектора Камерона. Выстроенный еще в 1786 г., он (спустя десять лет) был украшен скульптурой.
В творчестве Мартоса двух последних десятилетий работа в надгробной скульптуре уже не занимала ведущего места. Этот период его деятельности был целиком связан с созданием городских памятников. Одно из прославленных произведений русской монументальной пластики – памятник Минину и Пожарскому в Москве, над которым скульптор работал в период наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 г. Призванный увековечить славу национальных героев, возглавивших в начале XVII в. русское освободительное движение, этот монумент и сейчас является одним из символов российской столицы. В 1803 г. на выставке в Академии художеств Мартос представил свою модель памятника. В конкурсе на лучший проект кроме него участвовали крупнейшие русские ваятели – Пименов, Щедрин, Прокофьев и др. К удивлению многих, в конкурсе на монументальную скульптуру победил Мартос – признанный автор изящных надгробий. «Но гений Мартоса, – писалось в журнале «Сын Отечества», – всех превосходнее изобразил памятник Спасителям России. Проект его удостоен Высочайшего одобрения». Из-за финансовых трудностей осуществление его началось только в 1812 г., «в то время, когда предлежала великая работа вновь спасать Отечество подобно тому, как Минин и Пожарский ровно за двести лет тому назад спасли Россию». В своем произведении Мартос изобразил момент, когда вдохновитель нижегородского ополчения Кузьма Минин-Сухоруков обращается к раненому князю Дмитрию Пожарскому с призывом возглавить войско и изгнать поляков из Москвы. Создавая памятник, автор не стремился воссоздать исторически точный облик персонажей. Минин и Пожарский напоминают скорее античных, нежели русских народных героев. Подобно Гоголю, Мартос считал, что народность заключается «не в сарафане и армяке». Несмотря на античный наряд героев, скульптору удалось раскрыть в них русский национальный характер с его решимостью и отвагой, волей и благородством. «Мои герои – живые. Я понимаю и чувствую их мысли, их порывы. Я даже говорю с ними, потому что я ощутил биение пульса моей родины в трудный для нее момент истории. Я осознал далекое прошлое в нашем настоящем и словно переживаю вместе с Мининым и Пожарским все этапы борьбы за Отечество», – говорил И.П. Мартос своим ученикам. Народный характер подвига подчеркивается во всем замысле произведения. Это был первый памятник в Москве, воздвигнутый не в честь государя, а в честь народных героев. По проекту Мартоса, он был поставлен в центре Москвы, у Торговых рядов, лицом к Кремлю, и лишь позднее – передвинут к храму Василия Блаженного. Открытие памятника 20 февраля 1818 г. превратилось в народное торжество. По словам современника, «во время сего торжественного обряда» стечение жителей, жаждущих насладиться «сим новым и необыкновенным зрелищем», было неимоверное. Ни один монумент, воздвигаемый в стране, не имел такого триумфа, как этот.
В эти же годы скульптор работал и в области монументально-декоративной пластики, создав кариатиды Тронного зала в Павловске, лепку «Зеленой столовой» в Большом дворце в Царском Селе, один из барельефов Чугунной лестницы Петербургской академии художеств, отдельные фигуры петергофских фонтанов. Особенно значительны среди произведений тех лет работы для Казанского собора, построенного архитектором А. Воронихиным. Для этого величественного храма, представляющего собой прекраснейший образец содружества архитектуры и скульптуры, Мартосом были исполнены статуя Иоанна Крестителя, фриз «Истечение Моисеем воды в пустыне» и небольшие барельефы над окнами.
В последние двадцать лет своей жизни Мартос стал официальным ваятелем императорской России. Он продолжал успешно творить в области монументальной скульптуры, хотя его образы уже не были такими гармоничными и трогательными, как в прежние годы. Классицизм с его холодностью и чопорностью все более превращался в официальный казенный стиль. Тем не менее и в поздний период творчества скульптор создал немало заслуживающих внимания произведений: работы в аракчеевском имении Грузино, надгробие Кожуховой, монументы Александру I в Таганроге, Потемкину-Таврическому в Херсоне, памятники Ломоносову в Архангельске и Ришелье в Одессе. Последний – одно из лучших произведений позднего Мартоса. Выполненный в бронзе, памятник прославляет имя французского эмигранта герцога Ришелье, в период правления которого Одесса стала одним из красивейших городов Новороссии. Не случайно автор изображает «начальника Новороссийского края» в образе мудрого правителя. Своей благородной красотой памятник близок лучшим работам Мартоса.
Огромное место в жизни скульптора занимала работа в Академии художеств, в которую еще в 1779 г. он был определен преподавателем ваяния. В 1794 г. Мартос стал профессором, в 1814 – ректором, а в 1831 – заслуженным ректором академии. Прекрасные творения мастера уже давно сделали его имя известным и почитаемым. Художественная критика ставила русского скульптора в один ряд с Кановой, Гудоном и Торвальдсеном, а поэты посвящали ему восторженные строки.
Но слава не меняла Мартоса. Окруженный почестями и вниманием скульптор до конца дней оставался отзывчивым, дружелюбным человеком, непритязательным и скромным. Друзья знали, что он всегда будет тем же «добрым Иваном Петровичем, заботливым патриархом своего многочисленного семейства, внимательным наставником учеников – продолжателей его дела». Автор многочисленных совершенных творений, профессор Академии художеств, Мартос и в старости не переставал учиться и признавался, что создавал некоторые произведения ради «ученья и занятия». Скульптура была для него не только высоким творчеством, но и «усердной службой», каждодневным трудом, движением вперед. Один из современников справедливо называл Мартоса «неустанным тружеником по своей части». Жизнь прославленного русского ваятеля была долгой и спокойной. Скончался мастер глубоким старцем в 1835 г.
За безупречное мастерство, тонкий вкус и изысканность творений Мартоса называли «русским Кановой». Без сомнения, все это роднит скульптора с прославленным итальянским мастером, но все же он был Мартосом, выдающимся творцом русской скульптуры. На лучшем из его творений – памятнике Минину и Пожарскому – мы видим скромную надпись: «Сочинил и изваял Иоанн Петрович Мартос родом из Ични».
Матвеев Андрей (Матвеевич?) (род. в 1702 г. – ум. в 1739 г.)
Знаменитый русский художник-портретист, один из основоположников русской светской живописи, мастер монументально-декоративного искусства. Первый русский заграничный пенсионер, получивший полное академическое образование. Первый руководитель Живописной команды в Петербургской канцелярии от строений (1731-1739 гг.).
Всего тридцать семь лет жизни было отпущено Андрею Матвееву – художнику, чье живописное мастерство «определило яркое самобытное лицо русского искусства XVIII столетия» и стало значительной вехой в его развитии. Биография живописца, составленная по крупицам неутомимыми исследователями, по-прежнему изобилует белыми пятнами. По исповедальным книгам удалось установить только год рождения Матвеева и определить, что по происхождению он был из разночинцев. Но ни место рождения, ни имя отца, а значит, и его отчество, до сих пор неизвестно.
В «Художественной газете» в середине XIX в. неизвестный автор без ссылок на какие-либо источники подробно рассказал о легендарной встрече в новгородском Софиевском соборе пятнадцатилетнего Андрея с Петром I, который уговорил его ехать с собой в Петербург и обучаться живописному ремеслу. Впрочем, ничего особого в этой встрече нет. Царь-реформатор и строитель постоянно испытывал потребность в специалистах и собирал талантливых юношей по всей России, а затем отправлял на выучку к иностранцам. И если изначально его интересовали ремесла и науки, то в 1716 г. это стремление распространилось и на все искусства.
Первые живописные петровские пенсионеры выехали в разные страны и города. Братья Никитины были отправлены во Флоренцию, четверо зодчих – в Рим. Матвеев обучался в излюбленной Петром I Голландии, в амстердамской мастерской известного портретиста Арнольда Схалкена. Наблюдавший за пенсионерами агент Фанденбург сообщил, что только один ученик не доставляет ему никаких хлопот. Андрей не пил, не бесчинствовал, а упорно работал и проявлял незаурядные способности и прилежание. И уже на четвертом году обучения он отчитывается в письме перед Екатериной I о результатах учебы и отправляет в Петербург две свои картины. «А именно партретъ Вашего Величества, который я нижеименованный раб Вашъ списывал от мастера моего. При сем партреть господина агента Фанденбурха». Два года спустя Матвеев вновь отправляет свои работы в Россию (не сохранились), и, по всей видимости, они были исполнены с достаточным мастерством, чтобы подающему надежды ученику разрешили продолжить свое образование.
6 декабря 1723 г. Андрей был зачислен в Антверпенскую академию художеств (Бельгия), где его педагогом стал неизвестный в наше время художник Спервер. Учителя прославленной академии, согретой лучами рубенсовской славы, дали Матвееву хорошую профессиональную подготовку. От пенсионерских лет, составивших половину его сознательной жизни, сохранилось много счетов на оплату и всего четыре картины: одна аллегорическая, две мифологических и портрет. Выражая свои соболезнования по поводу смерти Петра I, Матвеев преподносит Екатерине I «Аллегорию живописи» (1725 г.), исполненную акварельной техникой на дубовой доске. Начинающий художник изобразил императрицу в виде Минервы, возлежащей на облаках, которая благожелательно и заинтересованно взирает на уверенно рисующую у мольберта Живопись. «В ней выражена надежда на будущее русской культуры. Маленькая аллегорическая картина, с незамысловатым сюжетом, – пишет искусствовед Т.В. Ильин, – стала таким образом вехой на пути освоения русским искусством общеевропейского «языка», соединив в себе новую европейскую науку с серьезностью и искренностью национального чувства. Портретная традиция к этому времени уже сложилась – с «Аллегории живописи» Матвеева начинается развитие картины – в европейском понимании этого слова».
И если «Аллегория живописи» выполнена им в полутоновой технике, с мягкими лессировками, то «Венера и Амур» (дубовая доска, 1726 г.) – в классической манере высветления, требующей от мастера качественно другого умения моделировать объем. «Вакхическая сцена» (сохранилась частично) и интимный, без царственных регалий «Портрет Петра I» (ок. 1724-1725 гг.) легко и свободно написаны на холсте. Все академические работы подтверждают, что Матвеев овладел разными живописными манерами, в совершенстве освоил композиционное построение и особенности разноплановых произведений.
В Россию Матвеев вернулся в 1727 г. опытным мастером европейского уровня, уверенным в своих силах, и сразу сумел занять положение, равное «первому придворному маляру» Л. Караваку. Обстановка в стране в конце 1720-х – начале 1730-х гг. мало располагала к творчеству. Царствующие особы, часто сменявшиеся на престоле, не интересовались русским искусством, а тем более судьбой молодого художника. Воцарившаяся Анна Иоанновна искореняла все талантливое русское. Это было время арестов, ссылок (братья Никитины), казней (П. Еропкин, А. Волынский), непрекращающихся празднеств и засилья иноземных временщиков. Так, место начальника Петербургской канцелярии от строений занял бывший парикмахер А. Кармедон. Именно под руководством такого «таланта» пришлось работать Матвееву. Спасала только нехватка «живописных мастеров», и он был завален многочисленными художественными работами. Каких только заданий ни исполнял получивший академическое образование Андрей! Его мастерство было многогранным и универсальным: иконы, росписи плафонов и триумфальных ворот, орнаменты, портреты, непрекращающиеся починки и реставрация монументально-декоративных произведений…
С приходом Матвеева в Живописную команду канцелярии от строений (1727 г.), а тем более после того как он стал ее руководителем (1731 г.), опытные художники, подмастерья и ученики стали по-настоящему единой командой. Он сумел направить талант каждого и построить систему обучения так, что она легла потом в основу преподавания в Петербургской академии художеств. Матвеев обрастал учениками, которые стремились под его начало, так как он был замечательным педагогом и внимательным, заботливым и мягким человеком. Многому можно было у него поучиться, ведь художник был первым русским мастером-универсалом: портретист, исторический живописец и, несомненно, талантливейший монументалист-декоратор. Он трудился в тесном контакте со специалистами разных профессий, но особенно часто – с выдающимися архитекторами Трезини и Земцовым. Именно с ними художник начал свою творческую деятельность в Летнем саду (доме), исполняя «сухопутные и морские баталии» (1727-1730 гг.) для Залы славных торжеств.
Спустя год Матвеев приступил к живописным работам в Петропавловском соборе (1728-1733 гг.). Впервые своды и стены его были украшены не фресками, а огромными станковыми картинами, написанными маслом на холстах («Вознесение Господне», «Фомино уверение» – уничтожены пожаром в 1756 г., образа «Моление о чаше», «Петр и Павел», «Тайная вечеря»). Одновременно Матвеев руководит всеми работами и «сочиняет модели» для других живописцев. А когда его «перебросили» на оформление Триумфальных ворот (Аничковские, Адмиралтейские, Троицкие, 1731 г.) по случаю въезда императрицы в столицу (большой портрет Анны Иоанновны «в рост» и эскизы для картин, выполненных учениками), архитектор Трезини срочно потребовал возвращения Матвеева для работ в соборе, настолько он был незаменим.
Так, не окончив одно дело, художник приступает к другому. Загруженный многочисленными отчетами и счетами, он то хлопочет о выплате жалованья своим подчиненным, то распределяет художественные материалы и даже дрова, а еще ведет бесчисленные экспертные и оценочные работы. С середины 30-х гг. Матвеев уже занят росписями Сенатского зала Двенадцати коллегий (ныне Петровский зал Петербургского университета). Здесь он был автором всех эскизов и частично исполнителем больших панно для огромного подвесного плафона. Его аллегорические картины на темы Добродетелей из-за протекания потолка постоянно «освежались» до такой степени, что были до неузнаваемости «замазаны». Только в 1966 г. реставраторы частично сумели восстановить богатство матвеевских красок и лаков.
Наряду с масштабными работами, проводимыми в «Новом летнем доме», Царском Селе, в Новом Зимнем дворце и Петергофе, живописцу повелевали расписывать экипажи царской конюшни, украшать императорские галереи или, того лучше, обновлять росписи в царской голубятне. Огромные творческие и физические нагрузки подтачивали и без того слабое здоровье Матвеева, но его живописное искусство было настолько востребовано, что, вопреки всем предписаниям, ему разрешили работать не в «казенных мастерских или на улице у места постройки, для которой назначались его произведения», а в домашних условиях. Так, большинство икон для церкви Симеона и Анны (1733-1739 гг.) художник писал дома, где после его смерти еще остались десятки неоконченных образов.
В тех немногих сохранившихся религиозных композициях есть душевная теплота, сдержанность и реальность изображения. Особенно это характерно для портретов, для которых Матвеев еще сумел изыскать время в первые годы после возвращения в Россию. Парные портреты супругов Голицыных (1728 г.) отличны даже по характеру письма и как бы подчеркивают разницу их темпераментов. Иван Алексеевич Голицын был тихим, робким и богомольным человеком. Его горделивая поза и военные латы не скрывают малодушия и душевной слабости натуры. И живопись ему под стать – удивительно вялая и, как указывают искусствоведы, менее профессиональная, чем в портрете его жены, Настасьи Петровны, пожалованной Петром I в статс-дамы, а после опалы ставшей шутихой при Екатерине I. Матвееву великолепно удалось под маской внешнего благополучия передать ее сложный и противоречивый характер. Усталый грустный взгляд, обиженно поджатые губы на лице несчастной женщины, сведенной до уровня живой царской игрушки, контрастируют с гордо посаженной головой и богатством парадной одежды.
Мягкое, доброжелательное отношение к людям, бывшее одним из лучших человеческих качеств Матвеева, проступает и в портрете итальянского доктора И.А. Ацаретти, написанном между 1728-1732 гг. На зрителя смотрят внимательные глаза умного и доброго человека. Легкая живописная манера открывает проникновенный, без тени сановности, живой образ врача.
Всю силу живописного дарования, задушевность, открытость, чистоту чувств Андрей Матвеев вложил в «Автопортрет с женой». Он был написан в год женитьбы (1729 г.) художника на юной Ирине Степановне Антроповой, дочери кузнечного мастера и двоюродной сестры известного живописца. Жила молодая семья, при всей загруженности мастера, совсем небогато. И только когда у них уже было трое детей – Евдокия, Иван и Мария, – художник в 1734 г. сумел купить дом, да и то ходатайствовал о выдаче задержанного жалованья и даже указывал, что новорожденную дочь «в христианскую веру ввести чем не имеет». Младший сын, родившийся в 1736 г., обучался живописи в академии, потом служил у генерал-прокурора князя Вяземского и получил дворянский чин. Это он сохранил и подарил в 1808 г. Императорской Академии художеств портрет родителей – самое замечательное произведение отца. «Смело и открыто, впервые в русской живописи, прославлял он женщину. Как верную спутницу мужчины, достойную любви и уважения. Свободно и радостно заявлял он о своих чувствах к любимой. Взволнованно и вместе с тем предельно деликатно рассказывал о том глубоком сокровенном, о чем никогда не решалось поведать средневековое, старомосковское искусство. Сколько затаенного любованья и нежности ощущается в том жесте, которым он подводит свою подругу к краю картины. С каким удовольствием он отмечает певучую линию ее шеи, гибкие музыкальные руки, чуть приметную улыбку на губах, слегка приглушенный блеск глаз. Трепетный жест соединившихся рук, легкое касание плеч, еле уловимый поворот навстречу друг другу – земная человеческая радость», – так проникновенно говорит о картине искусствовед В.Г. Андреева.
Остается только сожалеть о том, как мало Матвееву было отпущено таких счастливых мгновений. Его короткая, но плодотворная жизнь оборвалась 23 апреля 1739 г. Творчество Андрея Матвеева и его работа по созданию национальной школы живописи имели огромное влияние на развитие русского искусства, на подготовку таких живописцев, как И.Я. Вишняков и А.П. Антропов, которые стали «своеобразным мостом к расцвету художеств второй половины столетия».
Микешин Михаил Осипович (род. в 1836 г. – ум. в 1896 г.)
Выдающийся русский художник, скульптор, график, иллюстратор и карикатурист. Автор нескольких проектов памятников. Награжден орденом Св. Владимира четвертой степени. По его проектам группой скульпторов осуществлены памятники: «Тысячелетие России» в Новгороде (открыт в 1862 г.), Екатерине II в Санкт-Петербурге (открыт в 1873 г.), Богдану Хмельницкому в Киеве (1870-1888 гг.; все – бронза, гранит). Стилистически работы Микешина близки русской академической скульптуре второй половины XIX в. В 1955 г. в Киеве в честь художника названа улица.
Талант этого скромного, замечательного, но увы, почти забытого русского мастера, многогранен. Природа оказалась на редкость щедра к этому жизнелюбивому, энергичному человеку. Михаил Микешин – прекрасный живописец и незаурядный литератор, остроумный карикатурист и великолепный скульптор. И все же настоящую славу Микешину принесли не картины и не очерки, не миниатюры и не иллюстрации к русской литературе, а памятники. Прекрасные произведения Микешина и сегодня радуют нас, украшая Киев и Петербург, Белград и Лиссабон, Новгород и Севастополь.
Михаил Осипович Микешин родился 9 февраля 1836 г. в самом центре России – на Смоленщине, в селе Максимовка, что близ города Рославля. Отец его, Осип Егорович, занимался торговлей. Он слыл отчаянным и отважным человеком. Во время Отечественной войны 1812 г. Осип Егорович воевал в знаменитом партизанском отряде Фигнера, был отмечен наградами. Капиталов он себе, однако, не нажил и умер, когда сын Михаил едва подрос. В наследство от отца будущий художник не получил ничего, кроме доброго имени. Жил Миша Микешин так же, как жили в те времена все его деревенские сверстники. Но с детства таилось в мальчике нечто такое, что выделяло его среди других ребят, – талант к рисованию. Рисовать Михаил учился у местного иконописца Тита Андронова. Нам ничего не известно об этом его первом учителе. Но позволительно предположить, что именно тогда, постигая азы живописи и впервые соприкасаясь с русским народным искусством, Михаил Микешин почувствовал гордость за свой народ, за величие своей отчизны. Пройдут годы, и бывший деревенский паренек прославит свое Отечество и бессмертные его подвиги в великолепных памятниках из гранита и бронзы. Но прежде чем это случится, в жизни Михаила Микешина произойдет немало событий…
Первый неожиданный поворот на жизненном пути произошел, когда Михаилу было всего 16… Одаренный юноша и не мечтал о том, чтобы учиться на художника. Но в 1852 г. соседский помещик на свои средства отправил Михаила на учебу в Петербург. Юноша успешно выдержал испытания и был зачислен в Академию художеств. Он стал учиться в классе батальной живописи под руководством профессора Б.П. Виллевальде. Гуляя по гранитным берегам Невы и глядя на блестящий Румянцевский обелиск, что стоит рядом с академией, юный художник часто вспоминал свою тихую, скромную Максимовку. Волшебный Петербург одновременно и пугал, и манил юношу. Скольким молодым талантам воздух столицы отравил душу, сколько их потеряло свое призвание в лабиринтах чужих мнений, интриг и суеты. Но, видимо, в юном Микешине был заложен здоровый и крепкий дух: он не потерялся в столичной круговерти – искал свой путь в искусстве, очень много работал. К тому же казалось, будто удача сама идет навстречу молодому талантливому художнику. Еще в самом начале учебы в академии Михаил Микешин написал картину маслом – конных гренадеров. Она пришлась по вкусу самому императору Николаю Павловичу, который приобрел картину за 150 рублей. А ее автор, которому едва исполнилось 19, был принят ко двору, он стал учителем рисования у юных великих княжон.
В 1858 г. Михаил Микешин окончил Академию художеств, получив Большую золотую медаль за картину «Въезд Тилли в Магдебург» (некоторые критики полагают, что именно харизма царского любимца повлияла на решение жюри). Так или иначе, согласно правилам обладателю золотой медали было предоставлено право поехать за границу на шесть лет «с государственным содержанием». Но молодому художнику пришлось отказаться от этого соблазнительного предложения. Когда он уже готовился к отъезду, произошло событие, круто изменившее его жизнь и планы на будущее: Михаил Микешин стал победителем в конкурсе на самый главный памятник в России. Конкурс на проект памятника в честь тысячелетия России был объявлен в 1859 г. Победу оспаривали академики и профессора, скульпторы и архитекторы. Но и недавний выпускник академии Михаил Микешин к участию в конкурсе подошел обстоятельно. Он сознавал всю сложность и непривычность стоящей перед ним творческой задачи. Ведь изобразить надо было не конкретного героя, а тысячелетнюю историю государства. Но сложность не испугала, а еще более раззадорила Микешина. Тут-то художнику и помогло то обстоятельство, что он не был скульптором-профессионалом, воспитанным в духе классической традиции. Свою роль сыграло и богатое романтическое воображение мастера. Он не стал создавать конную группу или многометровую статую, как поступило большинство конкурсантов. В поисках образа, который передавал бы главную мысль памятника, Микешин подумал о колоколе. «Вот та сильная идея, которая объединит весь замысел. Колокол! Благовестный колокол, который возвестит миру о русской старине, о великих мужах России и их славных подвигах!» Так был найден основной силуэт памятника. Определив общий вид монумента, Микешин принялся разрабатывать его части. Заданная конкурсом триада: православие, самодержавие, народность – натолкнула его на мысль сделать памятник трехъярусным. Особо интересен нижний ярус колокола – многофигурная барельефная композиция, включающая в себя ни много ни мало 109 персонажей – лучших представителей русского народа. Вершину всего монумента украшает высокий крест, поддерживаемый двумя ангелами (затем автор заменил одного ангела коленопреклоненной женщиной – символом России). Жюри оценило оригинальность замысла. Среди 57 представленных эскизов лучшей была признана работа никому не известного еще выпускника Академии художеств Михаила Микешина. Весть о том, что в самом нашумевшем из когда-либо проводившихся в России конкурсов победил безвестный молодой художник, произвела в обществе сенсацию. Тогда-то и разгорелись самые ожесточенные споры в печати, но проект Микешина получил полное одобрение императора Александра П. Злопыхателям пришлось смириться: работа по воплощению замысла в жизнь началась. Более двух лет трудился Микешин над осуществлением своего проекта. Размах работ был грандиозен. Предстояло объединить в единое целое произведения нескольких скульпторов, трудившихся вместе с ним над созданием памятника. Замысел Микешина воплощали И.Н. Шредер, А.М. Опекушин, М.А. Чижов, Р.К. Залеман, А.Л. Обер и другие ваятели. Но художник не только руководил работами специалистов, приглашенных для осуществления его проекта, но и сам участвовал в создании памятника. Кроме того, на плечи молодого Микешина легли немалые хлопоты сугубо организационного характера – отливка скульптур на литейном заводе, руководство работой каменотесов и землекопов и т.п. Но уроженец смоленского села проявил здесь немалую практическую сметку и деловитость. В чрезвычайно короткий срок все необходимые работы были благополучно закончены. Итоговым материалом памятника стала бронза, прекрасно передающая игру света и тени; постамент – из гранита, незыблемого, как сама Россия. Памятник «Тысячелетие России», прочно вошедший в летопись искусства как один из самых монументальных образцов романтического историзма XIX в., создал Михаилу Микешину репутацию выдающегося русского ваятеля. Хотя поначалу отношение к микешинскому исполину было неоднозначным. Находилось немало эстетов, обвинявших памятник в громоздкости и помпезности. Один из критиков назвал памятник пестрой игрушкой, ехидно указывая на то, что его фигуры стоят праздно, повернувшись задом к огромному шару державы, будто греясь у печки. И тем не менее тех, кто горячо поддерживал памятник, оказалось больше, чем злобных критиков. Поэтому в сентябре 1862 г. в празднование тысячелетия России в Великом Новгороде был открыт именно микешинский памятник. По случаю его официального открытия в Новгород прибыл император в сопровождении многочисленной свиты, высшие военные и гражданские чины, церковные иерархи. В торжественной обстановке государь вручил Михаилу Микешину орден Святого Владимира четвертой степени. Пышные торжества продлились несколько дней. Салюты, парады, молебны и балы сменяли друг друга. Всюду сверкала иллюминация. У Волховского моста стояла баржа, которую украшал огромный транспарант с изображением микешинского памятника в натуральную величину. Пожалуй, ни один памятник в мировой истории не открывался с такой пышностью! Подобного празднества провинциальный город еще не знал. Но торжества эти отшумели и забылись, а творение Микешина осталось на века.
Как же сложилась дальнейшая судьба Михаила Микешина после столь удачного начала творческого пути? На редкость счастливо. Мы привыкли к тому, что судьба людей творческих нелегка и подчас трагична. Михаил Осипович Микешин – радостное исключение. Рослый красавец, он всю жизнь был любимцем женщин. Бог наделил его крепким здоровьем и недюжинной силой. Однажды художник на спор взвалил на спину огромный рояль и без труда перенес его из одной комнаты в другую. Показывая людям свои руки, он говорил: «Гляньте на эти ручищи! Разве это руки художника? Да это лапы молотобойца!» Одарен Михаил Осипович был многосторонне – писал картины и эмалевые миниатюры, блестяще иллюстрировал Пушкина, Гоголя и Шевченко, много ездил по России и писал замечательные путевые очерки. Любознательный и энергичный человек, Микешин был заядлым путешественником. Из современных ему художников только Верещагин превосходил его в этом увлечении.
В 1869 г. художник получил звание академика. По единодушным отзывам современников, Михаил Микешин был добрым, веселым, открытым и жизнерадостным человеком. Его дом на набережной Фонтанки в Петербурге всегда был полон гостей (дом этот существует по сей день). С Михаилом Осиповичем дружили Чайковский, Репин, Рубинштейн, Сытин, министры и генералы. С возрастом художник остепенился, а женившись, стал отменным семьянином и заботливым отцом. До самой своей кончины не покладая рук Михаил Микешин трудился над главной темой своей жизни: прославить величие своей Родины. Он с большим успехом участвовал во многих конкурсах по монументальной скульптуре. Им сочинены проекты памятников: императрице Екатерине II – в Петербурге; португальскому королю Педро IV в Лиссабоне; сербскому князю Михаилу Обреновичу и Черному Георгию; адмиралу Грейгу – в Николаеве; адмиралам Корнилову, Нахимову и Истомину – в Севастополе; Богдану Хмельницкому – в Киеве; императору Александру II – в Ростове-на-Дону; Ермаку – в Новочеркасске; Минину – в Нижнем Новгороде и много других. Он изготовил массивные, украшенные скульптурой двери усыпальницы князя Пожарского в Суздале и исполнял фигуры для носовых частей различных судов. Художник спешил воплотить в своем творчестве великие события отечественной и мировой истории. Уже в самом конце жизни, пораженный неизлечимой болезнью, Микешин принял участие в международном конкурсе на памятник героине французского народа Жанне д'Арк. Бесспорно, что постичь душу иного народа может только тот художник, который постиг душу народа своего. Созданный Микешиным эскиз памятника Жанне д'Арк является одним из лучших его произведений: видно, что художник работал над ним с подлинным вдохновением. Образ Жанны был дорог его сердцу, ибо всю жизнь он славил в людях героические дела и чувства.
«Правда, тем более в искусстве, для меня дороже всего, – сказал однажды художник великому князю Николаю Николаевичу. – Таким был я в колыбели, таким сойду в могилу». Михаил Осипович Микешин скончался 10 января 1896 г., не дожив тридцати дней до своего шестидесятилетия. Смерть его, если можно так сказать, была счастливой – Михаил Осипович увлеченно работал и умер мгновенно – от сердечного приступа. Художник ушел, оставив о себе добрую память – его замечательные памятники, уже пережившие века, по сей день украшают прекраснейшие города мира. В каждом из этих творений навеки осталась жить частичка души ушедшего от нас гения.
Мурашко Александр Александрович (род. в 1875 г. – ум. в 1919 г.)
Жанровый живописец, великолепный портретист, чьи работы отличались неповторимой экспрессией цвета. Педагог. Создатель Художественной студии А. Мурашко. Один из основателей Украинской академии художеств.
Деревянные лошадки, серые в яблоках, расписные лодочки, петушки с огненными гребнями и радужными хвостами стремительно несутся по кругу. Восторг на лицах двух девчушек, принаряженных по случаю праздника. Летящие, как в калейдоскопе, краски. Кажется, еще мгновение, и все сольется в пеструю ленту. Но нет. Кадр по воле художника застыл на полотне и с него щедро брызжет безмятежная радость, наивное детское счастье – это «Карусель». В таком же вихре промчалась и жизнь А. Мурашко, чье творчество стало праздником для него самого и для окружающих. Жестокая рука нажала рычаг-курок и остановила его захватывающий дух творческий полет… Осталась память и живописные шедевры, разбросанные по всему миру. И вряд ли их можно собрать на родине автора – уж очень высоко они ценятся.
Детство Александра прошло в местечке Борзна на Черниговщине, где он родился 7 сентября 1875 г. Жил он с мамой, бабушкой и Александром Ивановичем Мурашко, своим родным отцом. Но так как родители не были повенчаны, мальчик числился его пасынком и носил фамилию матери, Марии Александровны, – Крачковский. Это от нее Саша перенял лиризм и тонкость души. Отец же по характеру был кремень. Его мало интересовало, как чувствует себя в роли пасынка его застенчивый, слегка заикающийся сын. Александр Иванович стоял на ногах крепко, его иконописная мастерская процветала, но тянущемуся к искусству Саше он мысленно уготовил судьбу священнослужителя или коммерсанта. Вначале мальчик обучался в духовном училище, а потом в гимназии. «Учился я плохо, – напишет он впоследствии. – Тянуло уже тогда к занятию искусством, а рисовальная школа дяди Николая Ивановича казалась недосягаемым раем».
Может быть, Александру так и пришлось бы оставаться пасынком и только мечтать о живописи, если бы не помог случай. В конце 1880 г. брат отца – известный живописец и педагог, основатель и бессменный руководитель Рисовальной школы Н. Мурашко (кстати, из нее вышли Н. Пимоненко, В. Серов, К. Малевич) – сообщил о предстоящих больших работах во Владимирском соборе. Александр Иванович, получив подряд, перенес свою мастерскую в Киев и перевез семью. Скрепя сердце он забрал из гимназии Сашу, который и до этого часто помогал ему, и отдал в обучение иконописцу собственной мастерской, чтоб тот сделал из него «пристойного богомаза». Юноша перезнакомился со множеством талантливых людей, которые совместными усилиями превращали пустую громаду собора в величественное произведение искусства: с руководителем строительных работ и отделки православной святыни А. Праховым и неповторимыми художниками В. Васнецовым, М. Нестеровым, М. Врубелем, В. Котарбинским. Сам Васнецов разрешил длинному, худому, нескладному юноше с горящими глазами копировать появляющиеся из-под его кисти образа. Юному художнику была по душе эта работа: «Все же это была живопись, а не столярное мастерство».
Но как же хотелось писать самому, выплеснуть на холст буйство красок, что теснились перед глазами. Однако знаний не хватало, а отец был категорически против живописи. И тогда Александр взбунтовался: ушел из дому, работал грузчиком на Днепре, ночевал на баржах или прямо на склонах реки вместе с бродягами. А когда простудился и заболел, то не выдержал и дал знать отцу. Но Мурашко-старший никак не отреагировал, и тогда юноша обратился за помощью к Андриану Прахову. Тот помог деньгами на первый случай, а потом вместе с именитыми друзьями и родственниками усовестил непутевого отца. Наконец-то Александр Иванович обвенчался с мамой Саши, усыновил собственного сына и даже разрешил посещать рисовальную школу брата, в которой Мурашко-младший стал одним из лучших учеников. Прахов уговорил отца отпустить Александра в Петербургскую академию художеств.
Лето 1894 г. Александр провел в селе, много рисовал с натуры, готовясь к поступлению. Он мечтал попасть в мастерскую Ильи Репина, но оказалось, что рисовальной школы и домашней подготовки для академии недостаточно. Александр начал учебу в Высшем художественном училище при академии, а через два с половиной года как лучший из выпускников стал ее вольным слушателем.
Следует сказать, что И. Репин не сразу выделил самолюбивого, ищущего собственный путь в искусстве Мурашко. Тем более, что как бы тот ни прислушивался к замечаниям педагога, все равно рисовал по-своему. Но все же они нашли общий язык, потому что каждый умел видеть и отображать реальную жизнь, любить простого человека и переносить на портрет не только облик, но и характер. Уже в годы ученичества Александр написал поэтически тонкие картины «Портрет девушки» (академическая премия; приобретен Советом для академического музея), «Портрет юноши, читающего книгу», «Портрет художника Григория Цисса», «Портрет Зинаиды Евдокимовой» и с нее же – «Девушка в розовой блузке» и др. Этот репинский курс был очень силен. Достаточно сказать, что вместе с Мурашко учились Кустодиев и Малявин, но именно Александру досталась золотая медаль, а с ней право на пенсионерскую поездку за границу. В программной работе «Похороны кошевого» сюжет навеян любовью к своей земле и ее истории, но ощущалось и влияние «Запорожцев». Это полотно было словно продолжением темы: запорожцы хоронят своего атамана Ивана Сирко, который так задорно смеялся на репинской картине. Общий тон живописной работы, каждая фигура источают скорбь. Особенно выделяется лицо старого казака, несущего атаманскую булаву. Для этого колоритного запоминающегося образа молодому художнику позировал выдающийся писатель и театральный деятель Михаил Старицкий.
Парижский период (с 1901 г.) был одним из самых успешных в творческой биографии Мурашко. Но множество стилей, массы ярких впечатлений так подавляли, что Александр Александрович через год бросает все и бежит в Киев, чтобы осмыслить увиденное. Он многое принял из импрессионизма, модернизма и символизма, но не стал механическим подражателем. Произведения Мурашко – это тончайшая смесь реальных образов на фоне светотеневого мастерства импрессионизма. Свободный широкий мазок, каким он моделировал формы, стал характерной чертой стиля мастера. Никаких искажений реального мира, но неповторимая насыщенность, свежесть и яркость цвета. Его картины тех лет «В кафе», «Парижанка», «Девочка с собачкой», «Парижское кафе», «Три дамы» побывали на многих выставках и сделали руку их автора узнаваемой. Холсты завораживали артистизмом исполнения, колоритом, красочностью. Особенно выделялись дамы полусвета, в глазах которых при всем внешнем блеске прослеживалась грустинка.
В Киеве за успехами Мурашко напряженно наблюдали дядя и Андриан Прахов, который как-то раз заметил: «Мазила из Саши выйдет великолепный, но ему необходимо дисциплинировать свой талант. А для этого сейчас лучшая школа – мюнхенская. Там и художники собрались солидные, и жизнь скромнее, чем в Париже, где для человека с таким темпераментом, как у Саши, слишком много соблазна». Александр прислушался к совету и переехал в Мюнхен, где стажировался в знаменитой школе живописи и рисунка в мастерской словака Антона Ашбе. Здесь он до конца овладел дисциплиной рисунка и чистотой цвета. Казалось, уже невозможно превзойти его «Девушку в красной шляпке», но написанная с той же модели «Татьяна. Портрет в сером» просто завораживала. Глаза девушки – таинственные, полные печали – обладали огромной силой магнетизма. Ощущение какой-то тайны исходило от изысканной гармонии серебристо-серых одежд и черных кудрей на темном фоне.
Список удачных портретных работ того времени можно продолжить: «Старый учитель. Н.И. Мурашко», «На террасе. Портрет А.И. Мурашко», «Девушка в розовом. Портрет Н. Тараниной» и др. Импрессионизм и модернизм не смогли заслонить пластичности образов и характеров портретируемых. «Мелочи, детали – не главное, – повторял Мурашко. – Главное – разглядеть душу». Особенно тонко художник умел передать натуры лирические, оригинальные. И напрасно упрекали Александра Александровича в «западничестве», ведь настоящее признание ему принесла картина «Карусель», написанная на «домашнем» материале. Она в 1909 г. была отмечена золотой медалью на международной выставке в Мюнхене. А позже эту тему художник продолжил в картинах «Тихая грусть», «Воскресенье» и в одной из своих самых знаменитых работ «Крестьянская семья» (1914 г.). А вот то, что Мурашко признали мастером на Западе раньше, чем на родине, – это факт. Его приглашали принять участие на престижных выставках в Берлине, Амстердаме, Венеции; в 1910-1911 гг. в Кельне, Дюссельдорфе и Берлине прошли персональные выставки художника, которые принесли ему полное признание как непревзойденному портретисту жизнерадостного колорита, а также материальный успех. В 1911 г. на международной выставке в Венеции две лучшие вещи были приобретены: «Воскресенье» отправилось в Нью-Йорк, а «На террасе» – в Королевскую галерею в Бухаресте.
Об огромной популярности Мурашко свидетельствуют слова известного немецкого художника, которыми он встречал начинающих украинских художников: «Вы с Украины? Чего же вы едете в Мюнхен? У вас в Киеве живет такой прекрасный художник, как Александр Мурашко! У него учитесь». А газета «Кельнише альгемайне цайтунг» написала: «Мурашко проявляет себя в искусстве как сильная, самобытная фигура. В портретах он всегда блестяще решает интересные задачи освещения. Его призвание – праздник!.. И вообще, все картины Мурашко построены на тонко ощущаемых полутонах, изысканных красочных нюансах, преподносят нам Мурашко как незаурядную художественную фигуру».
Но, несмотря на огромный успех за границей, Александр Александрович предпочел жить и работать в Украине. Он вообще был очень независимого нрава. Так, например, Мурашко после совместного путешествия по Франции и Италии, Алжиру и Тунису с известным коллекционером и меценатом отказался от его заманчивого предложения: за солидное ежемесячное вознаграждение заранее продать все будущие полотна. Конечно, это бы решило все материальные проблемы художника, но он, чтобы быть свободным от всего, что не связано с живописью, даже отдал после смерти отца иконостасную мастерскую старшему мастеру. Исходя из своих же планов, Мурашко продал семейный дом в центре Киева и поселился с женой и дочерью на городской окраине. Со временем он собирался организовать здесь что-то наподобие общины художников и приглашал друзей-живописцев селиться рядом. Жена, Маргарита Августовна Крюгер, поддерживала все начинания мужа. Она была родной сестрой художницы и скульптора Анны Крюгер – супруги Андриана Прахова. Так в 1909 г. Александр Александрович породнился с семьей, глава которой часто помогал ему в трудные минуты. Детей в семье Мурашко не было, и они удочерили девочку Катю.
Совместно со своей свояченицей А. Крюгер Александр Александрович осенью 1913 г. открыл на самом верхнем этаже дома Гинзбурга – знаменитого киевского небоскреба – Художественную студию А. Мурашко, в которой занималось около сотни человек (существовала до 1917 г.). У него уже был опыт педагогической работы. В 1909-1912 гг. профессор Мурашко преподавал в Киевском художественном училище и ушел из него, потому что директор придал учебному заведению художественно-промышленное направление. Весь свой талант, опыт и навыки, полученные в Петербурге, Париже и Мюнхене, Мурашко направил на создание особой жизнерадостной программы обучения, чтобы изжить косность корпения над гипсовыми головами. Фактически школа стала совершенно новым учебным заведением во всей Российской империи. С младших классов начинающие художники рисовали с натуры, переходя от простейших эскизов, исполненных углем и карандашами, к более сложным по формам и композиции и к масляным краскам. Энергии и настойчивости Александра Александровича хватило бы, чтобы полностью изменить систему обучения живописи, но грянули февральская и октябрьская революции и разрушили все его планы.
Следует отметить, что с 1904 и вплоть до 1915 г. Мурашко продолжал сотрудничество с Новым обществом художников, организовывал выставки киевских художников, а в 1916 г. он начал еще одно благородное дело: основал Товарищество киевских художников с целью сплотить коллег-земляков и поднять их выставочный уровень до европейского. Конечной же целью было создание академии. «Мне нужна Украинская академия художеств в родном городе Киеве, – говорил он товарищам и друзьям, – где столько света, столько красоты». В разных документах первыми ректорами Украинской академии художеств названы четверо: А. Мурашко, Федор и Василий Кричевские, Григорий Нарбут. Это было смутное время, менялись устои, строй, власти, документы десятки раз переделывались. Главное, что сбылась их мечта – в ноябре 1917 г. академия начала работу. Все ученики его частной студии перешли в мастерскую Мурашко.
Но недолго довелось ему преподавать. 14 июля 1919 г. Александр Александрович с женой поздним вечером возвращались от друзей. У порога собственного дома их остановили трое мужчин в солдатских шинелях с винтовками. Маргарите Августовне позволили забрать у мужа бумаги и ценные золотые часы и войти в дом, а его повели в «участок» разбираться. И это несмотря на то что у художника был ночной пропуск. Всю ночь женщина ждала, соседи были подняты на ноги, обегали и обзвонили чуть ли не все участки Киева. Безрезультатно. Утром Мурашко нашли неподалеку от дома, на краю оврага, убитого выстрелом в затылок. Кому мешал художник? Дело списали на «бандитов» (но ведь ограбления не было), и до сих пор неизвестно, по чьему приказу ушел из жизни художник, призванием которого был праздник.
Мухина Вера Игнатьевна (род. в 1889 г. – ум. в 1953 г.)
Русский скульптор, одна из основателей советского монументального реализма, народный художник СССР (1943 г.), действительный член Академии художеств СССР (1947 г.), пятикратный лауреат Сталинской премии, прославившаяся как автор монументальной скульптурной группы «Рабочий и колхозница».
«В бронзе, мраморе, дереве, стали изваяны смелым и сильным резцом образы людей героической эпохи – единый образ человека и человеческого, отмеченный неповторимой печатью великих лет», – писал искусствовед Д. Аркин о Вере Мухиной, непревзойденном скульпторе, творившей для людей, но навсегда оставшейся не понятой и не принятой ими индивидуальностью.
По матери Вера Игнатьевна была француженкой. Родилась она 1 июля 1889 г. в Риге, в доме деда, Козьмы Мухина, зажиточного купца, обладавшего колоссальным состоянием, имевшего недвижимость и производства по всей России, занимавшегося также меценатством. Отец девочки был человеком творческим, одаренным художником-любителем, сочетавшим любовь к прекрасному с практическим подходом к жизни – в 1887 г. он получил на Парижской выставке Большую золотую медаль за разработки по алюминию. Из-за тяжелой формы туберкулеза жены и боязни, что дочери Машенька и Верочка в дождливой холодной Риге также могут заболеть, Игнатий Козьмич перевез свое семейство сначала в поместье под Могилевом, а затем в солнечную Феодосию. После скоропостижной смерти матери девочки некоторое время путешествовали с отцом по Германии, но вскоре Мухины все же осели в Крыму.
Под руководством гимназического учителя Вера рисовала свои первые картины: копии полотен мариниста И. Айвазовского, пейзажи Тавриды. Спокойная, прилежная, послушная девочка хоть и не выделялась особыми талантами, с отличием окончила гимназию, неплохо пела, играла на фортепиано, сочиняла стихи и, конечно же, рисовала – классический набор умений барышни из приличной семьи. Но в 1903 г. отец полностью разорился и вскоре умер. Осиротевших сестер Мухиных забрал к себе брат Игнатия Козьмича, который, будучи холостяком, переписал все свое наследство на девочек. Так курский полусвет, в котором теперь блистали Верочка с сестрой, пополнился двумя завидными невестами – умными, с легким веселым нравом и хорошим приданым. Вера не была красавицей в обычном понимании этого слова, но обладала выразительным, серьезным, немного «сердитым» лицом, из-за которого ее прозвали Соколенком, умела поддержать беседу, одевалась со вкусом, ездила верхом и прекрасно танцевала на балах – от кавалеров у нее отбоя не было.
Состояние позволило 17-летней Верочке переселиться в Москву, где она и раньше гостила у родственников. Здесь и началась огранка личности и таланта будущего скульптора. Девушка легко поступила в престижную частную мастерскую известного пейзажиста и педагога К. Юона. Словно пытаясь наверстать упущенное время, она работала на износ, и ее любительские рисунки были великолепны. Со временем, когда Мухина уже получила первые профессиональные навыки, у нее в работе стали вырисовываться собственные приоритеты и пристрастия. Больше, чем цвет, ее привлекала графика. Больше пейзажей и натюрмортов – красота, молодость, здоровье человеческого тела и души. И даже одну из заданных композиций на тему «Сон», предполагавшую использование аллегорий и иносказаний, Вера обрисовала в виде уснувшего дворника. Познакомившись вскоре с работами членов «Бубнового валета», Сезанна, Ван Гога, а в особенности с творчеством Паоло Трубецкого и Андреева, Мухина начала стремиться, по ее словам, «думать в глубину» и постепенно пришла к выводу, что одна живопись не позволяет воплотить в жизнь все желаемое. Поэтому параллельно с занятиями у Юона она решила брать уроки у скульптора-самоучки Н. Синицыной, в чьей арбатской студии за скромную плату предоставлялись станок для работы и глина. В конце 1911 г., после неудавшейся попытки уехать на учебу за рубеж, Вера ушла от Юона, научившего ее фантазировать и ценить красоту каждой линии, в мастерскую живописца И. Машкова, человека, привившего ей умение не распыляться по отдельным деталям, а охватывать все сразу.
1912 г. принес Вере Мухиной и горе, и радость. Рождественские праздники она встречала в родовом имении Кочаны под Смоленском и однажды, катаясь на санках, не справилась с управлением и разбилась: лицо было изуродовано, нос практически оторван… Взглянув на себя после девяти пластических операций, Вера пришла в ужас; а родственники, чтобы как-то успокоить девушку, разрешили ей поехать в Париж на лечение и учебу. Французские хирурги сумели свести следы от травмы до минимума, а саму Мухину уже закружил ритм парижской художественной жизни. Она никак не могла выбрать между обучением у нескольких мастеров и потому вечером занималась рисунком в академии Коларосси, утром лепила в «Гранд Шомьер», чьим руководителем был сам Эмиль Антуан Бурдель, посещала «Ля Палетт», лекции кубистов Метценже и Глеза, слушала курс анатомии в Академии изящных искусств. Но с наибольшим удовольствием Мухина познавала секреты скульптуры: Бурдель пленил ее «неуемным темпераментом» работ, грандиозностью, но одновременно живостью форм, конструктивным подходом к жизненным явлениям. Посещая уроки великого мастера, Вера поняла, что подлинное ее призвание – монументальная скульптура, и уже тогда она начала воплощать в жизнь свои мечты о новых пластических формах («Сидящий мальчик», 1912 г.; «Сидящая фигура», 1913 г.; «Несущий камень», 1916 г.; несколько скульптурных портретов). В Париже она встретила и свою первую любовь – в прошлом террориста, а теперь одного из лучших учеников Бурделя Александра Вертепова. Этому человеку, погибшему в начале Первой мировой войны, она посвятила прощальную «Пьету» (1916 г.), – нетрадиционную по замыслу скульптурную группу, в которой убитого оплакивает не мать, а невеста, – к сожалению, не сохранившуюся.
Продолжая изучение искусства, в 1914 г. Вера посетила Рим, Флоренцию, Венецию и другие города Италии, где была на всю жизнь очарована творениями Микеланджело, и уже летом вернулась домой. В августе разразилась война. Мухина оставила занятия скульптурой, окончила курсы медсестер и до 1918 г. работала хирургической сестрой в эвакогоспитале, успевая одновременно оформлять спектакли в Московском камерном театре, куда ее устроила Александра Экстер. В конце войны она вышла замуж за талантливого врача, исследователя нетрадиционной медицины, Алексея Андреевича Замкова – полную противоположность ей по характеру, – с которым познакомилась в госпитале, отметив, что «в нем очень сильное творческое начало». Через два года в семье появился единственный сын Всеволод.
В отличие от большинства своих родственников, революцию Вера Игнатьевна поддержала и осталась в России. 1920-е гг. были самыми спокойными и творчески плодотворными в ее жизни. Уйдя от непонятной экспрессии кубизма, время которого в СССР еще не пришло, и сблизившись с авангардными творцами, она обратилась к прикладному искусству: оформила несколько постановок Таирова в Камерном театре, занялась промышленным дизайном – разработкой обложек для книг и этикеток, эскизов тканей и ювелирных украшений. Созданная по ее эскизам коллекция одежды в 1925 г. была удостоена Гран-при на Парижской выставке. Мухиной принадлежит также эскиз знаменитой «советской» граненой пивной кружки (одно время ей также приписывали «авторство» граненого стакана, однако впоследствии выяснилось, что к нему отношения она не имеет). И конечно же, Вера Игнатьевна продолжала ваять, несмотря на неустроенность и отсутствие подходящей мастерской. Вместе со многими русскими скульпторами она начала работать над осуществлением ленинского плана монументальной пропаганды. Одним из первых таких произведений Мухиной был памятник общественному деятелю И. Новикову, оба варианта которого погибли в неотапливаемой студии. Она участвовала и победила в ряде конкурсов, в частности на проекты монументов «Революция» для г. Клина и «Памятник Освобожденному труду» для Москвы – пластичные образно-символьные композиции, которые, как и большинство творений скульптора, не были осуществлены. В 1923 г. Вера Игнатьевна создала памятник Я. Свердлову, более известный как «Пламя революции» – вознесшуюся вверх аллегорическую фигуру несущего факел прекрасного мужчины, окруженного вихрем полуабстрактных форм. А через четыре года был сделан проект памятника М. Горькому для Москвы, но установлен он был в конце 1940-х гг. не в столице, а в городе, носящем имя писателя (сейчас Нижний Новгород). Также в 1920-е гг. появляются скульптурные портреты ее деда, мужа, колхозницы. Одновременно Мухина вела классы лепки в Московском художественно-промышленном училище, преподавала во ВХУТЕИНе.
Европейскую славу ей принесли скульптуры «Юлия» (1925 г.), которая была названа по имени позировавшей балерины, но была более «основательной», и гипсовая «Крестьянка», удостоенная главной премии на конкурсе к 10-летию Октября. Именно в непоколебимо спокойной, чуть грубоватой, словно вырубленной топором «Крестьянке» наиболее полно отразились новые устремления автора: культ физически здорового тела со здоровым духом, являющегося эталоном красоты и мужественности для современной эпохи. Первый бронзовый отлив этой скульптуры после XIX Международной выставки в Венеции купил музей Триеста, затем он стал собственностью Ватиканского музея в Риме; второй был произведен для Третьяковской галереи.
«Крестьянка» стала своеобразной точкой отсчета негласного нового звания Веры Игнатьевны – звания официального скульптора, «каменного оракула сталинского режима». Ее образы строителей социализма, попавшие в струю стремительного времени, из произведений искусства превращались в «средства наглядной агитации», с чем Мухина так и не сумела смириться, несмотря на высокое общественное положение. Но уже в начале 1930-х гг. ситуация стала меняться: репрессии против интеллигенции не обошли и ее семью. Алексей Замков, в то время сотрудник Института экспериментальной биологии, увлекся проблемой омоложения человека и в итоге изобрел уникальный препарат «Гравидан», избавлявший от импотенции и бесплодия, облегчавший течение многих болезней. Пациентами Замкова стали многие партийные чиновники и видные общественные деятели (в основном мужчины), но вскоре выяснилось, что препарат вызывает привыкание; некоторые врачи, недовольные успешной работой коллеги, начали открытую травлю. Супруги понимали, чем все может окончиться, и попытались бежать за рубеж. Это им не удалось: семью арестовала ОГПУ, и лишь благодаря личному вмешательству Орджоникидзе и Горького Мухина с мужем были «всего лишь» сосланы в Воронеж, где скульптор создала несколько портретов. Через три года, стараниями Горького, супругам позволили вернуться в столицу. Более того, Мухина получила собственную мастерскую, и ей разрешили снять деньги со своих швейцарских счетов для основания НИИ урогравиданотерапии, который возглавил Замков. Впрочем, Алексей Андреевич так и не вышел из поля внимания компетентных органов: в 1938 г. институт закрыли, врач из-за нервного потрясения перенес два инфаркта, а когда во время войны Бурденко пригласил его к себе на фронт вторым хирургом – не пустили. В 1942 г. Замков скончался, а рецепт гравидана был утерян.
Но вернемся к Вере Мухиной. В 1930-е гг. она активно занялась созданием монументальных и станковых портретов современников, среди которых – изображения режиссера А. Довженко, балерины М. Семеновой, мужа и его брата, отличающийся особой «нервной» лепкой портрет сына, скульптурные надгробия М. Пешкова и Л. Собинова. Наибольшего расцвета портретная скульптура в ее исполнении достигла в следующее десятилетие. Она стала более лаконичной и реалистичной, менее броской за счет внешних эффектов, мрамор все чаще сменяет бронза как материал «для построения в скульптуре форм, рассчитанных на силуэт, на движение», а в случае с портретом Качалова (1947 г.), когда скульптор увлеклась стеклопластикой, материал был и вовсе необычный – матово-голубое стекло. Вера Игнатьевна признавалась: «Волна небывалой войны выплеснула из недр народа таких героев, изобразить которых художник может считать честью для себя». И добавляла: «Искусство призвано не только отражать жизнь и радовать людей, оно должно зажигать их и поднимать на битву, на все великое, мудрое, прекрасное». Так появились на свет портреты выдающихся военных и общественных деятелей: летчика В. Коккинаки, хирургов С. Юдина и Н. Бурденко, инженера П. Львова, балерины Г. Улановой, полковников Б. Юсупова и И. Хижняка, кораблестроителя Н. Крылова, Героев Советского Союза Н. Столярова и А. Ворожейкина, безымянная «Партизанка».
Но в историю искусства Мухина вошла прежде всего как автор грандиозной скульптуры «Рабочий и колхозница», созданной для советского павильона на парижской выставке «Искусство, техника и современная жизнь» в 1937 г. Идею ее подал проектировщик павильона Б. Иофан, предложивший завершить 33-метровый головной пилон двухфигурной скульптурной группой с эмблемой государства. В конкурсе участвовало всего четыре человека, но все – признанные мэтры скульптуры: В. Андреев, М. Манизер, И. Шадр и Вера Мухина, чей проект превзошел все остальные. Поистине могучие фигуры юноши и девушки (высота 24 м, общий вес около 75 т, каркас из стальных ферм и балок, который покрывался листами хромо-никелевой стали толщиной не более 0,5 мм, сваривавшимися новейшим способом), возносящие в едином гордом порыве серп и молот, выглядели бы тяжеловесными и неуклюжими, если бы не высота, на которую они были вознесены, и неожиданный прием скульптора. Мухина, построив движение тел на горизонталях, чтобы скульптура выделялась среди многих парижских «вертикалей», отказалась от анатомического правдоподобия человеческого тела, удлинив и сильно распластав откинутые руки, добившись тем самым ощущения полета и необъятных просторов за спиной. Делал свое дело и материал: бесцветно-серебристая поверхность скульптуры словно бы врастала в пространство, придавая ей легкий и ажурный вид.
И хотя с самого начала «Рабочего и колхозницу» преследовали многочисленные неудачи – от замеченного бдительным Молотовым «лица Троцкого» в складках шарфа до подпиленного кранового троса в Париже, – но день, когда скульптура была наконец смонтирована, стал днем триумфа Веры Мухиной. И не потому, что ее творение было признано шедевром искусства XX в. или превзошло своей мощью фигуру, украшавшую немецкий павильон и находившуюся намного выше. Пожалуй, это был единственный раз, когда скульптора поняли. Сама Вера Игнатьевна признавалась: «Торжественную поступь я превратила во всесокрушающий порыв…»; ей вторила советская «Правда»: «…Фигуры двух молодых энтузиастов представлены в неудержимом сверхчеловеческом порыве вперед, к светлому будущему». Ромен Роллан писал в книге отзывов: «На берегу Сены два молодых советских гиганта в неукротимом порыве возносят серп и молот, и мы слышим, как из груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе». График Франс Мазерель добавлял: «Лично меня в этом произведении радует больше всего то ощущение силы, здоровья, молодости», а Пабло Пикассо просто восхищался, как великолепно смотрятся «Рабочий и колхозница» на фоне сиреневого парижского неба…
Скульптура стала известна во всем мире. Французы очень хотели оставить ее в Париже как символ творческой природы женщины. Испания выпустила почтовые марки с ее изображением. «Рабочий и колхозница» «расположились» на множестве сувениров – от чернильниц до платков – и вскоре стали символом «Мосфильма»… Но все эти внешние показатели успеха, по сути, были ничем. По возвращении с выставки скульптуру, рассчитанную на большую высоту и свободу пространства, установили на северном входе ВДНХ на постаменте высотой 10 м, вопреки мнению ее создательницы, что расположение неудачное. Мало кто знает, что за «Рабочего и колхозницу» Мухина получила всего 25 тыс. рублей (вдесятеро меньше, чем платили за статуи вождей коммунистического пролетариата). Еще менее известно, что лепилась группа со статуй античных тираноубийц Гармодия и Аристогитона. Вообще Вера Игнатьевна «умудрилась» стать народным художником СССР, членом Академии художеств, пятикратным лауреатом Государственной (Сталинской) премии, не изваяв при этом ни единого памятника Сталину или Ленину. Сталин согласен был лично ей позировать, да как-то не сложилось.
Но государственная машина, словно догадываясь о неприятии Мухиной существующего режима, отказывала ей в осуществлении практически всех работ. Остался проектом «Фонтан национальностей» – символ единения народов; статуи для Москворецкого моста были отбракованы за «подражание» Бурделю. Памятник героям-челюскинцам, который по замыслу должен был находиться неподалеку от Кремля и центральной фигурой которого являлся Борей, божество холода и тьмы, существует лишь в эскизах. Тоненькая серебристая фигурка падающего Икара – вечный символ несбыточных мечтаний и стремления человечества вверх, – созданная после гибели Чкалова для пантеона летчиков, после краж двух копий находится сейчас в запасниках Третьяковской галереи… Лишь один памятник – П.И. Чайковскому – был воплощен уже после смерти Веры Мухиной (6 октября 1953 г.), да и то в «обрезанном» виде: в пастушке со свирелью, выступающем за спиной композитора, усмотрели намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию Чайковского и убрали «лишнюю» фигуру.
Незадолго до кончины Вера Игнатьевна написала большое письмо в правительство, в котором говорила о недостатках советского искусства и управленческого аппарата. Были там слова и о взятках. Сама скульптор считала: «Мне негоже торговаться с моей страной»; такое отношение к проблеме она передала сыну. Поэтому и не был открыт в 1955 г. музей-мастерская Мухиной: один из чиновников «попросил» Всеволода Алексеевича отблагодарить за «хлопоты».
Из 150 скульптурных работ Веры Игнатьевны в Третьяковке и Русском музее ныне экспонируется лишь два десятка. Более тысячи рисунков не выставляются вообще. Не имеется ни одного альбома с репродукциями ее работ.
Лишь к 100-летию со дня рождения талантливого мастера, в 1989 г., был открыт памятник В.И. Мухиной работы М. Аникушина и С. Хаджибаронова. Но более всего могло бы порадовать скульптора то, что демонтированный из-за частичной коррозии монумент «Рабочий и колхозница» будет восстановлен. И что самое главное – установить его должны будут не на прежнем месте, а на вершине суперсовременного торгового комплекса, на высоте 34 метра. Но исполнится ли все это, вознесутся ли стальные гиганты в облака, сможет показать лишь время. Ведь у каждой эпохи свои взгляды на творчество и свои проблемы.
Нарбут Георгий Иванович (род. в 1886 г. – ум. в 1920 г.)
Художник, график-шрифтовик, рисовальщик и иллюстратор книг, представитель младшего поколения объединения «Мир искусства». Зачинатель украинской советской графики. Автор многочисленных экслибрисов и гербов. Профессор и ректор Украинской академии художеств (1917 г.) Автор брошюры «Гербы гетмановъ Малороссы» (1915 г.).
Мальчишкой он любил, забравшись в тенистый сад на отцовском хуторе Нарбутовка (Глуховский уезд Черниговской губ. – ныне Сумская обл.), который уже не напоминал «дворянское гнездо», улечься в буйном разнотравье и наблюдать, как облака превращаются в диковинные фигуры, как порхают бабочки с тонкими узорчатыми крылышками, как ветер перебирает каждый листочек. В этот момент Георгий забывал обо всем: о том, что по саду где-то носятся четыре брата и две сестры, что отец, обедневший помещик из знатного казацкого рода, мало интересуется домашними делами, переложив все заботы на плечи жены, что в доме нет ни карандашей, ни красок. Мальчик радовался, когда мог достать лист синей бумаги, в который обычно упаковывали в магазине сахар, и, забившись в укромный уголок, без устали вырезать ножницами все, что видел: листочки, бабочек, кузнечиков, а еще что-то необычное, выдуманное. Он фантазировал, и его импровизации оживали, а вот образование оставляло желать лучшего. Только в 10 лет слабо подготовленного к учебе Георгия (а родился он 8 марта 1886 г.) отдали в приготовительный класс Глуховской гимназии. Занятия его интересовали мало, поэтому он «в первом и втором классах „зимовал“ по два года», да и позже бо́льшую часть времени уделял истории, словесности и, конечно, рисованию, хотя сам впоследствии признавался, что учителя рисования ему ничего не смогли дать.
Живой энергичный подросток занимался с друзьями то стихийными археологическими раскопками, то днями просиживал в публичной библиотеке над журналом «Мир искусства», который и натолкнул его на ретроспективный стиль в искусстве. А еще Георгий, впервые увидев на уроке старославянского языка Остромирово Евангелие и начав с переписывания текстов «Поучения Владимира Мономаха к своим детям», «Евангелия от Матфея», «Песни о Роланде», «Слова о полку Игореве», на всю жизнь был покорен вязью ручных шрифтов и орнаментальностью заглавных букв. А в своих живописных пробах он подражал «мирискусникам», которые видели красоту и изысканность только в прошлом. Он был покорен сказочной живописью Васнецова и особенно Билибина и создавал образы в билибинском стиле. Но самое главное – на страницах любимого журнала Георгий увидел виньетки и заставки, которые так напоминали его силуэтные вырезки, или, как говорят в Украине, «вытынанкы». Нарбут понял, что сам интуитивно нашел один из живописных стилей, и продолжал развивать его, только используя уже не ножницы и мучной клейстер, а краски и карандаши.
Первое «произведение» Нарбута, на которое он впоследствии без стыда не мог смотреть (раскрашенный графический лист «Икона Святого Георгия Победоносца»), показанное на уездной сельскохозяйственной выставке в 1904 г., имело успех, а работы для «Общины Святой Евгении» даже были отпечатаны. Спустя два года гимназия худо-бедно была окончена, и, несмотря на сопротивление родителей, Георгий и его брат Владимир (будущий известный поэт-акмеист) отправились в Северную Пальмиру и были зачислены студентами факультета восточных языков Петербургского университета. Правда, Георгий почти сразу же перевелся на филологический, где организовал «художественный кружок» и бредил встречей с «мирискусниками». Ему повезло: первый же поход к Ивану Билибину начался с разговора, а закончился предложением снять пустующую комнатку в его доме. Вскоре художник ввел юношу в круг своих друзей.
«Жизнь моя у Билибина мне очень нравилась и принесла мне огромную пользу. Не будучи его учеником, я фактически учился у него. Когда он работал у себя в мастерской, то почти всегда звал и меня "за компанию" за свой стол рисовать. Он же достал мне и заработок: по его протекции издатель газеты "Русское Чтение" купил у меня для издания иллюстрации (сделанные еще в Глухове) к сказкам "Снегурочка" и "Горшеня", а потом заказал мне несколько графических работ (обложку, рисунки загадок и концовки) для своего журнала…» – вспоминал о том времени подражательства Нарбут. Но к счастью, он не превратился в «маленького Билибина», а стал стилистом в самом широком понимании этого слова. А Иван Яковлевич, сразу же распознав в экспансивном юноше задатки большого таланта, говорил: «Нарбут огромнейших, прямо необъятных размеров талант… Я считаю его самым большим из русских графиков. То, на что я трачу по несколько дней, он исполняет за несколько минут». Впоследствии художники отмечали, что, увлекшись, он мог исполнить утонченно-сложную заставку за 25 минут. Даже время засекали. Единственное, от чего следовало избавиться Нарбуту – это от подражательства, но и это ему на первых порах прощали, ведь он был самоучка.
Окончательно сделав выбор в пользу искусства, Георгий попробовал было посещать студию Е.В. Званцевой и учиться у Л.С. Бакста и К.С. Сомова, но классическое рисование ему не давалось, и он так и остался удивительным самородком, от природы наделенным утонченной графической культурой. Путь Нарбута в искусство, если сравнить его с биографиями художников того времени, необычен и чем-то напоминает подготовку средневековых миниатюристов, которые, копируя, превращались в самобытных мастеров. Но это вовсе не означало, что как живописец он не состоялся. Например, в 1916 г. Нарбут представил на выставку «Мира искусства» необыкновенный по красоте и свежести восприятия акварельный натюрморт «Розы в бокале». Под этой работой была приписка «Не продается». Но картину Георгий Иванович все же продал, хотя пейзаж был написан для жены Веры Павловны, в девичестве Кирьяновой. В то время в их семье подрастала дочь и только родился сын Данила. Деньги были очень нужны. Акварель приобрела царская семья за огромные по тем временам деньги – 800 руб., и сейчас она находится в собрании Русского музея.
Но все же как график и шрифтовик Нарбут был выше. Его небольшие сюжетные композиции и маленькие силуэтные рисунки покоряли безукоризненным исполнением и утонченным вкусом. Особенно он любил работать над оформлением детских книг, в которых можно было не сдерживать фантазии. Каждый лист книги превращался под рукой Нарбута в театральную сцену. В 1909 г. он иллюстрировал сказку «Война грибов», очеловечив фигурки грибов и создав для них особый мир, где травы, словно сошедшие из учебника ботаники, выше, чем стены домов. Необычность рисунков была смягчена нежными оттенками акварели.
Но недостаточность образования очень волновала Нарбута, и он отправился в Мюнхен (1909 г.), слывший столицей рисовальщиков и графиков. Но потом решил не тратить время на рисование натурщиков в художественной школе Голоши, а просто окунулся в изучение музейных сокровищ и, в частности, работ А. Дюрера, перед мастерством которого преклонялся. Вдали от родины он был хмур и скован и, может быть, поэтому создавал картины наподобие «Пейзажа с кометой». В этой космической фантасмагории комета прочерчивает черноту ночи и окрашивает безлюдный пейзаж с руинами какой-то потусторонней бледностью. Все графические работы художника имели глубокие корни в классике. Нарбут изучал и превосходно знал русскую и западно-европейскую гравюру XVII-XVIII вв., стилистику украинского барокко и французского ампира, а иногда шутки ради «играл» под дилетанта.
Вернувшись в Петербург, Нарбут вновь приступил к иллюстрированию детских книг. Большой удачей художника были «Пляши, Матвей, не жалей лаптей» (1910 г.) и две книжки с одинаковым названием «Игрушки» (1911 г.), где он мастерски использовал стилизованные изображения русских народных игрушек. В этих иллюстрациях тщательный контурный рисунок, тонко расцвеченный акварелью, еще нес на себе следы влияния Билибина, но вскоре Нарбут его изжил, увлекшись ампиром. На новый, зрелый стиль художника повлияло увлечение русской культурой первой четверти XIX в. – настолько страстное, что Нарбут даже обставил свою квартиру, стал одеваться и причесываться в духе того времени. В изданиях басен И.А. Крылова (1910, 1911 гг.) он искусно применил декоративные приемы русского ампира, породив немало подражателей. А в знаменитом издании «Соловья» Х.-К. Андерсена (1912 г.), где варьировался традиционный китайский стиль, художник с блеском возродил искусство силуэта. Следует отметить, что при этом он тщательно избегал прямых линий, которые, по китайским верованиям, приближают встречу со злым духом. После этих работ известность Нарбута в России достигла апогея. На выставках объединения «Мир искусства» его графика уже не терялась среди работ старших участников, а в 1916 г. он был избран в комитет этого общества. А оформленные им книги выходили одна за другой и, как отмечал исследователь его творчества Платон Белецкий, в то время Нарбут «был в Петрограде незаменимым мастером, к которому издатели шли на поклон».
Прославившись как один из реформаторов книги для детей, Нарбут не менее успешно иллюстрировал и оформлял книги для взрослых. Наряду с С.В. Чехониным и Д.И. Митрохиным он определял высокий уровень русской книжной графики предреволюционных лет и несомненно первенствовал во всех темах, связанных со стариной, в частности с геральдикой, мотивы которой разрабатывал с особенной любовью. Он был и страстным поклонником украинской культуры, вместе с друзьями путешествовал по Малороссии. Результатом одной из таких поездок стали иллюстрации к книге его друга Г. Лукомского «Старинные усадьбы Харьковской губернии». Рисунки к этому научному изданию настолько лиричны, словно они были изначально предназначены для поэтического сборника. (Художнику также принадлежат иллюстрации к книге «Старинная архитектура Галиции» того же автора, изданной в 1915 г.)
Нарбут как волшебник мог превратить в произведение искусства даже обычную журнальную обложку, а каждая буква написанного им текста превращалась в маленький шедевр. Как шрифтовик он был непревзойденным мастером. В сборниках С. Маковского «Русская икона» (1913-1914 гг.) Георгий Иванович продемонстрировал свою исключительную способность работать с самыми разнообразными шрифтами. Но особым «пунктиком» Нарбута считается геральдика. Сама наука его не интересовала, но герб как живописное сочетание определенных и вместе с тем богатых по форме геральдических элементов полюбил до увлечения, до мании. Нарбут грезил гербами. Рисовал он иллюстрацию к какой-нибудь сказке, делал ли обложку или фронтиспис, если оставалось свободное место, он «сажал» туда вымышленный им герб. А иногда и свой – «Тромбы» (три охотничьих рога, соединенных наподобие звезды). Георгию Ивановичу так нравился собственный герб, что он ухитрился разместить его даже на силуэтном автопортрете в центре головы – «Narbutissimus» – «всем Нарбутам с Нарбутовки Нарбут». Художник приобрел такой большой опыт, что иллюстрировал специальный журнала «Гербовед», выходивший в 1913 – 1914 гг. в Петербурге. А в издании «Малороссийского гербовника» им были исполнены кроме общего украшения книги более 160 рисунков самобытных украинских гербов. Рукой Нарбута был создан и ряд экслибрисов, отличающихся уверенным и четким штрихом и богатством композиции. Особенно хороши экслибрисы с изображением дворянских гербов владельцев: для В.К. Лукомского, А.Н. Римского-Корсакова, О.Н. Значко-Яворской, барона Н.Н. Врангеля и для гербового отделения Департамента геральдики Правительствующего Сената.
Следующим шагом Нарбута в этом направлении стало изготовление для Капитула орденов нового «Георгиевского Статута», титульный лист которого, изукрашенный гербами, должен быть причислен к серии его геральдических работ. Именно этим он занимался, призванный на службу в годы Первой мировой войны. А единственной самостоятельной печатной работой художника была брошюра «Гербы гетмановъ Малороссiи» (1915 г.), изданная всего в 50 экземплярах. В мае 1915 г. «для улучшения художественной стороны актов, выдаваемых Департаментом герольдии», Нарбут был приглашен на службу в Гербовое отделение Сената, даже несмотря на то, что не имел никакого чина, правда и безо всякого штатного вознаграждения.
К этому же времени относится серия «Аллегорий» («Разрушение собора в Реймсе», «На начало Первой мировой войны – 1914 год», «Хронос – 1916 год»), в которых Нарбут безжалостно обвинял «эту треклятую войну». Для него это время было тяжелым психологически, и ему казалось, что все в его жизни пошло не так. Но следом пришла Февральская революция, всеобщий душевный подъем. Георгий Иванович был безмерно счастлив, что свою родину, вместо унизительного «Малороссия», может именовать Украиной, и первой работой того периода стала украинская «Азбука». Прирожденный шрифтовик создал из букв дивный сплав фантазии, юмора, и одновременно в них проскальзывало ощущение урагана. Это не была азбука в привычном примитивном понимании слова, потому что Нарбут, импровизируя, создавал слова-образы. Вот, например, буква «Ч». Рисунок экспрессивен, и кажется, что им можно иллюстрировать Гоголя: чертик с юношеским чубчиком пьет чай из чашки, а его приятели весело играют в чехарду.
Октябрь разметал бывших друзей-«мирискусников», и каждый пошел своей дорогой. Георгий Иванович остался на родине, хотя больно было расставаться с товарищами, да и в отношениях с супругой было все больше непонимания, и они расстались. Нарбут вместе с Рерихом, Бенуа, Билибиным, Петровым-Водкиным, Шаляпиным стал членом «Комиссии Горького» – Особого совещания по делам искусств – и перебрался в Киев, чтобы упорядочить ценности царского дворца. Его последней работой в Петербурге стало оформление монографии «Рерих». У мастера, которого ценили за свободу от модных штампов, который мог выполнить любую порученную ему работу с неизменным изяществом и в любом требуемом ключе – когда с веселой выдумкой, когда с грустной иронией, а когда и по строгим античным образцам, – было огромное количество творческих планов. Он включился в новую жизнь с такой энергией, словно предчувствовал, что на все ему отпущено меньше трех лет…
Георгий Иванович увлекся идеей создания Украинской академии искусств, принял в этом деле активное участие и стал профессором графики вновь созданного заведения. Но власть в Киеве менялась как в калейдоскопе: Центральная Рада, Деникин, Петлюра, немцы, белополяки… и многих коробило слово «Украинская» на вывеске. Профессора разъехались вместе с первым ректором Ф. Кричевским, и Нарбут взвалил на себя все дела академии. Единственный из профессоров, который ему во всем помогал, был Михаил Бойчук. Когда академия лишилась помещения, Георгий Иванович перенес занятия в свой дом, где поселился с новой женой Натальей Модзалевской, сестрой известного генеалога и своего друга, чью книгу «Товстолесы. Очерк истории рода» оформлял. Голодные, плохо одетые студенты всегда спешили попасть на занятия такого интересного, веселого человека. В нем по-прежнему играло детское озорство, выдумка. Серьезно работая над новым вариантом «Украинской азбуки», которую называл важнейшей книгой в жизни, Нарбут по просьбе гетмана Скоропадского создал проект бумажных денег. Но и тут, вместо того чтобы изобразить на купюре «главу державы», он нарисовал улыбающееся личико юной украинки. И в тот недолгий срок, что они имели хождение, люди прозвали их «горпынками».
В Киеве Нарбут быстро «оброс» молодыми талантливыми друзьями, мечтавшими о свободной Украине и свободном искусстве: П. Тычина, Л. Курбас, Н. Зеров, Т. и М. Бойчуки. Именно для них он придумал и «оживил» смешного высокомерного дворянчика с изумительным именем – Лупа Грабуздов. Георгий Иванович увлек всех в эту игру: герою справляли то именины, то похороны. А силуэтные портреты доморощенного философа Лупы – едва ли не самые талантливые среди других работ Нарбута в этом жанре.
В 1919 г. наконец все определилось. Власть закрепилась за большевиками, академии предоставили новое помещение. Специалисты считают, что произведения Нарбута, созданные за три с половиной года жизни в Киеве, – из самых лучших его работ. Но к сожалению, кроме обложек к журналам «Солнце труда», «Искусство», они остались незавершенными. Работа над «Украинской азбукой» была в самом разгаре, а к «Энеиде» Котляревского был сделан только цикл эскизных рисунков, которые заслуживают того, чтобы их называть шедеврами. Нарбуг-стилист сумел удачно соединить элементы римской и украинской культур, а в рисунке стал продолжателем литературного стиля Котляревского и Гоголя.
Балагур и весельчак, он, даже лежа в постели в последние дни жизни, продолжал шутить: «К сожалению, у меня немножко тиф», – писал он друзьям. 23 мая 1920 г. Георгий Иванович Нарбуг скончался. Только после смерти друзья увидели работы последних дней – «Архитектурные фантазии» – мрачные, чем-то напоминающие тяжелый сон…
Неизвестный Эрнст Иосифович (род. в 1926 г.)
Выдающийся русско-американский скульптор-монументалист, живописец, график, иллюстратор, работающий в стиле модерн, теоретик искусства, писатель, поэт. Профессор Орегонского (1983 г.) и Колумбийского (1986 г.) университетов; член Шведской королевской академии наук, Нью-Йоркской академии искусств и наук (1986 г.) и Европейской академии искусств, наук и гуманитарных знаний. Обладатель почетных наград: медали «За отвагу»; орденов Красной Звезды (1945 г.), «За заслуги перед Отечеством» (1996 г.), «Знак почета» (2000 г.); лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000 г.). Автор книг «О синтезе в искусстве» (1982 г.), «Говорит Неизвестный» (1984 г.), «Пространство, время и синтез в искусстве», «Лик-лицо-личина» (обе в 1990 г.), сборника поэзии «Судьба» (1992 г.).
«В истории искусства не было подпольных скульпторов – были непризнанные; но признанных и одновременно загнанных в подполье не было. Эта сомнительная честь выпала мне», – без ложной скромности говорит о своей творческой жизни Эрнст Неизвестный. Его искусство самобытно и современно. Это попытка в камне, бронзе, живописи овеществить мысль, рассказать в пластической форме о столкновении Добра и Зла, Бога и Дьявола, Жизни и Смерти. Работы Неизвестного не столько отражают окружающий мир, сколько философски его осмысливают. Предпосылки для становления и развития его неординарного таланта были заложены еще в детстве.
Семья Неизвестных жила в большом трехэтажном доме в Свердловске (ныне Екатеринбург), доставшемся в наследство от богатой купеческой семьи деда, отличавшейся либеральными взглядами настолько, что в их типографии печаталась революционная литература. И хотя после Октябрьского переворота отец Эрнста, Иосиф Неизвестный, воевал в рядах Белой армии, репрессии их семьи не коснулись. К тому же он был прекрасным детским хирургом, чей опыт высоко ценился в городе. Любимым отдыхом отца была полемика с советским радио (может быть, поэтому сын потом всегда побеждал в дискуссиях с власть предержащими). В русско-еврейской семье Неизвестных царило уважение, самодисциплина, наука и культура. Дочь Людмилу и сына Эрика (позже он сменил имя на Эрнст) воспитывала няня под неусыпным вниманием матери, Беллы Дижур. Это была интеллигентная, образованная женщина, по профессии – химик-биолог, по складу души – поэт и писатель, серьезно занимающаяся мистикой и теософией. Благодаря семье Эрнст получил прекрасное разностороннее образование. Он, как любой мальчишка, увлекался футболом и боксом, но в то же время постигал философию. Его настольными книгами в юности были произведения таких авторов, как Флоренский и Бердяев. И сколько он помнит себя – всегда рисовал или лепил.
Став в четырнадцать лет одним из победителей всесоюзного конкурса, Эрнст был принят в среднюю художественную школу при Академии искусств в Ленинграде на полное государственное обеспечение. В Самарканде, куда школа эвакуировалась в годы войны, Эрнст тяжело переболел тифом. Выздоровев, он добавил себе годы и отправился добровольцем на войну. С 1943 г., после окончания военного училища в Кушке, юный лейтенант с боями прошел через всю Украину до Австрии. Был контужен, несколько раз ранен, последнее ранение было очень тяжелым. Разрывная пуля раздробила грудную клетку, травмировала позвоночник и внутренние органы. Эрнст пережил клиническую смерть, даже был «посмертно награжден орденом Красной Звезды», но в госпитале его выходила старая нянька.
С войны Неизвестный вернулся героем и инвалидом. Преподавал рисование в суворовском училище (1945-1946 гг.). Затем семь лет учился в Рижской академии художеств и Московском институте им. Сурикова. Он был примерным, многообещающим и талантливым студентом. Его работа – неоклассический женский торс, выполненная на третьем курсе, получила международную медаль и была приобретена Третьяковкой, а «Строитель Кремля Федор Конь» (5-й курс) – была выдвинута на Сталинскую премию и куплена Русским музеем. И только близкие друзья, создавшие с Эрнстом группу «катакомбной культуры», знали его как начинающего мастера конструктивистской скульптуры, работающего в стиле модерн. Работы Малевича, Филонова, Кандинского и Татлина были его второй академией. От абстракционизма молодой скульптор меньше всего взял «внешнее», но он ухватил суть – ритм, движение и внутреннее напряжение.
Ставший в 1955 г. членом Союза художников СССР, Неизвестный выпадал из общепринятой гладкости соцреализма, а в период хрущевской «оттепели» открыто отказался создавать работы в стиле «девушки с веслом» или «юноши с отбойным молотком». Эрнст работал в экспериментальной манере. Как художник он был неуправляем идеологическими доктринами и, хотя не выступал против государственной политики, сразу стал «отступником и предателем социалистических идеалов».
В скульптурных циклах «Война это», «Концлагерь» нет внешней красоты подвига и слезливости гибели. Искаженные, изуродованные войной человеческие фигуры и машины мучаются в боли и агонии. Все работы динамичны и глубоко символичны. Неизвестный был победителем открытых конкурсов на создание монументов в честь воссоединения Украины и России (1954 г.) и мемориала Победы в Великой Отечественной войне (1959 г.). Но его проекты не осуществлялись, а идеи присваивались более именитыми мастерами.
Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве принес Эрнсту сразу три высших награды за гранитные скульптуры: золото – за «Землю» («Природа»), серебро – за «Мулатку» и бронзу – за «Женский торс». Все медали ему «не могли» дать, и скульптор снял с выставки «Землю», которую впоследствии А.Н. Косыгин подарил президенту Финляндии Урхо Кекконену. Но за год до этого успеха Неизвестный был выселен из Москвы и изгнан из Союза художников «за ревизионизм». Он работал в Свердловске в литейном цехе, начал пить, впал в глубокую депрессию. Видение «Древа жизни» стало поворотным моментом в тот трудный период непонимания. Эта идея так захватила художника, что над ее реальным воплощением он работает на протяжении всей жизни.
Но несмотря на все продолжающуюся опалу, Неизвестный становится знаменит вначале в СССР, а затем и на Западе. В своих скульптурах он философски напряженно соединяет человека и созданную им «вторую природу» – науку, машины, технологию (серия «Гигантомахия»). Художник мыслит масштабно и монументально и с таким же размахом отстаивает свое право творить не «как надо», а «как хочу». Его дискуссия с Н.С. Хрущевым на выставке модернистского искусства в Манеже (1962 г.) обсуждалась миллионами. Никита Сергеевич внутренне симпатизировал Неизвестному, но понять до конца его искусства не смог или не захотел, как не мог повернуть вспять идеологическую машину. Но по его завещанию именно Неизвестный создал надгробный памятник Хрущеву (1974 г.) на Новодевичьем кладбище, символическими контрастами подчеркнув противоречивость его правления.
В 1962 г. была создана скульптура «Пророк», оживившая в пластике любимое художником стихотворение Пушкина. Неизвестный до сих пор считает, что шестикрылый серафим – «лучший скульптор», потому что сумел человеческое «трепетное сердце» заменить «пылающим огнем».
В годы «прозябания» Эрнст работал каменщиком, формовщиком, грузчиком. Часто он с трудом сводил концы с концами, ведь скульптура – искусство не только трудоемкое, но и очень дорогостоящее. Но даже испытывая постоянное давление и саботаж, Неизвестный устанавливает в Югославии монументальные скульптуры «Кентавр» и «Каменные слезы» (1965 г.), создает 150-метровый декоративный рельеф «Прометей» в пионерском лагере «Артек», работает над серией рисунков и гравюр к «Аду» и «Маленьким произведениям» Данте, иллюстрирует «Преступление и наказание» своего любимого писателя Ф.М. Достоевского (1970 г.). Его работы экспонируются в Музеях современного искусства в Белграде (1965 г.), Вене (1966 г.), в парижской галерее Ламбер (1966 г.), в шведской галерее Астли (1969 г.), в Музее современного искусства в Париже и на Выставке произведений ветеранов Великой Отечественной войны (1970 г.). Тайно переправленный скульптором на международный конкурс проект памятника для Асуанской плотины (1969 г.) был признан лучшим. 85-метровый «Цветок лотоса», символизирующий жизнь, расцвел в Египте. Отмахнуться от такого успеха «советского искусства» было уже невозможно.
Неизвестного вновь ввели в члены Союза художников. После выставки в Польше (1973 г.) серии скульптур «Распятие» в собрании папы Иоанна Павла I («Большое распятие» приобретено Музеем Ватикана в 1974 г.) скульптор стал «невыездным». Но благодаря Косыгину, Капице, Ландау Неизвестный получал большие заказы на оформление общественных и научных зданий: декоративный (970 м2) рельеф для Института электроники и технологий (самый большой в мире), скульптурный монумент «Полет» для Института легких сплавов, архитектурный фасад здания ЦК Компартии в Ашхабаде. Если бы общество принимало его творчество, а бюрократы не вставляли палки в колеса и дали Неизвестному просто спокойно работать, по его собственному признанию, он никогда бы не покинул страну. «Я не бунтарь, я – персоналист, и поэтому на меня смотрели как на бунтаря; правительство требовало от меня послушания, интеллигенция – прогресса, молодежь – модерна». А художник просто хотел творить так, как видел и чувствовал он сам.
В мае 1976 г. при поддержке канцлера Австрии Б. Крайского Неизвестный эмигрировал. В Москве остались жена Дина Мухина (известная керамистка), дочь Ольга, друзья. Год Эрнст Иосифович жил и работал в Цюрихе, затем переехал в Нью-Йорк. В 50 лет ему пришлось учиться жить по другим законам. На своем опыте он убедился, что если в СССР искусство – это идеология, то на Западе – бизнес. Но в творчестве он остался самим собой – художником-философом. Свой экспансивный, щедрый, «вулканически продуктивный» дар Неизвестный посвятил воплощению прекрасных замыслов: бронзовый портрет Д. Шостаковича украсил Центр Кеннеди в Вашингтоне (1976 г.); «Новая статуя Свободы» установлена на Тайване (1988 г.). Работы Неизвестного покупаются частными коллекциями и музеями мира по баснословным ценам. И это не мода, это – понимание.
«Художник имеет право быть понятым… Быть непонятым для художника всегда трагедия», – пишет Неизвестный. В своих философско-искусствоведческих работах, на лекциях в университетах США он рассказывает о собственной творческой лаборатории, о своем видении реальности. Скульптор ссылается на Эмпедокла, в теории которого все части тела родились отдельно друг от друга. Стремясь соединиться в единое целое, они на первых порах срослись нелепо, негармонично. Затем все установилось анатомически цельно и целесообразно, приобрело многознаковость, как египетские символы. Кентавры в работах Неизвестного стали человеко-машинами, тогда как в Древней Греции были человеко-кони. Превращение лица в маску – также древняя традиция многих народов, поскольку маска и кукла более выразительны и запоминаемы, чем человек. Рассеченные, изувеченные, исковерканные люди – это не стремление разрушить человеческую суть, а желание исследователя показать их бесконечность. Скульптуры Неизвестного – это бесконечный синтез: человек – природа – «вторая природа» (наука и технология). Незакрепощенное догмами воображение органично соединяет, казалось бы, несоединимое, делает его благородным, осмысленным и величественным. Мастер понимает, что скульптура напряжена только «от воли духовных переживаний скульптора» и поэтому заряжает свои работы драматизмом формы и глубинным символизмом. Скульптуры Неизвестного надо не просто смотреть, в них надо проникать, разбираться, «вчитываться, как в интеллектуальный и чувственный философский трактат».
Неизвестный стал еще одним русским художником-авангардистом, которого вначале признал Запад и только потом – Россия. Но в последнее время многое меняется в восприятии его творчества и на родине.
Вскоре перед зданием мэрии Москвы на Новом Арбате будет «посажено» то самое «Древо жизни», над моделью которого Неизвестный трудится с 1956 г. Замысел поражает не размером монументального сооружения, а философским и символичным подтекстом и продуманностью. «Древо жизни» – это здание музея и одновременно многокомпозиционная скульптура. Названа она «древом» потому, что произрастает из семи корней – семи смертных грехов человека. Надземная крона «древа» – «сердце» и «крест» (по Библии все три слова – синонимы) – образована из семи 150-метровых лент Мебиуса, окрашенных в цвета спектра. Многочисленные поверхности лент будут заполнены барельефами и скульптурами. Посетитель, рассматривая стенды с экспонатами, как бы сам становится частью «древа». Архитектурно-скульптурная композиция в основе своей посвящена творчеству человека, в котором искусство через духовное соединяется с современной наукой и технологией, – «Вера и Знание».
Неизвестный по-прежнему живет и работает в Нью-Йорке. У него собственная огромная студия и большой дом на престижном острове Шелтер, квартира в Швеции и студия в Швейцарии. В Уттерсберге (Швеция) открыт музей с его работами. Свою вторую жену, Анну, Эрнст Иосифович считает идеалом женщины. Она ведет все его дела и является директором студии. Неизвестный достиг благосостояния и всемирного признания своего искусства, но с завидным для его лет темпераментом продолжает работать. Его изящные статуэтки с гордостью держат в руках победители премий «ТЭФИ» и «Триумф». Он плодотворно работает как иллюстратор (сочинения Беккета, 1992 г.; «Достоевский и канун XXI века», 1989 г.; «Книга Екклесиаста», 1998 г.; «Книга Иова», 1999 г.; книга «Пророки» – в работе; стихотворный сборник своей матери Б. Дижур «Тень души», 1990 г.). Во многих странах издаются эссе Неизвестного по теории искусства. В настоящее время Эрнст Иосифович отказался от преподавательской деятельности, полностью посвятив себя творчеству.
Бывший гражданин СССР, он с болью вспоминает годы гонений, но зла на свою страну не держит. Среди наиболее значительных работ последнего десятилетия – монумент жертвам Холокоста в Риге, 1989 г.; памятник Сахарову в Москве, 1990 г.; проект мемориалов жертвам сталинских репрессий в Екатеринбурге, Воркуте, Магадане, 1991 г.; памятники «Исход и возвращение» в Элисте, 1996 г., «Возрождение» в Москве, 2000 г. В возведенный в Магадане монумент «Маска скорби» (1996 г.) скульптор вложил не только свой талант, но и весь гонорар – один миллион долларов.
Для Неизвестного важнее всего созидать и быть понятым. Его искусство отражает «полное безумие» нашего времени, монументально перечеркивает «простодушную серость будней», заставляет задуматься над тем, чего может достичь «песчинка»-человек в огромном живом организме общества.
Нестеров Михаил Васильевич (род. в 1862 г. – ум. в 1942 г.)
Выдающийся русский живописец, создатель поэтических религиозных образов, большой мастер портрета, монументальной храмовой живописи. Обладатель Сталинской премии (1941 г.), звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (1942 г.). Автор книги воспоминаний «Давние дни» (1942 г.).
«В художестве, в темах своих картин, в их настроениях, в ландшафтах и образах я находил «тихую заводь», где отдыхал сам и, быть может, давал отдых тем, кто его искал. Беспокойный человек думал найти покой в своих картинах, столь не похожих на него самого», – такими строчками подписал Михаил Васильевич Нестеров один из своих рисунков. Эти слова наилучшим образом характеризуют связь между жизнью русского художника и искусством, которому он посвятил 65 лет из 80 прожитых. Трудно представить, что эти спокойные, светлые картины, дающие зрителю ощущение легкой грусти и умиротворения, написал человек, наделенный большим темпераментом, в чьей жизни «до последних дней трепетал пульс увлечения, порыва, страсти».
Родился будущий художник в Уфе. Отец его, Василий Иванович Нестеров, был купцом, мать, Мария Михайловна Ростовцева, также происходила из старинного купеческого рода. Из двенадцати детей, родившихся в их семье, в живых остались только двое – дочь Александра и сын Михаил, да и того в двухлетнем возрасте едва спасли от смерти, настолько слабым и болезненным он был. Когда мальчику исполнилось 12 лет, отец, желавший видеть сына инженером-механиком, привез его в Москву и определил в реальное училище К.П. Вознесенского. Вскоре у озорного и непоседливого мальчишки заметили явный художественный дар и порекомендовали поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
В училище юному Нестерову посчастливилось обучаться у прекрасных мастеров – Е.С. Сорокина и В.Г. Перова. Последний, один из самых любимых педагогов Нестерова, подвел его к художнику А.А. Иванову, перед которым он, по собственному признанию, «как ученик перед недостижимым учителем, благоговел всю жизнь». Творчество его, в особенности картина «Явление Христа народу», оказало необычайное влияние на Михаила Нестерова.
С 1880 г. молодой художник обучался в Петербургской академии художеств, но три года учебы там привели его к полнейшему разочарованию. Тем не менее время, прожитое в Петербурге, не прошло даром – огромную часть его Нестеров проводил в Эрмитаже, изучая творчество великих мастеров. «Жизнь в Эрмитаже мне нравилась все больше и больше, а академия – все меньше и меньше. Эрмитаж, его дух, стиль возвышали мое сознание», – вспоминал художник. Весной 1882 г., перед самой смертью В.Г. Перова, он вернулся в Москву, а осенью вновь поступил в Училище живописи.
Вскоре Нестеров обрел первую и, по словам художника, «самую истинную» любовь, которую испытал за всю жизнь. С Машей Мартыновской он встретился летом 1883 г., когда приехал к родителям в Уфу. «Смотря на нее, – писал об этой встрече Михаил много лет спустя, – мне казалось, что я давно-давно, еще, быть может, до рождения, ее знал, видел. Такое близкое что-то было в ней. Лицо цветущее, глаза небольшие, карие, не то насмешливые, не то шаловливые… Какое милое, неотразимое лицо, говорил я себе, не имея сил отойти от незнакомки». Это событие было так волнующе для художника, что тогда же, в 1883 г., он запечатлел его в милом рисунке «Первая встреча», который стал лучшей из его ранних работ. С этого момента в рисунках, эскизах, этюдах и картинах художника впервые возникает женский образ.
Бодрым, жаждущим творить вернулся молодой художник в Москву, и только разлука с любимой девушкой омрачала его приподнятое настроение. «Необузданной натурой юноши безраздельно владеют два чувства, две страсти: любовь к искусству и любовь к женщине, причем первая все-таки доминирует», – писала позднее старшая дочь художника О.М. Шретер под впечатлением переписки отца и матери. В августе 1885 г. «без благословения» и вопреки воле родителей жениха М. Нестеров и М. Мартыновская обвенчались. Жили они бедно, снимая дешевую комнату на окраине, но художник как мог старался прокормить себя и жену – работал иллюстратором для журналов, расписывал дома́. В это время Нестеров написал картины «На Москве», «Веселая история» и «До государя челобитчики» (за последнюю он получил большую серебряную медаль и звание «классного художника»). Когда в семье родилась дочь Ольга, Михаил назвал этот день «самым счастливым днем в моей жизни».
Но счастье, «такое недавнее, такое огромное, такое невероятное», ушло слишком быстро – горячо любимая жена умерла через сутки после родов. Тяжело переживая эту утрату, Нестеров стал искать милый образ любимой в искусстве. Художник по памяти написал большой портрет Маши в подвенечном платье, нарисовал несколько эскизов, изображающих ее уже больной, умирающей. Незабвенные черты отразились и в пушкинских образах, которые Нестеров создал, иллюстрируя сочинения любимого поэта: в царевне из «Сказки о семи богатырях», в царице из «Сказки о царе Салтане», в Маше Троекуровой из «Дубровского». В образе «Равноапостольной княгини Ольги», который художник считал своей удачей, также проступает облик Марии Мартыновской. «Образ ее не оставлял меня. Везде я видел ее черты, ее улыбку… Тогда же (1887 г.) у меня явилась мысль написать свою «Христову невесту» с лицом Маши. С каким хорошим чувством писал я эту "картину-воспоминание"», – рассказывал Нестеров. «Христова невеста» удивляет совершенно новой для художника нежной, прозрачной иссиня-зеленой мягкой гаммой красок, которая приходит на смену прежней «суховатой черноте». В этой, написанной с глубоким чувством картине-элегии, Нестерову удалось создать новый поэтический образ – «насквозь русский и глубоко народный». Подобно Тургеневу, открывшему свой образ женщины в литературе, художник создал живописный облик «нестеровской девушки». По его словам, именно с «Христовой невесты» в нем развилось нечто «цельное, определенное», давшее ему свое «лицо». Живописец утверждал, что без этой картины и без всего, что с нею пережито, «не было бы того художника, имя которому «Нестеров», не написал бы этот Нестеров ни «Пустынника», ни «Отрока Варфоломея», не было бы в Русском музее «Великого пострига», «Дмитрия Царевича», не существовало бы и большой картины «Душа народа» и двух-трех моих портретов, кои автор считает лучшими характеристиками из всех им написанных».
«Пустынник» (1889 г.), одна из замечательных и значимых работ художника, была его первой картиной, попавшей на выставку передвижников. Это полотно стало настоящим событием, удивило зрителей, художников и критиков не только ощущением исходящей от него «тихой, светлой грусти», но и новизной затронутой в нем темы ухода от мирской суеты. Изображенный на нем старец в лаптях и монашеской одежде восхищает своей простотой и умиротворенностью. В.М. Васнецов писал о «Пустыннике»: «Такой серьезной и крупной картины я, по правде, и не ждал… В самом пустыннике найдена такая теплая и глубокая черточка умиротворенного человека. Порадовался-порадовался за Нестерова. Написана и нарисована фигура прекрасно, и пейзаж тоже прекрасный – вполне тихий и пустынный… Вообще от картины веет удивительным душевным теплом». Одобрили картину и другие художники – современники Нестерова – Левитан, Архипов, Суриков, с которыми он дружил и чьим мнением очень дорожил.
Полотно приобрел знаменитый собиратель национальной галереи П.М. Третьяков. На полученные деньги М. Нестеров совершил свою первую поездку за границу, посетив сокровищницы мировой живописи – Венецию, Рим, Флоренцию, Падую, Париж. В Италии, искренне увлеченный увиденным, художник снова почувствовал себя счастливым. «Тут все и сразу мне показалось близким, дорогим и любезным сердцу, – писал он. – Я мчался, как опьяненный, не отрываясь от окна… Туда, где жили и творили Тинторетто, Веронез, Тициано Вечеллио. Мог ли я думать, переживая мое страшное горе в мае 1886 г., что через два года смогу быть так радостен, счастлив?» Удивительно, но ни одна чужая страна, где побывал художник, включая Францию, Германию, Австрию, Турцию, Грецию, Польшу, не произвела на него такого впечатления, как Италия. «Природа и великое прошлое Италии имеют в себе дивные красоты. Меня не интересует мир античный, но эпоха Возрождения поистине колоссальна в своем творчестве… Теперь пришла наша пора, и нужно только любить и верить в Россию, и о ней заговорит вся вселенная…» – писал Нестеров. Ни одна другая страна мира, за исключением Италии, не нашла прямого отражения в творчестве живописца. К ней же свою любовь Нестеров выразил в «итальянских» этюдах.
Вернувшись в 1889 г. на родину, Нестеров приступил к работе над картиной «Видение отроку Варфоломею», зарисовки к которой сделал еще на Капри. Это полотно открывает цикл, посвященный Сергию Радонежскому, служившему для художника идеалом мудрости и высокой, духовной красоты. Но на Восемнадцатой передвижной выставке «Отрок Варфоломей» вызвал не только удивленное восхищение, но и множество споров и даже обвинений. «…Она произвела прямо ошеломляющее действие и одних привела в самое искреннее негодование, других в полное недоумение, третьих, наконец, в глубокий и нескрываемый восторг», – говорил С. Глаголь о картине. С молодых лет до последних дней жизни М.В. Нестеров считал «Видение» своим лучшим и любимым произведением, в котором наиболее полно и совершенно отразился его художественный идеал. «Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей», – говорил живописец. – Вот если через тридцать, через пятьдесят лет после моей смерти он еще будет что-то говорить людям – значит, он живой, значит, жив и я».
В 1896 г. художник написал еще одну картину из цикла о Сергии Радонежском – триптих «Труды преподобного Сергия», а в 1897 г. окончательно завершил «Юность Сергия», над которой трудился три года. Но к любимому образу он возвращался на протяжении всей своей жизни. «Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, лучшего человека древних лет Руси, чуткого к природе и ее красоте, по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде», – говорил художник.
После смерти Третьякова, в котором художник видел «искреннего, серьезного и неизменного друга искусства», по его примеру он замыслил основать в родной Уфе художественную галерею и передал в дар городу из своего собрания свыше 100 произведений художников-современников и свыше 30 своих собственных работ. Война 1914 г. помешала созданию галереи, и коллекция была передана Уфимскому государственному музею, где хранится до сих пор.
Более 22 лет своей жизни и огромного труда посвятил М. Нестеров иконам и церковным росписям. Он сам расписал храм в Абастумане, церковь в Новой Чартории и храм Марфо-Мариинской обители в Москве. Участие подлинного живописца в подобных работах считалось в те годы как бы «несообразным с достоинством художника», и по суждению многих, работа в храмах была областью богомазов-ремесленников. Это мнение бытовало, несмотря на то что в росписи храмов и соборов принимали участие удивительные творцы – Брюллов, Суриков, Васнецов и др.
В 1890 г. по приглашению А. Прахова Нестеров приехал в Киев, чтобы вместе с В. Васнецовым принять участие в росписи Владимирского собора. В этой работе художник видел воплощение мечты о «русском Ренессансе», о возрождении «давно забытого искусства Андреев Рублевых и Дионисиев». Последнюю работу для церкви Михаил Нестеров исполнил в 1913 г., расписывая образа в Троицком соборе в Сумах (бывшей Харьковской губернии). За свои церковные работы художник не раз подвергался несправедливым нападкам, что больно задевало его. «Успех, – обвинял Нестерова Бенуа, – толкает его на скользкий для истинного художника путь официальной церковной живописи». А требовательный и взыскательный к себе и своему искусству Нестеров часто думал о том, что же составляет его настоящее дело – станковая картина или фреска, икона. «Как знать… – писал он, – может, Бенуа и прав, может, мои образа и впрямь меня «съели», быть может, мое «призвание» не образа, а картины – живые люди, живая природа, пропущенная через мое чувство, словом, поэтизированный реализм». Нет сомнений в том, что образа не «съели» дарования Нестерова, напротив, во многих из них его дар обнаружился «с неоспоримой очевидностью». И все же у художника медленно созревало решение отказаться от храмовой живописи. Свой окончательный отход от стенописи он завершил созданием монументальной картины «Душа народа».
В 1893 г. Нестеров отправился по так называемому «византийскому маршруту», посетив Константинополь, Афины, Палермо, Монреаль, Рим, Флоренцию, Венецию, Равенну. В путешествии художник пристально изучал древнехристианское, византийское и итальянское искусство, отражая свои впечатления в письмах и альбомах. След этого путешествия сказался и в картине «Чудо», в которой он оказался «ближе, чем когда-либо, к английским прерафаэлитам и Пювис де Шаванну». Над этим полотном, имевшим успех на всемирных выставках Мюнхена, Дюссельдорфа, Парижа, Нестеров с перерывами работал 27 лет. К сожалению, картина была уничтожена создателем, как и некоторые другие полотна, которые он считал своими неудачными «нелюбимыми детищами».
В 1901 г. Нестеров приступил к осуществлению мечты о создании «большой» картины, в которой надеялся подвести итоги своих «лучших помыслов, лучшей части самого себя». Ею стала «Святая Русь», этюды к которой художник писал в Соловецком монастыре. С этим удивительным полотном связаны большие перемены и в личной жизни М. Нестерова. Во время киевского показа «Святой Руси» художник познакомился с красивой молодой девушкой Екатериной Васильевой, которая вскоре стала его женой, а затем матерью двух дочерей и сына.
В 1907 г. уже прославленный «художник картины, иконы и стенописи» дебютировал как портретист. К сожалению, представленные на персональной выставке портреты Я. Станиславского, княгини Н.Г. Яшвиль, «Портрет жены» и «Портрет дочери художника» критики не оценили по достоинству, хотя эти работы имели важное значение в творчестве Нестерова. В 1917 г. появились «Философы» – своеобразный двойной портрет П. Флоренского и С. Булгакова. Этим полотном живописец был очень доволен, что случалось с ним крайне редко. Над портретами П. Корина, В. Васнецова,
A. Северцева, своих близких и родных художник работал в 1920-е гг., после возвращения с Кавказа, где проживал с 1917 г. Одной из лучших работ тех лет является портрет младшей дочери – «Девушка у пруда». Хотя художник часто повторял: «Нет, я не портретист», но именно в его наиболее известных портретах – издателя B. Черткова, хирурга С. Юдина, академика И. Павлова, скульптора И. Шадра, врача-друга Е. Разумовой, артистки Большого театра К. Держинской – проявилась еще одна грань яркого дарования этого талантливого человека. Страстный любитель музыки, и прежде всего оперы, М.В. Нестеров с особым чувством писал портрет певицы Держинской. Он высоко ценил ее вокальное мастерство, равно как и талант Шаляпина и Собинова, с которыми находился в дружеских отношениях.
В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, Нестеров написал портрет А. Щусева – одну из последних своих работ. В тяжелую пору 1942 г. вышла в свет книга художника «Давние дни», над которой он трудился с конца 1930-х гг. Это событие для восьмидесятилетнего уже больного мастера стало самой большой радостью в эти трудные дни. Всю свою долгую жизнь Нестеров считал звание художника высочайшим из всех возможных. «Не многие имеют на него право, – говорил он. – Ничего бы я так не хотел, как заслужить это звание, чтоб на моей могиле по праву было написано: художник Нестеров». Без сомнения, это звание Михаил Васильевич, целиком посвятивший себя тому, чтобы творить «для всех, кто ищет тепла и света от искусства, как от солнца», заслужил по праву. На его могильной плите сделана та самая «краткая, простая, но правдивая и мудрая в своей простоте» надпись: «ХУДОЖНИК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕСТЕРОВ».
Никитин Иван Никитич (род. между 1685-1688 гг. – ум. в 1742 г.)
Знаменитый русский художник-портретист, один из основоположников светской живописи, первый придворный живописец в России. Автор перевода с итальянского «Жития Иякова Барроцци» (1722 г.).
Судьба Ивана Никитина – замечательного художника петровской эпохи – блистательна и одновременно трагична. Отдавая должное этому выдающемуся мастеру светского портрета, поднявшему русское искусство до европейского уровня, и незаурядному человеку, ставшему жертвой первых политических процессов в России, искусствоведы приложили немало усилий, чтобы по крупицам воссоздать жизненный и творческий путь художника.
Родился Иван (по последним данным) между 1685-1688 гг. в семье священника Никиты Никитина, служившего в придворной церкви Измайловского двора царицы Прасковьи Федоровны. Как и его братья Родион и Роман, он получил хорошее образование: знал латынь, грамматику, арифметику. Старший Родион стал священником, а Иван и младший Роман посвятили себя живописи. Но до этого наделенный прекрасным голосом И. Никитин служил певчим в патриаршем, а затем царском хоре, самостоятельно учился копировать с гравюр и писать с натуры, преподавал в Московской артиллерийской школе рисование и математику, а также был учителем пения в церковном хоре. Навыки художественного образования Иван получил в типографской школе при Оружейной палате, с мастерами которой в 1711 г. переехал в Петербург, напоминавший тогда большую строительную площадку. По-видимому, первым его учителем был голландский гравер А. Схонебек, а позднее он совершенствовался в мастерстве у живописца И.Г. Таннауэра.
Никитин быстро овладел приемами западно-европейских художников, и уже в его ранних работах не было характерных для русского искусства того периода старых парсунных черт. И если «Портрет цесаревны Елизаветы Петровны» (ок. 1712-1713 гг.) еще очень слаб в изображении фигуры, то личико четырехлетней девочки показано во всем обаянии ее возраста. Прическа и наряд взрослой дамы сковывают непоседливое детское тельце, вызывая недовольный наклон головы, но под обиженными чертами проступает присущий ей веселый нрав. Старшая дочь Петра I, восьмилетняя Анна, позирует для портрета (1715 г.), как настоящая светская дама. Более легкая и сочная живописная манера передает богатство парчового платья, переливающегося золотом и серебром, и царственной мантии, отороченной мехом горностая. Очень непринужденно и тонко выписано лицо с задорными лукавыми глазами и кокетливо поджатыми губами.
В «Портрете царевны Прасковьи Ивановны» (1714 г.) Никитин раскрывает ее неровный характер, подверженный перепадам самочувствия и настроения. Облик девушки, которую современники называли то «дурнушкой», то «хорошенькой», подкупает непосредственностью, теплотой и доверчивым взглядом. Несмотря на пышный туалет, она скромна и в то же время полна собственного достоинства. Создал Никитин и два портрета царевны Натальи Алексеевны (оба в 1716 г.). На одном она предстает стареющей болезненной женщиной с одутловатым лицом и двойным подбородком, но легкая усмешка и слегка приподнятая бровь оживляют ее черты и придают естественность. Второй портрет, сохраняя все индивидуальное сходство, представляет царевну импозантной красавицей в богатом убранстве. Но созданный с подчеркнутой парадностью, он идеализирует образ, лишает его непосредственности. Умение Никитина польстить портретируемым особам характеризует его как талантливого мастера, и хотя до полной виртуозности кисти ему не хватало знаний анатомии, художник умело скрывал свои недостатки удачной позой модели, богатой драпировкой одежд и насыщенными сочными красками.
При дворе работы Никитина были высоко оценены. Ему позировал сам Петр I («Портрет Петра I на фоне морского сражения», 1715 г.), одетый в латы и царскую мантию. Его поза и жест руки не вполне естественны, но написанное с натуры лицо выразительно. Перед зрителем царь и полководец. Он весь в предчувствии быстрой победы: взгляд сосредоточен, напряженное лицо смягчает доброжелательная улыбка. Не каждый, даже более опытный художник, рисковал писать портреты царских особ, ведь за неудавшуюся работу он отвечал своей жизнью.
Но лучшим среди ранних полотен Никитина считается «Портрет казака в красном» («Малороссиянин», 1715 г.). Свободный от подчеркнутой парадности образ привлекает внимание уверенно вписанной в полотно фигурой, дышащим здоровьем лицом, ярко выраженными национальными чертами, стрижкой «под горшок» и смелым, открыто устремленным на зрителя взглядом.
Петр I, высоко оценив талант Ивана Никитина, в январе 1716 г. отправил его с братом Романом в Италию как своих первых пенсионеров-живописцев. Проделав путь через Польшу, Германию и Австрию, они прибыли вначале в Рим, где копировали в музеях Ватикана, затем год жили в Венеции. Во Флоренции братья, представленные самому герцогу Козимо III Медичи, были приняты в академию и обучались архитектуре у А. Саллера и малярству – у живописца Т. Реди. Пенсионерская жизнь была полна лишений – жалованье урезалось с каждым годом и постоянно задерживалось. Иван не раз писал от имени всех учеников в Петербург, напоминал о задолженностях и подчеркивал, что их бедственное положение унижает не столько пенсионеров, сколько государство. Он в совершенстве постиг живописную науку (зарубежные картины его не сохранились), которая в сочетании с природной одаренностью и трудолюбием позволила ему стать первым профессионалом среди русских художников и первым придворным живописцем (гофмалером персонных дел) среди иностранцев.
«Добрый мастер», обласканный Петром I, сразу стал знаменитым человеком при дворе, ему даже было «дозволено» выстроить для себя двухэтажный дом и мастерскую по собственному проекту и за счет казны. Никитин часто сопровождал царя в инспекторских поездках, от его имени руководил работами по оформлению празднований Ништадтского мира (1721 г.) и коронации Екатерины I (1724 г.) в Москве. Чтобы как-то компенсировать художнику низкое жалованье, Петр I приказал придворным «снимать» портреты у гофмалера и заказывать у него портреты царствующей семьи. Помимо многочисленных частных заказов, Никитин по четыре раза изображал Петра Великого и цесаревну Анну Петровну, три раза – Елизавету Петровну, писал царевну Наталью Петровну, а также священника Иоанна Хрисанфова, по прозвищу поп Битка, г-на де Либуа, некую «придворную бабушку» Авдотью Павловну и великана Николая Буржуа. Большинство картин Никитина, к сожалению, не сохранились, и они известны лишь по архивным данным – всего 21 портрет по заказам царской семьи.
К лучшим работам Никитина после итальянского периода относится парадный «Портрет Г.И. Головина» (1720 г.), на котором канцлер изображен не только как важный сановник, но и как лицемерный ханжа и стяжатель. Объемно вылепленное лицо говорит о сильной и жестокой натуре, непроницаемые холодные глаза выдают расчетливого и умного дипломата. Для произведения характерна изысканная цветовая гамма, построенная на гармоничном сочетании коричневых, телесных, серых (парик) и сиреневых тонов, освеженных голубым и белым цветами.
Камерно и просто решен «Портрет Петра I» (в круге, 1721 г.). Только такой близкий царю художник, как Никитин, мог через выразительную пластику лица, скульптурно выступающего на темном фоне, создать образ не государственного деятеля и победителя, а философа, с горечью осознающего несовершенство окружающего мира. Морщины, пролегшие на лбу и между бровями, глубокие тени под глазами, взгляд, подернутый влагой, крепко сжатые губы делают облик суровым, скорбным и очень усталым. В этом произведении Никитин проявил себя не только как талантливый и наблюдательный живописец, но и как человек, разделяющий озабоченность великого правителя России, его единомышленник.
Искренняя личная скорбь художника по «отцу отечества» звучит в картине «Петр I на смертном одре» (1725 г.). Эскизно и бегло написано изнеможенное болезнью, одутловатое лицо, и кажется, что царь просто уснул с тревожной думой о судьбе «России молодой». Умер исполин, проживший бурную и трудную жизнь, монарх-строитель и труженик. Изображение реалистично до мелочей, в нем ощущается чувство глубокой утраты самого художника, ведь он был одним из «птенцов гнезда Петрова». Лишившийся великого покровителя, Никитин на своей судьбе ощутил «откат» государства в допетровскую эпоху.
Дворцовый кризис, начавшийся при Екатерине I, усугубился при Петре II и разразился при Анне Иоанновне. «Все страдает и погибает, – писал в донесениях саксонский посланник Ж. Лефорт, – и конечно, нам грозят страшные последствия». Лихорадочно протекала и жизнь Никитина. Его то направляли писать иконы в церкви Зимнего дворца (чем он никогда серьезно не занимался), то изображать царевен в полный рост, то приписывали к Канцелярии от строений учителем, а затем возвращали ко двору гофмалером. Жалованье не платили годами, «со скрипом» возвращали деньги, затраченные на краски, кисти и холсты для царских заказов. Произведения, написанные в этот период, либо не сохранились, либо затеряны среди неперсонифицированных работ. Лишь один «Портрет барона С.Г. Строганова» (1726 г.) избежал этой горькой участи. Виртуозно нарисованная фигура как бы «проходит» по холсту. Баловень судьбы повернул лицо к зрителю. Этот юноша знает себе цену: темно-русые пышные волосы, окаймляющие мягкие черты лица, кокетливый взгляд, пухлые чувственные губы. Легкими мазками художник мягко моделирует его облик, придавая ему живость и трепетность. Богатейший по тону темно-розовый плащ и холодная вороненая сталь доспехов выгодно подчеркивают его стройную фигуру. Портрет юного беззаботного Строганова – это иллюстрированная характеристика новой аристократии.
Русское искусство, которое Петр понимал как «дело государево», его преемников не интересовало, многие работы приостановились. Положение Никитина стало шатким, хотя после отъезда из России обиженного недоплатами Таннауэра он остался единственным гофмалером. В 1729 г. живописец фактически становится безработным. По приказу Петра II ему было сообщено, «чтоб он довольствовался от трудов своего художества, ибо в нем в Канцелярии от строений ныне нужды не имеется…»
Горько было на душе у художника. Не согревал ее и неудавшийся брак (1727 г.) с Марией Маменс, дочерью камердинера герцогини Курляндской Анны Иоанновны. Невесту ему подыскала Екатерина I. Неизвестно, как относился Никитин к своей супруге (в письмах к брату о ней ни одного плохого слова), но она не хранила ему верность. После переезда вслед за двором в 1728 г. в Москву у Марии был шумный роман с фаворитом Петра II И. Долгоруким, а затем – с придворным императрицы Анны Иоанновны, Левенвольдом. Ребенок у Никитиных умер в младенчестве. В 1731 г. супруги разошлись, и схимный развод был разрешен Синодом. Страх ли быть наказанной церковью за неверность или другие обстоятельства заставили Марию принять постриг в монастыре под именем Маргариты. Но «сменив одежды свои на черные», она осталась в окружении Анны Иоанновны. Монахиня и ее семья, преследуя корыстные цели, «подливали масла в огонь», когда разразилось следствие по делу архимандрита М. Родышевского о составлении и распространении памфлета против архиепископа Ф. Прокоповича, приближенного императрицы. Один за другим в 1731-1732 гг. были арестованы братья Никитины: Роман, Иван, Родион и муж их сестры Марфы, И. Томилин. Они прошли через допросы Тайной канцелярии, Петропавловскую крепость, были биты плетьми и в колодках, как злейшие преступники, в 1737 г. сосланы в Тобольск.
Единственная уцелевшая работа Никитина, выполненная перед самым арестом, – подлинный шедевр русской живописи, так называемый «Портрет Напольного гетмана» (1730 г.). Странное название взято из описи имущества художника, где картина значится как «Портрет гетмана напольно не конченный». Большинство искусствоведов считают, что это автопортрет И. Никитина, так как все его особенности – иконография, кажущаяся незаконченность, эмоциональность и драматическое впечатление – полностью соответствуют стилю автопортретов. На картине изображен человек большой духовной энергии, твердой воли и ясного ума. В этой гордой и мужественной натуре, представленной подчеркнуто небрежно и естественно, ощущается затаенная горечь прожитых лет. Громадной внутренней силой поражает облик немолодого человека с обветренным лицом и седыми спутанными волосами. Все выразительные средства, пластика живописи, колорит подчинены общей идее – это портрет современника, осознавшего свое предназначение в жизни и уверенного в своих возможностях и поступках.
Не сломленный и не предавший своих позиций Никитин жил и работал в Тобольске. Время не сохранило до наших дней даже те работы, о которых есть данные в архивах: портрет митрополита тобольского А. Стаховского, иконостас и образа в Благовещенской церкви, другие произведения мастера.
Взошедшая на престол Анна Леопольдовна отменила в ноябре 1740 г. жестокий указ, но из ссылки вернулся только Родион (он был до ареста ее духовником). Тайная канцелярия задержала освобождение Ивана и Романа. Только после очередного дворцового переворота, вознесшего на трон Елизавету Петровну, новая императрица сразу же вспомнила о художнике, писавшем ее еще девочкой, и повелела его освободить. Живописец выехал из Тобольска весной 1742 г. уже тяжелобольным и в дороге скончался. Когда умер и где похоронен знаменитый мастер портрета и первый русский гофмалер Иван Никитин, до сих пор неизвестно.
Остроумова-Лебедева Анна Петровна (род. в 1871 г. – ум. в 1955 г.)
Известная русская художница-график, мастер акварели, портрета, живописи; большой мастер гравюры на дереве – ксилографии, создательница ее новой отрасли в России – цветной гравюры. Обладатель почетных наград: ордена Трудового Красного Знамени (1951 г.), звания народного художника РСФСР (1946 г.). Действительный член Академии художеств СССР (1949 г.). Автор трех томов «Автобиографических записок» (1935, 1945, 1951 гг.).
«Отдаться искусству – это все равно, что взять на себя подвиг, и человек, посвятивший себя ему, должен от многого в жизни отказаться, чтобы сохранить свежесть ума и чувства для творческой работы», – таким представляла себе предназначение художника А.П. Остроумова-Лебедева.
Анна, вторая дочь высокопоставленного чиновника Петра Ивановича Остроумова, родилась в Петербурге, куда за полгода до этого события семья переехала из Варшавы. Этой резкой сменой климата доктора объясняли слабость и хрупкое здоровье ребенка, и мама, Мария Клементьевна, урожденная Чехович, потратила много сил и времени, чтобы вырастить Аню такой же крепкой, как и пятерых ее братьев и сестер. На всю жизнь оставил след в душе девочки пережитый в пятилетнем возрасте ночной пожар. Потрясение было настолько сильным, что до конца своих дней Анна Петровна испытывала его последствия: приступы непонятной тоски, депрессии, меланхолии, а «в минуты напряженной работы или сильных духовных подъемов – болезненные явления галлюцинаций».
После окончания гимназии в 1889 г. и начальной рисовальной школы барона А.Л. Штиглица, где юная художница училась по вечерам в течение трех зим, Остроумова перешла в Центральное училище той же школы. Там полагалось кроме обязательных живописи и рисования выбрать еще какое-нибудь прикладное искусство. Таким, между прочим, считалась гравюра на дереве. Анна, с раннего детства любившая вырезать азбуку или несложный орнамент на ольховом полене, конечно же, выбрала ее. Преподавателем этой дисциплины был один из самых замечательных русских граверов профессор В.В. Матэ. Обладавшая исключительным талантом к гравюре, постоянно поощряемая учителем девушка тем не менее вскоре сбежала «от скуки и тоски» копирования чужих работ, и, поступив в 1892 г. в Академию художеств, с увлечением занялась живописью. Попала Остроумова в мастерскую И.Е. Репина, который заложил основу «крепкого, здорового реализма» в своих подопечных, но не сумел научить их «ремеслу», «не давал настоящей школы с твердыми принципами искусства, с глубоким знанием техники».
Девять десятых помыслов юной Анны были направлены в сторону творчества. Наверное, поэтому, увидев осенью 1895 г. первый раз своего двоюродного брата Сережу Лебедева, приехавшего из Варшавы, девушка не почувствовала, что в нем судьба послала ей человека, с которым она проживет «всю жизнь в тесном общении, отдав ему свое сердце навсегда и безраздельно…»
Надо отметить, что все годы обучения прошли для Остроумовой под знаком неуверенности в своих способностях. Не находя поддержки в семье, она много раз принимала решение бросить рисование, но, однажды пробудившись, творческие силы толкали ее вперед: «Не теряй времени, береги минуты, работай, работай». Несмотря на все старания, результаты усилий не приносили художнице удовлетворения, и в начале 1898 г. у нее впервые появились мысли о поездке за границу. С благословения Репина и при содействии родных Остроумова в ноябре того же года отправилась в Париж, где вскоре поступила в мастерскую художника Дж. Уистлера, американца по происхождению, величайшего европейского мастера, знатока и ценителя японского искусства. Вот тут-то и всплыли недостатки академического преподавания. Взглянув на первый же этюд начинающей художницы, Уистлер воскликнул: «Вы совсем безграмотны! Где вы учились?» И Анна поняла, что здесь она получит ту школу, которой ей так недоставало. Вся отдавшись мысли «приобрести, понять, усвоить что-то определенное, осязательное, твердое», молодая женщина принялась за работу. Через полгода, уезжая в Америку, мастер позвал Остроумову с собой: «Вы исключительно одарены, но вы мало, слишком мало у меня учились…» Анна отказалась, не сознавая тогда всей значимости отвергнутой ею помощи столь выдающегося художника. Больше они не виделись.
И еще одна судьбоносная встреча состоялась у Анны Петровны в Париже – это знакомство, переросшее в многолетнюю дружбу, с членами кружка А.Н. Бенуа. Художники Л.С. Бакст и К.А. Сомов, музыкант В.Ф. Нувель, литератор А.П. Нурок впоследствии образовали ядро редакции журнала «Мир искусства» и его выставок. А пока они с удовольствием собирались вместе, подолгу разговаривали, страстно спорили. Эти люди до самозабвения любили искусство и зажигали в других такую же любовь к нему! Через много лет после этой первой встречи уже зрелой и признанной художницей Анна писала Бенуа, что его дружба и внимание были для нее большим счастьем, особенно ощутимым потому, что оно «совпало со временем исканий и сомнений, когда художник из ученика должен стать художником-творцом».
Еще перед отъездом Остроумовой в Париж В.В. Матэ познакомил ее с творчеством итальянских мастеров цветной ксилографии и взял с нее клятву «работать и резать гравюру». Ее первыми самостоятельными шагами на этом поприще руководили парижские мастера братья Флориан, с готовностью показавшие молодой художнице технику печати, необходимые инструменты и бумагу. Увлечение старинными итальянскими и японскими граверами, пристальное изучение их произведений вдохновляли Анну «сказать новые слова и сделать новые шаги» в этом прекрасном искусстве, заново раскрыть его художественные возможности, сделать доступным людям.
Когда Анна Петровна в 1899 г. вернулась в Россию, она уже знала, в чем ее истинное призвание. Из мечтательной, самоуглубленной девушки, полной всяких сомнений и колебаний, она превратилась в человека с ясным, установившимся миропониманием. Наконец-то она нашла себя! Увы, новое направление творчества Остроумовой осталось непонятым И.Е. Репиным, и Академию художеств она закончила под руководством В.В. Матэ. В 1900 г. художница выставила на конкурс 14 гравюр, четыре из которых были цветные. Две из них – «Луна» и «Дорожка» – элегичны и поэтичны. Две другие – «Финляндия с голубым небом» и «Финские озера» – строги и даже несколько суровы. Эти настроения стали в работах Остроумовой основными.
В зиму 1900-1901 гг. К.А. Сомов решил писать портрет Анны Петровны. В отличие от ее представления о себе как о человеке деятельном, энергичном, смешливом, Сомов изобразил «какую-то мечтательную, грустную фигуру». Портрет получился «серьезен и глубок» – именно таким увидел художник внутренний образ А.П. Остроумовой, да, наверное, он и соответствовал действительности.
Несколько последующих лет стали для Анны Петровны самыми напряженными и по работе, и по внутреннему росту. При поддержке и поощрении друзей из «Мира искусства» она пристально изучала и совершенствовала ремесло гравирования, старалась понять характер, природу ксилографии, искала новые приемы и способы. С детства влюбленная в северную столицу, художница заметила, что «невероятная сжатость выражения, немногословие, беспощадная определенность и четкость линий и, благодаря этому, сугубая острота и выразительность» – все то, что присуще графике вообще и деревянной гравюре в частности, – как нельзя лучше отражает специфический стиль петербургской культуры. Остроумова абсолютно точно передала характер удивительного города. Графика – в его атмосфере, в белых ночах, в вычерченной архитектуре. Отныне и до конца своих дней художница станет певцом величия и строгой красоты Петербурга (циклы «Петербург», 1908-1910 гг.; «Павловск», 1922-1923 гг.; «Ленинград», 1930 г.; иллюстрации к книгам В.Я. Курбатова «Петербург», 1912 г. и Н.П. Анциферова «Душа Петербурга», 1920 г.).
Весной 1903 г. Анна с неудержимой силой и навсегда отдала свою глубокую любовь человеку, который уже давно молча стоял около нее, – будущему известному ученому, академику, изобретателю синтетического каучука, а тогда лаборанту химической лаборатории Петербургского университета Сереженьке – Сергею Васильевичу Лебедеву. Через два года они обвенчались, и не было в мире более внимательного, чуткого и снисходительного мужа. Обладая огромным творческим научным даром и врожденным художественным чутьем, он стал для своей супруги не только главной опорой в ее работе, но и самым строгим и внимательным судьей. Медовый месяц молодожены провели в Финляндии, где Анна, пораженная красотой строгой северной природы, много рисовала. «Белой Розой севера зовут мрачные, молчаливые финны свою обожаемую страну. Такова она и есть!»
В 1906 г. измученная астмой Остроумова-Лебедева вместе с мужем выехала в Париж в надежде, что смена климата поправит ее здоровье. Припадки удушья повторялись лишь при известных условиях – при сильных запахах: сказывалось полученное художницей в 1902 г. свинцовое отравление, перешедшее в аллергию. Врачи запретили Анне Петровне работать масляными красками. Вначале это показалось ей огромным несчастьем, но с этим пришлось примириться. В 1907 г. она выставила только одну гравюру «Версаль в цвету» (1907 г.), зато много времени, сил и упорства потратила на овладение акварельной техникой, трудной, но очень увлекательной, требующей от мастера и сосредоточенности, и быстроты. Многие пейзажи Италии и Голландии, Испании, Франции и Крыма, явившиеся результатом многочисленных путешествий художницы, были исполнены акварелью: «Венеция. Большой канал» (1911 г.), «Амстердам. Рынок железа» (1913 г.), «Испания. Сеговия» (1914 г.), «Коктебель. Сюрю-Кая вечером» (1924 г.) и др.
Пятидесятой выставкой, на которой экспонировались произведения Остроумовой-Лебедевой, стала ее персональная, открывшаяся в Петрограде в 1916 г. К тому времени многие европейские музеи уже имели в своих коллекциях гравюры художницы, и только в России никто не торопился приобрести их для музейных собраний. И лишь в апреле того же года было положено начало графическому отделу в Государственном Русском музее и куплено несколько работ Анны Петровны. Зимой художница вырезала одну из самых больших своих гравюр – «Дворец Бирона и барки». Для фона наряду с деревянной доской она использовала линолеум. Необычное сочетание разных основ при печати дало неожиданный эффект: более темная и резкая штриховка линолеума заставила небо с тучами как бы жить отдельной жизнью, более суровой и напряженной. Не случайно современники увидели в этой гравюре образ грозного предреволюционного Петрограда.
Осенью 1918 г. Остроумова-Лебедева получила предложение преподавать живопись в Институте фотографии и фототехники, позже – в Академии художеств. Жизнь ее и Сергея Васильевича после Октябрьской революции 1917 г. «шла бурно, в напряженной работе и с большим радостным подъемом». Только за 1918 г. Анна Петровна сделала около 35 акварелей Петрограда. Несколько из них – «Вид с Сампсоньевского моста», «Ветреный вечер», «Марсово поле и памятник Суворову» – были приобретены Третьяковской галереей, а «Вид из лаборатории ранней весной», «Внутренний дворик» и «Статуя в Летнем саду» – Русским музеем.
20-е гг. для художницы – период поворота творчества к портретной живописи: ею сделаны 99 портретов карандашом и углем, акварелью, маслом. Среди них – «Портрет писателя Андрея Белого» (1924 г.), «Портрет М.А. Волошина» (1927 г.), несколько портретов академика С.В. Лебедева и др.
В конце лета 1928 г., чтобы снять нервное напряжение из-за тяжелой болезни мужа, Анна Петровна «заставила себя уйти мыслями и душой» в радостные и светлые воспоминания. Так родились ее «Автобиографические записки», основу которых составили дневники. В тот раз Сергей Васильевич выздоровел, но надвигалось ужасное событие… В одной из командировок он подхватил «сыпняк» (сыпной тиф) и, вернувшись домой, слег, чтобы больше не встать. С.В. Лебедев умер 2 мая 1934 г. вечером, во время грозы… С мужем Анна Петровна «похоронила свою лучшую половину».
Когда началась Великая Отечественная война, художнице шел семьдесят первый год. Она не покинула родной город, твердо решив «остаться на все страшное впереди». Требовалось исключительное мужество, чтобы в условиях блокадного Ленинграда продолжать работать… Но искусство, страстное желание творить всегда помогали этой хрупкой женщине выстоять. Когда кружилась от голода голова, когда руки нестерпимо болели от холода, когда умирали близкие, Анна Петровна говорила себе: «Не надо плакать. Это пустое дело. Надо работать…» В 1942-1943 гг. ею были исполнены несколько акварелей и цветных литографий – видов Ленинграда, гравюры «Мальчики удят рыбу», «Памятник Петру I», завершена работа над вторым томом «Записок». Гравюра Остроумовой-Лебедевой «Сфинкс» (1942 г.) украсила пригласительный билет на первое исполнение Седьмой симфонии Д. Шостаковича.
Смерть пришла к Анне Петровне в любимом ею Ленинграде. Но остались великолепные гравюры, тонкие и чарующие своим мастерством акварели – щедрый дар таланта Остроумовой-Лебедевой людям и прекрасный памятник ей самой, замечательной художнице и граверу.
Перов Василий Григорьевич (род. в 1833 г. – ум. в 1882 г.)
Известный русский живописец, представитель критического реализма в искусстве, один из основателей передвижничества. Профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Автор книги «Рассказы художника».
История мировой живописи насчитывает многие тысячи произведений и многие сотни имен. Но только те художники, кому дано было сказать новое слово в искусстве, запечатлеть в своих творениях дух созвучной им эпохи, «возвышаются, подобно вершинам, над этой бесконечной горной грядой». К талантам такого рода принадлежит и Василий Григорьевич Перов. В картинах этого мастера, которого называют «суровым певцом скорби и гордости», – отражение извечных русских бед: нищеты, сиротства, бесправия. Все это было близко Василию Перову, окружало его с самых детских лет, когда он ездил с родителями по России.
Родился будущий художник в тихом снежном городке Тобольске. Его мать, юная вдова мещанина Иванова, и отец, губернский прокурор барон Криденер, очень любили друг друга и свои чувства ни от кого не скрывали. Их Васенька появился на свет перед самым Рождеством в 1833 г. «Рожденному во грехе» ребенку дали фамилию трактирщика, согласившегося сыграть роль отца, и нарекли Василием Григорьевичем Васильевым. Прошло время, родители мальчика оформили свои отношения, но, к сожалению, к тому моменту в их жизни наступила пора гонений и лишений. Барон Криденер за дружбу с декабристами и связь с женщиной из мещанского сословия был сослан в Архангельск. Там он уволился с должности и, будучи разорен, нанялся управляющим имения в Нижегородскую губернию. До Арзамаса, куда переезжала семья, добирались долго и трудно. На возу с вещами – нехитрый скарб, книги и написанный еще в Тобольске портрет барона, человека упрямого, но честного и порядочного. Через несколько лет портрет, нуждающийся в реставрации, приедет «чинить» художник, и Вася, очарованный волшебством живописи, начнет рисовать.
Первое, что изобразил будущий художник, были буквы, которые он не писал, а именно рисовал. За красоту письма местный дьячок, учивший грамоте сына управляющего, прозвал Васю Перовым: «Ах, Перов, ну как же красиво!» Под этой фамилией и прославился живописец много лет спустя.
От заезжего художника, реставрировавшего портрет отца, Василий узнал об Арзамасской художественной школе Ступина, куда затем и поступил. Как и большинство училищ, существовавших в глухое время николаевского царствования, она отличалась жесткой системой обучения. Василию пришлось там нелегко, но учился он охотно, хотя и недолго. Оставив школу Ступина, начинающий художник отправился в Москву, где поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Годы учебы юноши были полны одиночества и отчаяния. Ему приходилось жить «из милости и на хлебах» у хозяйки приюта, с которой были знакомы его родители. Позже его поселил у себя учитель С.К. Зарянко, в доме которого было хотя и «строго, без нежничанья, да тепло, светло, разумно». Суровый педагог видел большое дарование у провинциального паренька, который стал его любимым учеником. Годы спустя, во времена своего профессорства в училище живописи, Василий Григорьевич тоже будет для своих воспитанников заботливым и внимательным учителем. «Перов сделался нашим общим любимцем в школе. Он скоро сошелся с учениками, вошел в нашу жизнь и наши интересы, – писал его любимый ученик М. Нестеров. – Не раз целыми часами беседовал Перов с приходившими к нему учениками, забывая при этом свою работу, а ученики после этих бесед чувствовали, как перед ними шире раскрывается горизонт и как в душе их загоралась новая вера в искусство и в самого себя…»
В Московском училище молодой Перов учился не только у своих непосредственных учителей, но и у гениальных мастеров прошлого – Брюллова, Тропинина, Ван Дейка, копируя их полотна. В талантливо выполненной копии тропининского «Гитариста» Перов преподнес сюжет картины по-своему, чуть трагически, одновременно и повторяя тропининскую кротость, и восставая против нее. Эта же черта проступила и в юношеском автопортрете художника, созданном еще до поступления в училище. Худенький провинциал в старательно отглаженном сюртучке сжимает в руке маленькую тонкую кисточку. Рука его сильна и гибка, словно в ней не кисть, а оружие, а прищуренные глаза юного живописца смотрят печально и гордо. В этом раннем произведении отчетливо проявился «уже весь Перов» с его своеобразной палитрой, собственным стилем, манерой и тематикой.
Еще во время учебы, в 1862 г., Василий Перов женился на Елене Шейниц, племяннице профессора Рязанова. Но его семейное счастье длилось недолго. В 1867 г. художника постигло большое горе – сначала умерла жена, а потом двое старших детей, в живых остался только младший сын Владимир. Вторично Перов женился спустя пять лет после трагедии, в 1872 г.
По окончании Московского училища молодой живописец уехал в трехлетнюю заграничную командировку пенсионером Академии художеств. Однако вернулся домой раньше срока, выпросив на это разрешение у академического начальства. «…Написать картину совершенно невозможно… не зная ни народа, ни его образа жизни, ни характера, не зная типов народных, что составляют основу жанра…» – объяснял он. В истории Академии художеств подобный случай произошел впервые, ведь обычно пенсионеры пытались продлить срок пребывания за границей. Но Василий Перов очень тосковал по родине, и, что особенно важно, он торопился выполнить поставленные перед самим собой задачи и стремился это делать именно в России.
Работы же, привезенные им из-за границы, напротив, свидетельствуют о том, что автор очень хорошо понял «и образ жизни, и характер, и народные типы в тех землях, где побывал». Одно из лучших заграничных полотен В. Перова – «Парижские тряпичники», написанное в голубовато-серой, романтической палитре, навевает воспоминания о прозе В. Гюго, творчество которого так любил художник. Отныне тема одиночества, сиротства, бедности стала перовской темой, а образы обездоленных детей, стариков, городского люда – перовскими образами. Истоки же этой тематики, без сомнения, нужно искать в России, где в детские годы художника окружали нищие крестьяне в домотканых одеждах и приземистые деревенские избушки. Уже в ранних своих холстах – «Приезд станового на следствие», «Сельский крестный ход на Пасхе» и «Чаепитие в Мытищах близ Москвы» живописец изобразил сцены из бедной, горькой российской жизни. Героем дерзкой по тем временам картины «Приезд станового на следствие» (1857 г.), за которую художником была получена Большая серебряная медаль, он сделал «пойманного на порубке леса несчастного крестьянина». И с тех пор не проходило и года, чтобы не появлялись новые холсты художника, отражающие народные страдания и беды.
Почти сразу по возвращении из-за границы Василий Перов написал удивительную картину, без которой теперь невозможно представить русскую реалистическую живопись, – «Тройку». Написанная в характерной для него темной серо-коричневой гамме, она изображает троих детей, которые в зимнюю стужу тащат непосильную для себя ношу – обледенелую бочку с водой. В 1875 г. журнал «Пчела» опубликовал рассказ В.Г. Перова «Тетушка Марья», в котором автор вспоминал о создании «Тройки» и о трагедии бедной женщины Марьи, потерявшей своего сына Васеньку, который послужил моделью ключевой фигуры картины. «Несколько лет тому назад я писал картину, в которой мне хотелось представить типичного мальчика… – вспоминал художник. – Раз весной… я как-то бродил близ Тверской заставы… В стороне заметил старушку с мальчиком… Подойдя ближе к мальчику, я невольно был поражен тем типом, который так долго отыскивал… Я вызвался показать им место для ночлега. Мы пошли вместе. Старушка шла медленно, немного прихрамывая. Ее смиренная фигура с котомкой на плечах была очень симпатична… Придя в мастерскую, я показал им начатую картину и объяснил, в чем дело… Она подумала, подумала и наконец, к моей великой радости, согласилась снять портрет с ее сына…» Спустя время тетушка Марья пришла к Василию Перову и, рыдая, рассказала, что ее милый Васенька умер от оспы. Распродав свои жалкие пожитки и скопив немного денег, женщина обратилась к художнику с просьбой «купить картину, где был списан ее сынок». «Дрожащими руками развязала она платок, где были завернуты ее сиротские деньги… – писал В. Перов. – Я объяснил ей, что картина теперь не моя… но посмотреть она может… Часов около девяти мы отправились к Третьякову… Приблизившись к картине, она остановилась, посмотрела на нее и, всплеснув руками, вскрикнула: "Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!" – и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол».
Вслед за «Тройкой» увидели свет и другие трагические холсты мастера – «Последний кабак у заставы» и «Проводы покойника». В этих бесхитростных, берущих за душу картинах автор снова отразил жизнь «могучей и обильной, великой и бессильной матушки Руси». «Что тут нарисовано, – писал Стасов о картине «Проводы покойника», – то всякий день происходит на тысяче концов России, только никакой прежний живописец этого не видал и не останавливался на этом». В отличие от академических живописцев, ищущих свое вдохновение «на Олимпе, в легендах и мифах далекого прошлого», Василий Перов находил темы для своих произведений в нищих деревеньках, на улицах Москвы, в кабаках и даже в городских мертвецких. Никогда прежде не осмеливались русские художники коснуться кистью того, что изображали полотна Перова и его единомышленников – Маковского, Прянишникова, Саврасова. Не случайно эти живописцы были первыми среди москвичей, кто откликнулся на призыв петербуржца Г. Мясоедова о создании Товарищества передвижных выставок. Московские художники не имели той блистательной академической выучки, какую давала живописцам Петербургская академия художеств, но из говорливой, торговой Москвы Россия, что называется, «была виднее». Москвичи Перов, Поленов, Суриков, Репин, Саврасов были гораздо ближе к народу и его невзгодам, чем их коллеги из «сиятельно холодной чиновной столицы». Горячий участник Товарищества передвижных выставок, Перов состоял в обществе до середины 70-х гг. Центром передвижничества в Москве стало Училище живописи, ваяния и зодчества, в котором к тому времени Перов был профессором. По инициативе художника и при его непосредственном участии устраивались ученические выставки, где представляли свои работы его ученики – М. Нестеров, А. Коровин, А. Архипов, Н. Касаткин, А. Рябушкин, продолжившие в будущем традиции идейного реалистического творчества. «В Московской школе живописи… все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мысли, слов, деяний», – писал в книге «Давние дни» М. Нестеров. Авторитет В.Г. Перова среди учеников был поистине велик, как, впрочем, и среди художников и в целом интеллигенции. И.Н. Крамской называл его «папой московским» (по ассоциации с Папой Римским) и вспоминал, как волновался, когда «папа» вместе с И.И. Шишкиным пришел смотреть его «Майскую ночь».
В.Г. Перов был очень деликатным учителем, но упрямым, требовательным и справедливым. Художнический талант, мировоззрение, образ жизни, характер и воля – это главное, на что он обращал внимание в своих воспитанниках и чего от них требовал. В последние годы жизни, уже задумав писать Пугачева, Перов ездил с учениками на Урал, затем побывал с ними на Украине. Художника связывала большая крепкая дружба с восхищавшейся им молодежью, но все же в последние годы жизни он был внутренне очень одинок, чувствовал отчуждение и непонимание коллег. В конце 1870-х гг. В.Г. Перов покинул Товарищество передвижников, но до конца своих дней остался передвижником по духу. Соратники осудили Василия Перова за его отход от социальной темы в творчестве, считая, что под ударами жизни художник ушел от наболевших вопросов и обрел убежище в религиозной и исторической тематике. Не подходили под определение социально направленной живописи и ставшие уже хрестоматийной частью отечественной культуры «Птицелов», «Рыболов» и «Охотники на привале», написанные Перовым, и автору этого не простили. Живописец же хотел показать в этих картинах ту немаловажную сторону жизни человека, в которой проявляется его краткое, но счастливое единение с природой.
Особое место в творчестве В.Г. Перова занимает великолепная портретная галерея, созданию которой он посвятил целое десятилетие. Открывает серию великих портретов датированный 1870 г. автопортрет тридцатисемилетнего художника. В нем Василий Перов не приукрасил себя: как и у юноши 1851 г., правое ухо слегка торчит, кожа покрыта следами оспы, высокий лоб в морщинах, особенно заметна глубокая борозда между бровей – «знак постоянной душевной тревоги». В этой работе, как и в раннем автопортрете В.Г. Перова, необычайно остро ощущается «экстатический миг действия», «пружинная нервность, неожиданность». Впрочем, это характерно для всей живописи мастера. Все его полотна отличаются особой стилевой чертой: художник будто заставил на миг застыть своих персонажей, отчего картины кажутся «живыми», полными движения. Потому, наверное, было сказано о портретах Перова, что люди на них «живут и дышат». Портреты Достоевского, Островского, Тургенева, Аксакова, Майкова, Даля превосходны своей правдивостью. Создавая их, художник, возможно, не желал ничего более, чем изобразить людей такими, какими он их видел. Но, обладая необычайным талантом психолога, Василий Перов сделал эти портреты «чем-то куда более значительным». По словам искусствоведа А. Пистуновой, в его портретных работах «целое полотнище света, захватывающее детство героя, юность и даже саму смерть», и «все это остается в подтексте часа, когда героя застал художник».
В конце своей жизни Перов вернулся к работе над одной из наиболее значимых своих картин – «Странник», написанной в 1870 г. Он фактически переписал полотно заново, изобразив на месте ссутулившегося под бременем жизни старца себя нынешнего – всеми покинутого, забытого, одинокого и больного. Во втором «Страннике» художник выразил все свои страдания, боль, отчаяние и горечь – все то, что ему пришлось пережить в последние годы. Эта картина, которую по праву можно назвать лучшим творением В.Г. Перова, критикой советского времени не признавалась вообще. В публикациях тех лет, посвященных творчеству художника, о ней зачастую даже не упоминалось. Тем не менее именно в «Страннике», проникнутом болью и страданиями одинокого художника, со всей полнотой и силой раскрылся его талант.
В последние годы жизни, уже будучи серьезно больным, Перов из жизнерадостного и веселого человека превратился в раздражительного и подозрительного. Он уничтожил многие из своих полотен, некоторые из них принимался переделывать, тем самым испортив их. В 1882 г. состояние здоровья В.Г. Перова резко ухудшилось. Жена художника, Елизавета Егоровна, самоотверженно ухаживала за больным, постоянно ободряя его. Она перечитала мужу массу книг, не давая ему много разговаривать. В.Г. Перов надеялся написать еще одну картину, но этому не суждено было сбыться. 6 октября 1882 г. художник тихо умер, словно заснул.
«Художник должен быть поэт, мечтатель, а главное – неусыпный труженик… Желающий быть художником должен сделаться полным фанатиком – человеком, живущим и питающимся одним искусством и только искусством», – сказал однажды В.Г. Перов. Таким фанатиком в лучшем смысле этого слова и был Василий Перов. Очень точно и образно эту мысль выразила А. Пистунова: «Все силы души своей отдал он искусству, оставив недолгому земному бытию только честь, волю, веру в будущее».
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (род. в 1878 г. – ум. в 1939 г.)
Известный русский художник-символист, мастер портрета и натюрморта, график, театральный художник, теоретик искусства и педагог. Профессор Ленинградской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, председатель Ленинградского отделения Союза художников. Член объединения «Мир искусства». Автор книг воспоминаний «Хлыновск», «Пространство Эвклида», «Самаркандия» (1928-1932 гг.).
«Живопись – не забава, не развлечение… – говорил К.С. Петров-Водкин. – Она умеет каким-то еще неизвестным мне образом расчищать хлам людского обихода, кристаллизовать волю и обезвреживать дурноту социальных взаимоотношений». Именно в этом он видел основную задачу изобразительного искусства.
Даже самые дотошные и педантичные искусствоведы не могут отнести творчество Петрова-Водкина к какой-либо определенной школе. Этот художник-символист, который все свои ощущения и переживания жизни, современных ему событий выражал при помощи метафор, не был ни на кого похож.
Родился Кузьма Сергеевич в городке Хвалынске Саратовской губернии. Отец его, Сергей Федорович, был сапожником. Мать, Анна Пантелеевна, служила домработницей. «Помню, когда работа до завтрака закончена, мать сядет у раскрытого на террасу окна и уйдет в книгу… От нее я унаследовал запойное чтение моего детства и юности», – вспоминал художник. Его детством стала Волга, бесконечные баржи, шумная многоликая пристань. С малых лет он окунулся в атмосферу народного искусства. Сосед, ночной сторож, мастерски исполнявший лубочные картинки, был первым учителем Кузьмы, а следующим – иконописец «древнего обычая» Филипп Парфенович. В его мастерской парнишку больше всего поразили краски в баночках. Они были такими первозданно яркими, словно красовались одна перед другой. Именно тогда зародилась в Кузьме любовь к чистым сочным тонам. Но юноша не сразу посвятил себя изобразительному искусству. Работал в судоремонтных мастерских, дворником, маляром-вывесочником. Потом было увлечение литературой. Его оригинальной приключенческой повестью с авторскими рисунками «Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под землей и на земле» (1914 г.) зачитывались дети. А вот большинство пьес, повестей и рассказов молодого автора так и остались в рукописях. Но в конце концов тяга к изобразительному искусству в нем победила.
Первоначальное художественное образование Петров-Водкин получил в Самаре в классах живописи и рисования Бурова (1893 г.), затем учился в Петербургском училище Штиглица (1895-1897 гг.) и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1904 гг.). Любимым педагогом его был В.А. Серов, оказавший большое влияние на начинающего художника. Занятия тех лет были интересны и насыщены: днем рисовал, учился играть на скрипке; ночами – писал пьесы. Любимой девушке Кузьма рассказывал о законах физики, геометрии и астрономии. В годы обучения и до самой революции неимущему таланту материально помогали состоятельная любительница искусства Ю.И. Казарина и придворный архитектор и владелец петербургской мебельной фабрики Р.Ф. Мельцер. Последний также поддерживал все творческие начинания художника и снабжал его выгодными заказами.
Стремясь больше узнать, многому научиться, Петров-Водкин решил воочию увидеть и изучить живопись европейских мастеров. А так как средств меценатов на поездку за границу было недостаточно, он отправился туда на велосипеде.
В Мюнхене художник занимался в школе Ашбе, у Колоросси. И чем больше он учился у других, тем самобытнее становился его собственный, новаторский стиль. В ноябре 1906 г. во Франции Петров-Водкин познакомился с Маргаритой Йованович, которая очень заинтересовалась его творчеством и захотела «понять загадки» художника. Вскоре она стала его женой.
Турция, Греция, Италия, Алжир, Пиренеи, Бретань – четыре года путешествий, знакомство со странами и музеями Петров-Водкин сопровождал непрерывной работой. По непосредственным парижским впечатлениям им было исполнено полотно «Кафе» (1907 г.). Поездка в Африку дала материал для целой серии произведений («Развалины Карфагена. Этюд», «Пустыня ночью», 1908 г.). Созданные работы художник представил на персональной выставке в 1909 г., которую после его возвращения на родину организовал журнал «Аполлон». Она имела успех.
Творчество художника тех лет было еще лишено собственного метода и живописной системы. Но в картине «Сон» (1910 г.) уже просматривалась ориентация на принципы монументальной стенной живописи. Недаром после этой картины художник получил ряд заказов на росписи церквей Св. Василия в Овруче и Казанской Божьей Матери в Саратове. К сожалению, потом эти росписи были уничтожены как неканонические. Протопоп сказал о первой иконе Петрова-Водкина: «Плясовица… Глазами стреляет… Святить не буду!»
Важным этапом в творчестве художника стало написание в 1911 г. картины «Играющие мальчики», что совпадает с его попыткой теоретически осмыслить и сформулировать свою живописную систему. Этим произведением Петров-Водкин начал создавать мир, который давал зрителю ощущение сферичности земной поверхности (водкинское восприятие пространства). При таком изображении в портрете, натюрморте, пейзаже – везде можно было передать всеобщее, «планетарное»: «Пейзаж в картине "Играющие мальчики" имеет реальные черты, но вместе с тем – это часть планеты с крутящейся сферой. Беззаботная игра, борьба, своеобразный танец ребячьей удали. Оранжевые с красными тенями – горящие тела. Зеленый купол Земли, синее небо. Жизнеутверждающий и цветовой символ "Цвет – дитя солнца", – объяснял впоследствии ученикам свой замысел Петров-Водкин. – Светить, создавать настроение праздника – это главное». Так художник пришел к своей теории трехцветия, выделяя три основных краски: красную, желтую, синюю.
Имя Петрова-Водкина стало известно всей России после вызвавшей многочисленные споры картины «Купание красного коня» (1912 г.), представленной на выставке «Мир искусства». Художник предчувствовал, что полотно будет воспринято неоднозначно, что каждый по-своему попытается раскрыть символическое звучание картины. Так и случилось. Для одних она стала воплощением приближающейся революции, для других – современным перепевом иконы «Чудо архангела Михаила». Почти все полотно заполняет монументально-гордая фигура красного коня. Его былинная мощь резко контрастирует с хрупким обнаженным телом юного всадника. Ярким, звучным краскам художник противопоставляет тягостную неподвижность окружающего фона: плотные разводы волн, плавную дугу берега, статичные фигуры лошадей и мальчиков вдали. Да и огромная энергия красного коня словно скована. Эта застывшая сила вызывает чувство неясной тревоги, ощущение неумолимости грядущих перемен. Картина воспринималась как метафорическое выражение предреволюционной эпохи, став символом событий того времени.
Затем полотно отправили в русский отдел «Балтийской выставки» в шведский город Мальме (1914 г.). За участие в ней Петров-Водкин получил от шведского короля Густава V медаль и грамоту. Но Первая мировая война, начавшаяся революция и Гражданская война привели к тому, что картина на долгое время осталась в Швеции. И только в 1950 г. она была возвращена в СССР.
Мечтая об искусстве высоком и значительном, художник использовал приемы древнерусской живописи – насыщенные цвета и величавую торжественность. Так, в картине «Мать» (1913 г.) об увлечении Петрова-Водкина иконой напоминает лепка лиц, система пробелов на цветовых пятнах одежды. Традиционный облик русской крестьянки и достоверная точность пейзажа – с синевой речки, простором заливных лугов, деревней на берегу – напоминают полотна Венецианова. Привычный облик матери вырастает в символический образ родины.
Октябрьскую революцию Петров-Водкин принял с пониманием, быстро включился в художественную жизнь Петрограда. Участвовал в реорганизации Академии художеств и без колебаний занял должность профессора (1918 г.), опасаясь гибели искусства и талантов в эпоху разрухи. К первой годовщине Октября он создал целую серию натюрмортов, ставших символами постреволюционной России: «Утренний натюрморт», «Скрипка», «Розовый натюрморт». Особенно интересен его скрипичный этюд: на изломе городского окна лежит скрипка. Она не выброшена, не спрятана в дальний угол. Художник оставил ее ненадолго, он вернется, чтобы сыграть импровизации нового времени. Петров-Водкин сумел сберечь в натюрморте никогда не умирающую в его душе нежную и трепетную мелодию жизни. Но в другой работе – натюрморте «Селедка» (1918 г.) – звучит уже иная, щемяще-скорбная музыка… льется кровь, гибнут за революцию люди, терпят голод, радуются пайкам. На ломкой розовой скатерти – картофелины, ломоть геометрически точно отрезанного хлеба – ни крошки лишней, и на листке красивой синей бумаги беловато-желтоватая с голубыми отсветами сплющенная селедка. Все это показано откуда-то сверху, как бы с небес. «Голодный паек» словно включен художником в общую атмосферу эпохи. Он становится символом жизни, памятником времени.
Завершением цикла послереволюционных произведений К. Петрова-Водкина явилась его прославленная Петроградская Мадонна («Петроград, 1918 г.»), написанная в 1920 г. На фоне революционной улицы, где люди обсуждают события и идут по самым неотложным делам, молодая мать на балконе бережно держит малыша. Женщина в красной накидке как бы отвернулась от уличной суеты, но не отторгает ее. Доверчиво и спокойно смотрит она на зрителя. На руках у нее будущее. Материнство, представленное как символ нежности и чистоты, должно быть сбережено от всех гроз революции.
В 1928 г. к десятилетию Красной Армии Петров-Водкин написал оптимистическую элегию «Смерть комиссара». Художника притягивали красивые лица «новых» людей и психология героев, отдавших свою жизнь за идею. На руках у бойца умирает комиссар. Он не выпускает винтовку и последний свой взгляд устремляет вслед идущему в наступление отряду. Побелевшее от боли лицо выделяется пятном на темном фоне гимнастерки и кожаной куртки. Земля – словно голубая сфера, вращающаяся под ногами солдат. Бойцы плотной массой вначале как бы «парят» над ней, а затем «заваливаются» за горизонт. Дальний план боя с легкими облачками взрывов кажется нереально-фантастическим. Этот «космический взгляд», который свойствен стилю художника, усиливает героическое звучание произведения. Поэт Спасский, позировавший для центрального образа, сказал, что картину следовало бы назвать «Бессмертие».
После революции художник создал ряд портретов: «Автопортрет», 1921 г.; «Анна Ахматова», 1922 г.; «Сергей Мстиславский», 1929 г.; «Андрей Белый», 1932 г. На каждом из них – лица людей, погруженных в глубокие, сложные размышления.
Тяжелая форма туберкулеза на долгое время лишила художника возможности заниматься живописью и преподавать. Поддавшись на уговоры друзей-литераторов, он создает интереснейшую автобиографическую трилогию – «Хлыновск», «Пространство Эвклида», «Самаркандия» – и сам ее иллюстрирует (1928-1932 гг.).
Творчество Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина было признано прижизненно. В 1936-1937 гг. в Ленинграде и Москве с успехом прошли его персональные выставки.
15 февраля 1939 г. К.С. Петров-Водкин умер и был похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде. Его наследие огромно (считая и черновые наброски – более 1000 работ). Это талантливые произведения постоянно ищущего художника. Недаром замечательный иллюстратор детской книги Владимир Конашевич писал: «Есть люди, которые все явления окружающего мира воспринимают как-то по-своему. Они живут как будто в другом мире, только параллельном нашему, но не совпадающем с нашим вполне во всех точках. Я имею в виду художника Петрова-Водкина».
Пименов Юрий Иванович (род. в 1903 г. – ум. в 1977 г.)
Экспрессионист, импрессионист. Мастер лирических жанровых картин, портретов, пейзажей, натюрмортов. Театральный художник, сценограф, график, иллюстратор. Один из наиболее самобытных мастеров круга Общества станковистов (ОСТ). Народный художник СССР (1970 г.), академик живописи (1962 г.). Педагог. Лауреат Сталинских (1947, 1950 гг.) и Ленинской (1967 г.) премий. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.
В одном из залов Третьяковской галереи висит картина Юрия Пименова «Новая Москва». Она написана более 60 лет назад, но в ней нет и намека на тот страшный 1937 г., когда люди боялись каждого стука в дверь. Придирчивый критик, которому сейчас поперек горла стоит соцреализм, мог бы высказать художнику замечание, что его творчество не стало отражением настоящей жизни, что это лишь бледная копия событий тоталитарного режима. Но чем же тогда так привлекает это полотно, ведь за огромный временной отрезок Москва неузнаваемо изменилась? Все на изображенной художником улице стало другим: дома, машины, одежда прохожих, интенсивность движения… Скорее ее следует переименовать в «Старую Москву», но вот делать этого абсолютно не хочется, потому что эта картина – одна из самых удивительных по своей неувядаемой молодости. Все на холсте дышит свежестью чувств и новизной. Будто машина времени совершила скачок – и вот перед нами наполненный светом простор, дрожащий воздух над мостовой, по которой ведет машину незнакомая нам девушка. Художник, исповедовавший принцип «прекрасного мгновения», легким подвижным мазком пишет неповторимый утренний миг: летящую по залитой солнечными лучами открытую машину, гвоздики у ветрового стекла, руки девушки легко и уверенно лежащие на баранке, ее золотистые волосы и нежный затылок… Через минуту машина скроется из виду, но навсегда останется радость простого человеческого счастья, написанного в розово-голубых переливах импрессионистически-нежного колорита.
Но к таким радостным светлым краскам Юрий Пименов пришел не сразу. На детские и юношеские годы коренного москвича, родившегося 26 ноября 1903 г. в семье строгого юриста, выпали события жестокие: Первая мировая и Гражданская войны, ломающие привычные устои Февральская и Октябрьская революции, разруха, голод. Поступив во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские, 1920-1925 гг.), Юрий учился у таких замечательных мастеров, как В.А. Фаворский, С.В. Малютин и В.Д. Фалилеев. В этот ранний период творческих исканий начинающий художник испытал большое влияние немецкого экспрессионизма, что во многом объясняет надрывно-драматическую остроту его картин тех лет. Резким, порой гротескным изобразительным языком Пименов пишет «Инвалидов войны» (1926 г.) с безглазыми масками вместо лиц, аскетических скелетоподобных спортсменов («Бег», 1928 г.). Для этих работ характерны монументальность композиции, пронизанность бурным движением, аскетизм цветовых решений.
Юрий активно ищет себя в искусстве и еще в 1920-е гг. становится яркой фигурой в круговороте изобразительных течений того времени. Он был активным участником творческих группировок «Объединение трех» и «Изобригада», участвовал в «Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства», а через год ее участники во главе с Пименовым учредили Общество станковистов (1925 г., ОСТ). Пименову всегда хотелось быть художником современности, воплощать сегодняшнее, соответствующее духу и облику каждого бегущего дня ощущение жизни. Поэтому он оказался художником очень советским («Солдаты переходят на сторону революции», 1932 г.). Юрия интересовало все новое, что происходило вокруг: спорт, кинематограф, становление промышленности. Работы этой поры шли в русле новаторского искусства – они экспериментальны, плакатно-публицистичны, наполнены динамикой. «Футбол, бокс, заводская архитектура, подъемные краны – все самоновейшее, самонаисовершенное – это было страстью моей и многих моих товарищей», – вспоминал впоследствии художник.
Но не только тематику – весь строй своего искусства остовцы хотели сделать остросовременным и поэтому наиболее «пригодным» для этого считали немецкий экспрессионизм. Пименов стал одним из наиболее признанных и самобытных мастеров круга Общества станковистов. Наиболее известное произведение этого периода изображает изможденных рабочих на фоне жестко вычерченных паровозов и стальных ферм в плакатной по заглавию и замыслу картине «Даешь тяжелую индустрию!» (1927 г.).
С началом 1930-х гг. в творчестве Пименова появляется жанр лирического репортажа, сентиментальное любование праздничной суетой городского быта, которое до конца жизни остается его стихией. Напускная суровость исчезает с полотен, в живописной манере, стиле, мироощущении преобладают легкость и доброжелательная улыбка. «Я хочу сделать лирическое и нарядное искусство», – объявляет он и начинает писать картины, в которых бытовые сцены разворачиваются на фоне узнаваемых городских пейзажей. Построенные по принципам, сходным с кинематографическими, эти динамичные произведения полны жизненного оптимизма. Легким мазком, светлыми красками пишет он женские портреты («Портрет Л.А. Ереминой», 1935), подмосковную природу, переливающуюся пестроту вещей и тканей в уборной актрисы («Актриса», 1935). В большинстве работ Пименов с живой непосредственностью и тонким пониманием красоты и поэзии повседневности раскрывал особенности облика и быта Москвы, показывая жизнь обычных москвичей.
В те годы художник без конца бродил по улицам, переулкам и тихим дворикам столицы, иногда сам, а иногда с Самуилом Маршаком, к книге которого «Хороший день» (1941 г.) он тогда готовил иллюстрации. «Я выхожу утром на улицу, вижу город, вижу людей, которые идут на работу, парки, солнце… Чтобы изобразить этот мир – нужен реализм. И он всегда должен быть новым…» – говорил Пименов. Устав, они возвращались в уютный дом Пименова, где к ним часто присоединялся художник Владимир Татлин с собственноручно сделанной бандурой. Друзья тихо пели старинные русские и украинские песни. После таких прекрасных дней хотелось рисовать только светлое и радостное. Но с началом Великой Отечественной войны черты Пименова-экспрессиониста – суровая лаконичность и обобщенность образов – вновь, хотя и в значительно смягченной форме, проступили в его тревожных полотнах тех лет («Ночная улица», 1942 г.; «Следы шин», 1944 г.; «Снег идет», 1945 г.). А композицию «Новой Москвы» художник демонстративно повторил в изменившейся декорации и суровом колорите «Фронтовой дороги» (1944 г.).
Создав обобщенный, возвышенно-идеальный и в то же время совершенно конкретный образ столицы, Пименов продолжал развивать эту тему в ее более частных, индивидуальных вариациях, отражая в картинах движение времени, определявшего судьбы Москвы и ее жителей. Городской пейзаж, насыщенный настроениями мирной жизни, художник органично соединил с полными обаяния женскими образами («Весеннее окно», 1949 г.; «В весеннем парке», 1955 г.). А с конца 1950-х гг. главным предметом наблюдения и поэтизации у Пименова становятся окружающие Москву новые кварталы. Он любуется самой их неоконченностью и необжитостью, временным, еще не устроенным бытом. Вот работницы моют в луже свои блестящие боты («Франтихи», 1958 г.), балансируют на переброшенных через грязь трубах юные красавицы («Первые модницы нового квартала», 1961 г.), торжественно шествуют по дощатому настилу среди размытой дороги молодожены («Свадьба на завтрашней улице», 1962 г.). Все это художник увлеченно наблюдает и все, пытаясь опоэтизировать, приукрашивает, чтобы продлить неуловимость «прекрасного мгновения» и легкого артистичного образа-впечатления. Москва в произведениях Пименова предстает деловой, исполненной движения и красочно-шумной («Конечная станция», 1955 г.; «В центре Москвы», «Центральный рынок», «Проливной дождь», «Обыкновенное утро», все – 1957 г.). Тонко и образно Пименову удалось раскрыть тесное соприкосновение старого города и заполнившей его новой, бьющей ключом жизни в картине «Кусок стекла» (1966 г.). Серия картин «Новые кварталы» (1963-1967 гг.; Ленинская премия 1967 г.) – это мажорно-лирические и в то же время не лишенные тонкой сценической условности картины-новеллы, ярко отразившие настроения политической «оттепели».
Легкая театральность его живописи закономерно привела Пименова к тому, что он стал одним из значительных русских сценографов середины XX в.: Юрий Иванович работал для Малого театра («Волки и овцы» А.Н. Островского, 1941 г.; «За тех, кто в море!» Б.А. Лавренева, 1946 г.), Ленкома («Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 1943 г.), для Центрального театра Советской Армии («Степь широкая» Н.Г. Винникова, 1949 г.). и других. За свои театральные работы Пименов был удостоен Сталинских (или как принято говорить теперь – Государственных) премий 1947 и 1950 гг. Как сценограф он стремился к праздничной зрелищности и достоверности воссоздания на сцене места действия. Не оставил художника равнодушным и кинематограф: он выполнил эскизы к знаменитому музыкальному кинофильму «Кубанские казаки» (1949 г.). С огромным удовольствием и даже каким-то восторгом художник писал портреты людей, связанных с театральным миром («З. Райх в роли Маргариты Готье», 1934 г.; «Т.Е. Самойлова в роли Анны Карениной», 1966 г.), с удовольствием создавал афиши для театра и кино.
Многогранное творчество Пименова всегда тонко и непринужденно соотносилось с духовной атмосферой времени. Оно, это время, выражено в облике героев, в настроении и стилистике картин. Живописные новеллы художника ненавязчиво и артистично рассказывают о людях, новостройках, о волшебстве театра, о поэтичности обычных вещей. Так, среди наиболее живописных циклов – серия натюрмортов «Вещи каждого дня» (1959 г.), «Старые и новые вещи» (1967 г.). В жанровой живописи, а также в пейзаже и натюрмортах, художник использовал своеобразную манеру письма мелкими, полупрозрачными мазками, создающими как бы вибрирующую поверхность его картин.
Юрий Иванович уже при жизни стал классиком отечественного искусства. Мастер широчайшего творческого диапазона проявил себя во многих видах художественной деятельности. Он также издал ряд живых очерковых книг, которые, впрочем, кажутся наивно-прекраснодушными в сравнении с его картинами («Искусство жизни, или Искусство ничего», 1960 г.; «Необыкновенность обыкновенного», 1964 г.; «Новые кварталы», 1968 и др.).
Картины Пименова находятся в Государственной Третьяковской галерее, во многих художественных музеях в России, а также в частных собраниях за рубежом: Германии, Франции, Бельгии, Финляндии, Японии, США. В далекой Японии состоялась и одна из выставок, на которой присутствовал сам художник с женой. Через некоторое время Юрий Иванович получил письмо и фотографии от японского коллекционера, который приобрел на выставке прекрасное полотно «Встреча». На нем изображен сумеречный Ленинград военного времени. У темнеющей решетки близ Казанского собора одиноко стоящие фигуры солдата и женщины. Эта полная драматизма картина, проникнутая ощущением тревоги, нашла приют в японском доме. Именно об этом и хотел сообщить японский коллекционер, показать, что настоящее искусство, как волшебный мост, сближает народы и понятно всем.
А еще почти тридцать лет жизни Юрий Иванович посвятил преподаванию живописи на художественном факультете ВГИКа (с 1945 г.). Он говорил своим ученикам, что труд художника должен быть настроен на волну сердца, что «искусство – это всегда любовь, и если она иногда приносит огорчения, то все равно остается любовью…» Профессору нравилось, когда он угадывал в молодом художнике новое творческое лицо, которое нельзя одолжить, так как «это ты сам, твоя душа». Как-то после одного многолюдного собрания художников Пименов спросил в шутку у сидящих в зале: «Есть здесь мои ученики?» И вдруг в ответ поднялся лес рук. Юрий Иванович с изумленно смотрел на молодых и зрелых людей, которые в разное время были студентами ВГИКа и которых он учил тому, что было ему всего дороже: любви к людям, неиссякаемому интересу к повседневной человеческой жизни, в которой он видел столько поэзии.
Умер Пименов в Москве 6 сентября 1977 года.
Пластов Аркадий Александрович (род. в 1893 г. – ум. в 1972 г.)
Художник крестьянской России. Жанровый живописец, пейзажист, график, иллюстратор книг, работавший в стиле «русского импрессионизма». Народный художник СССР. Лауреат Сталинской (1946 г.), Ленинской (1966 г.) премий и Государственной премии им. И.Е. Репина (1972 г.). Награжден двумя орденами Ленина.
Неизбывное счастье бытия, неизъяснимое чувство Родины изливается с картин Пластова. Художник был частью той России, которая на его глазах уходила в прошлое. Одна из его последних крупных работ так и называлась «Из прошлого» (1969 г., Государственная премия им. И.Е. Репина). Все просто, естественно и так значимо, что картинка короткого отдыха крестьянской семьи превращается в изображение святого семейства. Художник словно перенес на холст частицу рая на земле. Хотя, конечно, трудно признать, что жизнь крестьян может быть похожа на райскую, но на картинах Пластова нет диссонанса между изображением тяжелого труда и благодатью окружающего мира. Все проникнуто гармонией извечного единения человека с природой. Повсюду любовь к земле и человеку, на ней рожденному, ее обихаживающему и в нее уходящему в свой срок.
Знаменитый художник имел мастерскую и дом в столице, но так и не стал москвичом. Его постоянно тянуло в родное село Прислониха Симбирского уезда (ныне Ульяновская обл.). Именно здесь 30 января 1893 г. он родился и навеки полюбил эти земли, пашни и луга, холмы, к которым прислонилось село, за что и получило свое название. С детства Аркадий принимал мир как чудо, как дарованную свыше красоту, а главное – умел видеть ее. Этот дар перешел к нему по наследству: семейство Пластовых было богато художественными традициями. Его дед и прадед были известными в своих местах живописцами. По проекту Григория Гавриловича были построены Богоявленский храм (входит в комплекс пластовского музея) в Прислонихе и церкви в окрестных селах. Он вместе с сыном Александром расписал прислонищенскую церковь, и некоторые из этих икон сохранились и поныне. Впоследствии Пластов писал в своей «Автобиографии»: «Как зачарованный, я во все глаза смотрел, как среди розовых облаков зарождался какой-нибудь крылатый красавец-гигант в хламиде цвета огня, и мое потрясенное сердце сжали спазмы неизъяснимого восторга, сладостного ужаса. Тут же я тогда взял с отца слово, что он купит, как перейду в семинарию, вот таких же порошков, и я натру себе этих красных, синих, золотых, огненных красок, а дальше буду живописцем и никем больше».
Именно в этом храме был псаломщиком отец Аркадия, Александр Григорьевич. Он мечтал видеть сына священником и поэтому отдал его в девять лет в Симбирское духовное училище, а по его окончании – в семинарию. Однако рано пробившийся художнический дар Аркадия был отмечен учителем рисования и замечательным художником-акварелистом Д.И. Архангельским. Он разгадал в подростке будущего мастера. До конца своих дней Пластов был благодарен этому человеку и чтил его.
Получив благословение духовных наставников, Аркадий избрал то, что ему было предназначено судьбой. Он отправился в Москву, где вначале учился в Строгановском училище (1912-1914 гг.), а затем окончил скульптурный курс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, параллельно изучая живопись. В эти годы начинающий художник испытал большое влияние «русского импрессионизма», и не потому, что это было в моде – просто ему был близок этот пронизанный светом и воздухом стиль.
Сразу выбиться в «известные художники» Пластову было не суждено. Революционный авангард он не признал и с 1917 по 1925 г. практически безвыездно жил в родном селе. Как «грамотный» он занимался различными общественными делами, а как художник главным образом работал над политическим плакатом. Из всего, что Аркадий Александрович писал для души, к сожалению, сохранились только великолепные иллюстрации акварелью, карандашом и тушью к рассказам А.П. Чехова (1920-1927 гг.). Все остальное было уничтожено пожаром.
Пластову было уже 38 лет, когда он оказался в положении начинающего: ни крыши над головой, ни картин. «Я прожил долгую жизнь, и жизнь всяческую. И чем дольше живу, тем все более и более убеждаюсь, что если бы на заре моей юности… я предался какой-то расслабленности, чувству бесперспективности, естественному в иные моменты, по мнению иных, чувству усталости, скуки, вялому раздумью, я был бы давным-давно смят и раздавлен неисчислимым количеством всяких обстоятельств и преград жизни, без следа, мутной тенью растаял бы в сутолоке этой жизни». К тому же, кроме творчества, он нес ответственность за семью. Его жена, Наталья Александровна, была из дворянской семьи. Но после революции у фон Виков конфисковали все имущество и заставили покинуть дом. Лишенные всех гражданских прав, они приютились у родственников в Симбирске, торговали спичками, газетами, но все равно голодали. Наталья Александровна прислуживала в церкви и уже собиралась уйти в монастырь, когда ее повстречал Аркадий Александрович. В 1925 г. они поженились, и Пластов перевез всех в Прислониху, оградив тем самым от репрессий. Его супруга своих дворянских корней не демонстрировала, и ее происхождение выдавала только великолепная эрудиция и французский язык. В их доме царил православный, полудворянский-полукрестьянский уклад, который и стал необходимым условием для спокойной и успешной работы художника.
Но Пластову всегда приходилось остерегаться властей. В 1929 г. он все же попал в руки НКВД, и спасло его только заступничество крестьян. С тех пор Аркадий Александрович вел себя осторожно, опасаясь за жену и сына Николая. Он вынужденно делал заказные работы, считая, что настоящая живопись ничто не может прославлять. Картины, воспевающие радость колхозного труда, по искренности ничем не отличаются от труда крестьянского, разве что «кусочек» настоящей жизни вставлялся в рамку соцреалистической схемы: «Колхозный праздник» (др. название «Праздник урожая», 1937 г.) шумел под портретом Сталина и обилием транспарантов. А когда начались нешуточные гонения на людей искусства и под удар попали такие мастера, как М. Зощенко, А. Ахматова, Д. Шостакович, С. Прокофьев и другие, кто-то посоветовал Пластову написать картину о вожде революции. Так появилось полотно «Ленин в Разливе». Произведение получилось поэтичнейшее: удивительно прописан пейзаж, тонкий утренний туман, стога. Нелогичным на холсте был только человек в галстуке.
В большинстве же своих работ Пластов остался продолжателем национальной художественной традиции. В колорите русской природы он видел чарующие краски старинных икон. Эти краски царят в его картинах: в золоте хлебных полей, в зелени травы, в красном, розовом, голубом цвете крестьянских одежд. Место святых в произведениях заступают русские крестьяне, чей труд, тяжелый и святой, художник изображал с особой нежностью и предельной искренностью («Колхозное стадо», 1937 г.; «Сенокос» и «Жатва», обе в 1945 г., Сталинская премия; «Ужин трактористов», 1951 г.; «Сбор картофеля», 1956 г.). Мир Пластова – мир вечной крестьянской России. Его пастухи и доярки, косцы и дровосеки реалистичны до мельчайших деталей. Работам мастера свойственны непринужденная простота композиции и мажорная яркость пронизанных светом теплых красок. Художника сейчас обвиняют, что будто он не заметил и не отразил ужасов тоталитарной системы. Но внимательно, сочувственно вглядитесь в пластовских женщин, косящих в одном ряду с мужиками и пашущих на тракторах, и великий трагизм социалистического преобразования деревни пронзит вас.
Пластов много и плодотворно работал в 1930-е гг., но первыми его шедеврами стали картины военных лет. И этот невероятный взлет, когда никому не известный художник из далекой провинции стал в один ряд с признанными мастерами, был безусловно подготовлен колоссальной внутренней работой всей предыдущей жизни. «Я сейчас с особой силой ощущаю в себе брожение вот этой дикой стихийной силы, потребность как-то физически это выразить. Ну, неистовой техникой, сюжетом, где плоть человеческая была бы показана со всем своим угаром, в предельной напряженности и правде. Мне мерещатся формы и краски, насыщенные страстью и яростью, чтобы рядом со всей слащавой благопристойностью они ревели и вопили бы истошными голосами».
В Тегеране на знаменитой встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля картина Пластова «Фашист пролетел» (1942 г.) была выставлена как произведение, символизирующее бессмысленную жестокость войны. На ней изображен расстрелянный с самолета мальчонка-пастушок. Картина трагична своей обыденностью, сиротской беззащитностью. Она о той единственной «слезиночке» («кровиночке»), которой мучился Достоевский. Грустная правда военного времени проступает и в картине «Жатва». Дряхлый старик сидит в поле за скудным обедом в окружении детей. Три серпа воткнуты в стожок пшеницы. Двум русоволосым мальчишкам и девчушке еще не по силам управляться с косами, а урожай надо убрать самим. Отцы и старшие братья не помогут – они на фронте. На картине даже золотистые колосья выглядят как-то не по-пластовски тускло, подчеркивая горечь лихолетья, не то что на пронизанной солнцем и заполненном радостными лицами людей картине «На колхозном току» (1949 г.).
В 1954 г. художник создал одно из лучших своих произведений «Весна». В нем скудная зимняя природа, топящаяся по-черному баня необычно трогательно оттеняют материнскую заботу и женскую красоту. Тициановское золото волос, белизна обнаженного тела, еще парящего на морозе. Нет ни ложной стыдливости, ни эротизма. Художник воспевает единственную минуту из жизни матери, которая нежно укутывает в старушечий клетчатый платок уже выкупанную дочку, не задумываясь, как она сама выглядит со стороны. Просто, буднично, но краше любой Венеры.
Если смотреть на картины Пластова (а их почти 10 тысяч), создается впечатление, что он успел запечатлеть все моменты из жизни родной Прислонихи. Неизмеримо и число созданных им этюдов, рисунков, эскизов. Бывало, пройдет мимо старик или пробежит ребенок, а художник уже прикидывает, сможет ли он «такое!» лицо перенести на холст. Внук художника, Николай Николаевич, рассказывал, как дед учил его своему методу работы (кстати, сын, невестка и внук Пластова стали известными мастерами): «С натуры нужно сделать много-много этюдов, чтобы понять ее суть. Тогда можно рисовать и с закрытыми глазами».
Цикл «Люди колхозной деревни» (1951-1965 гг., Ленинская премия 1966 г.) – это дань своим землякам. Какие достойные лица! У стариков и старух они похожи на древние лики. У молодых – задорные, ершистые, мечтательные, энергичные, веселые, решительные – разные. Самые яркие – портреты ребятишек. К огромному полотну «Дети» Пластов создал десятки эскизов, каждый из которых – законченная картина. Здесь художник особенно поиграл со светом, не боясь ослепить глазенки солнечными бликами или перекрыть резкой тенью нежные щечки. Современные специалисты говорят, что этим он нарушал «технику», но именно это делало его картины живыми и динамичными.
Пластов был мастером темпераментной световой стихии, он не знал трудностей в передаче, казалось бы, неизобразимых моментов. Присмотритесь, как сверкает и переливается струя воды, как плещется она в полном ведре в картине «У родника». Все полотно лучится светом, и только под мостками у ног девочки с коромыслом окруженное высокой травой озерцо воды – темно-синее, маслянистое. Пластов как никто другой умел передать дрожание воды, и почти на любой из его жанровых картин можно увидеть наполненное до краев ведро. А еще он любил (если «в тему») на периферии холста написать натюрморт, который ничуть не уступит по мастерству работам прославленных фламандских и голландских живописцев. Пластов настолько умело изображал образы предметов, что очень трудно после него писать краюху хлеба, огурец на белом полотне или кувшин с молоком. Ему была дана редкая способность обыденные события или предметы превращать в идеальный образ, открывать их сокровенный подлинный смысл.
Поэтому удивляет, что мастер такой силы при жизни не устроил ни одной персональной выставки. Валентин Сидоров, председатель Союза художников России, который учился и дружил с внуком Пластова, вспоминал, как уговаривал художника показать свои работы, разбросанные по всем союзным республикам. Но Аркадий Александрович твердил: «Вам, молодым, славы хочется, только все выставки, выставки… А мне выставку некогда делать, работать надо», – и при первой же возможности сбегал из Москвы в село. Только там ему работалось легко. Он много успел, но многое так и осталось в проекте. Еще в 1920-е гг. Пластов задумал написать историческую картину о пугачевском восстании. Осталось множество эскизов, этюдов 1930, 1940, 1950, 1960-х годов именно для этой картины. Была написана целая подготовительная галерея известных портретов мужиков. Художник, на глазах которого совершались события куда более грандиозные и беспощадные, так и не создал эту, возможно, главную свою картину, и пятиметровый холст остался стоять нетронутым в его мастерской.
Умер Пластов в своей родной Прислонихе 12 мая 1972 г., но он успел вписать в историю мирового искусства образ навсегда уходящего русского крестьянства. Мастер говорил: «Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда он поймет эту удивительность, громоподобность бытия, – на все его тогда хватит: и на подвиг в работе, и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись».
Поленов Василий Дмитриевич (род. в 1844 г. – ум. в 1927 г.)
Известный русский живописец, предшественник импрессионистов, большой мастер пейзажа, родоначальник «отрадной» живописи. Академик (1876 г.), профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Автор музыки к опере «Призраки Эллады» (1894 г.).
Русский художник Василий Дмитриевич Поленов с юных лет мечтал стать мастером исторической живописи и не подозревал о том, что жизнь распорядится по-иному и его кисть станет вечной пленницей пейзажа.
В дворянской семье Поленовых всегда царила теплая, сердечная атмосфера взаимопонимания. Дети получали великолепное домашнее образование. Василий унаследовал от отца (Дмитрий Васильевич был археологом и биографом) большой интерес к истории. А мать, Мария Алексеевна, великая почитательница искусства, разбудила в мальчике «страстную любовь к живописи». Не меньшую роль в воспитании будущего художника сыграла и его бабушка, Вера Николаевна Воейкова, большой знаток русской истории и народного фольклора. Именно она раньше других, заметила художественное дарование старшего внука. А домашний учитель рисования П.П. Чистяков сумел разглядеть в пятнадцатилетнем Василии талант пейзажиста: «Он колорист, так составил тон стекла, что и мне не составить».
На берегу реки Ояти, в родовом имении Имоченцах, юноша наблюдал за капризной красавицей-природой. И наблюдения эти не прошли бесследно. Они оставили в молодой душе глубокий отпечаток, а через годы выплеснулись наружу – так появились картины: «Холмы» (1861 г.), «Закат» (1869 г.), «Северная изба» (1870 г.) и «Переправа через реку Оять» (1872 г.).
В Петрозаводске, куда в 1861 г. на время переехала семья Поленовых, Василий окончил гимназию. А вернувшись в 1863 г. в Петербург, продолжил свои занятия в Академии художеств, в классе исторической живописи. В то же время по настоянию родителей он поступил в университет на юридический факультет. 1871 г. был итоговым в отношении учебы: В.Д. Поленов, уже кандидат юридических наук, получил Большую золотую медаль за работу «Воскрешение дочери Иаира». Награда давала право на пенсионерскую командировку за границу. Этим правом В.Д. Поленов воспользовался уже в следующем, 1872 г., и отправился в Италию.
Художник, бесспорно, по достоинству оценил пышную природу Венеции и Флоренции, но, несмотря на это, признавался, что «наша плоская возвышенность роднее и симпатичнее, чем все эти чудеса, и не раз являлось желание убежать отсюда».
В Риме молодой Поленов подружился с Репиным, который отзывался о нем как о «чудесном малом» и «хорошем товарище». Здесь же он познакомился с известным меценатом Саввой Мамонтовым и стал активным участником концертов и спектаклей, которые устраивались у того в доме, а также массовых поездок к древним памятникам, которые приводили его в восторг. Художник был в то время необычайно жаден до новых впечатлений и вносил в эту небольшую творческую компанию какой-то будоражащий, задорный элемент. У Мамонтовых он познакомился с младшей дочерью князя Оболенского Марией. Эта встреча подарила Поленову радость первой любви и одновременно больно ранила его душу. Входивший в мамонтовский кружок художник Н.А. Прахов вспоминал: «Веселая, жизнерадостная девятнадцатилетняя девушка была душою общества, и нет ничего удивительного в том, что… Василий Дмитриевич Поленов, тогда тоже молодой и жизнерадостный, влюбился, сделал официальное предложение, был хорошо принят в семье Оболенских и считался женихом Маруси. Подтачивавшая ее легкие чахотка, по словам докторов, могла еще быть вылечена продолжительным пребыванием на юге… но случайное заражение скарлатиной от кого-то из детей Мамонтовых ускорило развитие болезни, и общая любимица Маруся неожиданно скончалась. Василий Дмитриевич был потрясен этой вечной разлукой с любимой девушкой, долго… был безутешен и носил глубокий траур». Впоследствии Поленов увековечит ее память в картине «Больная» (1881-1886 гг.), моделью для которой послужила сестра Маруси.
Покинув Италию, художник сначала навестил родных в Имоченцах, а затем в 1873 г. уехал в Париж. В нем все больше крепло желание стать мастером исторической живописи. Он постоянно искал темы для большого исторического полотна. В Париже им были созданы картины «Право господина» (1874 г.) и «Арест гугенотки» (1875 г.), которые хотя и были написаны артистично, но самостоятельностью не отличались и грешили внешним подходом к теме.
Из Парижа В.Д. Поленов поехал в Нормандию. С середины июля по сентябрь 1874 г. он жил в городке Вела. За этот маленький срок художник написал ряд восхитительных этюдов, среди них: «Рыбацкая лодка. Этрета», «Белая лошадка. Нормандия», «Старые ворота в Веле». Произошло то, что было предначертано ему дарованием: в гонце за исторической живописью проснулся самый настоящий пейзажист. Современники высоко оценили этюды, исполненные в Веле, их превозносили намного выше исторических картин художника. Вице-президент Петербургской академии художеств Г.Г. Гагарин настаивал на том, что у Поленова «прелестный талант к пейзажу, он не должен им пренебрегать». Однако сам В.Д. Поленов пока не осознавал этого. После Белы он неоднократно возвращался к своим историческим композициям.
В 1876 г. В.Д. Поленов пошел добровольцем на сербско-турецкую войну. За ней последовала русско-турецкая. За храбрость, проявленную в этих военных кампаниях, Василий Дмитриевич был награжден Черногорской медалью и Таковским крестом.
С огромной радостью в 1877 г. художник переселился в Москву. Именно тут начался самый плодотворный этап его творческого пути. В.Д. Поленов увлекся изображением кремлевских соборов и теремов. Так появились этюды «Теремной дворец. Наружный вид», «Успенский собор. Южные врата», «Верхнее Золотое крыльцо». За ними последовали первые произведения пейзажно-бытового жанра – картины «Удильщики» и «Пруд в парке» (обе в 1877 г.). Все эти работы, а также этюд с изображением церкви Спаса-на-Песках явились предвестниками лучшей картины художника – «Московский дворик» (1878 г.). Более прекрасного пейзажного образа Москвы русская живопись еще не знала. Наконец-то В.Д. Поленов нашел свой жанр в искусстве. Завоевали всеобщее признание и другие пейзажи художника – «Летнее утро» («Паросли с лягушками»), 1878 г.; «Бабушкин сад», «Заросший пруд» (оба в 1879 г.). М.В. Нестеров писал об этих полотнах Поленову: «В них Вы с таким молодым, непосредственным чувством, с такой красочной полнотой показали поэзию старого, родного быта, неисчерпаемые тайны нашей родины. Вы как бы заново открыли волшебное обаяние природы».
Теперь уж и сам Поленов понимал, в чем его призвание. В письмах друзьям он писал о том, что «пришел к заключению, что мой талант всего ближе к пейзажному, бытовому жанру, которым и займусь».
Самым ярким из произведений этого жанра является картина «Бабушкин сад». Овеянная лирикой тургеневского «Дворянского гнезда», она полна светлых и теплых чувств. Ее идея – вечное обновление жизни и победа над смертью. По дорожке старого сада медленно движутся две фигуры – бабушка и поддерживающая ее молодая женщина. Одна – олицетворение уходящей жизни, другая – расцветающей. Девушка прекрасна, как сама природа, как упоительный солнечный день и яркие пятна цветов заросшего сада. Жизнеутверждающее начало, прозвучавшее в этой работе художника, стало новым словом в русской пейзажной живописи. Поленова называли «рыцарем красоты», а его полотна – «отрадной» живописью.
В пору творческого расцвета пришло в жизнь художника и личное счастье. В 1882 г. он женился на Наталье Васильевне Якунчиковой, которая также занималась живописью (впоследствии она стала автором книги о сестре художника – «Е.Д. Поленова» и описания усадьбы «Абрамцево»). По воспоминаниям друзей Василия Дмитриевича, «она создала домашний очаг, вокруг которого сгруппировались большие художники того времени и ученики Поленова». Один из них – Л.О. Пастернак писал: «Стоило хоть раз побывать в гостеприимном доме Поленова в Кривоколенном переулке, чтобы безошибочно представить себе дух и направление, какое должна была дать эта среда творчеству Поленова».
Но родители художника по-прежнему ждали от него монументального исторического полотна. И, уступая их настоянию и просьбе умирающей сестры Веры Дмитриевны, он, вопреки своему призванию, вернулся к историческим темам.
В 1883 г. художник уехал в Италию, а вернувшись через год в Россию, окончил наконец картину «Христос и грешница» (в 1887 г. ее приобрел Александр III). Но через время В.Д. Поленов сделал признание, что картины из громадного цикла «Из жизни Христа» (над ним он работал со второй половины 1890-х гг. до конца 1900-х гг.), служат главным образом изображением природы и обстановки, в которой совершались евангельские события. Монументальных исторических полотен, в которых на первое место выходило бы содержание, образы и композиция картины, ему создать не удалось.
Все дальнейшее творчество В.Д. Поленова больше и больше отдалялось от интимного воспроизведения природы. Ведущими жанрами становились большой обобщенный пейзаж и широкая панорама.
В.Д. Поленов был мастером и театрально-декоративной живописи. Театральные работы, сделанные им, производили ошеломляющее впечатление. Вот как отзывался В.М. Васнецов о его декорациях к пьесе-сказке С.И. Мамонтова «Алая роза»: «…гениальные декорации, говорю это смело… Надо быть волшебником, чтобы перенести нас в сказочные дворцы и сады».
В 1910 г. В.Д. Поленов организовал «Секцию содействия фабричным и деревенским театрам при Обществе народных университетов», работе в которой уделял много времени и сил.
Свою большую просветительскую и педагогическую деятельность он успешно продолжал и после революции 1917 г. Художник мечтал воплотить в жизнь еще много проектов, чтобы «сделать искусство доступным и интересным народу»; эти мечты оборвала смерть. Он скончался в 1927 г. и был похоронен в своей усадьбе «Поленово», где еще при его жизни был организован музей художника.
В.Д. Поленов, как никто другой из русских живописцев, оставил целое поколение своих последователей. «Дух его, его манера и даже его тона чувствуются в большей части и хороших и совсем ученических произведений. Гг. Левитан, К. Коровин, Остроухов, Серов, Виноградов, Щербиновский, Малютин, Бакшеев, Домбровский, Трояновский и т. д., все с той или другой стороны напоминают Поленова. Местами это доходит даже до полной копировки, так что этюды кажутся списанными не с натуры, а с поленовских этюдов», – утверждал художественный критик С. Глаголь. Благодарность учителю от имени всех учеников выразил И. Левитан, сказав: «Я уверен, что искусство московское не было бы таким, каким оно есть, не будь Вас. Спасибо Вам за Ваше искусство, которое я безумно люблю…»
Попков Виктор Ефимович (род. в 1932 г. – ум. в 1974 г.)
Советский художник, лауреат Государственной премии СССР, считавшийся в свое время одним из лидеров «сурового стиля», автор цикла жанровых картин о русском Севере, портретов, пейзажей. Картины этого живописца и графика находятся в Государственной Третьяковской галерее, в фондах Министерства культуры России и Союза художников. Свидетельствующие об идеях и эстетических ценностях ушедшего времени сегодня эти полотна вызывают неоднозначное отношение.
Москва, 12 декабря 1974 г. В девять часов вечера несколько человек вышли из подъезда дома на улице Чайковского. Было уже совсем темно, и один из мужчин, спешивший попасть домой, пытался остановить такси. Увидев очередную притормаживавшую машину, он подбежал к ней и хотел открыть дверцу, чтобы узнать, едет ли водитель в нужную ему сторону. Стекло автомобиля опустилось, чья-то рука приставила к горлу несостоявшегося пассажира пистолет и спустила курок. Человек, надеявшийся через несколько минут добраться до дома, рухнул на тротуар. Выпущенная пуля оборвала его жизнь мгновенно.
Тогда еще не стреляли так много, как в наши дни, и эта случайная смерть стала одной из самых громких. Еще бы, ведь убитым оказался Виктор Попков, художник, которого при жизни называли человеком-легендой. Он принял за такси инкассаторскую машину, а пьяный работник банка не задумываясь застрелил его. Нелепая и трагическая гибель этого человека вызвала серьезный резонанс. Почему?
Вся жизнь и творчество художника Попкова были связаны с Подмосковьем. Виктор Ефимович долгое время жил и работал на станции Челюскинской, творческий путь начал в изостудии в Подлипках, и последний свой приют он обрел тоже в Подмосковье – в Тарасовке.
Родился будущий художник 9 марта 1932 г. в Москве, в семье грузчика, работавшего на товарной станции Казанской железной дороги. Но заработок отца семейства был скудным, и Попковы вынуждены были переехать в деревню Каменка Смоленской области, где родственники оставили им кое-какое хозяйство. Там Витя и рос, пошел учиться в школу и потихоньку мечтал о том, чтобы стать художником. Перед самой войной его отец вновь отправился искать счастья в столицу, где устроился на кирпичный завод. Работа была тяжелой, но давала возможность нормально жить. Тем более, что Ефиму пообещали: приедет в город семья – получишь комнату в общежитии. И вскоре он с женой и детьми обустраивался на новом месте. Казалось, все складывалось удачно, но когда началась война, Попков-старший ушел на фронт, а уже в феврале 1942 г. Мытищинский военкомат известил его жену, что Ефим Акимович пропал без вести… На тот момент ему было всего 35 лет и дома его ждали жена и четверо детей. Степанида Ивановна осталась поднимать малышей одна.
Жизнь без кормильца была очень тяжелой. Мать устроилась работать в пекарне, старалась уделять больше внимания осиротевшим детям. Приходя с работы, успевала возиться на огороде: чтобы выжить, без подсобного хозяйства было не обойтись. Малыши быстро осознали, что теперь они – опора матери, и старались помогать ей во всем. Часто испытывая недостаток самого необходимого, они тем не менее росли послушными детьми. Виктор всегда отличался, по воспоминаниям родных, искренностью и честностью. Удивительно, но он за всю свою жизнь так ни разу и не солгал – ни чтобы избежать наказания, ни со злости, ни из соображений корысти. Степанида Ивановна верила ему и позже с гордостью вспоминала, каким рос ее сын – не ябедничал, не подлизывался, очень хорошо учился, был старательным. И еще его отличало обостренное чувство справедливости.
Виктор очень любил рисовать, и это у него, по отзывам друзей, неплохо получалось. Правда, пользовался тогда Попков только карандашом. Мальчик учился в пятом классе мытищинской школы № 9, когда ему пришлось пережить одно из самых сильных потрясений в своей недолгой жизни: как-то, возвращаясь с занятий, он заметил, что на веранде чьей-то дачи сидит женщина-художница. Она с увлечением писала акварелью пейзаж. После этого случая Витя совсем замучил мать, надоедая ей просьбами сходить туда и попросить, чтобы его тоже научили работать красками. Степанида Ивановна наконец сдалась. Она была готова заплатить за уроки, тем более, что серьезное увлечение сына рисованием ей нравилось. Но художница не пожелала возиться с Витькой, причем ее отказ звучал уничижительно и высокомерно. По счастью, эта моральная оплеуха не убила в мальчишке стремления овладеть искусством рисунка и живописи, хотя и осталась в его памяти на всю жизнь.
Так сложилось, что в одном классе с Попковым в течение двух лет учился еще один будущий художник, Виктор Барвенко. Приятели-одноклассники, связанные общим увлечением, вместе записались в изостудию завода им. Калинина, расположенного в Подлипках. Оба Виктора ходили туда на занятия два года, до окончания седьмого класса. Попков сразу же выделился среди сверстников: его уровень рос с удивительной быстротой, мальчишка ловил буквально на лету то, что другим давалось только путем упорной работы – моментально схватывал цвет, принципы композиции, особенности графической техники. За одно занятие он успевал сделать невероятное количество рисунков и этюдов, не отвлекаясь, не давая себе ни на минуту расслабиться. Виктор рисовал все, на что падал его взгляд, умел найти для себя интересное в складках ткани висящего на вешалке пальто, суетящихся во дворе курах, спещащих по делам людях, разбросанной обуви, старых домах пригорода. Естественно, педагог не просто любил своего талантливого ученика, но и откровенно гордился им. О том, насколько хорошо Попков усваивал материал, говорит то, что после окончания школы и студии он сразу, без дополнительной подготовки, смог поступить в графическо-педагогическое училище. Здесь новый учащийся сразу обратил на себя внимание педагогов, признавших в нем природный талант. Курс, на который зачислили Виктора, был богат на имена, ставшие впоследствии известными в мире искусства. Его соучениками были Насонов, Кудряшин, Ткаченко и Калинычева, ставшая позднее женой Попкова. Эти студенты имели более высокий уровень подготовки еще при поступлении, и Виктор, не желавший быть отстающим, ударился в работу. Он спешил наверстать то, чего не знал и не умел ранее, при этом стараясь предельно хорошо усваивать текущий материал. Огромное количество написанных им в это время этюдов отличали весьма характерное цветовое решение и своеобразное построение композиции.
Закончив училище, Попков, как и многие его товарищи, не захотел останавливаться на достигнутом и решил поступать в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Ему это удалось, и юноша попал на курс Евгения Адольфовича Кибрика, ставшего наставником Виктора. Молодой художник, чье становление пришлось на время хрущевской оттепели, живо интересовался всеми тенденциями, возникавшими в мире искусства. Однако он не следовал слепо модным формалистическим течениям, а смог создать свой собственный стиль, основанный на традициях русской и западно-европейской реалистической живописи.
Когда подошло время выбирать тему для дипломного проекта, Попков заявил, что он будет рисовать железную дорогу. Его решение никого не удивило. Ведь «железка» стала для Виктора почти что другом, ежедневно доставлявшим его со станции Челюскинской в Москву – навстречу мечте. Поезда и переплетения рельс стали настолько близкими молодому человеку, что ему осталось лишь закомпоновать их образы так, чтобы они обрели некий зримый, пластический смысл. Однако вместо одной идеи на бумаге внезапно начала рождаться интересная серия набросков: «Монтажники на проводах», «Ремонт железной дороги», «Собрание в депо». Так тема диплома внезапно трансформировалась для Виктора из графики в живопись. В итоге Попков написал работу, ставшую результатом его наблюдений за тем, как на подмосковной платформе электрики-монтажники ремонтировали сеть проводов.
Окончив институт, молодой художник принял участие в одной из проходивших в то время в Москве выставок. Удивительно, но его сразу заметили, пресса известила о рождении нового таланта. Естественно, подобное начало вдохновило Виктора, который после первого успеха начал активно писать маслом. С тех пор его любимая графика вынуждена была отойти в сторону, уступив место Ее Величеству Живописи. Попков сделал огромное количество подготовительного материала, активно осваивал различные техники, работал разными видами красок – в общем, искал себя. В создании картин ему очень пригодилась школа графики, привитое ею чувство светотени, рельефности рисунка и четкости композиционных решений. В поисках новых идей Виктор любил скитаться по Подмосковью. Фактически оно играло роль своеобразной огромной творческой мастерской Попкова и – одновременно – излюбленного места отдыха художника. Он все надеялся создать нечто, что сможет ассоциироваться у зрителя только с ним, выделив его из сонма просто «подающих надежды» выпускников художественных вузов. Когда-то, гуляя с художником Н. Андроновым по парку в Абрамцеве, Виктор неожиданно заговорил об этом. Заканчивался апрель 1974 г. День выдался ветреным, но солнечным. По небу, цепляясь за верхушки старых сосен и тонких берез, спешили куда-то роскошные облака. Приятели остановились посмотреть, как вороны и грачи ворошат прошлогоднюю листву, кружат над деревьями и деловито покрикивают на проходящих мимо людей. Внезапно Виктор сказал, что они даже и не замечают, как смотрят на этих птиц глазами Серова, и грустно добавил, что очень бы хотел, чтобы, когда его самого не будет, «хоть горшок какой или крынку назвали бы "попковскими"…»
Картины Виктора Ефимовича характеризовать сложно. Тем более, учитывая изменения, произошедшие в жизни общества в течение последних 15 лет. Кто-то, увидев фигуры на его полотнах, фыркает: «Квадратно-гнездовой метод!», кому-то просто не нравится сама тематика, кто-то говорит об излишней идеологизации живописи Попкова («Как в фильмах тех лет: стройки, передовики, домны, пятилетки в три года, борьба за повышение производительности труда и полное обезличивание индивидуума, становящегося каким-то придатком к очередному гиганту индустрии»).
На фоне других полотен выделяется картина «Двое», отмеченная почетным дипломом на Международной выставке в Париже (1966 г.). Виктор долго искал натурщиков для воплощения своей идеи. Но почему-то образы людей, с которыми он работал, «не садились» на холст, их позы были надуманными или искусственными, скованными. Однажды, приехав к матери на станцию Челюскинская, художник встретился там со своей золовкой Лидой. И совершенно неожиданно для той попросил попозировать. Лидии нужно было изобразить спящую. Пошли в сад, Виктор показал, как примерно он представляет себе позу своей модели. Лида положила руку под голову, и внезапно художник остановил ее и попросил не шевелиться: наконец-то он нашел то, что ему нужно. Мужскую же фигуру Попков писал с двух людей. Вначале ему позировал родной брат Лиды, Анатолий, а заканчивал он своего героя, рисуя какого-то местного парня. Картина отличается ощущением тепла и доброты, видимо, замеченным и по достоинству оцененным устроителями выставки.
Тот, кто норовит свести все творчество Виктора к строительно-индустриальной тематике, сознательно обедняет наследие художника. А ведь Попков создал своеобразный тип картины-метафоры, которому стоит уделить внимание и сегодня! Для нее характерен особый драматизм внешне статичных композиций, подчеркнутый насыщенностью цветового решения. Например, его цикл «Мезенские вдовы» (1965-1968 гг.): картины, написанные в результате поездки на русский Север, являются не только символической памятью о прошедшей войне, но и кричащим свидетельством крайней нищеты современной русской деревни, о чем говорить, в общем-то, было не принято. Знакомые нам всем с детства «Шинель отца» (1972 г.) и «Хорошая бабка Анисья» (1973 г.), которые сейчас находятся в Третьяковской галерее, воспринимаются как горестное свидетельство распада связи поколений. Образы у Виктора поражают мечтательной романтичностью, говорят о последней надежде. Вряд ли вы сможете остаться равнодушными, постояв немного перед древними фресками «Северной часовни» (1972 г.) или встретив внимательный взгляд А.С. Пушкина в «Осенних дождях» (1974 г.)! Да и сам «суровый стиль» в работах Попкова распадается: из бодрых надежд на политическое обновление внезапно восстает автопортретная фигура, застывшая в тяжелом оцепенении сна («Работа окончена», 1972 г.). Эти полотна ломали привычный образ художника, привносили в официальные выставки редкую по тем временам искренность. Из-под кисти Виктора Ефимовича вышли многие образы стариков и старух, архитектурные зарисовки, прекрасные пейзажные полотна, отображавшие картины подмосковной природы. Здесь вы легко сможете найти то духовное содержание, эмоции и тонкий психологизм автора, в котором ему сегодня частенько отказывают.
На картинах Виктора происходит неожиданное преломление реальности сквозь чувства человека, его личное «я». Сквозь статичную композицию внезапно проступают ощущения, ассоциации и размышления самого автора или модели. Строго продуманные композиции Попкова непостижимым образом совмещают разные пространства, световые, цветовые, живописные «среды». Своеобразный прием легкой иронии, свойственный многим его картинам, давал возможность неоднозначного и многопланового восприятия изображений. Гротеск и условность Виктор Ефимович использовал вполне осознанно, поскольку подобные приемы часто помогали добиться определенного эффекта – художник постоянно подчеркивал, что жизнь и искусство отнюдь не тождественны. Подобное отношение к действительности и творчеству помогли Попкову выделиться среди других молодых художников, сразу же со студенческой скамьи попасть в ряды тех мастеров, чье творчество получило официальное признание. Интересно, что известность не испортила этого человека; он сумел сохранить по-детски искренние чувства, сочетание драматичности и особого лиризма, свойственные для изображаемых им как бытийных, так и актуальных временных проблем.
Виктор работал очень много, забывая обо всем. Утром он мог заняться одним полотном, а вечером, устав, взяться за другое. В СССР его картины были хрестоматийными, их знали все. Считалось, что они входят в золотой фонд отечественного искусства. Еще бы, ведь тематика изображений вполне соответствовала «политике партии и правительства» и отражала реальную жизнь реальных людей. Ну что ты поделаешь, если «стройки века» тогда воспевались на каждом углу, а люди действительно привыкли ощущать себя лишь «винтиками» огромного государственного механизма! На полотнах Попкова запечатлена часть нашей истории, и не имеет значения, нравится она нам или нет. Ведь это – наше с вами прошлое, эмоциональный настрой, стремления и надежды наших отцов и дедов. Да, можно сейчас до хрипоты спорить о повальном оболванивании масс, о перекосе эстетического восприятия и навязывании утрированно-восторженного отношения к тогдашней действительности. Но ведь не нужно забывать о том, что многие на самом деле верили в изображаемые ими сюжеты и образы. И Виктор Попков был одним из тех, кто воплощал в своих полотнах то, что действительно уважал и любил. Почему-то схожие манеры и приемы, присущие иностранным художникам, мы принимаем как должное, и даже если не приходим в восторг от созерцания творений О. Домье, Матисса или Пикассо, то все равно привычно соглашаемся, что это – шедевры. А почему? Может, действительно, нет пророка в своем отечестве? И разве нужно скидывать со счетов прошлое? Картины Попкова свидетельствуют о трепетном восхищении родными местами и искренности замысла. В них ярко отобразились идеи времени и нашли отражение эстетические ценности той эпохи. Их нужно понимать и принимать так же, как мы принимаем то, что оставили нам в наследство гораздо более ранние мастера, как восхищаемся тем, что видим сегодня. Ведь кто знает, что скажут о современных взглядах и вкусах наши собственные потомки! Этот художник из Подмосковья, полусирота, рисовал то, что его окружало, то, что он видел с детства, то, во что по-настоящему был влюблен. А художественные приемы, используемые талантливым мастером, – всего лишь плод обучения. Само время требовало нового взгляда на жизнь. Поэтому его терпеливо прививали будущим деятелям искусства. И несмотря на то что идеологию списали, историю не перепишешь заново. Ее свидетельством как раз и являются картины, оставленные нам «социалистическим реализмом».
«Строители Братской ГЭС» (1961 г.). Это полотно часто называют изоманифестом «сурового стиля». Его отличает особая, жесткая ритмика, монументально-графическая композиция и контрастность. Да, сейчас нам сложно ассоциировать название картины с чем-то реальным, поскольку современность заставила задуматься о методе соцреализма, еще недавно воспевавшемся в качестве наивысшего достижения искусства, как о вторсырье. Но ведь и это – история… И данное полотно свидетельствует, прежде всего, не только об очередном мегапроекте, но и о том, что появилась первая возможность отделить личность от идеологии, что породило «комсомольский бунт псевдоформы там, где содержание исключалось априори». Попков осознанно стремился к отражению социальной и политической реальности – единственно легальной для «эры социализма». В условиях навязанной официальным искусством тематики и проблематики Виктор Ефимович являлся уникумом: он умудрялся быть послушным «сыном своего времени» и при этом оставаться настоящим художником, имевшим свой, специфический, взгляд на мир. И не лгать. Ни себе, ни зрителю. Недаром зарубежные искусствоведы не раз называли его русским Гольбейном.
В Мытищах местный историко-краеведческий музей открыл мемориальную комнату Виктора Попкова. В ней собраны экспонаты, предоставленные родственниками художника: его личные вещи, фотографии, несколько картин. Последние могут нравиться или нет, но примечательно, что этот мини-музей никогда не жалуется на отсутствие посетителей…
…Прощались с художником в ближнем Подмосковье, на станции Тарасовка. Там, в маленькой старой церкви, когда-то вызвавшей глубокое восхищение у Анри Матисса, собралось много народу – близкие, друзья, знакомые, собратья по цеху. Среди них стояла Степанида Ивановна – маленькая, сухонькая и удивительно тихая. Только глаза этой женщины, в считанные часы превратившейся в бесплотную тень, иногда с отчаянием и болью останавливались на ком-то из присутствующих. И человек невольно отводил взгляд от внезапно вспыхнувшего чувства непонятной вины и неловкости. Трудно прощаться с людьми, особенно если это навсегда. Сложно вычеркнуть из жизни тех, кто еще вчера строил планы на завтра. Невозможно, проводив художника в последний путь, вычеркнуть из жизни его полотна. Даже если умирает государство, которому он служил.
Персональные выставки этого живописца проходили в Москве и Ленинграде в 1976 г. Несмотря на напряженную работу, он оставил после себя не так много – всего 70 полотен. Просто отпущено жизни ему было до обидного мало. За цикл картин «Размышления о жизни», «Семья Болотовых», «Шинель отца», «Полдень», «Бригада отдыхает», «Строители Братска» Виктору Попкову была присуждена Государственная премия СССР. К сожалению, посмертно.
Примаченко Мария Аксентьевна (род. в 1909 г. – ум. в 1997 г.)
Знаменитая украинская самодеятельная художница, лауреат Государственной премии УССР им. Т.Г. Шевченко, заслуженный деятель искусств УССР, народный художник Украины.
Рассказывают, что в 1937 г. на Международной выставке народного творчества, на которой эскпонировались работы Марии Примаченко, побывал один из величайших художников XX века – Пабло Пикассо. В журналистской среде ходят упорные слухи, что известный любитель покритиковать своих «коллег по цеху» о произведениях украинской художницы сказал: «Я преклоняюсь перед этим чудо-искусством гениальной украинки». Творчество Марии Примаченко – явление уникальное не только для украинского искусства, но и для мировой живописи в целом. Созданный ею фантастический мир, за кажущейся внешней простотой и некоторой наивностью, даже детскостью образов, неповторим, сугубо индивидуален; он наполнен глубокой жизненной философией и корнями своими уходит глубоко в языческое прошлое славянских народов.
Мария Аксентьевна Примаченко родилась на Украине, в полесском селе Болотня Киевской области в семье потомственных народных мастеров. Ее отец, Аксентий Григорьевич, был плотником, он мастерил резные дворовые ограды в старославянском стиле, занимался резьбой по дереву. Ее бабушка расписывала пасхальные яйца – писанки. Мать, Параска Васильевна, была признанной мастерицей вышивки. Не удивительно, что девочка начала проявлять интерес к народному искусству очень рано. Сначала ее рисунки заметили соседи, советовали учиться. Но сделать это было трудно. Детство Марии пришлось на тяжелые для Украины и голодные годы, кроме того, в девять лет девочка заболела полиомиелитом, после которого у нее на всю жизнь парализовало ногу. Больше всего времени в детстве она уделяла вышивке – традиционному женскому занятию в украинских селах. Но и рисовала достаточно много, причем довольно странные вещи – крокодилов и обезьян, которых могла видеть только на картинках и в собственном богатом воображении.
В 1935 г. работы Примаченко заметила киевская художница Татьяна Флору, собиравшая по Украине образцы работ для выставки народного искусства. В этом же году Марию пригласили учиться и работать в экспериментальных мастерских при Киевском государственном музее украинского искусства. Там она совершенствует свое мастерство: рисует, вышивает, расписывает керамику. В этот период формируется фантастический, ни на что не похожий примаченковский стиль. Говорят даже, что когда студенты из экспериментальных мастерских ездили в зоопарк рисовать с натуры, ее руководитель Татьяна Флору оставляла Примаченко, никогда не видевшую экзотических животных живьем, в мастерской, потому что боялась, как бы настоящие слоны, львы и обезьяны не повлияли на самобытный стиль народной художницы. Работы Примаченко постепенно получали признание, в 1936 г. она была награждена дипломом первой степени за участие в республиканской выставке народного творчества, где под ее работы был отведен отдельный зал. Почти сразу же за этим большинство из них отправили в Париж: «Мне сказали, будто за мои рисунки в Париже золотую медаль присудили. Только я про это ничего и не знала», – без особого сожаления сказала как-то Мария Аксентьевна. Ее рисунки экспонируются на выставках во многих городах Советского Союза и за рубежом – в Варшаве, Софии, Праге, Монреале. Художницу умоляли остаться в Киеве, но она вернулась в родную Болотню – к старикам-родителям и своему любимому человеку, Василию Маринчуку. И вся дальнейшая долгая жизнь Марии Аксентьевны была неразрывно связана с этим полесским селом, она практически не покидала его после возвращения из Киева. Казалось, Болотня была для нее неисчерпаемым источником вдохновения.
Но в 1941 г. тихому болотнинскому счастью Марии Примаченко пришел конец. Художница была беременна, и молодые люди собирались расписаться, когда началась Великая Отечественная война. Василия, единственную любовь всей ее жизни, забрали на фронт, и сына Федора он так никогда и не увидел. «Пусть сын растет счастливым, а я сегодня пятый раз иду в атаку», – написал он Марии в последний день своей жизни. Примаченко разделила со своими земляками все тяготы оккупации, радость победы, пережила свое личное горе и вырастила сына, но долгое время не бралась за кисть и краски. Да и стране в послевоенный период нужно было другое искусство – героическое, монументальное.
Только в 1960-е годы Мария Примаченко вновь заявляет о себе. В 1961 году она начала работу над циклом «Людям на радость», за который в 1966 г. была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко. В этом же году, узнав о смерти авиаконструктора С. Королева, Примаченко нарисовала трогательную картину: в центре солнечного диска – гроб, покрытый украинским рушником и подпись: «Тело человека на Солнце. Памяти Королева». В начале 1970-х гг. в киевском издательстве «Веселка» выходит ряд детских книг с иллюстрациями Примаченко. На ярких и красочных рисунках народной мастерицы перед нами предстают фантастические цветы, животные и птицы, очень схожие с образами языческой славянской мифологии. Добрые животные у нее – яркие, светящиеся; злые – темные, как будто тусклые. Тела всех ее зверей и птиц покрыты всевозможными крапинками, полосками, орнаментами, даже цветами и листьями. Изображения на рисунках Марии Примаченко не статичны, они движутся, подчиненные особому ритму и закономерностям. Многие названия-подписи больше всего напоминают присказки, короткие стишки: «Веснянки-роговички – веселi птички», «Курточки пляшуть i хлiб пашуть», «Ворон двi баби мав – обох обнiмав». На обороте многих рисунков Мария Аксентьевна писала и настоящие стихи, часто сказочного содержания, представляющие собой беседы разных зверей друг с другом. Свои фантастические цветы художница часто посвящает кому-нибудь или чему-нибудь: «Людям, що пашуть хлiб i батькiвщину кохають», «Молодим матерям, що народили сина або дочку», «Лесi Украïнцi», «На честь польоту космонавта». А «Болотяний 3Bip» и «Болотяний рак» говорят о том, какое влияние на ее творчество оказала природа родной Болотни. Любимые цветы Марии Аксентьевны – подсолнечники, бузина, розы и фантастические «квiтиоченята» – больше всего напоминают настенные росписи на украинских деревенских хатах. «Делаю солнечные цветы, потому что людей люблю, творю на радость, на счастье людям, чтобы все народы один другого любили, чтобы жили они, как цветы по всей земле…» – говорила художница о своем творчестве. В 1970-х гг. выходит целый ряд бытовых сценок – «Весiлля», «Катерина сшваε пiсню», «Галя на весiлля запрошуε», – также не лишенных некоторой сказочности. Фантастические создания и сюжеты рождаются у Примаченко из сновидений, каких-то неожиданных ассоциаций. «Смотрю на пол – вижу: вот зверь, а вот человек на коне», – сказала как-то художница в своей старой хате с глиняным полом.
Примаченко почти не рисовала на белом фоне – чаще всего это красный, синий, голубой, зеленый, желтый цвет. Слой краски все время разный, что придает каждой композиции различную плоскостную форму. Мазок также не одинаков в каждом рисунке – он то короткий и отрывистый, то густой и широкий, иногда ровный, а иногда слегка волнистый. Мария Примаченко рисовала на обычных ватманах и альбомных листах фабричными карандашами, гуашью, акварелью. До сих пор не известно даже более-менее точное количество ее работ: многие разошлись по всему миру, а многие – просто в качестве подарков по украинским домам. По неподтвержденным данным, один из рисунков с изображением фантастического зверя был подарен кем-то знаменитому художнику Марку Шагалу.
В годы холодной войны Мария Аксентьевна создала цикл «Атомная война – будь проклята она», где появляются злые звери-предостережения, а в 1986 г. – тревожную чернобыльскую серию, получившую известность во всем мире.
В последние годы жизни перенесенный в детстве полиомиелит дал о себе знать, и Мария Примаченко совсем не могла ходить, она почти не поднималась с кровати. Но до последнего дня знаменитая украинская художница продолжала рисовать. Умерла она в ночь на 18 августа 1997 г., в возрасте 89 лет, прожив долгую и не самую счастливую жизнь. Помимо поистине огромного творческого наследия, Мария Аксентьевна оставила нам продолжателей своего дела – сына и двоих внуков. Федор Примаченко стал заслуженным художником Украины, лауреатом премии им. Е. Белокур. Петр и Иван Примаченко – молодые талантливые и перспективные художники, и, хотя влияние бабушки на их творчество огромно, каждый – яркая индивидуальность, один из них больше склоняется к фантастике, а другой – к романтике и поэзии народной жизни.
Сегодня творчество Марии Примаченко оценивают по-разному. Кто-то из искусствоведов называет его наивизмом, примитивизмом, не выходящим за рамки детских картинок или декоративно-прикладного искусства, а кто-то ставит в один ряд с работами выдающегося французского художника-фовиста Анри Матисса. Хотя в ее рисунках действительно очень много общего с украинским народным творчеством – вышивками, настенными росписями, орнаментами на керамике и писанках, – примаченковские образы и способ их передачи совершенно индивидуальны и неповторимы. Эти образы скрывают за простотой изображения богатство содержания, глубину и разнообразие чувств. Где имена сотен талантливых и трудолюбивых народных мастеров, чьи барвинки и лошадки легли мертвыми слоями краски и ниток на ободки тарелок и воротнички рубашек? А имя народного художника и поэта, сумевшего оживить сказочных и совсем не страшных фантастических зверей и птиц, Марии Аксентьевны Примаченко, известно всему миру.
Растрелли Бартоломео-Карло (род. в 1675 г. – ум. в 1744 г.)
Знаменитый русский скульптор и архитектор, итальянец по происхождению, представитель барокко.
Каждый флорентиец гордился своей принадлежностью к городу, взрастившему Данте и Петрарку, Микеланджело и Боттичелли, украшенному творческим гением Джотто и Мазаччо, Донателло и Челлинни. Флоренция была символом самого высокого искусства, и недаром Бартоломео-Карло с гордостью писал после своей фамилии «флорентиец». Он родился в 1675 г. в семье Франческо Растрелли и принадлежал к известному старинному, но обедневшему роду, который за пять лет до его рождения украсил свой дворянский герб щитом с изображением кометы и двух восьмиконечных звезд с золотой перевязью на голубом поле. Этими «звездами» и предстояло стать самому Бартоломео-Карло и его сыну Франческо-Бартоломео. Но никто не предполагал, что засверкают они вдали от родного гнезда.
Бартоломео-Карло был обучен и воспитан как истинный дворянин, и профессию свою он выбирал среди приличествующих его титулу: военный, священник, художник. Пытливый, живописно одаренный юноша прошел великолепную подготовку в скульптурной мастерской Флоренции, где перед ним открылись секреты художественного литья, ювелирного искусства, проектирования и сооружения дворцов и храмов, сложности театрального декорирования и даже возможности гидравлики. Регулярных заказов начинающий скульптор в родном городе получить не мог. Но так как его ум был полон творческих замыслов, а сердце верило в блестящее будущее, он в 1698 г. отправился покорять своим талантом Рим. Но и здесь молодой честолюбец остался не у дел. За год он постиг законы патетически взволнованного искусства барокко и, пораженный творениями Бернини, навсегда остался поклонником и создателем витиеватых пышных форм.
Разобравшись в ситуации и обвенчавшись в 1699 г. с юной богатой итальянской дворянкой, Бартоломео-Карло поспешил завоевать признание в Париже. Там у молодой четы родился единственный сын и наследник отцовского таланта, Франческо-Бартоломео. Но за 16 лет жизни в столице Франции скульптору удалось получить и исполнить лишь одно произведение – пышное надгробие бывшему королевскому министру маркизу де Помпону. Богатое и помпезное искусство Растрелли не интересовало французов, склонных к простоте классицизма. Но благодаря умению завязывать нужные знакомства и приданому жены честолюбие художника было удовлетворено. Он получил титул графа Папского государства и орден Иоанна Латеранского. Бо́льшую часть своего времени скульптор посвящал сыну, со всей вспыльчивостью и южной темпераментностью обучая того всему, что знал сам. И оказался прекрасным преподавателем.
Время шло, а настоящего желанного успеха все не было. Гордый флорентиец мечтал о громкой славе и, когда в 1715 г. получил предложение посвятить свои многочисленные дарования украшению новой российской столицы, не задумываясь, подписал выгодный контракт для себя и сына на три года. Он отбыл в Петербург полный надежд. В Кенигсберге 16 февраля 1716 г. состоялась личная аудиенция Растрелли у Петра I, о которой он упоминал при каждом удобном случае. Выслушав пожелания царя о строительстве западного дворца в Стрельне, скульптор сразу приступил к чертежам генерального плана и созданию большой деревянной модели (1717 г.). Мысленно уже представляя свой триумф, он с полной отдачей работал сам и использовал помощь одаренного сына, своего первого помощника. Сейчас трудно определить долю творческого труда старшего и младшего Растрелли при создании дворцов Шарифа и Хованского (1722 г.), здания Двенадцати коллегий (1724 г.), модели мавзолея Петра I (1725 г.), Зимнего Анненгофа в Московском Кремле (1730 г.) и Летнего – в Лефортово, Зимнего дворца для Анны Иоанновны (1733 г.), так как все договора подписывал отец, а манера исполнения у них практически неотличима. Торжественно-величавый, ликующе-праздничный, с обилием замысловатых деталей и золота стиль обоих художников удовлетворял прихоти царствующих особ, мечтавших затмить своим величием блеск Версальского двора.
После истечения срока договора Растрелли и не подумал о возвращении на родину или в Париж. В России он был востребован, хотя для этого ему часто приходилось умело лавировать и доказывать свою лояльность к быстро сменяющимся на престоле монархам, а также их фаворитам. Когда дар заводить нужные знакомства, вовремя отойти в тень или удачно напомнить о себе не помогал темпераментному Бартоломео-Карло, он шел на крайние меры. Однажды переманенный Петром I «славный парижский архитектор» Ж.Б. Леблон попытался отстранить Растрелли от дел, строча доносы о его лени и бездеятельности, распространяя ехидный пасквиль о бездарности флорентийца. Тот подговорил помощников и подмастерий доказать свою правду кулаками. Меншиков с трудом замял дело о самовольной расправе, поведя его так, что якобы «Леблон был бит царем и вскоре умер». Умение выжить в «этой дикой стране» Бартоломео-Карло передал сыну, который архитектурной фантазией вскоре затмил своего отца и впоследствии приписал совместные работы только себе.
Разносторонне одаренный Растрелли-старший с успехом работал и в области скульптурного портрета. Первым произведением, исполненным в Петербурге, был парадный портрет А.Д. Меншикова (бронза, 1716 г.), в котором автор умело сохранил характерные индивидуальные черты сподвижника царя за обильной мишурой мелких деталей одежды и огромного завитого парика.
Многократно обращался Растрелли к образу Петра I. Я. Штелин в своих записках о скульптуре в России XVIII в. писал, что мастер «отлил из меди много «целых статуй и бюстов еще при жизни императора» и что позолоченный деревянный поясной портрет даже украшал нос корабля «Не тронь меня». Растрелли свободно работал с любым материалом, создавая бюсты царя: воск раскрашенный, 1719 г.; бронза, 1723, 1724 гг.; гипс с воском бронзированный, свинец позолоченный (оба в 1724 г.). А исполненная скульптором прижизненная маска и «восковая персона» в натуральную величину, облаченная в одежды Петра I, стали своего рода «историческими документами» при воссоздании другими поколениями художников облика императора.
Самым удачным из портретов Петра I стал бронзовый бюст (1723-1729 гг.), где он предстал в виде полководца, закованного в чеканные латы и с орденской лентой на груди. В этом произведении гармонично соединился героический образ Петра с обилием превосходно исполненных деталей. Горделиво поднятая голова с широко распахнутыми глазами великолепно передает его волю, собранность и устремление вперед.
Много лет работал Растрелли над конной статуей Петра I (1720-1724 гг.). Это был первый конный памятник в русском искусстве, и по времени создания художник предвосхитил грандиозного «Медного всадника» Фальконе. Но отлил его скульптор Мартелли уже после смерти автора (1745-1747 гг.). А установлен он был по велению Павла I только в 1800 г. перед Михайловским замком с надписью на постаменте «Прадеду – правнук».
И если образ Петра I – это сочетание порыва и горения, то скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1733-1741 гг.) – это правдивый портрет тупого высокомерия самой жестокой и невежественной правительницы России. Бронзовая фигура рослой, тучной императрицы, облаченной в парадное платье, сплошь украшенное шитьем и драгоценными камнями, утяжеленное горностаевой мантией с двуглавыми орлами, противопоставлена крошечной подвижной фигурке арапчонка. А ее мужеподобное лицо с тяжелым упрямым подбородком и злобным немигающим взглядом – «престрашный зрак», который повергал в страх всех придворных, – усугубляет давящее впечатление от скульптуры. Хорошо, что работа была окончена после смерти Анны Иоанновны, а то ее создателю не поздоровилось бы. Зато припрятанная «до лучших времен» восковая голова матери Анны Леопольдовны позволила Растрелли-младшему остаться в должности обер-архитектора при дворе новой взбалмошной и безалаберной императрицы.
Бартоломео-Карло Растрелли много работал и как мастер декоративной скульптуры, и как проектировщик парков в Стрельне и Летнем саду. В 1735-1736 гг. он создал и отлил «все свинцовые и позолоченные статуи» для огромного сада, а также несохранившиеся скульптурные группы для фонтанов и каскадов Петербурга («Самсон, раздирающий пасть льву», «Нептун на колеснице», «Диана с нимфами», «Прозерпина и Алфей», «Персей и Ариадна», «Тритоны» и статуи «Четыре времени года», все в 1735-1738 гг.). Хрупкий свинец не выдержал сурового климата. Статуи так ужасно деформировались, что было немыслимо даже снять с них копии, и гениальные русские скульпторы Ф.И. Шубин, И.П. Прокофьев, Ф.Ф. Щедрин и М.И. Козловский в 1799 г. приступили к замене растреллиевских скульптур своими творениями.
Так же, как и его произведения, постепенно старел и знаменитый флорентийский мастер. Он радовался творческим достижениям сына и жил в окружении его семьи, разделил их глубокое горе, похоронив двоих внуков из трех. Годы сделали его тело грузным, а характер – вечно недовольным. 18 ноября 1744 г. Бартоломео-Карло Растрелли умер при подготовке к отливке из меди почти пятиметровой конной статуи Петра I. Ушел из жизни скульптор и архитектор, посвятивший свой художественный дар России и воспитавший себе на смену талантливого зодчего Франческо-Бартоломео Растрелли.
Репин Илья Ефимович (род. в 1844 г. – ум. в 1930 г.)
Выдающийся русский художник-жанрист, портретист, исторический живописец реалистического направления. Профессор живописи (1893 г.), действительный член Петербургской академии художеств. Обладатель почетных наград: золотой медали «За экспрессию» им. Виже Лебрен за картину «Бурлаки на Волге» (1873 г.); памятной золотой медали и диплома «За особые труды и заслуги на поприще живописи и искусства» за портрет Е.Н. Корева на Всемирной выставке в Сент-Луисе (Америка). Автор воспоминаний «Далекое близкое» (1915 г., изданы в 1937 г.).
Величие Репина как художника явилось следствием гармоничного соединения врожденного таланта, глубокого осознания действительности и в высшей степени по-детски восторженного мировосприятия.
Детские и юношеские годы Ильи прошли на Украине, в г. Чугуеве. Он родился в семье военного поселянина Ефима Васильевича Репина, который служил фуражистом и квартирмейстером в кавалерийском полку. Когда отец надолго уезжал по делам службы, заботу о благополучии четырех детей (двое умерли в раннем возрасте) брала на себя мать, Татьяна Степановна. Илья был на редкость любознательным мальчиком, но в школе учиться ему не довелось. Грамоте Илью обучил сельский пономарь, а арифметике – дьячок. Получив в семилетнем возрасте набор красок, он с таким восторгом и упорством рисовал, что у него кровь стала идти носом. Все соседки предсказывали, что мальчонка не выживет. Но он выздоровел и снова вернулся к краскам, чтобы уже никогда с ними не расставаться.
Проучившись несколько месяцев в Корпусе топографов, Илья в 1858 г. пошел в ученики к художнику-иконописцу И.М. Бунакову. Он быстро освоил сложную технику росписи, а в иконах давал волю своему воображению. Священникам нравились их яркие краски. Особенно удалась Илье «Мария Магдалина» – пылающие лучи и заплаканные глаза страдалицы на иконе производили сильное впечатление на верующих. Юный художник получал много заказов на росписи церквей и портреты горожан. В свои 19 лет в родном городе он был признанным мастером.
В 1863 г., взяв заработанные 100 рублей, Илья поехал в Петербург штурмовать академию, о которой давно мечтал. Однако опыта провинциального живописца оказалось недостаточно для поступления. Репина подвела «тушевка». По совету художника-архитектора Петрова, у которого он снимал комнату, он поступил в вечернюю рисовальную школу на бирже. Днем Илья метался по столице в поисках заработка, а вечером успешно осваивал злополучную штриховку. Получив первый номер в школе, он справился с экзаменом в академию и в 1864 г. был зачислен вольнослушателем. Чтобы заплатить 25 рублей за первый год обучения, Илья пошел на поклон к меценату генералу Прянишникову, и тот внес необходимую сумму.
Со всем пылом юности Репин постигал азы творчества. Но ему не хватало общеобразовательных знаний, и он с поразительным упорством изучал историю, литературу, анатомию, математику, физику, химию. Илья даже подумывал года на четыре отказаться от живописи, чтобы догнать «интеллектуальных богачей». Товарищи по учебе – В. Поленов, М. Антокольский, А. Шевцов, Н. Мурашко – отговорили его и старались раздобыть ему заказы на портреты, чтобы он мог заработать на жизнь. Преодолев все препятствия, уже через год и восемь месяцев обучения Репин получил Малую серебряную медаль за эскиз «Ангел смерти истребляет первенцев египетских» (1865 г.). Это было для Ильи не просто признанием его успехов, но и позволило освободиться от податного сословия и телесных наказаний, получить звание художника и больше не оплачивать обучение.
Обязательные академические работы на библейские сюжеты Репина не волновали. Его вторым учителем с 1863 г. был И.Н. Крамской, а близким другом и советником стал В.В. Стасов. Проникнувшись идеями артельщиков и передвижников, равняясь на реалистическое творчество В.Г. Перова, Илья успешно исполнял задания, но душу в них не вкладывал. Он искал свою тему. И она открылась ему погожим днем 1868 г. на Неве. Фигуры бурлаков, доведенных каторжным трудом до состояния тяглового скота, их измученные лица и непокорные взгляды заслонили весь горизонт. Репин одновременно заболел сюжетом и влюбился в своих героев. Он задумал сложную, построенную на контрасте композицию: изможденные фигуры бурлаков, яркий солнечный день и стайки барышень в разноцветных платьях на берегу. Но по совету друга Ф. Васильева, Илья отказался от «назидания» в картине, а каникулы 1870 г. провел с друзьями и братом на Волге, «охотясь» за бурлаками, проникаясь их жизнью и повадками. Эскизы летних работ, разбросанные по полу конференц-зала, были лично рассмотрены великим князем Владимиром, и он оставил за собой право купить будущую картину.
Репин так увлекся бурлаками, что друзья с трудом убедили его участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль и пенсионерскую поездку за границу. Илья долго не знал, как подойти к очередной библейской теме – «Воскрешение дочери Иаира» (1871 г.), пока не вспомнил о смерти сестры Усти. Он представил, как в их затихший от горя дом вошел бы человек и вернул сестре жизнь. После четырех месяцев бесплодных поисков Илья переписал картину за несколько дней, получил медаль и успешно закончил академию.
Молодой художник не смог сразу отправиться в пенсионерскую поездку. Задержали неоконченные портреты, «Бурлаки» и огромный заказ на картину «Славянские композиторы» (1871-1872 гг.), которую Тургенев назвал «холодным винегретом из живых и мертвых». Картина имела огромный успех, хотя в ней все надумано, а среди выдающихся мастеров нет ни Мусоргского, ни Бородина, ни даже Чайковского.
Еще одной причиной задержки стала смена неуютной холостяцкой жизни на семейную. Невеста, Вера Алексеевна Шевцова, на глазах художника из неуклюжей девятилетней девочки, сестры друга, превратилась в нежную и вдумчивую девушку. 11 февраля 1872 г. молодые обвенчались в академической церкви, а в ноябре радовались рождению дочери. Пока маленькая Вера подрастала, чтобы осилить путешествие, счастливый отец представил зрителям полотно «Бурлаки на Волге» (1870-1873 гг.), на котором сами за себя говорят «11 фигур – 11 горьких судеб на горячем песке под палящим солнцем раздольной русской реки». Репинское мастерство спаяло здесь спокойную мудрость, богатырскую силу, суровую доброту, тяжкие думы и отсутствие некрасовской покорности. «Нельзя не полюбить этих беззащитных… Нельзя не подумать, что действительно должны народу… Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через 15 лет вспомнится. А не были бы они так натуральны, невинны и просты – не производили бы впечатления и не составили бы такой картины…» – писал Ф.М. Достоевский. «Бурлаки» были восторженно приняты зрителями и критикой в Петербурге и на Всемирной выставке в Вене, а затем на долгие 44 года скрыты от глаз публики в бильярдной князя Владимира…
За границу Репин уезжал прославленным мастером. С 1873 по 1876 г. художник побывал в Вене, Венеции, Флоренции, Риме, Неаполе, Альбано, Лондоне. Долгое время жил с семьей в Париже, где родилась вторая дочь Надя. Их дом стал родным и для девятилетнего Валентина Серова, а Илья Ефимович – его первым и любимым учителем. Художник знакомился с западным искусством, написал много пленэрных пейзажей, этюдов, портреты Тургенева и дочери Веры, «Девочку-рыбачку», картину «Парижское кафе» (все в 1874 г.) и аллегоричное полотно «Садко в подводном царстве» (1876 г.). За последнюю работу Репин получил звание академика живописи.
Но в России от создателя «Бурлаков» ожидали чего-то большего. Парижские работы ничего не добавили к его доброму имени. Казалось, он накапливал силы, чтобы по возвращении в Чугуев выплеснуться своеобразной летописью пореформенной России: «Под конвоем» (1876 г.), «В волостном правлении», «Возвращение с войны», «Мужичок из робких», «Мужичок с дурным глазом» (направлено на Международную выставку в Париж), «Крестный ход в дубовом лесу» (все в 1877 г.). Одним из действующих лиц «Крестного хода» стал чугуевский соборный протодиакон И. Уланов. Его же монументальную фигуру темпераментно, свободно, с исключительным богатством живописных приемов изобразил Репин в картине «Протодиакон» (1877 г.). «Да ведь это целая огнедышащая гора», – сказал о портрете Мусоргский. Эти и другие работы художник создал за один год жизни в родном городе. Ему было жаль расставаться с Украиной, но очень хотелось быть в центре российской живописи.
Прожив пять лет в Москве, Репин с семьей, пополнившейся сыном Юрием и дочерью Татьяной, переехал на постоянное место жительства в Петербург. В своей живописной мастерской художник работал сразу над несколькими полотнами. Его творческий темперамент был огромен. Он постоянно совершенствовал композиции, создавал десятки эскизов даже не к основным фигурам, искал выразительную натуру. Так, образ горделивой женщины в «Царевне Софье» (1879 г.) художник нашел, слив воедино эскизные портреты Бламберг-Апрелевой, портнихи и матери В. Серова. Критическое отношение к своим работам у Репина бывало чрезмерным. Он постоянно что-то исправлял в уже готовых картинах, а иногда заново переписывал их на том же холсте. Так, над «Явленной иконой» художник работал с 1877 по 1924 г. Долгие годы, создавая в картинах «Отказ от исповеди» (1879-1885 гг.), «Арест пропагандиста» (1880-1892 гг.), «Не ждали» (1884-1888 гг.) образы революционеров-народовольцев, Репин воспел облик человека, отдающего жизнь за высшие идеалы.
Никого не оставила равнодушным многоликая толпа «Крестного хода в Курской губернии» (1880-1883 гг.), которая мерно наплывала на зрителя. В картине нет никакого благоговейного и религиозного экстаза – только чванливость, тупость, жестокость, боль и нищета. Десятки фигур, но нет ни одной лишней. Каждый образ, продуманный и десятки раз переписанный, мог бы стать отдельной картиной: от мальчика-горбуна и нищенки до толстой женщины и урядника с нагайкой. Репин даже по просьбе Третьякова ничего не изменил в картине, хотя очень часто поддавался уговорам. «Красота – это дело вкусов; для меня она вся в правде», – ответил художник знаменитому галерейщику.
Такой же жуткой по своей правдивости и реальности преступления и смерти стала картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (1882-1885 гг.) – наиболее драматическое произведение Репина. «Чувства, перегруженные ужасами современности», позволили воссоздать на полотне «живую смерть», детоубийство. Художник запечатлел момент, когда в тиране Грозном пробуждается человек и отец, осознавший свой зверский поступок и горе. Слабая улыбка прощения освещает лицо умирающего. Цвет на полотне созвучен трагедии: серый фон, кроваво-красный ковер, черное одеяние Грозного и розово-золотые одежды царевича усиливают общее впечатление. Но именно мгновенная смена душевного состояния человека, бьющая из глаз царя, ошеломляет зрителя больше, чем хлынувшая из раны кровь. Картина написана «так мастерски, что не видать мастерства», и так правдиво, что Третьякову, купившему ее, от имени царя было велено не выставлять это произведение в галерее.
Работа над «Грозным» забрала у художника много сил и душевной энергии. Да и в семейной жизни у Ильи Ефимовича давно не было тишины и счастья. Его частые увлечения, неуравновешенный вздорный характер доставляли немало горя жене, занятой домом и воспитанием четырех детей. Она не могла быть светской хозяйкой репинского салона. Друзья видели «затаенное страдание» этой женщины. Вера Алексеевна потребовала разрыва. Старшие дочери остались с отцом, а Юра и Таня – с матерью. Но контакта с детьми у Репина не было, они не простили ему грозовую атмосферу детства и скандалы. Тихое семейное счастье не удовлетворяло его бурную натуру. Ему требовалось состояние юношеской влюбленности, яркая и сильная страсть. В 44 года он пережил это чувство к своей одаренной ученице, Елизавете Николаевне Званцевой. Девушка не могла ответить взаимностью обремененному семьей художнику.
После душевного и семейного кризиса Репин полностью погрузился в работу над задуманной еще в 1878 г. искрометной и сочной картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878-1891 гг.). Проникаясь стариной, художник несколько раз ездил на Украину, встречался с историком Яворницким (он изображен на картине писарем). Яркие типажи, хохочущие лица, уверенные в своей мощи фигуры, слитые в едином порыве веселья, на картине стали символом казацкой вольности и товарищества.
«Запорожцев» купил царь за 35 тысяч рублей. На эти деньги Репин приобрел поместье Здравнево в Белоруссии и превратился в настоящего помещика, занятого посевами, скотом, наймом рабочих. Может быть, на этом и закончился бы великий художник, если бы Репин не попытался примириться с семьей. Но совместная жизнь опять не задалась. Художник оставил имение жене и вернулся в Петербург, где окунулся в общество высшего света, с представителей которого писал портреты. Постепенно он усвоил их взгляды, стал стыдиться своих юношеских порывов и исканий, превращаясь в салонного живописца.
Друзья по Товариществу передвижников, в правлении которого Репин то состоял, то выходил из него, не узнавали его. Художник со свойственной ему резкостью и непредсказуемостью суждений и оценок постоянно раздувал конфликты. Часто он безапелляционно подвергал критике то, в чем еще и сам не разобрался, а потом чистосердечно каялся. Но обиды оставались. Друзей-художников становилось все меньше (хотя со Стасовым, Поленовым, Суриковым дружба почти не прерывалась), а вот среди знати – все больше. Какая-то раздвоенность поселилась в душе и творчестве Репина. Он больше не мог остановиться ни на одном интересном сюжете, испытывал чувство опустошенности. В этот период художник даже отошел от реализма: «Буду держаться только искусства и даже только пластического искусства для искусства», – писал он из Италии Стасову в 1893 г., и тот поспешил причислить его к ренегатам. Все чаще на мольберте Репина появлялись картины на ранее не любимые им библейские темы: «Голгофа», «Утро воскресения», «Неверие Фомы», «Отрок Христос в храме».
Столкновения с «мирискусниками» вернули живописца к реализму, и его «Дуэль» в 1897 г. на Международной выставке в Венеции «удивила всю Европу». Но Репину хотелось «хоть бы что-нибудь для сносного финала сделать». И все свое мастерство портретиста художник вложил в огромную, заказанную Александром II картину «Заседание Государственного совета» (1901-1903 гг.). Грандиозное многофигурное полотно, в исполнении которого помогали Б.М. Кустодиев и И.С. Куликов, заблистало нарядными мундирами более 80 сановников во главе с царем. Используя манеру односеансного письма, работая в стиле импрессионистов, Репин создает этюдные портреты, по силе впечатления превышающие даже саму картину. «Образы наших держиморд» потрясают своей реалистической правдой, особенно портрет Победоносцева. Лицо-маска иезуита, молитвенно сложенные руки, страшный облик уверенного в своей безмерной власти сановника. Каменное, холодное лицо человека, по чьей подсказке царь запретил показывать зрителям «Ивана Грозного». Каждый портрет – это приговор жестокости, равнодушию и хитрости. Картиной все были довольны. Очевидцы заседания считали, что она стала зеркальным отражением торжественного события, так «жизненны были лица, так характерны позы, так точно воспроизведена обстановка».
Репин недаром считался одним из лучших портретистов. Лучше всех удавались ему образы тех людей, которых он искренне любил и уважал. Живописец создал портреты целой плеяды ученых: Пирогова, Сеченова, Бехтерева, Менделеева, Павлова; русских писателей: Тургенева, Л. Толстого, Писемского, Горького, Короленко, Маяковского; композиторов: Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова; художников: Крамского, Сурикова, Куинджи, Ге, Васнецова, Серова; портреты Стасова и Третьякова, а также всех своих родных. По словам самого живописца, даже в «самый пустой портрет» он «вкладывал душу».
Можно только удивляться, как такой тонко чувствующий человека художник, непокорный и своенравный, мог связать свою жизнь (1900 г.) с сочинительницей банальных романов Натальей Нордман-Северовой и полностью подчиниться ее укладу жизни. Она в разное время была то боевой суфражисткой, то ярой феминисткой, потом проповедовала вегетарианство и самообслуживание. О ее обедах из сена ходили анекдоты. Все, что она делала, было нелепо, напыщенно, громогласно, но в то же время искренно. Илья Ефимович сносил все ее сумасбродства очень терпеливо, хотя жизнь в имении жены «Пенатах» в Финляндии была больше похожа на буффонаду, чем на творчество. Но Нордман противопоставила враждебности репинской семьи культ художника, подчинив этим Илью Ефимовича. За 15 лет совместной жизни мир для Репина сузился до размеров одной усадьбы в Куоккале. Он прекратил преподавание в академии (1894-1907 гг.), с удивлением и обидой осознав, что теперь «оказался плохим педагогом», хотя для многих был великим учителем. Он воспитал Грабаря, Малявина, Кустодиева, Остроумову-Лебедеву, Билибина и Серова.
Художник продолжал работать в привычном для него режиме и, когда в 1907 г. отказала правая рука, писал левой, закрепив палитру специальными ремнями на теле. Когда совсем запретили рисовать, он ухитрялся при помощи окурка и туши на клочках бумаги создавать самобытные портреты посетителей и друзей. Часто принимал гостей, но вздохнул свободно только после смерти Нордман. Свое бескорыстное отношение к Репину она доказала тем, что, заболев, покинула имение, уехала в Швейцарию и там умерла в больнице для бедных, отказавшись от его помощи. В «Пенатах» были созданы: «Иди за мною, Сатано!», «Черноморская вольница», «Голгофа», «Утро воскресения», «Финские знаменитости», «Гопак».
В усадьбе Репина хозяйствовала его любимая дочь Веруня, с алчностью распродавшая после смерти отца его драгоценные альбомы рисунков и эскизы. Она заставляла Илью Ефимовича подписывать каждый лист, чтобы продать подороже. Не радовала старика и дочь Надя, страдавшая тихим помешательством. Трагически сложились отношения с сыном Юрием, который был признан хорошим живописцем, но всегда находился в тени отца.
После революции в России 1917 г. Финляндия стала отдельным государством. Репин чувствовал себя человеком, которому «пойти некуда». Его звали в Россию, но, запуганный рассказами дочери о разрушенных музеях и «расправах» над его друзьями-художниками, Илья Ефимович вначале боялся ехать, а затем подвело здоровье. Репин скончался 29 сентября 1930 г. и был похоронен у «чугуевской горы» в парке «Пенат».
Время сгладило неудачи и колебания последних лет, оставив чистый образ ищущего правду художника, сохранив доходчивость репинского искусства и обессмертив его имя и творчество.
Рерих Николай Константинович (род. в 1874 г. – ум. в 1947 г.)
Выдающийся русский живописец и театральный художник, родоначальник исторического пейзажа, археолог, философ, мистик, писатель, общественный деятель, инициатор движения в защиту памятников культуры. Создатель Лиги культуры и международного пакта об охране научных и культурных ценностей. Вице-президент Всемирной лиги культуры, почетный президент более 80 культурно-просветительских и философских обществ во всем мире. Кавалер русских орденов Св. Станислава III степени, Св. Владимира, югославского ордена Св. Саввы I степени, ордена Почетного легиона Франции, королевского шведского ордена Полярной звезды I степени.
На полуобработанном камне серого гранита, установленном в древней долине Кулу (Индия), высечены слова: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сем месте 30 магхар 2004 г. Викрам эры, что соответствует 15 декабря 1947 г. Ом. Рам». На вопрос о том, кто такой махариши, один из современных индийских гуру-прорицателей ответил: «Это тот, чьи дела и мысли обгоняют устремления живущих с ним рядом, и поэтому эти дела и мысли после его ухода еще долго служат людям». Именно таким человеком и был Николай Константинович Рерих.
Автор более семи тысяч полотен, рассеянных по всему свету, он соединил реликвии далекой древности с предощущением грядущего. Он усматривал перспективы будущего в единении культур: европейской с ее строго логическим принципом мышления, развитием экспериментальной науки, активности в действии и восточной со свойственным ей вниманием к духовной жизни человека. В авангарде такого синтеза Рерих видел Россию, обладающую устойчивыми и многообразными традициями, связывающими Восток и Запад.
Рерих – явление исключительное в истории русской человеческой культуры. Недаром его творческое наследие часто вслед за Л. Андреевым называют «Державой Рериха». Она включает живописные произведения, стихи, прозу, громадные коллекции, выставленные сейчас во многих музеях мира, международные акты, научные труды в различных областях знания, вплоть до медицины и эрозии почв. И все же Николай Константинович – прежде всего художник, ибо вся остальная его деятельность пропущена им через призму чисто художественного восприятия мира. Видимо, поэтому и жизненный путь этого удивительного человека подобен легенде. Недаром еще при жизни о нем рассказывали самые невероятные истории. Находились очевидцы, которые будто бы видели, как от взгляда Рериха злой человек мгновенно седел, как от художника отскакивали пули во время нападения племени голоков в Тибете.
Рерих родился в старинной русской дворянской семье скандинавского происхождения. В переводе на русский «рерих» означает «богатый славой». Свою фамилию предки Николая Константиновича получили заслуженно. Рассказы отца и деда о семейной истории были полны саг и преданий о храбрых воинах, государственных мужах, епископах и тамплиерах. Известен случай, когда один из предков Николая Константиновича посмел противостоять Петру I, защищая церковь от разрушения, и победил.
Отец будущего художника, Константин Федорович, владел нотариальной конторой в Петербурге. В его доме часто бывали известные ученые и деятели культуры. И вполне естественно, маленький Николай впитывал атмосферу духовности, царящую в доме. Уже с ранних лет его привлекала древняя история. Мальчик с упоением читал о русских князьях и старинных обычаях. Его восхищала изысканная красота древних русских храмов. Лето семья часто проводила в отцовском имении Извара. Туда нередко наведывался археолог Л.К. Ивановский, занимавшийся раскопками в окрестностях. Благодаря ему мальчик страстно увлекся археологией, которая на всю жизнь стала для него источником творческого вдохновения, помогала, по его словам, проникнуть «сквозь вековой туман в тридесятое царство».
Рисовать Рерих начал довольно поздно, только в четвертом классе гимназии. С успехом выступая на ученической сцене, как-то раз Николай взялся сделать эскизы к театральным декорациям. Опыт оказался успешным, и с тех пор подросток все чаще стал обращаться к кисти.
Рерих-старший, надеясь, что сын унаследует его нотариальную контору, прочил его в юристы и косо смотрел на увлечения наследника. Но друг семьи скульптор М.О. Микешин сумел убедить Константина Федоровича в том, что Николаю следует рисовать серьезно и систематически. Видимо, поэтому после окончания гимназии семейный совет разрешил ему учиться в Академии художеств, правда, при условии поступления на юридический факультет университета.
Университетские занятия не ладились. Зато в академии дела шли успешно. Рериху посчастливилось. Его учителем в натурном классе был талантливейший преподаватель П.П. Чистяков. От него молодой художник перешел в класс к А.И. Куинджи, который предоставлял ученикам полную свободу действий. Рерих считал Куинджи «учителем не только живописи, но и всей жизни». Из академии Николай вышел на год раньше, не закончив курса, в знак протеста против отстранения учителя от педагогической деятельности. Однако звание художника Рерих все же получил. Его картина «Гонец. Восстал род на род» стала одной из лучших среди представленных на выставке в Академии художеств в 1897 г. и была куплена П.М. Третьяковым для его галереи за 800 рублей. Репродукцию этой картины в присутствии автора известный критик В. Стасов показал Л. Толстому. Тот долго рассматривал ее и сказал оробевшему художнику: «Случалось ли в лодке проезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований: надо рулить всегда выше – жизнь все снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет». Напутствие великого писателя Рерих помнил всю жизнь и свято следовал ему.
Оставив академию, молодой художник начал читать курс «Художественная техника в применении к археологии» в Археологическом институте и продолжил работу над серией картин «Начало Руси. Славяне» («Гонец» был задуман как первое ее полотно). Следующая картина серии «Сходятся старцы» привела в восторг зрителей и многих маститых художников – Сурикова, Васнецова, Верещагина. Но Стасов и Куинджи нещадно критиковали автора за незрелость рисунка.
В 1900 г. умер Константин Федорович. Николай продал нотариальную контору и решил всецело посвятить себя живописи, продолжив обучение во Франции в студии известного исторического живописца Фернана Кормона. Мэтр был прекрасным рисовальщиком и многое дал Рериху, оставляя за учеником право на самобытность. Именно здесь Николай Константинович выработал собственную живописную манеру, для которой была характерна свободная, обобщенная линия и четкий, исключающий дробную детализацию контур. Серия о славянах не была забыта. Во Франции художник создал картины – «Идолы», «Заморские гости», «Красные паруса. Поход Владимира на Корсунь» – яркие праздничные полотна, в которых были использованы элементы стиля народного искусства.
В 1901 г. Рерих вернулся в Россию. Еще в 1899 г. он познакомился с Еленой Ивановной Шапошниковой – правнучкой великого русского полководца М.И. Кутузова и двоюродной племянницей композитора М.П. Мусоргского. По последней линии род Шапошниковых, как и род Рерихов, восходил к Рюрикам. Елена отличалась необыкновенной красотой, обаянием и необычностью душевного склада. Девушка мечтала выйти замуж за человека искусства, чтобы всю жизнь вдохновлять его на высокие цели. Вскоре после приезда молодые люди обвенчались в церкви Петербургской академии художеств. Жену Рерих называл «Лада моя», «другиня, спутница, водительница и вдохновительница» и говорил, что его произведения должны носить два имени.
В 1902 г. у Рерихов родился первенец Юрий, а в 1904 г. – второй сын, Святослав. Их воспитанию Рерихи уделяли огромное внимание, проявляя замечательное уважение к ребенку как новой человеческой личности. На протяжении всей жизни в семье всегда царил дух взаимоуважения. Супруги сознательно заботились о том, что они называли «гигиеной духа», – стремились к отсутствию раздражения, озлобления, лжи, недоверия, всяких мелких недостойных мыслей, которые они считали порождением невежества.
В 1903-1904 гг. чета Рерихов совершила несколько длительных путешествий по русским городам. Они стремились изучить русскую архитектуру различных времен и школ, овладеть искусством реставрации старинных полотен, участвовали в археологических раскопках. Во время поездок на глаза часто попадались разрушающиеся или приходящие в запустение памятники старины. Николай Константинович выступал в печати с лекциями, призывая к их сохранению, начав таким образом беспримерную по масштабам деятельность в защиту памятников культуры. В эти годы Рерихи стали увлекаться и философскими учениями Востока, что со временем сделало Николая Константиновича не только оригинальнейшим художником, но и мыслителем.
Постепенно в его творчество вторгаются мрачные, тревожные мотивы. В славянской серии наряду с картинами «Городок», «Строят ладьи», «Бой Александра Невского с ярлом Биргером», написанными в прежней манере, появляется полотно «Зловещие» – стая ворон на фоне тусклого, серого пейзажа. Многие восприняли эту картину как некий символ эпохи и своеобразное предупреждение о неизбежных потрясениях, которые ждут Россию в будущем.
И действительно, уже в 1904 г. началась Русско-японская война. Больно ударила она и по Рериху. Его коллекция, представленная на выставке «Памятники русской старины», которую правительство предполагало закупить для Русского музея, но из-за войны не смогло этого сделать, была отправлена на Всемирную выставку в Америку и не вернулась оттуда. Рерих не нашел средств оплатить пошлины, и она была распродана с аукциона.
В 1906 г. Николаю Константиновичу предложили занять пост директора школы Общества поощрения художеств, слывшей, по словам Бенуа, «самой закостенелой» в России. За короткое время ему удалось совершить чудо. Помимо живописных классов здесь были открыты классы графики, чеканки, прикладного искусства. Классы керамики, резьбы, живописи по фарфору и фаянсу превратились в мастерские. Начали работу мастерские иконописи, рукоделия и ткачества. Первая же выставка школы стала сенсацией по весьма курьезному поводу. Градоначальник Петербурга пришел в ужас от количества обнаженной натуры и велел прикрыть «срамные места». Ведь выставку могли посетить дамы. Студенты прикрепили к своим рисункам юбочки и панталончики из цветной бумаги. Над градоначальником хохотал весь город.
К 1910 г. Рерих был уже статским советником, академиком, членом Академии художеств, совета Общества защиты и сохранения памятников искусства и старины, членом-учредителем Общества возрождения ремесел, многих других русских и зарубежных академий и обществ. Его энергия поражала. Он не только руководил школой, но и организовывал выставки, по-прежнему занимался раскопками, разыскивал экспонаты для музеев, часто выезжал за границу, правда, для лечения (его мучили бронхиты и пневмонии). Казалось, для живописи просто не могло оставаться времени. Но именно она продолжала занимать главное место в жизни художника. Количество написанных им картин к тому времени уже превышало тысячу. Наряду с многочисленными пейзажами, написанными во Франции, Голландии, Италии, Финляндии, появились пророческие картины, сулившие великие потрясения: «Крик змия», «Град обреченный», «Зарево», «Короны», «Дела человеческие» и др. М. Горький, видевший их, назвал художника «Великим интуитивистом».
Будучи председателем нового объединения «Мир искусства», Рерих, как и большинство «мирискуссников», занимался эскизами декораций к спектаклям. Среди них – «Пер Гюнт» Г. Ибсена, «Валькирия» и «Тристан и Изольда» Р. Вагнера, «Принцесса Мален» М. Метерлинка, «Весна священная» И. Стравинского, «Снегурочка» и «Псковитянка» Н. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А. Бородина. В этих эскизах, ставших законченными произведениями, наметилось стремление как можно глубже понять суть и особенности западной и русской культур, проникнуть во взаимосвязь между звуком и цветом.
В 1916-1918 гг. Рерихи жили в Карелии, климат которой был полезен для заболевшего тяжелым воспалением легких Николая Константиновича (он вынужден был даже составить завещание). Здесь семья встретила Октябрьскую революцию и оказалась отрезанной от родины.
Именно в это время Рерихами было задумано большое путешествие в Индию, Тибет и Монголию, чтобы подтвердить свою гипотезу о глубинном исконном родстве индийской и русской культур. Оба хотели приблизиться к сокровенным восточным знаниям о человеке и вселенной, к ашрамам священной страны.
Увлечение Индией для Николая Константиновича и его жены не было чем-то исключительным. Интерес к культуре Востока, в особенности Тибета и Индии, был свойственен российской интеллигенции. Среди поклонников этих культур были Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Горький и многие другие. На русский язык были переведены «Махабхарата», «Рамаяна», веды, работы крупнейших индийских философов Рамакришны и Вивекананды, произведения Р. Тагора. Но только Рерихи, как утверждают их последователи, смогли стать сотрудниками анонимной группы философов и Учителей и войти внутрь индийской духовной жизни. Эта группа имела достаточно древние корни индийской духовной традиции, тесно переплетенные с буддийской философией и связанные с философами-кшатриями, создателями «Упанишад», с лесными общинами бродячих проповедников. Рерихами владели забытые мысли древних мудрецов о неразрывности Человека, Планеты и Космоса, о фундаментальном единстве микро– и макрокосма.
Индия для Николая Константиновича, по его собственным словам, стала «больше, чем поле творческой деятельности». Эта страна была для него тем, что индийцы называют «кшетра» – «поле делания, жизненная битва».
Но прежде чем мечта стала явью, прошло несколько лет, полных кипучей деятельности. Длительные турне по Европе и Америке принесли Рериху всемирную славу. Его картины покупали музеи, коллекционеры, частные галереи. Его книги и статьи пользовались огромной популярностью, а лекции собирали множество поклонников. Но Индия продолжала тянуть к себе с необоримой силой.
В 1923-1928 гг. Николай Константинович вместе с женой и старшим сыном совершил знаменитое трансгималайское путешествие по Центральной Азии. Они преодолели 25 тысяч километров, не убоявшись пятидесятиградусных морозов и разбойных тибетских племен. На морозном плато Чантанг экспедиция, задержанная происками английской разведки, чуть не погибла. Несмотря на это, Рерихи с поразительным упорством собирали коллекции тибетских древностей, записывали сказания, изучали тибеткую фармакопею. В походных условиях рождались картины, сюжеты которых были пронизаны легендами и вековечной мудростью Востока: «Тень Учителя», «Сожжение тьмы», «Сокровища гор», «Стража Гималаев», «Агни Йога» и множество других, равных которым нет в истории живописи. Даже непосвященному ясна основная идея этих полотен, выраженная самим Рерихом: «Если может найти путник зарево далеких горизонтов – он устремится к ним… если он узнает, что где-то сверкают вершины наивысшие, он увлечется ими в одном стремлении… очиститься и вдохновиться для всех подвигов о добре, красоте, восхождении…»
Летом 1926 г. Рерихи прибыли в Москву. На родину они привезли письмо индийских Учителей, ларец с гималайской землей «на могилу нашего брата Махатмы Ленина» и серию картин «Майтрейа», в которой нашли отражения народные предчувствия наступающего нового века. Однако Луначарский, Чичерин, Крупская не придали этому жесту должного значения, проявив лишь вежливое любопытство. Руководители культуры советского государства не поняли значения сокровищницы индийского духа и мысли. Рерихи продолжили путешествие по Тибету.
В 1928 г. Рерих с семьей обосновался в Индии. В его жизни появились древняя долина Кулу, просторный дом под черепичной крышей, с большими гостиными и скрипучими половицами, вскоре ставший легендой. Местные жители хорошо знали Рерихов, а главу семьи с почтением называли Гуру – Учителем.
И снова – кипучая деятельность. Усилиями Рериха в 30 странах мира существовали более 80 объединений, музеев, просветительских организаций. Его стараниями был создан знаменитый Институт Урусвати для изучения индийской и тибетской культур. Здесь же родился и знаменитый Пакт Рериха.
Вопросы сохранения культурного наследия всегда волновали художника. Центральной проблемой его пьесы «Милосердие», написанной еще в 1917 г., было спасение знания, на которое обрушились темные силы. «Культура есть почитание Света», – писал он. В 1929 г. Рерих выступил с идеей международного договора по охране памятников культуры. В соответствии с ним в случае войны культурные учреждения и их коллекции должны «считаться нейтральными и как таковые будут под покровительством и уважаемы воюющими». В 1935 г. в Вашингтоне 21 страна Америки подписала пакт. А в 1954 г., уже после смерти автора, он лег в основу Гаагской конференции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Для обозначения культурных учреждений, подлежащих защите, Рерихом было предложено знаменитое Знамя мира – белое полотнище с тремя кругами, заключенными в красную окружность. Идея символа была подсказана иконой «Троица» Андрея Рублева.[2]
Долгие годы Николай Константинович стремился на родину. В 1947 г. он запросил визу на въезд в СССР. Уже был упакован багаж, куплены билеты. Но в начале лета Рерих тяжело заболел, а 13 декабря 1947 г. его не стало. По индийскому обычаю его прах был предан огню, а пепел рассеян с вершины горы.
При жизни и особенно после смерти художника и его сына Святослава имя Рериха стало объектом клеветы. Николая Константиновича называли агентом ОГПУ, шпионом Коминтерна, обвиняли в попытке проникнуть в Лхасу с целью убийства Далай-Ламы и свержения тибетского правительства, в стремлении создать на Алтае «масонское государство». Будто предвидя это, художник еще в 1931 г. писал: «…клевета создает такого рода выдумки, которые противоречат всякому здравому рассудку… клевета даже не утруждает себя пользоваться какими-либо фактами, она просто измышляет и бедно и нехудожественно».
В защиту Рериха прежде всего выступают его картины, непревзойденные по силе воздействия и глубине философского обобщения. Каждая из них призывает вспомнить слова их автора: «Помни о красоте! Не изгоняй ее облик из жизни и зови действенно других к этой трапезе радости!»
Рокотов Федор Степанович (род. в 1735 г. – ум. в 1808 г.)
Знаменитый русский художник-портретист. Академик живописи Петербургской академии художеств (1765 г.).
Один из наиболее авторитетных искусствоведов начала XX в. Н.Н. Врангель, исследуя творчество Федора Степановича Рокотова, писал, что оно окутано «притягательным ореолом тайны». Эти же слова можно отнести и к его биографии. «Важный барин», состоятельный домовладелец, один из учредителей московского Английского клуба долгое время считался выходцем из дворянской среды. Затем обнаружились материалы, свидетельствующие, что Федор Степанович родился в семье крепостных, принадлежавших князю П.И. Репнину. То, что талантливый мальчик благодаря покровителям быстро «выбился в люди» и стал знаменитым художником, в общем-то, никого не смущало. Удивляло одно обстоятельство: где и как он получил такое широкое образование и у кого и когда учился живописи?
Исследования последних лет обнаружили следующие подробности: Рокотов родился в с. Воронцово, близ Москвы, в 1735 г. и числился вольноотпущенным, хотя его брат Никита с семьей были крепостными. Вероятно, он был незаконным «хозяйским ребенком» и к крестьянской семье был только причислен, а вырос в барском доме. Тогда становится понятна опека над ним со стороны семейств Репниных, Юсуповых, Голицыных и главного покровителя – И.И. Шувалова, в доме которого юноша и обучался живописи под руководством Пьетро Ротари. Здесь же около 1758 г. им была написана картина «Кабинет И.И. Шувалова».
Сопоставляя многочисленные факты, кандидат искусствоведения И.Г. Романычева с уверенностью утверждает, что «со средины 1750-х гг. Рокотов находился в Петербурге и обучался, очевидно, в Гарнизонной школе, а возможно, в самом Кадетском корпусе, как классный ученик или приватно обучающийся… Но так или иначе, он был тесно связан со Шляхетным Кадетским корпусом». В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что большинство портретируемых Рокотовым были выпускниками этого заведения.
К ранним его работам относится «Портрет неизвестного молодого человека в гвардейском мундире» (1757 г.), который многими исследователями считается автопортретом. Изображенное на нем лицо с мальчишескими пухлыми губами может показаться по-юношески беспечным, если бы не серьезный взгляд живых, светлых, очень внимательных глаз, выражающих большое достоинство и говорящих об уме и немалой энергии. И хотя рисунок здесь еще довольно робок, а живопись достаточно суха, но молодой художник сумел передать личные качества человека, его живой конкретный образ. Этот портрет – только пролог к дальнейшему творчеству Рокотова. К наиболее ранним работам примыкают портреты великого князя Петра Федоровича, графини М.Е. Шуваловой и графа П.Б. Шереметева, а также созданная по рекомендации М.В. Ломоносова копия с оригинала Л. Токке для мозаичного портрета императрицы Елизаветы Петровны.
Так что к 1760 г., когда «по словесному приказанию» И.И. Шувалова, первого президента Академии художеств, Рокотова зачислили в ее стены, он был уже подготовленным мастером, о котором знали при дворе. Два года спустя за портрет вступившего на престол Петра III художник получил звание адъюнкта, в обязанности которого входило «смотрение за классами и над учениками, наблюдая порядок и чистоту поведения, и опрятность».
Положение Рокотова в академии укрепилось после его участия в торжествах по случаю восшествия на престол Екатерины П. Исполняя коронационный портрет (1763 г.), художник соединил почти геральдический по своей отточенности профиль императрицы с общим картинным решением композиции. Работа принесла Рокотову большой успех и признание. Живописцу позировал фаворит императрицы Г.Г. Орлов (1762-1763 гг.). Портрет этого румяного красавца в эффектном парадном мундире, не отличающегося богатым внутренним содержанием, очень близок оригиналу. А в камерном портрете его брата И.Г. Орлова (I половина 1760-х гг.) проступают черты умного расчетливого человека, сумевшего, и оставаясь в тени, оказывать влияние на государственные дела.
Современник Рокотова академик Я. Штейлин писал, что уже в начале 1760-х гг. у художника в квартире было «сразу около 50 портретов». Но, несмотря на обилие и срочность заказов, Федор Степанович, по его собственным словам, «никогда скорее месяца не работывал что-нибудь с натуры», тем более что его живописная манера требовала «засушивать краски», так как писал он многослойно. В конце работы живописец наносил лессировочные мазки, заставлявшие изображение «ожить». Выразительное свечение красочных слоев, подвижность и легкость мазка поражали современников. Н.Е. Струйский свидетельствовал, что художник писал «почти играя», доводя до совершенства изображение лица и окончательную отделку второстепенных деталей, выполненных учениками.
К московскому периоду относятся многочисленные репрезентативные портреты, и среди них выделяется парадное изображение семилетнего сына Екатерины II – Павла Петровича (1763 г.). В его лице Рокотов стремился показать внутреннюю жизнь мальчика, облеченного будущей властью. Но весь блеск живописного мастерства художника раскрылся в камерных портретах (И.Л. Голенищева-Кутузова, А.Н. Сенявина, Н.А. Загряжского, А.И. Бибикова, А.М. Дондукова-Корсакова; все в I половине 1760-х гг.).
Логическим завершением творчества раннего периода стал портрет поэта В.И. Майкова (ок. 1765 г.). Здесь Рокотову удалось достичь гармонии разноречивых черт характера этого талантливого человека: барин-сибарит, ленивый, добродушный, насмешливый умница, острослов и циник, осознающий свое место в литературе. В его лице, полном снисходительной иронии, есть что-то самодовольное и «плотоядное». Изображение слегка подчеркнуто рокайльной, характерной для всех работ Рокотова дымкой, создающей какую-то недосказанность и непредсказуемость прочтения образа.
В 1765 г. уже всеми признанный художник наконец-то получил звание академика, правда, для этого ему пришлось написать вольную копию с мифологической картины Луки Джордано «Амур, Венера и Сатир» (1763-1765 гг.), так как «портретные в академии были не в чести». Но спустя год Рокотова обошли званием адъюнкт-профессора. Это послужило главной причиной, по которой он покинул Петербург, тем более что новый президент академии И.И. Бецкой пытался ограничить его время на творчество. Военная карьера оказалась для Рокотова более надежной: еще в 1762 г. он был зачислен в Кадетский корпус в чине сержанта и успешно соединял службу и живопись. В начале 1780-х гг., дослужившись до ротмистра – звания, дававшего право на дворянство, – он оставил армию.
В Москву Рокотов переехал в 1766-1767 гг. Выполнив официальный последний заказ академии – портреты опекунов Московского воспитательного дома (И.Н. Тютчев, С.В. Гагарин, П.И. Вырубовский; все в 1768 г.), художник полностью отдался искусству. И хотя академические круги считали, что Рокотов «за славою стал спесив и важен», он написал «всю Москву». Здесь, вдали от двора, интеллектуальная жизнь била ключом и время с конца 1760-х гг. до начала 1790-х гг. стало периодом наивысшего расцвета портретного мастерства художника. И хотя часто под картиной приходится читать «неизвестный» или «неизвестная», видно, что эти лица близки ему по духу («Портрет неизвестного в зеленом кафтане», «Портрет неизвестного в синем кафтане», «Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет неизвестной в белом платье с зелеными лентами»; все в 1770-е гг.).
Полотнам, созданным Рокотовым на рубеже 1760-1770-х гг., свойственна лирическая неопределенность, рассеянная мечтательность выражения лиц (портреты Воронцовых, А.М. Римского-Корсакова, Н.П. Румянцева). Именно в жанре интимного портрета, стремясь отобразить внутреннюю жизнь человека, художник создал глубоко идеальный, положительный образ современника – одного из крупнейших русских поэтов и драматургов XVIII в. А.П. Сумарокова (1777 г.). Рокотов пишет пожилого человека со всеми сановными регалиями действительного статского советника. Но за внешней парадностью он не скрывает тревожную неудовлетворенность личности огромной творческой силы, колкую язвительность и неуравновешенную натуру поэта, столь дорого обходившуюся ему в жизни.
С другого овального портрета на зрителя смотрит спокойный, уверенный в себе знаток литературы и страстный библиофил, князь Д.П. Бутурлин (1793 г.). Реализм и конкретность характеристики, как и виртуозность живописной манеры, присущи и портрету талантливого дипломата А.И. Обрескова (1777 г.). Его изображение, построенное на контрасте оплывшего желчного лица и ярких проницательных глаз, является образцом внутренней собранности и дисциплины, поражает «найденностью» и выразительностью образа.
Рокотов так великолепно передавал характер портретируемых еще и потому, что он поддерживал дружеские связи не только с главами семейств, но и со всеми домочадцами. Так создаются портреты Воронцовых, Обресковых, Бутурлиных, Суровцевых, Шереметевых, Остерманов, Струговщиновых. Интересен в сочетании характеров парный портрет супругов Струйских. В Николае Еремеевиче сочетались замысловатое чудачество, благородные порывы, варварская жестокость к крепостным и фанатичная страсть к литературному творчеству. Конечно, больше всего он любил себя в поэзии и даже завел собственную типографию, чтобы печатать свои опусы, и зал искусств «Парнас». Струйский преклонялся перед талантом Рокотова, собирал его произведения, а в мастерской художника обучался его крепостной А. Зяблов. Вот таким, «иступленным и диким» в своих порывах, с горящим «восторгом и жаром» взглядом и кривой улыбкой, он смотрит… мимо зрителя. Фигура, лицо и глаза обращены в разные стороны, что усиливает лихорадочность и истеричность образа. Портрет его супруги Александры Петровны строится на плавных дугообразных линиях и поражает своей сдержанностью и гармонией. Это эталон женских портретов – «рокотовская дымка», «рокотовское выражение чуть прищуренных глаз», «по-рокотовски тающие черты лица». Видно, что сам художник находился под обаянием личности и красоты Струйской. Тончайшая переливчатая пепельно-палевая цветовая гамма, оживленная нежно-розовыми и желтыми тонами, словно вторит оттенкам душевного состояния женщины, недоговоренным, тайным чертам ее натуры. Недаром в стихотворении Н. Заболоцкого «Портрет», посвященном этому пленительному образу, так много неуловимости и зыбкости:
«Ее глаза – как два тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза – как два обмана, Покрытых мглою неудач».Женские портреты кисти Рокотова загадочны и трепетны. В них «души изменчивой приметы» освещают лица и взгляды изнутри. Словно чарующее волшебное видение возникает из дымки жемчужно-розовых тонов исполненная непреходящей красоты юности В.Н. Суровцева; из серебристого каскада пенных кружев, как туманная мечта – П.Н. Ланская. Неуловимая мимика лица и взгляд удлиненных темно-голубых глаз создают какую-то отчужденность между зрителем и портретным изображением княгини Е.Н. Орловой.
Среди всех женских портретов Рокотова (Д.И. Уваровой, Е.В. Санти, А.М. Писаревой, Е.Д. Волконской, А.А. Долгоруковой) «Портрет В.Е. Новосильцевой» (1780 г.) явственнее всего представляет тип женщины, которая «может сметь свое суждение иметь». С этими произведениями в русском искусстве впервые появился образ, одновременно исполненный женской прелести, сознания своего достоинства, внутренней силы и стойкости. И не случайно творчество Рокотова связывают с сентиментализмом, провозгласившим превосходство чувств над разумом.
Как тонкий психолог, художник передает чувственный, непосредственный мир детства (И.И. Барятинский, П.А. Воронцова) и предельно деликатен в изображении людей преклонного возраста («Портрет неизвестной в белом чепце», 1790-е гг.). В мудром спокойном взгляде А.Ю. Квашниной-Самариной просматривается большой жизненный путь, наполненный радостями и разочарованиями, приобретениями и потерями. Неожиданно резкую и трезвую оценку неприглядной старости вносит портрет зловредной старухи Д.Г. Ждановой, к тому же написанный в неприятно сухой, жесткой, мрачной, нехарактерной для Рокотова манере исполнения.
Художник, который первым внес в портретное искусство поэтичность и лиризм, воспел человеческое благородство и душевную красоту женщины, прожил свою жизнь в одиночестве. Он был окружен славой, не знал отбоя от заказчиков, жил в полном достатке. Еще в 1776 г. Рокотов выхлопотал освобождение от крепостной зависимости для детей своего покойного брата «Ивана Большого да Ивана Меньшого», дал племянникам хорошее образование, что позволило им сделать военную карьеру. Сведения о последних годах жизни художника очень скупы. Со II половины 1790-х гг. он уже не мог работать из-за сильно ослабленного зрения и очень быстро был забыт, а ему на смену пришли талантливые художники Д.Г. Левицкий и В.Л. Боровиковский. Рокотов умер 24 декабря 1808 г. и был похоронен племянниками на кладбище Ново-Спасского монастыря. Смерть его прошла незамеченной современниками, и могила со временем затерялась.
Признание вернулось к Рокотову на рубеже XX в., когда вновь осознали, как велик этот мастер – художник, сумевший виртуозно перенести на полотно не просто образ человека, но и все многообразие тончайших чувств и ощущений его души.
Рублев Андрей (род. ок. 1360-1370 гг. – ум. ок. 1430 г.)
Выдающийся русский иконописец, крупнейший мастер московской школы живописи.
Мудрость можно выразить не только словом. Визуальный образ порой красноречивее философского трактата. Особенно это касается древнерусской иконописи. Вглядитесь в строгие лики святых, загляните в их глаза. Ведь перед вами не просто предметы культового поклонения. На выцветших досках старинных икон, на обветшалых фресках древних монастырей – тайны мироздания, раскрытые древними мастерами, их видение Бога, Вселенной, людей. Недаром многие ставят иконописца Рублева в один ряд с великими философами. Знаменитый русский скульптор Эрнст Неизвестный как-то сказал: «Рублев никогда не читал лекций по философии, не писал ни строчки. Он даже не говорил, так как дал монашеский обет молчания. Почему же он философ? Да потому, что в России было такое понятие: «умозрение в красках». То есть высокое искусство рассматривалось как одна из форм не только познания мира, но и создания структур, равных философии».
Но, к сожалению, о жизни талантливого русского иконописца, жившего 600 лет назад, известно куда меньше, чем о многих философах Древнего мира. Немногочисленные факты его биографии по крупицам собраны из летописей и работ древнерусских писателей Пахомия Логофета и Иосифа Волоцкого. Родился Рублев между 1360 и 1370 гг. В конце XIV в. он был послушником в Троицком монастыре. В какой семье вырос, почему ушел от мирской жизни – на эти вопросы мы, наверное, уже никогда не получим ответов.
«Кто книги пишет, кто книгам учится, кто рыболовные сети плетет, кто кельи строит. Одни дрова и воду носят в пивоварню, другие хлеб и варево готовят», – так писал о монастырях современник Рублева. Послушнику Андрею досталась особая обязанность – научиться выражать церковную мудрость на языке красок. Троицкий монастырь являлся неисчерпаемым источником этой мудрости. Здесь жил когда-то известный мыслитель своего времени Сергий Радонежский, «кроткий душою, твердый верою, смиренный умом». Возможно, Рублев еще застал старца в живых. Но и после смерти Сергия в монастыре царила созданная им атмосфера нравственной чистоты, трудолюбия, сердечности. Молодой художник, как губка, впитывал моральные устои Радонежского. Позже это нашло отражение в его работах – таких светлых и человечных.
Однако, оставаясь в обители Сергия, Андрей Рублев не мог совершенствовать свой талант. Его влекла Москва, новый центр русских земель, который с каждым годом становился все сильнее. Здесь строились храмы, со всей Руси (да что там Руси – из самой Византии!) съезжались зодчие, иконописцы. Здесь было у кого поучиться. Возможно, поэтому в 1400-1405 гг. Рублев оставил Троицкий монастырь и перебрался поближе к Москве, в Андронникову обитель. Здесь его заметил великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. Иконописца пригласили принять участие в росписи Благовещенского собора Московского Кремля. Рублеву выпало работать вместе со знаменитым Феофаном Греком и неким старцем Прохором из Городца. Причем в летописи, повествующей об этой росписи, имя Рублева, как самого младшего по возрасту, стоит последним.
Шанс поработать рука об руку с самим Феофаном, приехавшим из Кафы, корифеем иконописи, был большой удачей для Андрея. Он мог многому научиться у мастера, которого Епифаний, один из просвещенных писателей того времени, называл «преславным мудрецом, зело философом хитрым». Каждый его штрих смел и точен (его манеру именуют живописной скорописью), созданные им образы величавы, суровы, горды. Но Андрей, воспитанный на духовных традициях Сергия Радонежского, напротив, отказывался от присущей феофановскому письму доли драматизма и суровости. Он стремился к гармонии, спокойствию, ясности.
Скорее всего, Рублеву, Прохору и их помощникам довелось писать в Благовещенской церкви фигуры апостола Петра, архангела Михаила, мучеников Дмитрия и Георгия и так называемые «праздники»-иконы, посвященные великим событиям в истории христианской церкви. Трудно с уверенностью сказать, какие из икон и фресок принадлежат кисти Рублева. Вполне возможно, что он создал «Преображение». Это торжественная, светлая икона, в которой преобладают золотистые, розовые краски, яркая киноварь. Композиция очень гармонична: силуэт Христа вписан в круглую розетку, полукруг образуют и фигуры апостолов. Стремление к кругу, как к наиболее совершенной геометрической фигуре, будет характерно и для многих более поздних работ Рублева.
В начале XV в. мастером были созданы также росписи Успенского собора близ Звенигорода. Здесь он работал вместе со старшим соратником и другом Даниилом Черным. Неизвестно, когда именно Рублев получил приглашение от князя Юрия Звенигородского – до или после работы в Московском Кремле. Княжий выбор пал на Андрея не случайно. Юрий был крестником Сергия Радонежского, братом великого князя Василия Дмитриевича и о талантливом живописце, по-видимому, слышал давно. Росписи храмов в то время выполняли целые артели художников. Потому, хотя влияние Рублева ощущается в большинстве звенигородских фресок и икон, однозначно рублевскими исследователи считают только фрески с изображением Флора и Лавра. Эти росписи отличаются поразительной геометричностью. Исследователь творчества Рублева М. Алпатов, описывая фигуру Лавра, замечает: «Его голова с широкими прядями волос образует пирамиду, и эта пирамида соответствует пирамидальности всей полуфигуры. Это придает образу большую устойчивость, тем более что круг медальона повторяется в круглом нимбе».
Среди ранних произведений Рублева – иллюстрации к «Евангелию Хитрову» (рукопись названа по имени позднейшего владельца). Андрей выполнил миниатюры, изображавшие евангелистов и их символы, заставки и инициалы в виде фантастических животных. Работая над рукописью, он проявил много фантазии и мастерства: даже чудища в его исполнении грациозны и совсем не страшны. Самой завораживающей миниатюрой в «Евангелии Хитровом» считается изображение ангела, символа евангелиста Матфея. Здесь мы снова сталкиваемся с кругом. Внутри него шагает крылатый юноша. Композиция миниатюры как бы гласит: все возвращается на круги своя. Эти иллюстрации близки к византийской традиции, но в отличие от стремительных образов греческих мастеров у Рублева все очень уравновешенно. Его святые живут не внешней, а внутренней, духовной жизнью.
«В лето 6916 майа 25 начата быть подписывати великая и соборная церковь Пречистыя Владимирская повелением великого князя Василия Дмитриевича, а мастеры Данила иконописец да Андрей Рублев», – гласит древняя летопись. Действительно, в 1408 г. Даниил и Андрей были приглашены во Владимир. Здесь прикосновения их кистей ждали стены Успенского собора – огромного храма, возведенного еще до монгольского нашествия. Из владимирских работ Андрея Рублева и Даниила Черного наибольшую известность получили фрески, изображающие Страшный суд. Эта часть росписи покрывала своды, столбы и стены западной части храма, так что только выходя из собора вдохновленные молитвой прихожане обращали внимание на широкую панораму Страшного суда. Весь цикл представляет собой не отдельные иконы, объединенные общей темой, а целостный мир, сродни созданному Данте в «Божественной комедии». Вот павший на колено пророк Даниил, которому ангел указывает на фреску, изображающую суд. Вот апостол Петр, ведущий праведников в рай. Вот сонмы трубящих ангелов… Изображая Апокалипсис, Рублев не пытался никого напугать, у него нет назидательности, свойственной византийским мастерам. Роспись Рублева дает зрителю надежду на избавление, на новую жизнь.
В декабре 1408 г. на Русь двинулись полчища татарского хана Едигея. Его войска разорили Серпухов, Переславль, Нижний Новгород, Ростов, подошли вплотную к Москве. Был уничтожен Троицкий монастырь. В 1410 г. нападению подвергся Владимир. Успенский собор был разорен. Для русского народа наступили тяжелые времена голода, разрухи, мора. Следы Андрея Рублева в этот период теряются. Возможно, он спасался в Андрониковом монастыре. А может быть, иконописец отправился в более безопасные северные края. Так или иначе, но после нескольких лет напряженного труда последовали почти два десятилетия молчания.
В 1422 г. началось восстановление Троицкого монастыря. Вместо сгоревшего деревянного храма был построен белокаменный. Для украшения нового собора игуменом Никоном были приглашены Андрей Рублев и Даниил Черный.
Для иконостаса Троицкого собора Рублевым была написана икона, которую все исследователи безоговорочно считают вершиной творческого наследия мастера. Речь идет о знаменитой «Троице». К Аврааму и его жене Саре явилось трое странников, предрекших престарелой женщине рождение сына. Пророк, догадавшись, что перед ним божество, приготовил для гостей угощение. Таков библейский сюжет иконы. Рублев изображает странников в виде трех ангелов, склонившихся над чашей. Иконописец попытался выразить в их образах богословское представление о триединстве Бога. Во многом это было достигнуто потрясающей композиционной выверенностью. Рублев вновь обращается к кругу. Его образуют фигуры ангелов, склонившихся друг перед другом. Круговое движение охватывает и все неодушевленные предметы – поникшее дерево, повторяющее наклон головы среднего ангела, горку, соответствующую линии спины правого. Левый ангел несколько напряжен, что подчеркивается высоким зданием за его спиной. Здесь все перекликается со всем. «Часть подобна целому», – так сформулировал основной композиционный закон картины М. Алпатов. Яркие, жизнерадостные краски иконы далеки от мрачного феофановского колорита. Многие считают, что Рублев в выборе цвета руководствовался впечатлениями от солнечного летнего дня в средней России – переливы золотых нив с синими вкраплениями васильков. Трудно выразить словами непостижимую красоту «Троицы». У этой иконы есть голос. Она звучит как симфония надежды.
Вернувшись из Троицкой обители, Андрей и Даниил приступили к росписи Андроникова монастыря. Но закончить ее не успели. Около 1430 г. Рублев умер. Не намного пережил его и Даниил. Согласно преданию, незадолго до смерти к нему явился с того света Андрей, «в радости призывающий его в рай». Облик друга был «светел и радостен». Как и все произведения Рублева.
Саврасов Алексей Кондратьевич (род. в 1830 г. – ум. в 1897 г.)
Выдающийся русский художник-пейзажист, зачинатель демократического направления в русской пейзажной живописи.
…1883 год. В одном из московских трактиров над пустым стаканом склонился осунувшийся человек с неопрятной седой бородой. Этот чудак хорошо известен в округе: рисует картины и продает их… за штоф водки. Жизнь его близится к закату. Позади – слава и признание. Впереди – бедность, болезнь, смерть. Таков горький итог жизни и творчества одного из величайших российских пейзажистов Алексея Кондратьевича Саврасова. Как далек он был от весны 1830 г., когда в сонном Замоскворечье в не слишком богатой купеческой семье родился второй сын Алеша Соврасов (именно так, через «о» первоначально писалась фамилия будущего художника).
Талант его проявился уже в детстве. Мальчик рано научился рисовать гуашью, карандашом, акварелью. И, как истинно купеческий сын, сумел извлечь из своего умения выгоду. Выполненные двенадцатилетним Алешей модные картинки из заморской жизни и подражания Айвазовскому пользовались спросом у местных перекупщиков. Увлечение мальчугана, однако, дома не поощрялось, «юному любителю прекрасного» частенько доставались подзатыльники. Отец хотел видеть сына солидным купцом, а не бедным художником.
В 14 лет Алеша поступил было в Училище живописи, но вскоре был вынужден оставить учебу: заболела чахоткой мать, да и дела отца шли не лучшим образом. И лишь в 1848 г. юноша снова был зачислен в пейзажный класс. Его первым педагогом стал Карл рабус, художник-«видописец». Человек широкого кругозора, он был талантливым воспитателем. Хотя учебная программа училища и не включала общеобразовательных предметов, Рабус сумел приобщить своих учеников к современным знаниям. Талант Саврасова сразу заметили. В отчете Московского художественного общества за 1848 г. он был признан учеником, предоставившим лучшие эскизы. А ведь Алексей не проучился еще и года!
В 1849 г. Саврасова и двух его товарищей ожидала первая творческая командировка. На средства мецената И.В. Лихачева юноши отправились на Украину для исполнения «видов с натуры». Привезенные с юга работы молодого художника отличали новизна, смелость творческой мысли, профессиональные навыки.
Стремясь как можно глубже освоить технику пейзажа, который в то время оставался как бы на обочине большого искусства, Саврасов не находил примера для подражания среди старших современников. Свободу от канонов академической живописи, тонкое восприятие природы он перенимал из работ уже умерших художников – М.И. Лебедева и В.И. Штернберга. Это не было слепым копированием. Уже тогда зарождался особый, саврасовский стиль.
Удачи одна за другой сопутствовали начинающему пейзажисту. В 1850 г. за картину «Вид Московского Кремля при луне» (она до сих пор не найдена) ему было присвоено звание неклассного художника. А в 1854 г., когда Саврасову было всего 24 года, его творчеством заинтересовалась августейшая особа. На проходившей выставке работ воспитанников училища президент Академии художеств великая княгиня Мария Николаевна заметила незаурядное мастерство, присущее работам Саврасова. Она приобрела картину «Степь с чумаками вечером» и даже пригласила молодого художника на свою дачу под Петербургом для написания «видов с натуры». Итогом поездки стали два полотна – «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» и «Вид в окрестностях Ораниенбаума», многочисленные рисунки и… звание академика.
Хотя петербургские пейзажи и принесли Саврасову славу, его излюбленной темой оставались окрестности Москвы: церквушки, деревеньки, бескрайние поля. Пейзаж Саврасова был не просто изображением природы. Люди, птицы, животные – художник буквально населял свои картины действующими лицами, умело избегал пасторальности.
Через два года Алексей женился. Его выбор пал на девушку немецкого происхождения Аделаиду Софью Герц. Мало того, что Софи была на несколько лет старше жениха, ее железный характер резко контрастировал с мягкостью и покладистостью Саврасова. Дочь богатого купца, она с юности стремилась к независимости от родителей, зарабатывала на жизнь частными уроками. Молодожены поселились в казенной квартире при училище, где Саврасов вел класс живописи и перспективы.
Среди его учеников были Исаак Левитан, Сергей и Константин Коровины, Михаил Нестеров – те, кто впоследствии определил лицо русской живописи XIX – начала XX в. Саврасов был прекрасным педагогом. Не имея никакой особой системы преподавания, он воодушевлял учеников собственным примером, учил их чувствовать красоту природы. Как вспоминают современники, «с первыми весенними днями вся мастерская спешила вон из города и среди тающих снегов любовалась красотой пробуждающейся жизни». Цветущий дуб становился событием для всего класса.
Тепло вспоминая о годах своей учебы у Саврасова, К. Коровин писал: «Алексей Кондратьевич был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко…»
Этим другим миром была для Саврасова природа, в которой он видел романтику, тайну, поэзию – все то, чего ему так не хватало в реальной, обыденной жизни. Даже в годы признания и относительного благополучия художник ощущал всю зыбкость своего положения. И видимо, потому, будучи наставником для многих, Саврасов так и не стал учителем для своей старшей дочери Веры, проявлявшей незаурядные способности к рисованию. «Отец не хотел учить меня рисовать или лепить, находя, что художники обречены на полуголодное существование, даже имея талант. Этот взгляд оправдался в нем самом», – вспоминала Вера.
Но тогда в жизни самого Саврасова еще ничто не предвещало грозы. Художник с головой окунулся в культурную жизнь Москвы. Он был очень дружен с Перовым, одним из инициаторов создания Товарищества передвижных выставок. На чашку чая к Саврасову заходили Третьяков, Боткин, Пукирев.
Весной 1862 г., благодаря работе в Обществе любителей художеств, Саврасов впервые отправился за границу. Лондон, Копенгаген, Берлин, Дрезден, Париж, Мюнхен – Алексей Кондратьевич наслаждается работами ведущих английских и немецких мастеров, а заодно и рисует. Однако привезенные им из-за границы картины – «Озеро в горах Швейцарии» и «Вид в Швейцарских Альпах» – не имели успеха у критиков. Рисуя красоты других стран, Саврасов все-таки оставался прежде всего поэтом русской природы.
Его «Лосиный остров» в 1870 г. был удостоен первой премии на конкурсе московского Общества любителей художеств. «Так смотреть на природу умеют только глаза поэта или художника», – писали о картине в прессе. «Лосиный остров» принес Саврасову не только славу, но и деньги: полотно сразу же было приобретено Третьяковым. Это позволило художнику поправить пошатнувшееся материальное положение и воплотить свой давний замысел: отправиться на Волгу. Вот где истинно российские пейзажи! Саврасов принялся за работу, как голодный за еду. Рисовал все: широкие панорамы Волги и бабьи хороводы, тихие пристани и сценки из жизни бурлаков. Но в столице его уже ждал удар, от которого художник не скоро смог оправиться: «вследствие малого числа учеников, изучающих пейзажную живопись», его лишили казенной квартиры. Истинная причина, конечно, была не в количестве студентов. Саврасову не простили подписи под дерзким письмом, направленным в Совет художественного общества. Речь в нем шла об устаревших методах преподавания в Училище живописи.
Вслед за этим в семье Саврасовых начались постоянные ссоры. За 600 рублей жалованья в год снимать квартиру и кормить детей было невозможно. «Железная» Софи снова, как в девичестве, принялась давать уроки. Жизнь постепенно налаживалась, но рана в душе Саврасова так и не зажила. Он начинает пить, и заботливая жена увозит его от беды в Ярославль. Смена обстановки и тихая провинциальная жизнь действительно возымели благоприятное действие на художника. Он успокоился, здоровье пошло на поправку. Здесь Алексей Кондратьевич много рисует, постоянно путешествует. Весна, любимое время года художника, принесла ему вдохновение. Родилось полотно, сделавшее Саврасова знаменитым, – «Грачи прилетели» (1870 г.).
«Окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, тающий снег и на первом плане несколько березок, на которых уселись прилетевшие грачи, – и только… Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу», – так писал о картине учителя Исаак Левитан. Но на московской выставке Общества любителей художеств в 1871 г. полотно осталось почти незамеченным. И лишь на экспозиции Товарищества передвижных выставок в Петербурге «Грачи» стали событием. Правда, передвижники, высоко оценивая картину, отнеслись к ней с некоторым снисхождением. Ведь здесь не было идейности, изображения тяжелого положения народа. Лишь немногие смогли по достоинству оценить это замечательное полотно. Возмущаясь близорукостью и равнодушием своих коллег, художник-передвижник Лев Каменев говорил Константину Коровину: «Какие же им картины нужны? Саврасов написал "Грачи прилетели". Ведь это молитва святая. Они смотрят, что ль? Да что ты, Костя, никому не нужно».
Нужно, как всегда, оказалось Третьякову. Он купил «Грачей», опередив саму императрицу, которой досталась лишь копия шедевра.
Жизнь Саврасова постепенно вошла в прежнее русло. Он снова преподает, пишет Волгу («Разлив Волги под Ярославлем», 1871 г.; «Волга. Дали», «Село Болгары», 1872 г.; «Оттепель», 1874 г.), Москву («Проселок», «Суворовская башня», 1872 г.; «Вид на Московский Кремль. Весна», 1873 г.). Его работы отличает романтическое восприятие природы и в то же время глубокое знание реальной жизни. Каждое полотно наделено особым настроением. Зачастую – мрачным. Ведь судьба, преподнося Саврасову редкие подарки, особенно не скупилась на беды. К этому времени он уже потерял троих детей. Печальной повестью называют его картину «Могила на Волге», замысел которой связывают со смертью в 1871 г. его новорожденной дочери.
Семейная жизнь художника по-прежнему не ладилась. Несмотря на славу и признание, денег не хватало. Не выдержав полуголодного существования, «железная» Софи сломалась. Она забрала детей и уехала к сестре в Петербург. Потеря семьи стала началом конца художника. Он снова начал пить, совсем опустился, его уволили из Училища живописи. Больной и неухоженный Саврасов жил в меблированных комнатах, перебиваясь продажей рисунков, написанных нетвердой пьяной рукой. За них известному художнику давали порой не больше, а то и меньше, чем в детстве купеческому сыну. Круг его знакомых теперь составляли бродяги да горемыки, такие же, как и он, талантливые неудачники.
В последние годы жизни у Саврасова появляется новая спутница, Евдокия Моргунова, ставшая его гражданской женой и матерью двоих детей. Но нищета и пьянство делали свое дело: художник терял зрение. Едва различая форму предметов, он все же продолжал рисовать и даже достиг больших успехов в графике. К 50-летию творчества Саврасова был издан альбом его рисунков, ставший для художника последним напоминанием о минувшей славе.
Он умер поздней осенью 1897 г., когда до его любимой весны было так далеко… Улетали грачи, унося с собой душу «одного из самых глубоких русских живописцев».
Самокиш Николай Семенович (род. в 1860 г. – ум. в 1944 г.)
Выдающийся мастер батальной и исторической живописи, анималист и замечательный книжный график. Академик живописи, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937 г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1940 г.). Лауреат Сталинской премии (1941 г.).
«На меня оказывала чарующее впечатление красота и роскошь летнего утра, жара полудня и заход солнца. Я любил осень, мой взор радовал цвет кленовых листьев, его оранжевые, желтые и красные тона. Зима поражала меня своей белизной мягкого снежного покрова. Во всем я видел непонятную, но чарующую красоту. Часто бабушка спрашивала меня, почему я стою и смотрю в пространство, чего я, естественно, объяснить не мог. Мне хотелось запечатлеть эти образы и дивные цвета в памяти», – вспоминал на склоне лет Николай Семенович, который, несмотря на преклонение перед красотой природы, пейзажистом не стал, а выбрал для себя многотрудные батальный и исторический жанры. Но и это решение стало отголоском детских впечатлений.
Николай родился 25 сентября 1860 г. в Нежине Черниговской губернии в семье почтальона. Бедность вынудила родителей отдать старшего из пятерых детей на воспитание деду по матери Дмитрию Ивановичу Сенику, проживавшему неподалеку, в старинном казацком селе Носовке. Навсегда мальчишка запомнил рассказы деда о героическом прошлом украинского народа, о Богдане Хмельницком, о Полтавской битве, о борьбе с поляками и турками. А любовь к лошадям и восхищение перед простенькими лубочными картинками на тему русско-турецкой войны 1828-1829 гг. подтолкнули Николая взять в руки уголь (из-за отсутствия карандашей) и сделать первую попытку «изобразить войну, коней, пушки, дым и оружие». А уж когда в 1868 г. он поступил в нежинскую двуклассную, а по ее окончании – в классическую гимназию, то все тетради были испещрены рисунками лошадей и военными сценками.
В 1878 г. Самокиш, наперекор отцу, который считал, что художество – пустая трата времени, поехал поступать в Петербургскую академию художеств. Но оказалось, что врожденных задатков недостаточно: прежде мало рисуя с натуры и совсем не зная античных произведений, Николай не сумел сделать рисунок с гипсовой головы Геры. Экзамена он не выдержал, но получил разрешение присутствовать на занятиях в батальной мастерской профессора Б.П. Виллевальде на правах вольнослушателя, а через год его зачислили по конкурсу, на котором его рисунок получил первый номер. Наставляемый такими опытными учителями общих классов, как П.П. Чистяков и В.И. Якоби, Самокиш делал заметные успехи. Он не шел по стопам хорошо владеющего техникой Виллевальде, а ориентировался на художника-реалиста В. Верещагина, поражавшего зрителей правдивостью в показе войны.
Одаренный и исключительно трудолюбивый Николай практически за каждую экзаменационную работу получал серебряные и золотые медали («Возвращение войск на родину», 1881 г.; «Трубач», 1882 г., принята на Всероссийскую выставку в Москве). Он легко овладел не только разносторонними живописными техниками, но и офортом. Его мастерство было отмечено ценителями уже в 1883 г.: картину «Прогулка» приобрел для своей галереи известнейший знаток искусства и коллекционер П. Третьяков. Можно сказать, что с тех пор и до конца жизни вслед за Самокишем шла удача. Еще в период студенчества 12 из 30 офортов, выполненных под руководством известного офортиста Л. Дмитриева-Кавказского, были изданы отдельным альбомом, а полотно «Помещики на ярмарке» – отмечено премией С. Строганова на конкурсе Общества поощрения художеств. Следующий год оказался не менее удачным: конкурсная картина «Эпизод из битвы при Малом Ярославце» удостоилась Малой золотой медали, а в 1885 году за дипломную работу «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» Самокиш получил Большую золотую медаль и право пенсионерской командировки в Париж на четыре года (1886-1888 гг.), куда он отправился вместе со своим лучшим другом пейзажистом С. Васильковским. Но все же самым заметным событием, сыгравшим огромную роль в его судьбе как художника батального жанра, стало то, что конференц-секретарь Академии художеств П.Ф. Исеев показал графические листы студента великому князю, бывшему президентом академии. А тот, в свою очередь, – наследнику, «приказавшему рекомендовать его». Благодаря этому приказу молодого художника впоследствии рекомендовали к военному ведомству для зарисовок маневров.
Стажируясь в Париже в мастерской известного французского художника-баталиста Эдуарда Детайля, знакомясь с мастерством западно-европейских баталистов, Самокиш критически заметил, что от огромных полотен зачастую веет театральностью, поэтому, вернувшись в Россию, молодой художник дважды ездил на Кавказ и собирал материалы для картин, заказанных для Исторического музея в Тифлисе («Сражение при Авлиаре», «Баталия при речке Иори», «Защита Наурской станицы»), и для рисунков, изображающих пребывание там императора Александра III и его супруги. Единственной радостью от пребывания в Париже стало знакомство Николая Семеновича с вдовой художника-мариниста Р.Г. Судковского, тоже художницей, Еленой Петровной. Можно сказать, что и в личном плане удача была на стороне Самокиша: эта женщина была ему опорой на протяжении всей жизни.
О раннем признании художника свидетельствует и то, что его отозвали из Парижа ко двору писать большие маневры царской армии на Волыни. Именно тогда к Самокишу пришла слава. Картина «Табун на водопое», или «Табун рысистых маток», написанная летом 1889 г. для Петербургского бегового общества, принесла художнику звание академика. А известнейший петербургский издатель Маркс просил его о сотрудничестве, обещая самые высокие гонорары. С той поры бо́льшую часть времени Самокиш уделял иллюстрированию книг («23 тысячи миль на яхте "Тамара"», «История Нижегородского драгунского полка», «История лейб-гвардии кирасирского полка», «История военного министерства» (в 8 томах), «Коронационный сборник», «История Нежинского драгунского полка», «Чудо-вождь», «Севастополь и его славное прошлое», «Полтава» А.С. Пушкина, «Холстомер» Л.Н. Толстого, произведения Я.П. Полонского и многое другое) и целого ряда журналов («Новь», «Родник», «Нива», «Аполлон», «Солнце России», «Искусство и жизнь», «Лукоморье»). Но настоящую известность Николаю Семеновичу принесли иллюстрации к четырехтомной «Великокняжеской, Царской и Императорской охоте на Руси» Н.И. Кутепова, выходившей с 1896 по 1911 гг. В работе над этим фундаментальным изданием, помимо Самокиша, приняли участие такие известные живописцы, как И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.М. Васнецов, В.М. Васнецов, Ф.А. Рубо, Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.А. Серов, но Николаю Семеновичу принадлежат не только 173 иллюстрации, но и виньетки, заставки, концовки, полевые украшения. Мотивы виньеток в стиле древнерусского народного орнамента словно вышли из старинных рукописных русских книг.
Следует отметить, что включенная в «Охоту» поэма Л.А. Мея «Избавитель» подвигла Самокиша на создание не просто иллюстраций, а настоящей рукописной книги. Заставки, инициалы и орнаменты служат ярким доказательством того, что художник хорошо знал историю русской книжной культуры. Строгие геометрические многоцветные орнаменты XVI в. он перемежал киноварными широколиственными и разнотравными орнаментами XVII в. Для написания текста Николай Семенович выбрал крупный прямой полуустав, характерный для рукописных книг XVII в. Работая над «Избавителем», Самокиш вышел далеко за пределы простого иллюстрирования.
В «Охоте» он ко всему прочему раскрылся и как крупный художник-анималист. В мировом искусстве найдется немного художников, которые бы так мастерски изображали лошадей, умело передавая экспрессию каждого движения. Самокиш рисовал их в любом движении и ракурсе. А его картины «Тройка» и «Четверка на повороте» на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. были удостоены Большой серебряной медали. «Изображение лошади – это та стихия, в которой художник чувствует себя свободно. Здесь он виртуоз своего дела», – писали впоследствии исследователи творчества художника.
Но были ли это графические работы, рисунки, выполненные тушью и пером, картины маслом или акварели – все отмечали, помимо четкости рисунка и точной цветовой гаммы, скрупулезность в отображении реальных предметов и событий. Творчество Самокиша было столь востребованным, что принесло ему не только славу, но и материальное благополучие. Он ни в чем не нуждался, но продолжал напряженно работать. Николай Семенович всегда был увлечен историей украинского народа, поэтому в 1900 г. вместе с Васильковским он издает альбом «Украинская старина», где с большой любовью повествует о героической борьбе народа с иноземными захватчиками и бытовые сценки («Бой казаков с польскими крылатыми гусарами», «Проводы казака на Сечь», «Сцены из жизни Запорожской Сечи»). Самокиш часто выезжал в родную Украину, где жил Васильковский. Они вместе работали в Полтавском этнографическом музее, вместе готовили к изданию в Праге богатейший альбом «Украинский орнамент». Впоследствии художник написал несколько произведений по заказу своего друга Д.И. Яворницкого для Днепропетровского исторического музея (1930 г.). Среди самых известных картин мастера на темы из украинской истории – «Въезд Богдана Хмельницкого в Киев» (1929 г.), «Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким» (1934 г.), «Полтавская битва» (нач. 1930-х гг.). Художник писал: «Хочется сделать что-то интересное и величественное… Копаюсь в истории и археологии. Работа тяжелая, но интересная».
Но все же особым признанием пользовались работы Самокиша на злобу дня. В 1904 г. Николай Семенович на семь месяцев отправился на театр русско-японской войны в качестве художника журнала «Нива». Значительная часть работ этого периода была опубликована в большом альбоме «Война 1904-1905. Из дневника художника» (издан в 1908 г.), ставшем выдающимся явлением в русском батальном жанре начала XX в. По разносторонности изображения действительности, мастерству ее художественного воплощения он является лучшим произведением Самокиша дореволюционного периода творчества.
В одной из акварелей – «Путиловская сопка» – показана усеянная трупами солдат высота. На это побоище с невыразимой болью смотрят только два человека, оставшихся в живых. Бесконечной скорбью веет и от рисунка «Забытый», где художник изобразил безлюдное взгорье, широкую даль, пересеченную светлой лентой реки, а на переднем плане, на зеленой, истоптанной копытами траве, лежит, раскинув руки, забытый на поле боя российский солдат. Его последний взгляд обращен к небу, в котором теперь кружится стая воронья. Лучшая из написанных Самокишем по фронтовым впечатлениям картин – «Ляоян. 18 августа 1904 года». Это полотно, посвященное одному из наиболее ожесточенных столкновений между русской и японской армиями, в 1910 г. поместили в военную галерею Зимнего дворца. Другим результатом поездки на фронт стал альбом рисунков и акварелей, посвященных 100-летию Отечественной войны 1812 г., в которых художник изобразил наиболее значительные эпизоды освободительной борьбы русского народа: от «Перехода через Неман 12 июня 1812 года» до «Наполеон оставляет армию в Сморгони 3 ноября 1812 года».
На фронты Первой мировой войны Николай Семенович отправился уже не один, а с пятью учениками батального класса, которым он руководил в 1913-1918 гг. (До этого он с 1894 г. преподавал рисунок и живопись в Рисовальной школе, которой отдал 23 года жизни.) Пожалуй, это был первый и единственный случай в истории Академии художеств, когда студенты во главе со своим профессором проходили практику непосредственно на передовой. Бригада работала сначала на Западном, затем на Кавказском фронте. Через год состоялась итоговая выставка студенческих работ, рисунки Самокиша были включены в издания Д. Маковского «Великая война в образах и картинах» (1915 г.) и «Русским героям Сербии и Черногории» (1915 г.). Мастер воспитал целую плеяду художников-реалистов и считался одним из лучших профессоров академии.
Самокиша всегда считали везунчиком: при царе он был востребован и ни в чем не нуждался, да и при советской власти легко нашел свою нишу. У него всегда было много заказов, но вряд ли это можно назвать критерием счастья. Просто Николай Семенович преданно любил избранную им тему и достиг в батальной живописи совершенства. Он даже не пытался эмигрировать из Крыма, где по предписанию врачей вынужден был жить (прогрессирующий ревматизм, подхваченный еще на русско-японской войне), а продолжал работать в Украине, в Симферополе. После упразднения академии он преподавал в созданных на ее базе Государственных свободных художественных мастерских, был членом Ассоциации художников революционной России (АХРР), с 1937 г. возглавил батально-историческую мастерскую в Харьковском художественном институте и – рисовал.
Только теперь героями его картин стали солдаты Красной Армии. Героику Гражданской войны он отразил в полотнах «Атака буденновской кавалерии», «Штаб Первой Конной», «Выезд артиллерии на боевые позиции», «Тачанка на маневрах». Выразительность каждого элемента картин, драматизм событий, великолепное чувство окружающего пейзажа и сотни лиц запечатлены как на одном дыхании. Хотя известно, что художник очень серьезно относился даже к небольшой работе, детально прорабатывал эскизы, особое внимание уделяя четкости рисунка. Он говорил «Без четкого рисунка нельзя передать экспрессию, а она является одним из важнейших моментов батальной живописи. Там, где нет движения, нет и меня. Рисунок – жизнь произведения, цвет – его одежда». Краски Самокиш всегда наносил тонким слоем, особенно выделяя цветом и светом центр композиции. Много работ мастер посвятил штурму Сиваша: картины «Ночной штурм Сиваша», «Штурм Турецкого вала», «Бой возле Чонгарского моста», «Штурм Чонгарских позиций», «Преследование врангелевцев» стали «подготовительным материалом» к огромному полотну «Переход Красной Армии через Сиваш» (1935 г., Сталинская премия, 1941). Впечатление от картины такое, будто бы художник вместе с этими бойцами преодолевал штормовой ветер и проволочные заграждения, брел по грудь в ледяной воде под свист пуль и взрывы снарядов. Не оставлял Самокиш и украинской тематики («Борьба украинских партизан с деникинцами», «Н. Щорс»). К 125-й годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко он написал картину «Царские жандармы везут Шевченко в ссылку».
Заслуги мастера были по достоинству оценены. В 1937 г. ему присвоили звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР», три года спустя наградили орденом Трудового Красного Знамени. Николай Семенович, несмотря на почтенный возраст, продолжал работать. Он откликнулся на разразившуюся Отечественную войну ярким плакатом, изобразив на нем советских солдат, громящих фашистов. Но победы художник не увидел, он скончался 18 января 1944 г. в Симферополе на 84 году жизни, оставив после себя огромное творческое наследие, значительную часть которого еще предстоит по-настоящему «открыть».
Серебрякова Зинаида ЕвГЕНЬЕВНА (род. в 1884 г. – ум. в 1967 г.)
Известная русская художница реалистического направления. Профессор живописи.
«Дети рождаются у нас с карандашом в руке», – говорили в большой семье профессора архитектуры Н.Л. Бенуа, где более 150 лет из поколения в поколение переходил художественный дар. Была наделена этим талантом и одна из его внучек, Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Ее отец, Евгений Александрович Лансере, был известным русским скульптором, мастером малой пластики. Он скончался, когда младшей дочери Зине было всего два года. Овдовевшая Екатерина Николаевна (в девичестве Бенуа) покинула имение Нескучное (в 30 км от Харькова) и с шестью осиротевшими детьми в 1886 г. поехала в Петербург. В многодетной семье Бенуа все жили живописью, архитектурой, театром. Обстановка была творческой и дружной.
Зина росла болезненным и довольно нелюдимым ребенком, зато была очень наблюдательна и усидчива. То, что она постоянно рисовала, никого не удивляло – в семье рисовали все без исключения. Мать научила ее работать акварелью, дядюшки Александр и Альберт Бенуа постоянно давали различные советы. Но академических знаний рисунка, композиции, анатомии Зинаида так и не получила, хотя один месяц училась в частной художественной школе М.К. Тенишевой, а потом в студии О.Э. Браза (1903-1905 гг.) и в академии де ля Гранд Шомьера (1905 г.), где обучение сводилось к рисованию натуры. Есть божий дар – станешь художником, а нет…
У Зинаиды талант был, и в полной мере она его осознала, когда вернулась в Нескучное, где родилась 15 лет назад. «И с тех пор, – вспоминала художница, – я совершенно "влюбилась" в новую для меня природу, в ширь безбрежных полей, в живописный облик крестьян, столь отличный от городских улиц». Теперь каждое лето она проводила в имении, и ее альбомы заполнялись самыми разнообразными сценками сельской жизни. Уже в первых акварельных набросках была видна характерная для нее легкость, воздушность и чистота тонов, верность глаза и культура цветового восприятия.
Юная художница в первые годы работала в основном акварелью, темперой, тушью, гуашью. Она создавала жанровые этюды, небольшие пейзажи, портреты крестьян и близких. В этих работах прослеживается, с какой любовью и симпатией она относится к натуре. Ранние портреты написаны в спокойных, монохромных тонах. Зинаиде с радостью позировали, потому что при всей замкнутости она была очень отзывчивым и добрым человеком, дружила со многими людьми. Добрые отношения сложились у нее с двоюродным братом Борисом Анатольевичем Серебряковым. 9 сентября 1905 г. состоялась их свадьба. Венчанию предшествовали огромные хлопоты, так как церковь не поощряла родственные браки. Но 300 рублей, отданные батюшке, разрешили все проблемы. Зинаида и Борис были прекрасной парой. «Они оба были очень хорошие люди. Друг друга очень любили и уважали, оба были ласковые и вежливые, воспитанные, прелестные люди…» – вспоминала крестьянка В. Дудченко из Нескучного.
В Париже, где Зинаида Серебрякова была с матерью и мужем (1905 г.), она посещала музеи и галереи. Под впечатлением от работ импрессионистов (Ренуар, Дега) научилась передавать ощущение световоздушной среды; пробовала работать в декоративной манере (портреты мужа, матери, этюды интерьеров). «Без всякого энтузиазма» отнеслась «к новейшим течениям в моде» – постимпрессионизму и модерну.
По возвращении в Нескучное, с 1906 г., начинается ее полноценная творческая жизнь, которая, как у любой женщины, была неотделима от семьи, в которой росло четверо детей: Евгений (1906 г.), Александр (1907 г.), Татьяна (1912 г.), Екатерина (1913 г.). Муж после окончания института постоянно был в разъездах на строительстве железных дорог, и все тяготы быта, пусть и обеспеченного, ложились на хрупкие плечи Зинаиды Евгеньевны. Но все свободное время она уделяла живописи. Серебрякова увлеченно работала над портретами крестьян («Крестьянка», 1907 г.; «Спящая Галя», 1908 г.; «Няня», 1907 г.; «Нищий», 1912 г.), много внимания уделяла пейзажу («Зима. Нескучное», 1910 г.; «Дворик с индюками», 1909 г.; «Фруктовый сад в цвету», 1908 г.). Все в ее акварелях просто, естественно, но очень задушевно и утонченно. Небольшой по размеру пейзаж «Зеленя осенью» (1908 г.) просторен в композиции и фрагментарно прост. Зеленые, синие, коричневые краски, то ложась по соседству, то внахлест, усложняют цвета, делают борозды объемными, а небо – просто прозрачным.
Удачно начала работать Серебрякова и масляными красками. Ее «гладкий стиль» был созвучен старым мастерам. С 1909 г. полотна художницы набирают ту звонкость и искренность, которые будут сопровождать все ее творчество. Радостное чувство рождает автопортрет «За туалетом» (1909 г.). «Я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на туалете». Эта «забава» пронизана светом, воздухом и красотой. Ласковая улыбка, миндалевидные глаза, грация обнаженных рук. Портрет-картина чарует свежестью и гармонией. После открытия в январе 1910 г. в редакции журнала «Аполлон» небольшой выставки современного женского портрета все заговорили «о большом красочном темпераменте» художницы.
А на VII выставке Союза русских художников самую высокую оценку получили все 14 работ Серебряковой. Три из них – «За туалетом», «Зеленя осенью», «Крестьянка» – были приобретены для Третьяковской галереи. А. Бенуа с чистой совестью писал о «гулкой» премьере работ своей племянницы: «…Она одарила русскую публику таким прекрасным даром, такой «улыбкой во весь рот… самая радостная вещь… что-то звонкое, молодое, смеющееся и ясное, что-то абсолютно художественное…» Не менее очаровательны и другие автопортреты Серебряковой. Так, «Этюд девушки» (1911 г.) интересен вечерним освещением. Тонкая фигурка на темном фоне почти невидимой комнаты. Горящая свеча мягко оттеняет юное лицо, которое будто светится изнутри.
Все последующие портретные работы отличает та же пронзительная ясность и красота (портреты Н.Г. Чулковой, 1911 г.; О.К. Лансере, 1910 г.; М. Бенуа, 1910 г.; Е.Н. Лансере, 1911 г.). Среди портретов родных и близких особенно хороши лица детей художницы, красота которых поражала многих. На групповом портрете-картине «За обедом» (1914 г.) зритель видит общительного Шурика, мечтательного Женю и порывистую, нетерпеливую Тату. Жесты, позы, реакция выписаны с подчеркнутой индивидуальностью.
Во всех портретных работах художница раскрывала свое представление о совершенном человеке. Так появился своеобразный идеал, чисто «серебряковский тип», поставивший Серебрякову в один ряд с ведущими мастерами эпохи.
В период 1912-1917 гг. творчество художницы связано с деятельностью объединения «Мир искусства». Зинаида Евгеньевна не осталась в стороне от новых художнических исканий. Она обратилась к обнаженной натуре. Вначале робко, а затем все увереннее на эскизах проступил образ прелестной купальщицы, пленяющей совершенством и пластичностью женского тела. Следуя академическим традициям, художница создала пусть не оригинальную в композиционном плане, но естественную и выразительную картину «Купальщица» (1911 г.), для которой позировала ее сестра Екатерина.
В продолжение темы она написала полотно «Баня» (1912 г.), которое стало опытом монументальной живописи. Идеал здоровой, естественной красоты покоряет гармонией пропорций, мягкими изгибами тел и плавными, словно замедленными движениями. Слегка облагородив и идеализировав лица и фигуры своих моделей (крестьянок и прислуги), Серебрякова сделала картину «под старину», в приглушенной гамме коричневых и золотых тонов, достигнув скульптурности форм.
Продолжает она работать и над пейзажами. Яркие сочные краски брызжут с полотен, привезенных из Крыма в 1912-1913 гг., тишиной и элегическим покоем отличаются виды Царского Села («Озеро в Царском Селе», «Аллея в Царском Селе», «Царское Село. Мостик»).
Вернувшись из Италии в 1914 г., где она изучала живопись великих мастеров, Серебрякова особое внимание уделила теме крестьянского труда. В ее работах: «Крестьяне» (1914 г.), «Жатва» (1915 г.), «Беление холста» (1917 г.), «Крестьянка Марина, чешущая лен» (1917 г.) тяжелая физическая работа крестьян стала поэмой о красоте труда, здоровье и благородстве. Труд показан, как радость. Нет ни пота, ни мозолей, даже одежда праздничная. Все картины монументальны и исполнены в ярких красных, синих, белых и золотистых красках.
Огромный интерес вызвало у Серебряковой предложение создать четыре аллегорических панно для Казанского вокзала («Индия», «Турция», «Сиам», «Япония», 1914 г.). Их композиционные эскизы проявили ее талант мастера-монументалиста и декоратора.
Мирная жизнь и спокойное творчество были прерваны бурными событиями революции и Гражданской войны. Сгорел дом в Нескучном, а в нем многие произведения Серебряковой. Семья перебралась в Харьков. Долго не было никаких известий от мужа. Короткое свидание принесло страшное горе. Борис Серебряков в дороге заболел сыпным тифом и 22 марта 1919 г. скончался. Зинаида Евгеньевна стала вдовой с четырьмя детьми и престарелой матерью на руках, без дома, без средств к существованию. Работая художником в Харьковском археологическом музее при университете, она с трудом могла прокормить детей. Крестьяне Нескучного, вспоминая ее доброе сердце, помогали продуктами. Золотистый морковный чай был праздником в их голодном и холодном доме. Зинаида Евгеньевна жила заботами о детях и искусством (портреты сотрудников музея: Е. Никольской, В. Дукельского, Т. Тесленко, Е. Финогенова; портреты детей: «На террасе в Харькове», «Тата у окна» (все в 1919 г.).
В ноябре 1920 г. Серебрякова была назначена профессором Академии художеств в Петрограде. Семья поселилась в большой нетопленой квартире деда, но из-за болезни (часто обострялся туберкулез) начать работу Зинаида Евгеньевна не могла, а перебивалась отдельными заказами. Всегда будучи робкой, она осталась в стороне от новой жизни, которая ее страшила. А для души писала портреты близких («Л. Черкесова-Бенуа с сыном», 1922 г.; «Тата с овощами», 1923 г.; «Катя у ели в голубом», 1922 г.; портрет сына Александра, 1921 г.).
И словно всплеск великолепного фонтана – серия картин Серебряковой, посвященных артистам балета. Десятки полотен, а на них точеные фигурки, изящные позы, одухотворенные лица, богатство пластики и цвета. Ее «Голубые балерины» (1923 г.) затмевают Дега. Нежные «Снежинки» («Балетная уборная», 1923 г.) действительно воздушны и легки, как снег. А с портретов смотрят изумительно красивые лица талантливых танцовщиц: М. Добролюбовой (1923 г.), Л. Ивановой (1922 г., 1923 г.), Е. Свекис, А. Даниловой (оба в 1922 г.), Е. Гейденрейх (1923 г.). В русском искусстве Серебрякова первая обратилась к теме балета. В период голода и разрухи она маслом и пастелью создала в своих картинах праздничный мир театра.
Зинаида Евгеньевна считала, что если она уедет в Париж, то сможет материально обеспечить семью. Она надеялась найти заказы на портреты, устроив выставку, и через несколько месяцев вернуться домой. Оставив детей на попечении бабушки, в сентябре 1924 г. Серебрякова приехала во Францию. Начался самый трудный этап в ее жизни. Ее искусство, простое и незамысловатое, затерялось в водовороте новомодных стилей и манер, процветавших на Западе. Она перебивалась редкими заказами на портреты (Г. Гиршман, 1925 г.; А. Трубников, 1925 г.; И. Волконская, 1926 г.) и почти все деньги отправляла семье.
Вдохновение вдали от родины таяло, как и надежда, что ее талант будет когда-либо востребован. Чтобы облегчить положение бабушки и скрасить свое одиночество, Серебрякова вызывает к себе сына Шуру (1925 г.), а затем дочь Катю (1928 г.). Эти талантливые дети с трудом пробили себе дорогу в мир искусства. В то время как Евгений в Ленинграде успешно закончил институт и стал известным архитектором, а Татьяна – хореографическое училище, Академию художеств и получила работу художника во МХАТе, они в Париже перебивались редкими заказами, ютились в небольшой, часто неотапливаемой мастерской. Серебрякова очень тосковала по детям и родственникам, оставшимся в СССР, но решиться на переезд так и не смогла. Во всех письмах к детям сквозит боль разлуки, творческая неудовлетворенность и благодарность за присланные книги по искусству, которые она не могла позволить себе купить. «Вот если бы все было иначе в моей жизни и я могла бы рисовать то, что я люблю, – то есть красоту «крестьянской» жизни («Венециановские сюжеты»), – было бы все иначе». Если бы она могла поверить в то, что ее монументальные полотна (в стиле «Беление холста»), изображавшие крестьянок в позах юных богинь и труд как праздник, были очень нужны молодому советскому государству, пусть даже как идеологическое подспорье!
Но если бы она нашла в себе силы и решительность вернуться, тогда не были бы созданы «Монах с короткими руками» (1932 г.), «Портрет аббата» (1935 г.), «Хозяйка бистро. Бретань» (1934 г.) и великолепная марокканская серия. Дважды Серебрякова посетила эту страну (1928 г., 1932 г.) на средства бельгийского барона Броуэра (она писала портреты всей его семьи) с условием, что понравившиеся картины он оставит за собой. Этюдные работы поражают своей завершенностью и разнообразием. «В ее Востоке нет ничего общего с крикливыми рыночными куклами… Никогда еще современное Марокко не было увидено и воспето лучше…» – откликнулась французская пресса.
Но признание на страницах газет не улучшало ее материального положения. С трудом организованные выставки почти не приносили дохода, и Серебрякова рассчитывалась с галерейщиками своими картинами. Больно читать строки писем: «Да я ни разу здесь не была в театре (вот уже 20 лет), да и в кино 10 лет как не была (1953 г.); живем изо дня в день без возможности что-либо позволить себе, кроме «хлеба насущного»… Заказов на портреты совсем нет, я как-то совсем удалилась от «света», так как не устраивала выставки уже 18 лет (!), все меня давно забыли» (1956 г.).
«Беспретенциозное, бесхитростное искусство» Серебряковой все же было востребовано. После пяти лет согласований в 1965 г. в Москве, а затем в Ленинграде и Киеве, в выставочных залах Союза художников СССР прошли ее персональные выставки, представившие все работы художницы, созданные до 1926 г., и часть парижских. Залы были переполнены посетителями. Это была единственная радость (кроме долгожданной встречи с дочерью Татьяной в 1960 г.) в ее грустной жизни. Но теперь о переезде не могло быть и речи. Шура и Катя сроднились с Францией и достигли признания, дети в России были благополучны, а сама Зинаида Евгеньевна после двух операций и из-за преклонных лет ехать не могла.
19 сентября 1967 г. после кровоизлияния в мозг, не приходя в сознание, Серебрякова скончалась. Умерла талантливая художница, чью личную и творческую судьбу исковеркали революционные перевороты и границы. Но с автопортретов по-прежнему пленительно улыбается красивая женщина, радовавшаяся молодости, счастью творчества и искусству.
Серов Валентин Александрович (род. в 1865 г. – ум. в 1911 г.)
Выдающийся русский живописец и рисовальщик, портретист и пейзажист, иллюстратор и театральный художник, представитель художественного объединения «Мир искусства». Академик живописи, член совета Третьяковской галереи, педагог Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Обладатель Почетной золотой медали Парижской выставки 1900 г. за «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897 г.).
«У него была душа художника, глаза художника, рука художника». Так лаконично охарактеризовал Валентина Серова поэт-символист Валерий Брюсов. И как у каждого талантливого человека, у него был свой путь от рождения к вершинам мастерства.
Маленький «Серовчик», как нежно называл его отец, Александр Николаевич, выдающийся композитор, написавший музыку к операм «Рогнеда», «Юдифь» и «Вражья сила», рос тихим и спокойным ребенком. Он не доставлял особых хлопот своей матери, Валентине Семеновне, талантливой пианистке и совсем молодой женщине. В их доме жизнь всегда била ключом. У матери, проповедовавшей идеи шестидесятников, собиралась эмансипированная молодежь. К отцу приходили известные люди: изобретатель Ладыгин, путешественник Миклухо-Маклай, писатели Тургенев, Достоевский, Островский, художники Антокольский, Репин и Ге. Валентошка-Тошка-Антошка радовался многочисленным гостям, а особенно Н. Ге, который рисовал лошадку на четырех ножках, и она стояла, а на его картинке ей для устойчивости требовалось тринадцать ног.
Но так продолжалось недолго. Скоропостижно скончался отец, мать сразу постарела. Она решила, что уедет в Мюнхен продолжать музыкальное образование, а шестилетний Тоша поживет в коммуне, у ее подруги. Он возненавидел эту общину, потому что в качестве наказания у него забирали карандаши. А через год, приехав к матери в Мюнхен, «разлюбил» музыку, так как она стала причиной его постоянного одиночества.
Валентина Семеновна, по совету П. Антокольского, в 1879 г. переехала в Париж и договорилась об уроках для сына с И. Репиным. И если Илья Ефимович «любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве», то в школе у мальчика обучение шло из рук вон плохо. Он думал только о рисовании и лошадях.
С 1875 г. события мелькали, как в калейдоскопе: возвращение в Петербург, замужество матери, рождение брата, ссылка отчима, гимназия и, наконец, опять обучение у Репина. В гимназии Валентин больше забавлялся, зато в мастерской работал как взрослый. Мать забрала неуспевающего по всем предметам сына из гимназии, и он стал полноправным членом семьи Репина. Валентин был очень доволен. Он везде следовал за своим прославленным учителем и рисовал.
Серов стремительно превращался в мастера, и Репин ходатайствовал о досрочном зачислении пятнадцатилетнего юноши в Петербургскую академию художеств в класс П.П. Чистякова (1880 г.), который развил рисунок Валентина до совершенства. Большое значение в формировании художественных взглядов Серова имело общение с М. Врубелем, В. Васнецовым, К. Коровиным и кружком С. Мамонтова.
После посещения музеев в Голландии и Греции и видя вокруг себя поглощенных творчеством друзей, Серову так захотелось самому по-настоящему рисовать, что он, не доучившись, оставляет академию. Получив деньги за роспись плафона, Валентин с Остроуховым и братьями Мамонтовыми посещает музеи в Венеции. Вернувшись в Абрамцево (1887 г.) в состоянии восторга, «опьянения» от Веласкеса и Тициана, Серов за месяц создает картину-портрет «Девочка с персиками», для которой позировала двенадцатилетняя Веруша Мамонтова. Такой солнечной, решенной в розовых и золотых тонах, пронизанной светом картины еще не было в русском искусстве. «Рядом висящие портреты Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство… У нас подобное явление немыслимо… Настолько это ново и оригинально», – писал о картине М. Нестеров.
Перебравшись в имение двоюродной сестры Домотканово, Серов пишет не менее прославленный портрет Марии Симонович – «Девушка, освещенная солнцем» (1887 г.). Эта работа не так эмоциональна, зато более глубока и обаятельна. За картину «Девочка с персиками» художник получил премию московского Общества любителей художеств, а второй портрет купил П. Третьяков. Для молодого двадцатитрехлетнего художника это был прекрасный дебют, а денежное вознаграждение позволило начать семейную жизнь.
Серов давно полюбил воспитанницу своей тетки, Ольгу Федоровну Трубникову, славную, трудолюбивую девушку с мягким характером. Не желая быть обузой в доброй, но все же чужой семье, она учительствовала в Одессе, и долгие годы влюбленные переписывались и только изредка виделись. В январе 1889 г. они обвенчались и на месяц уехали в Париж. Материальное положение Серова не позволяло ему быть все время с любимой женой. Художник постоянно разъезжал, выполняя многочисленные заказы, чтобы обеспечить большую семью (две дочери и три сына), которая жила в Домотканово. В этом имении, куда Серов стремился всей душой, им были написаны лучшие пейзажи: «Заросший пруд» (1888 г.), «Дуб. Домотканово» (1890 г.), «Дорога в Домотканово», «Стригуны на водопое» (обе в 1903 г.), «Октябрь. Домотканово» (1895 г.). И хотя они менее лиричны, чем у Левитана, и не так трогательны, как у Нестерова, но щемяще реальны и светлы. Ведь недаром его называли «интуитивным импрессионистом».
Художник получал все большее признание как портретист. Он с удовольствием рисовал друзей, родственников, детей (портреты О.Ф. Серовой, 1895 г.; С.И. Мамонтова, 1880 г.; Е.Г. Мамонтовой, 1887 г.; А.П. Нурока, 1893 г.; И. Остроухова, 1902 г.; М. Врубеля, 1907 г.; «Дети», 1899 г.). Все они разные по характеру, внутреннему миру и темпераменту: жизнерадостен, самоуверен, вальяжен лучший друг Серова К.А. Коровин (их даже объединяли одной фамилией «Серовин-Коровин»); грустен, артистически нежен и лиричен, как и его пейзажи, И. Левитан. Гордостью русского искусства стали портреты писателей: Н. Лескова (1894 г.), А. Чехова (1902 г.), М. Горького (1905 г.); композиторов: А. Глазунова (1899 г.), Н. Римского-Корсакова (1898 г.); артистов: Ф. Шаляпина, Г. Федотовой (оба в 1905 г.), И. Москвина, В. Качалова (оба в 1908 г.), К. Станиславского (1911 г.). Словно живая статуя, возвышается над зрителем М. Ермолова (1905 г.). Серов рисовал эту простую, скромную женщину, сидя на скамеечке у ее ног, и создал парадный портрет гениальной актрисы, ставшей эпохой для русского театра, наполнив его красотой, духовной силой и пафосом. Как эльф, легка и водушна парящая в танце А. Павлова (1909 г.). «Античная трагедия тела», мягкая пластика изломов, хрупкая незащищенность обнаженной фигуры, необычайно броская красота лица танцовщицы И. Рубинштейн (1910 г.) – такое новое стилизованное решение портрета было не понято многими современниками художника.
Популярность Серова росла и среди высокопоставленных заказчиков. В отличие от уже именитых мастеров, он исполнял даже парадные портреты в светлой манере, красочно. Его «Портрет Портретыч» никогда не льстил и не шаржировал модель. Серов только высматривал и подмечал (портреты князя и княгини Юсуповых, оба в 1903 г.; Г. Гиршман, 1907 г.; княгини О. Орловой, 1911 г.; М.Ф. Морозовой, 1897 г.; И.А. Морозова, 1910 г.). «У меня проклятое зрение, – жаловался художник, – я вижу каждую морщинку, каждую пору…» И характер человека он видел прекрасно, и мог одним жестом подчеркнуть его. Так, на портрете В. Гиршман (1910-1911 г.) словно пересчитывает деньги в кармане. И сколько банкир ни просил художника «убрать руку», Серов ничего не изменил. Знатных и богатых художник видел насквозь. Тяжело и уверенно стоит на портрете осознающий свою власть миллионер М.А. Морозов (1902 г.), но вместе с тем это умный, интеллигентный человек и большой ценитель искусства. Он понял замысел художника, но ничего не просил изменить. А на портрете его четырехлетнего сына Мики Морозова (1901 г.) еще ничто не говорит, что это будущий крупнейший шекспировед. Ребенок подвижен, нежен, широко распахнутыми глазами он с интересом всматривается в мир. При взгляде на его портрет невольно возникает добрая улыбка.
Серов неоднократно писал портреты царской семьи Александра III и Николая II, работал долго, «позевывая», но после кровавых событий 1905 г. наотрез отказался «бывать в этом доме» и в знак протеста сложил с себя звание академика. Всегда сдержанный и мягкий, он сделался резким, нетерпимым, угрюмым, настолько потрясла его расправа. Художник и раньше не особо жаловал «царскую тему». Словно школьник, отлынивал от заказа для иллюстрированного издания «Царская охота» и считал, что на картинах «Выезд Петра II и цесаревны Елисаветы Петровны на охоту» (1900 г.), «Юный Петр на псовой охоте», «Выезд Екатерины II на соколиную охоту» (обе в 1902 г.) лучше всего получились милые его сердцу кони и борзые. Высокую оценку получил Серов за картину «Петр I на постройке Петербурга» (1907 г.) от своего учителя П. Чистякова. Словно «ломовик, прет» против ветра мощной поступью царь. Великий строитель и жестокий монарх уже видит перед собой будущий город, он устремлен вперед и сам «создает ветер», от которого сгибаются размытые фигуры свиты.
Серов работал напряженно и разнопланово. Иллюстрировал произведения А. Пушкина и басни И. Крылова. Участвовал в деятельности объединения «Мир искусства» и совместно с Л. Бакстом оформлял одноименный журнал. Преподавал в Московском училище живописи. После смерти П. Третьякова Серов вошел в совет галереи и много сделал для признания молодых талантов, но свои работы «не пристраивал» (к 1898 г. в Третьяковке было 35 работ художника, в настоящее время – более 80). С удовольствием он работал в области театральных декораций в театре С. Мамонтова, Мариинском театре, в «Русских сезонах» Дягилева. Серов создал прекрасные декорации к опере своего отца «Юдифь» (1886, 1907 гг.).
Художник интуитивно чувствовал, что надо искать новые формы выразительности. Он сумел взять лучшее из старой живописной школы и придать ему современное звучание. В 1907 г. Валентин Александрович вместе с Львом Бакстом путешествовал по Греции. Он был покорен легендарными памятниками и мифологической красотой Эллады. В монументально-декоративном стиле художник создал картину «Похищение Европы» (1910 г.), решенную в ярких, непривычных глазу красочных сочетаниях, максимально упростив фон и четко выписав хрупкую фигуру девушки, уверенно сидящей на огромной спине красавца быка.
Помимо живописи у Валентина Александровича был еще один дар – он умел дружить. «По существу это был человек нежный, тонкой души, бесконечно верный друг. Он ясно видел недостатки людей, их провалы, душевные изломы и охотно прощал все это, лишь бы было за что. Своей любовью он покрывал изъяны других…» – писал Д. Философов. Серов мучился от непризнания современниками таланта М. Врубеля, лично ходатайствовал перед царем за обвиненного в подлоге и присвоении денег С. Мамонтова (позже он был оправдан), понял и простил эмигрировавшего А. Бенуа, которому было тесно в России. Но навсегда порвал многолетнюю дружбу с Ф. Шаляпиным, увидев его на коленях перед царской ложей при исполнении «Боже, царя храни» после премьеры оперы «Борис Годунов».
Серов был молчаливым и довольно хмурым человеком. А с гастролей в Париже и Англии, где с блеском прошло представление «Шахерезады», к которому он создал великолепный занавес, Валентин Александрович вернулся необычайно веселым и оживленным. Многие даже не подозревали, каким он был шутником и выдумщиком, как легко и красиво танцевал, как обаятельно улыбался. Серов давно чувствовал, что у него «птичье сердце» (врачи диагностировали стенокардию), и теперь старался все успеть и всех порадовать. Рано утром, вдоволь порезвившись с младшей дочерью, трехлетней Наташей, он заспешил оканчивать заказной портрет княгини П. Щербатовой и упал… Художник умер в возрасте 46 лет, в самом расцвете таланта.
«Бывают смерти, в которые не веришь, – писал в статье Н. Рерих, – целый день требовали опровержений. Не хотели признать ужасного и непоправимого…» Друзья на руках внесли гроб в Третьяковскую галерею, где была отслужена лития. Серова оплакали и как художника, и как друга, и как человека.
Сидур Вадим Абрамович (род. в 1924 г. – ум. в 1986 г.)
Выдающийся русский скульптор, художник, поэт, философ, один из крупнейших представителей авангарда в русской скульптуре второй половины XX века.
Античная скульптура поражает нас достоверностью, совершенством форм; кажется, она вот-вот оживет и продолжит движение, которое остановила рука древнего мастера. Скульптура советского времени впечатляет своей масштабностью, величием, высотой пьедесталов и, как следствие, возвышенностью изображаемых объектов. Современные же мастера пытаются передать в скульптурной форме чувства, эмоции, события. Вадиму Сидуру удалось это сделать, как никому другому.
По иронии судьбы, признание пришло к Вадиму Сидуру не со стороны соотечественников, а из Германии, сражаясь с которой, он навсегда остался инвалидом. Скульптуры выдающегося мастера установлены в США, нескольких городах Германии, его работы представлены во многих музеях мира, в Москве открыт музей Вадима Сидура, а в родном городе Днепропетровске, где прошла значительная часть его жизни, нет ни мемориальных досок, ни его работ, ни даже упоминаний о нем в городских путеводителях.
Вадим родился 28 июня 1924 г. на Украине. Его отец, Абрам Яковлевич Сидур, до революции держал лавку в с. Петриковка Екатеринославской губернии, затем перебрался в Екатеринослав, где окончил университет. Мать Зинаида Ивановна была москвичкой, но после замужества переехала в Днепропетровск, где была учителем в школе, в которой учился ее сын. Скульптор так говорит о своих родителях: «[Отец] Самый честный, самый добрый, не противящийся злу насилием… Мама в меня верила и старалась никогда ничего не запрещать: "Водись с кем хочешь, – говорила она, – но думай сам, своей головой"».
Еще в школьные годы Вадим заинтересовался изобразительным искусством. Он неоднократно посещал художественный музей Днепропетровска. Ему нравились небольшие мраморные и бронзовые скульптуры и статуэтки. Но в особый трепет его приводили скифские бабы, установленные перед историческим музеем. Вадим оформлял в школе стенгазету, много рисовал, лепил фигурки из пластилина. Когда началась война, семью эвакуировали на восток, а 17-летнего Вадима направили учиться в военное училище. В 1942 г., в возрасте 18 лет младший лейтенант Сидур попал на фронт в должности командира пулеметного взвода. 1944 г. стал для будущего скульптора роковым. В конце февраля, в селе Латовка под Кривым Рогом, за которое велись ожесточенные бои, Вадим Сидур был тяжело ранен в лицо немецким снайпером. Пуля попала ему чуть ниже левого глаза в челюсть, прошла сквозь корень языка и разорвалась в нижней челюсти справа, «…я был убит на войне», – напишет позже Сидур. Он был убит и рожден заново. Рожден женщиной, 18-летней украинской колхозницей Александрой Васильевной Толкачевой, выходившей вместе со своей матерью не одного раненого солдата. Почти две недели она кормила из грелки с трубочкой и обрабатывала раны человеку с кровавым месивом вместо лица. Глубокие раны Сидура гноились и издавали тяжелый, почти трупный запах, сам он терпел поистине адские муки. Раненый ничего не мог сказать своей спасительнице, сил у него хватило только на то, чтобы еле разборчиво написать на клочке бумаги свое имя. Ни сам Вадим, ни Александра не ожидали, что он выживет. Но потом было лечение в военном госпитале и ряд болезненных операций в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве, и в январе 1945 г. Саша получила письмо от Вадима Сидура. Он писал ей и дальше, но вот увидеть свою вторую мать ему так и не довелось. Ранение и неожиданно дарованная судьбой и простой украинской женщиной жизнь определили направленность его творчества: война, боль, смерть, насилие, с одной стороны, и торжество жизни, преклонение перед женщиной как ее источником – с другой.
За участие в освобождение родной Днепропетровщины Вадим Сидур был награжден двумя орденами Отечественной войны.
После нескольких лет лечения, с новым лицом, Сидур поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), которое окончил в 1953 г. по специальности «монументальная скульптура». Вадим Сидур остался жить в Москве. Две его основные работы этого периода были тесно связаны с перенесенным недавно ранением и пережитым кошмаром войны: «Раненый» – фигура с головой, полностью обмотанной бинтами, открыта только щель рта, и «Победитель» – обнаженный солдат, изувеченный войной.
В 1954 г. был объявлен Всесоюзный конкурс на создание монумента, символизирующего братство славянских народов, приуроченный к 300-летию воссоединения Украины с Россией. Вскрыв конверт с именем автора проекта, признанного лучшим, жюри пришло в замешательство: победителей было трое – Вадим Сидур, Владимир Лемпорт и Николай Силис – и они не были никому известны. Попахивало скандалом: в конкурсе принимали участие самые известные и именитые скульпторы и архитекторы того времени, и кто-то быстро обратил внимание на то, что у молодых дарований нет надлежащего опыта для создания величественных монументов и должного мастерства, а кто-то припомнил этому трио их письмо в «Советской культуре» «О молодых кадрах и старых порядках». Первая премия так и не была присуждена, торжества по поводу 300-летия воссоединения Украины с Россией прошли, и возведение монумента перестало быть актуальным. Обиженная троица – Сидур, Лемпорт, Силис – опубликовала в «Литературной газете» статью о молодых художниках, которых именитые скульпторы используют в качестве дешевой рабочей силы, после чего оказалась главным объектом травли, организованной Академией художеств СССР. А в американском журнале «Лайф» о «выскочках», «пасквилянтах» и «очернителях действительности» появилась статья совершенно иного характера – «Искусство России, которого никто не видит». Последовавшая за этим полемика в прессе была жаркой, но к чему она могла привести в 50-е годы?
В 1962 г. работы этого же трио экспонировались на выставке, посвященной 30-летию МОСХа (Московское отделение Союза художников) в Манеже. Хрущевское определение «мазня» бодро подхватили и дополнили средства массовой информации: «Отказ от полноты цвета, от выразительности формы во имя подчеркивания убогости человеческого естества, ограниченности его духовного мира, тоскливой никчемности существования» («Комсомольская правда»); «…на этом скользком пути рождается только примитив, а подчас и окарикатуривание светлых образов» («Молодая гвардия»). Намного позже, в 1989 г., Владимир Лемпорт, вспоминая события того времени, напишет: «На своем "скользком пути" мы потрудились немало. И тем счастливы. У подавляющего большинства художников все – на продажу. У нас получалось – впрок, на полку, для себя. А работы, свободные от заказчика, от контролирующих органов, выглядят по-другому…»
В 1961 г. Вадим Сидур в 37-летнем возрасте перенес инфаркт и некоторое время не имел физической возможности заниматься скульптурой, в этот период он создал большую серию рисунков. «Художнику, видимо, все на пользу, даже горе и болезни», – говорил Сидур. Летом 1962 г. появляются скульптурные работы, пронизанные идеей насилия как главного зла на Земле. Их названия говорят сами за себя: «Инвалиды», «После войны», «Памятник современному состоянию».
Слухи о необычных работах необычного мастера разнеслись по Москве, и в его мастерскую, больше известную как Подвал, потянулись посетители, среди которых неоднократно бывали Василий Шукшин, Юрий Левитанский, Булат Окуджава, Виктор Некрасов, Юнна Мориц, Юрий Любимов и многие другие, не менее известные люди. Мастерская действительно представляла собой подвал, причем в классическом варианте – глубокий, сырой, с протекающими трубами. Слухи продолжали распространяться и вскоре вышли за пределы СССР. В Подвал начали спускаться иностранцы: Генрих Белль, Милош Форман, Адольф Гофмейстер, Джакомо Манцу, Тонино Гуэрра, Карл Аймермахер. Однажды Подвал посетил ученый с мировым именем, дважды лауреат Нобелевской премии, американец Джон Бардин. Он был потрясен образностью и символизмом работ Сидура. А созданная в 1967 г. маленькая керамическая модель бюста А. Эйнштейна привела его в восторг. И это неудивительно. Эйнштейн Сидура имеет два лица, он создан по принципу изображений древнеримского двуликого бога Януса. С передней стороны – величавое, торжествующее лицо творца, совершившего гениальное открытие, а сзади – лицо, перекошенное ужасом осознания его трагических последствий. Бардин пришел к скульптору с группой ученых-физиков, которые также были потрясены этой работой. Американцы решили купить бюст Эйнштейна, Сидуру предложили солидный гонорар в 40 тыс. долларов. Но в ответ на официальное письмо в Министерство культуры СССР американские физики получили отказ, а Сидуру запретили отправлять работу за рубеж. Во-первых, Эйнштейн не мог стоить дороже Ленина, бюст которого оценивался тогда в 5 тыс. долларов, а во-вторых, «нельзя позорить СССР». Но выход был найден. Среди посетителей Подвала и почитателей творчества Сидура было достаточно много известных советских академиков. Скульптор подарил бюст Академии наук СССР, а та, в свою очередь, передарила его американцам. Керамического Эйнштейна увеличили, отлили в бронзе и установили при входе в Центр ядерных исследований в США в 1975 г. Позже копии бронзового бюста Альберта Эйнштейна работы Сидура были установлены в Физическом институте имени Макса Планка в Мюнхене, в Бонне, Ульме, Бохуме.
Судьба остальных скульптур мастера, попавших за границу, практически повторяет судьбу бюста Эйнштейна. Ни за одну из них гонорара автор не получил. Но он получил намного большее – мировое признание. Директор немецкого института славистики, профессор Карл Аймермахер выпустил фундаментальную монографию о творчестве Вадима Сидура и три альбома с репродукциями его работ. Памятники, созданные скульптором, были установлены в Берлине (жертвам концлагеря Треблинка), Мюнхене, Оффенбурге, Констанце, Хагене, по инициативе пацифистов и на их же средства. На центральной площади немецкого города Касселя стоит сидуровский «Памятник погибшим от насилия», к которому идут все проводимые там демонстрации. Однажды советское телевидение приехало туда освещать демонстрацию в защиту мира. Но как быть: толпа солидная, лозунги правильные, а идут все к упаднической скульптуре? Выход наши соотечественники нашли гениальный: встали рядом со скульптурой, спиной к ней, и снимали движущуюся навстречу демонстрацию. То, что Вадима Сидура признали на Западе, служило в СССР лишним подтверждением того, что его искусство не является советским, а следовательно, правильным и народу необходимым.
Сам Вадим Сидур называл свое искусство «подвального» периода «Гроб-АРТ», или «Искусство эпохи равновесия страха». Скульптуры создавались в буквальном смысле слова из подручных материалов – водопроводных труб, проволоки, деталей различных деревянных и металлических конструкций и механизмов, ткани и прочего почти что мусора, в котором скульптору удавалось увидеть черты будущих шедевров:
«Печь не топлю дровами В каждом полене вижу Будущую скульптуру»Сидур мечтал работать в металле, но без официального признания, в условиях подполья, достать его было очень сложно. Иногда за «поллитру» удавалось договориться с рабочими из «литейки». Чтобы обеспечить свое существование, скульптор перебивался случайными заказами, в основном – надгробиями. Большую помощь и поддержку ему оказывала жена Юлия Львовна Нельская-Сидур, ради этой помощи бросившая преподавание. Она была его лучшим другом, секретарем, вела все хозяйство мастерской.
Помимо скульптурного наследия, Сидур оставил после себя две книги: циклы стихов «Самая счастливая осень» и прозаический «Памятник современному состоянию» – ни на что не похожий, свободный от каких бы то ни было рамок и канонов, пронизанный глубокой, самобытной философией.
Вадим Абрамович Сидур умер 26 июня 1986 г. от третьего инфаркта, так и не признанный в своей стране. Он был похоронен в день своего рождения, 28 июня. В 1989 г. создан Московский государственный музей Вадима Сидура, директором которого стал его сын Михаил. Перед музеем установлен бронзовый «Памятник оставшимся без погребения» – воинам-афганцам, один из двух в России – три склонившие головы женские фигуры с вырубленными в груди крестами. Второй – «Формула скорби» – находится в Царском Селе (Пушкино). Это стоящий на коленях с опущенной головой человек без признаков пола. Несмотря на всю трагичность и безысходность его позы, сбоку скульптура напоминает еврейскую букву «алеф» – символ начала.
Мир, нашедший отображение в скульптурах Сидура, не ограничивается изображением насилия и войны. Он наполнен восхищением, преклонением перед чудом жизни человеческой, возможностью познать не только боль, но и радость. Рядом с пугающими названиями «Формула скорби», «Взывающий», «Памятник погибшим от бомб», «Памятник погибшим от любви» встают совершенно противоположные названия – «Материнство», «Мать и дитя», «Отец с сыном», «Семья» – как гимн продолжению жизни. Сидура обвиняли и продолжают обвинять в чрезмерном интересе к насилию и жестокости. Но это, скорее, не интерес, а скорбь о несовершенстве мира и неразумности людей, его населяющих. «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия. Пули, виселицы, бомбы, газовые камеры, концлагеря, пытки, смертная казнь – это перечисление можно продолжать, ибо оно бесконечно. Кажется, должно же это когда-то прекратиться! Но человечество, как бы лишенное разума, ничему не научается… Меня постоянно угнетало и угнетает физическое ощущение бремени ответственности перед теми, кто погиб вчера, погибает сегодня и неизбежно погибнет завтра». Эти слова скульптора актуальны и сегодня, почти через 20 лет после его смерти. Он считал, что человек творческий должен творить на языке своего века, и ему это удавалось:
«Мы невежественны и ленивы Жнем но не сеем Растений названий не знаем Только восклицать умеем О Боже как тут красиво!»Сомов Константин Андреевич (род. в 1869 г. – ум. в 1939 г.)
Известный русский художник, мастер станковой живописи и графики, скульптор-прикладник. Один из организаторов и активных деятелей объединения «Мир искусства». Академик Петербургской академии художеств.
В. Стасов – пропагандист искусства передвижников и непримиримый противник идеологии «мирискуссников» – назвал К. Сомова (вкупе с Врубелем) типичным образцом декадентства. Эта оценка надолго прижилась в советском искусстве. И. Грабарь, в противовес сложившемуся мнению о художнике как о человеке «ущербном», служащем «страшную панихиду об усопшем быте», увидел в Сомове некую тайну, которая составляет главную притягательную силу его произведений. А крупный исследователь и историк искусства С. Яремич даже считал художника по своей природе «мощным реалистом». Однако при столь разных оценках все сходились в одном: К. Сомов обладал талантом и не стоял на месте, его творчество – это путь эволюции, а исходит оно из русских недр. Что же касается стремления к «красивости», увлечения «галантным» XVIII веком, то оно вполне объяснимо.
К.А. Сомов был эстетом, до мозга костей дворянином – по происхождению, воспитанию, мироощущению и творчеству. С юных лет он отличался эрудицией в области истории, литературы, живописи, театра, музыки, владел несколькими языками, путешествовал по Европе, имел безупречный вкус и массу способностей. Рисовать мальчик начал чуть ли не с трех лет, много читал, играл на рояле, хорошо пел и помышлял даже стать профессиональным певцом. Разумеется, эти задатки могли реализоваться благодаря семье.
С родителями художника нас знакомят портреты, написанные в конце 90-х гг. Андрей Иванович Сомов был потомком выходца из Золотой Орды, хранил свою родословную и гордился тем, что знал ее вплоть до XIV века. С полотна смотрит типичный интеллигент, у него тонкие черты лица, умный и строгий взгляд из-за пенсне, горделивая осанка, красивые руки. Он окончил физико-математический факультет Петербургского университета, преподавал математику и страстно увлекался искусством, изучал его, сам рисовал и гравировал, занимался литературно-издательской деятельностью. Уже в зрелом возрасте Андрей Иванович решился сменить профессию, стал работать редактором журнала «Вестник изящных искусств», читал лекции по истории искусства на Петербургских высших женских курсах, с 1886 по 1909 г., то есть до конца жизни, являлся главным хранителем Эрмитажа. Его супруга, Надежда Константиновна, выглядит совершенно иначе: полноватая, улыбчивая, с добрыми глазами, от нее исходит домашнее тепло. Она была образованной женщиной, замечательной хозяйкой, любила выпекать всякие вкусности и угощать ими. Заботливо растила троих детей – Сашу, Костю и Аню, обучала языкам, музыке и сыграла большую роль в их эстетическом воспитании.
Дом Сомовых отличался хорошей библиотекой и обилием картин. Глава семьи собирал их, заботливо хранил, раскладывая по папкам и шкафам, снабжал записями и охотно рассказывал о своих приобретениях. Дети буквально росли в мире искусства. Когда отец стал работать в Эрмитаже, они считали музей чуть ли не частью своего дома.
Костя оказался одареннее других детей, хотя они тоже пошли по пути служения искусству. В 1888 г., не закончив гимназии, он поступил в Академию художеств. Не без влияния отца, потому что долгое время сомневался в правильности этого шага и своих способностях, стеснялся показывать работы. По этой причине не сохранилась ни одна его академическая работа – он их просто уничтожил. А первые пять лет учебы в академии юноша считал вообще потерянными. Когда же на смену рутине пришла прогрессивная система обучения и студенты получили право выбирать наставника, Сомов избрал класс И.Е. Репина и проучился в нем с конца 1894 г. до середины 1897 г.
За это время он неизмеримо вырос, обрел собственный стиль и определил пристрастия, создал ряд интересных работ. Хотя в них еще чувствовалось влияние Репина (в портретах) и Серова (в пейзажах), а также стремление приблизиться к любимому жанристу Федотову и пониманию живописной техники голландцев XVII в. Особенно К. Сомов продвинулся как рисовальщик и акварелист, о чем свидетельствовали упомянутые портреты родителей, девочки Оли, художницы А.П. Остроумовой, госпожи Обер, а также ряд пейзажей, написанных за два лета (1895 и 1896 гг.) на даче семьи Бенуа под Ораниенбаумом. Здесь появились «Белая ночь. Сергиево», «Ручей», «Дорога на даче», «Вечерний пейзаж. Мартышкино», «Дерево в поле» и другие работы, выполненные акварелью и маслом. Оценив их, сам Репин согласился, что этому молодому человеку в академии уже делать нечего: налицо были необходимые навыки, упорство и жажда творчества.
Талант Сомова признавали и соученики. Причем это были не досужие комплименты, а мнения грамотных ценителей – прежде всего Бенуа, Нувеля, Философова и его брата Дягилева, Л. Бакста. К этим художникам и присоединился Сомов в Париже осенью 1897 г. Позже туда приехали Лансере, Яремич, супруги Обер, Остроумова. Друзья наслаждались выставками, спектаклями, поездками по стране, особенно любили Версаль. И конечно, с молодым задором работали и обсуждали свои произведения, строили грандиозные планы. Так в 1898 г. родилась идея создания нового выставочного объединения «Мир искусства» и специального журнала с тем же названием.
К. Сомов в силу своего характера не играл столь активной организаторской роли, как идеолог группы Бенуа или устроитель выставок молодых художников Дягилев. Его вкладом в общее дело было творчество – оформление журналов («Мир искусства», «Художественные сокровища России» и др. изданий), создание обложек, афиш, театральных программ, конвертов, экслибрисов и т. п. Наиболее удачными были иллюстрации к юбилейному изданию Пушкина «Граф Нулин» и повести Гоголя «Портрет», обложка альманаха «Северные цветы». Особенно высокую оценку получили обложка сборника стихов Бальмонта «Жар-птица» и иллюстрации для книги маркизы фон Блей, выполненные в 1907 г. и причисленные к шедеврам рисовального искусства. Этим произведениям присущи особая утонченность и изящество, проповедовавшиеся «Миром искусства» в области книжной графики и театрально-декоративной живописи. Сомов не создавал монументальных росписей или театральных декораций (кроме эскиза занавеса «Свободного театра» в Москве), отдавая предпочтение скрупулезной работе над миниатюрой. И добивался тонкости рисунка, изобретал виньетки, часами выискивал нужные линии, создавал заставки и законченные по композиции орнаменты, применял разную технику (тушь, акварель, гуашь в различных комбинациях). Показательна в этом плане любовь художника к «прелестным мелочам»: как и отец, он был страстным коллекционером, везде покупал красивые безделушки, старые гравюры, рисунки, а потом увлекся изготовлением фарфоровых статуэток и со всей тщательностью их расписывал.
Терпение и труд принесли Сомову широкую известность. Он был участником всех выставок «Мира искусства», позже – «36-ти», «Союза русских художников». Первая его персональная выставка состоялась в Петербурге (1903 г.), на ней экспонировалось 162 работы. Произведения художника увидели в Германии и Франции. Вышел персональный альбом Сомова. О его творчестве говорили, писали, спорили. А он все больше удивлял ценителей искусства неожиданными проявлениями своего дарования. Многими не воспринимались его нарочитый «примитивизм», кукольные персонажи (маркизы, ряженые) и атрибуты (беседки, озера, фейерверки, поцелуи) таких картин, как «Дама у пруда», «Конфиденции», «Отдых на прогулке» и др. Но «ретроспективность» подобных произведений отражала душевное состояние автора, раздвоенность его существования. Сомова манила настоящая жизнь, но очень уж она не соответствовала его представлениям о прекрасном. Так родился иной, ирреальный и в чем-то абсурдный «сомовский» мир, близкий к эпохам барокко и рококо, в котором художник «прятался» еще многие годы.
Одновременно из живых впечатлений рождались вполне реальные картины («В детской», «Белая ночь. Сергиево», «Радуга», портреты близких людей). Специалисты считают, что К. Сомов больше всего преуспел как портретист, хотя и здесь был неоднозначен. Порой его модели превращались в «кукольные» картинные копии. Иллюстрациями могут служить «Эхо прошедшего времени», в меньшей степени другие портреты – «Дама в розовом», «Спящая дама». Художнику удавалось так глубоко проникнуть во внутренний мир человека, что он часто подмечал скрытые от других, тайные нюансы, добивался «душевного единения» с изображением. Иногда портреты рождались очень долго, по предварительным эскизам, наедине с собой и получались не очень похожими, нехарактерными по психологической разработке. Таким считали, например, знаменитый портрет Блока. Однако в 1906-1910 гг. у Сомова были и «теплые» работы – целая галерея изображений деятелей литературы и искусства (Лансере, Кузмина, Добужинского, Сологуба и др.).
Особое место среди портретов занимает «Дама в голубом», написанная в течение 1897 – 1900 гг. И не только потому, что автор питал нежные чувства к соученице по Академии художеств Е. Мартыновой. Это был ретропортрет – новое слово в русской портретной живописи. Свой идеал женственности и красоты художник поместил в декоративный пейзаж, одел в старинное декольтированное платье, придал ее облику романтичность и некую отрешенность. Дело в том, что, позируя, девушка была неизлечимо больна. В 1903 г. эту картину, первую из работ Сомова, приобрела Третьяковская галерея. А спустя год Мартынова умерла.
Следующее десятилетие в творчестве художника отмечено глубокими переживаниями, ощущением ненужности и неприкаянности. Отсюда его меланхоличные, а подчас и уродливые, пугающие образы («Арлекин и дама», «Итальянская комедия», «Юноша на коленях перед дамой», «Зима. Каток»). Ему самому становилось невмоготу, и он писал в дневнике: «От маркиз и парков моих меня тошнит». А чего стоит беспощадная самокритичная оценка своих работ, представленных на московской выставке 1914 г.: «Впечатление картин несовременных, как будто уже умершего художника».
Тем не менее именно в это время Сомов был удостоен звания академика Академии художеств. В издательстве Кнебеля в Москве готовилась к выпуску монография о его творчестве, но она так и не вышла, потому что в 1915 г. магазин и склад издательства были разгромлены и многие материалы погибли. В 1919 г., к 50-летию художника, в Третьяковской галерее экспонировалась его юбилейная выставка.
Будучи неординарной личностью, К.А. Сомов нашел выход из творческого тупика. Это было обращение к натуре. Два года он посещал спецкласс в школе Е. Званцевой, ходил к Бенуа, где собирались поработать художники. Отныне у него стали четко прослеживаться два пути – картины «из головы» и сделанные с натуры. Особенно охотно он писал пейзажи, а простор своей фантазии давал в сложных натюрмортах, портретах и оформительских работах.
Став зрелым мастером, Сомов работал так же медлительно и скрупулезно, не изменяя своим принципам и профессиональной чести. Таким же честным и последовательным он был вне творчества. В юности вместе с товарищами выступил против хамского поведения академического начальства (известный бунт 1897 г.). В 1915 г. отказался баллотироваться в действительные члены академии, так как она находилась в ведении императорского двора, а вслед за этим отверг предложение писать портреты членов царской семьи, не скрывая того, что культуру самодержца считал «примитивной и убогой». Как в общем-то аполитичный, но умный и объективный человек Сомов приветствовал падение монархии в феврале 1917 г. и стойко встретил октябрьские события (он лишился собственного дома и солидных сбережений в банке). Затем, благодаря заботам Луначарского, на коллекции художника – антикварную мебель, фарфор, картины была выдана охранная грамота, его освободили от трудовой повинности и дали возможность заниматься своим делом. Он не думал о бегстве из России, а мучился тем, что его творчество оказалось ненужным. В то же время советское искусство никак не отвечало его эстетическим идеалам и уровню мастерства.
В декабре 1923 г. произошло событие, круто изменившее жизнь художника. Вместе с И. Грабарем он выехал как уполномоченный от художников-петроградцев с русской выставкой в Америку. Попутные встречи с коллегами и ценителями в Риге, Берлине, Лондоне, Париже, появление публикаций в прессе, впечатления от полнокровной творческой обстановки сделали свое дело. Сомов принял решение не возвращаться на родину. После выполнения всех обязанностей в Нью-Йорке в 1925 г. он отплыл из Америки во Францию. «Что-то принесет мне жизнь в Париже? – писал он сестре Анне. – Во всяком случае, у меня там будет работа».
Относительно работы Константин Андреевич не ошибся. Только за один 1927 г. он написал более 50 миниатюрных акварельных пейзажей и жанровых сцен, ряд замечательных портретов – Лукьянова, товарища, с которым жил в одном доме, певицы и пианистки Брайкевич, а также превосходные портреты Рахманинова и его дочери. В декабре следующего года художник выставил в Париже 63 работы и потом ежегодно принимал участие в вернисажах различных городов Европы: Копенгагена, Берлина, Белграда, Венеции, Лондона. В июне 1930 г. в одной из парижских газет появилась статья «Сомов и Левицкий», где говорилось о молодости художника, обновлении, достижениях в живописи, отмечалось, что «из прежнего скептика, уходящего от жизни», он стал «благостным и полюбившим жизнь».
Был ли он тогда счастлив? Вряд ли. Просто все устоялось и пошло своим чередом. Сомов говорил, что не способен быть счастливым. С годами художник становился все более нелюдимым, замкнутым и нетерпимым. Круг его общения был невелик – М. Лукьянов, семья Рахманиновых, преданный Шура Бенуа и кое-кто из навещавших друзей. Личная жизнь так и не сложилась. Самым дорогим человеком оставалась сестра – Анна Андреевна, с которой поддерживалась регулярная переписка. В Париже жил еще племянник (сын брата), иногда они встречались. Главным же для Константина Андреевича было творчество и новости культурной жизни.
Из работ последних лет видно, что художник пребывал в расцвете таланта и имел еще большой потенциал. У него было много заказчиков, а для души создавались произведения типа «Окно – дверь – пейзаж», «Окно – пейзаж – натюрморт», «Натюрморт с автопортретом». Замечательны также картины «Русский балет», пейзажи местечка Гранвилье и др. Автор блистал техникой и мастерством композиции, экспериментировал со сложными зеркальными отражениями, светом, красками.
К шестидесяти годам Сомов со смехом и грустью оглядывался на сделанное, особенно жалел, что потерял много времени на дам в кринолинах и «человечков без костей», как называл их Репин, на «отсебятину, дилетантство, ужасающие, мертвые, безвкусные московские портреты». «Вот, дитя мое, – обращался он к сестре, – мысли о загубленных годах и неисполненном долге». Как всегда, художник слишком критически оценивал свое творчество, но прав был в том, что времени оставалось мало. Даже не подозревал, как мало: через четыре года он внезапно скончался.
Потрясенный этой утратой А. Бенуа опубликовал обширный некролог, больше похожий на статью. Кроме трогательных воспоминаний, в нем содержалась такая оценка творческого наследия художника: «Основная черта этого скромного искусства есть бесспорная его вдохновенность – истинная "милость Божья"». Затем следовали пророческие слова: «Когда все то марево, весь тот кошмар лжи, что сейчас наводнили царство искусства, будут изжиты… то изголодавшихся людей потянет именно к искусству скромному, но абсолютно подлинному… И вот тогда среди очень немногих избранных и Сомов займет наверняка подобающее ему место ценнейшего для всех художника – к тому же художника, в котором чарующее русское начало чудесным образом сплетено с общечеловеческим».
Судейкин Сергей Юрьевич (Георгиевич) (род. в 1882 г. – ум. в 1946 г.)
Русский живописец, представитель символизма, один из создателей и наиболее талантливых мастеров «Голубой розы», организатор ее единственной выставки. Известный график и сценограф. В 20-х гг. прошлого столетия эмигрировал.
Жизнь этого художника представляла собой яркую драму, где было все: признание и нищета, любовь и предательство, напряженная любимая работа и тяжелая болезнь, борьба за место под солнцем и глухое отчаяние безнадежности. Видимо, иначе быть и не могло. Ведь человек, рожденный для творчества, часто идет неисповедимыми дорогами судьбы, неся в душе зерно собственной гибели. Художник всегда двулик. Он разрывается между светом и тьмой, добром и злом. Друзья и близкие Судейкина описывали его по-разному: одни видели в нем вульгарного пошляка, притворщика и циничного шутника, другие называли Сергея Юрьевича неисправимым романтиком, возвышенным мечтателем. Сам он питал безудержную тягу к оформлению карнавалов и маскарадов, где фиктивное существование в чужом обличье становилось реальным, а живопись, превращаясь в занавесы, костюмы и маски, материализовалась на удивление объемно. Эта страсть художника как нельзя более ярко отражала его собственный внутренний мир – живой, беспокойный, нетерпеливый, цветной. И – бесконечно, трогательно ранимый.
Сергей Юрьевич Судейкин родился 7 (19) марта 1882 г. Место, где он появился на свет, точно неизвестно: в некоторых документах упоминается Петербург, а по другим данным, это произошло в Смоленске. Отец Сергея, подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин, был потомком древнего дворянского рода, уроженцем Смоленской губернии. В течение долгого времени он работал помощником начальника Жандармского управления Петербурга. Когда будущему художнику исполнился год, его отец был убит народовольцами.
Сергей с детства не расставался с карандашами и красками, поэтому, когда мальчик объявил, что будет поступать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, никто из родственников и знакомых не удивился такому выбору будущей профессии. Ему удалось не только успешно сдать экзамены в 1897 г., но и вскоре выбиться в число весьма способных и успевающих студентов. Первые самостоятельные работы Судейкина показали близость восприятия художника к символистам – в них была та же романтическая наивность, перламутровые мерцающие тона, тающие контуры, как бы растворяющиеся в легкой дымке. Педагогами на том курсе, где оттачивал свое мастерство Сергей, работали К.А. Коровин и В.А. Серов. В годы учебы молодой человек, никогда не страдавший отсутствием общительности, сблизился с М.В. Сарьяном, П.В. Кузнецовым, Н.Н. Сапуновым, М.Ф. Ларионовым, Н.П. Крымовым, А.А. Араповым. В 1904 г. он вместе с другими студентами организовал в Саратове выставку «Алая роза», а в 1907 г. стал одним из организаторов «Голубой розы» в Москве. Однако что касается поведения – тут наставникам только и оставалось желать лучшего. Молодой художник не отличался особой серьезностью, зато темперамент у него был взрывной, что не раз приводило к конфликтам. Взгляд на современное искусство он тоже имел свой и старался отстаивать его. В 1902 г. Сергей принял участие в студенческой выставке, однако работы, сделанные им специально для этого случая, шокировали преподавательский состав училища. Рисунки Судейкина имели, по мнению педагогов, «непристойное содержание», так что их автор был отчислен из училища сроком на один год вместе с его приятелем Ларионовым, выдавшим такое же «безобразие». Это не помешало Сергею закончить курс обучения, получить в 1909 г. диплом и сразу после выпуска поступить в Петербургскую академию художеств. Там он был зачислен в мастерскую Д.Н. Кардовского и проучился в ней до 1911 г. За время занятий молодой человек познакомился и сблизился с А. Бенуа и другими представителями «Мира искусства». Еще с 1900 г. в течение 10 лет Судейкин постоянно экспонировал свои работы на выставках Московского товарищества художников и Союза русских художников, а также в парижском Осеннем салоне. Окончив Академию художеств, он стал членом «Мира искусства» и активным участником его выставок. Особенно тесная дружба связывала Сергея с К. Сомовым – мотивы творчества этого мэтра живописи заметны во многих работах Судейкина, который явно отталкивался в них от знаменитых сомовских «маркиз». В те годы из-под кисти молодого художника выходят полотна, принесшие ему известность: «Русская Венера», «В парке», «Карусель», «Петрушка», «Северный поэт», «Арлекинада», «Венеция», «Восточная сказка», портрет жены в роли Путаницы (героини пьесы Ю.Д. Беляева), многочисленные натюрморты, отличительной особенностью которых было обилие цветов и фарфора, а также пасторали.
Наиболее интересными из натюрмортов Судейкина, безусловно, являются «Цветы и фарфор» (начало 1910-х) и «Саксонские фигурки» (1911 г.). Странно, но они непостижимо напоминают театральное действо. Что же касается романтических сюжетов, которые были излюбленной темой участников «Мира искусства», то у Сергея Юрьевича они получали совершенно неожиданную трактовку, напоминая очень яркий, наивный, примитивный лубок, содержащий элементы пародии, гротеска и театрализации. Эти яркие кукольные мини-спектакли, фигурки и антураж которых были подчеркнуто ненастоящими, надуманными, стали тем звеном, которое связало в творчестве Судейкина живопись и сценографию. Постепенно Мельпомена взяла верх, и театр, балет, русское масленичное гулянье, итальянская комедия стали излюбленными темами работ художника. Красочные полотна молчаливо, но на удивление красноречиво говорили о том, что скоро для их автора по-настоящему главным делом жизни станет именно театр.
Любовь к сцене позволила Судейкину сблизиться со знаменитым меценатом С.И. Мамонтовым, который ввел Сергея в театральные круги Москвы и Петербурга. Мамонтов первым привлек своего нового знакомого к оформлению постановок в московском «Эрмитаже». С тех пор художник сотрудничал со многими деятелями сцены, оформлял спектакли в театрах В. Мейерхольда, В. Комиссаржевской, А. Таирова, Н. Евреинова. Судейкину принадлежат декорации к «Смерти Тентажиля», «Сестре Беатрисе», «Цезарю и Клеопатре», «Весеннему безумию», «Забаве дев», «Женитьбе Фигаро», балетам «Лебединое озеро», «Привал кавалерии», «Тщетная предосторожность». В 1912-1913 гг. Сергей Юрьевич принял участие в знаменитых «Русских сезонах» в Париже, выступая в качестве театрального художника. В частности, работая по эскизам Л.С. Бакста и Н.К. Рериха, он оформил одноактный балет «Трагедия Саломеи» В. Шмидта; создавал вместе с А. Таировым пьесу «Изнанка жизни»; выполнил эскизы костюмов и декорации к балету «Красная маска» Н.Н. Черепнина. В итоге этот мастер-сценограф стал одной из центральных фигур петербургской театрально-художественной жизни.
В 1910 г. Судейкин поддерживал тесное сотрудничество с действовавшим в городе на Неве театром-клубом «Дом интермедий», а в 1911 стал одним из организаторов художественно-артистического кабаре «Бродячая собака». Для него Сергей Юрьевич выполнил также оригинальную настенную роспись по мотивам «Цветов Зла» Ш. Бодлера, декорировал спектакли, маскарады и праздничные вечера, которые проходили в «Бродячей собаке». Здесь же, в кабаре, он, по всей вероятности, познакомился с Анной Ахматовой, близкой подругой его жены. За все время их знакомства Сергей Юрьевич нарисовал несколько портретов поэтессы, часто писал ей, называя «кузиной». Самыми интересными изображениями Ахматовой, сделанными Судейкиным, стали небольшой карандашный рисунок, на котором фигура женщины стилизована под греческую архаику, и портрет, написанный тушью. Последний набросок художник показал модели, после чего попросту выбросил, но его приятель – секретарь редакции, где, собственно, и рисовался портрет, – подобрал листок, вставил его в рамку и в течение многих лет хранил у себя.
Судейкин также принял живейшее участие в постановках «Башенного театра» в доме поэта В.И. Иванова. Позднее, в 1915-1917 гг., он тесно сотрудничал с хозяевами кабаре «Привал комедиантов»: исполнил декоративные панно по мотивам произведений К. Гоцци, а к открытию заведения оформил пантомиму «Шарф Коломбины» А. Шницлера в постановке Мейерхольда.
Одновременно Сергей всерьез увлекался журнальной и книжной графикой. Им были сделаны иллюстрации к произведениям М. Кузмина («Куранты любви», «Осенние озера», «Венецианские безумцы»), М. Метерлинка («Смерть Тентажиля») и других. Кроме того, художник постоянно и активно работал с журналами «Весы», «Аполлон», «Сатирикон» и «Новый Сатирикон».
К этому времени Судейкин уже давно был женатым человеком: еще в 1907 г. он успел обвенчаться с актрисой О.А. Глебовой. Их союз, не слишком удачный, с переменным успехом продержался до февраля 1918 г. После этого Сергей Юрьевич (без формального развода с первой женой!) заключил второй брак. Правда, его новая супруга, Вера де Боссе, также не позаботилась о том, чтобы официально разорвать отношения со своим первым мужем – петербургским фотографом Робертом Шиллингом… Вера Артуровна де Боссе – актриса Камерного театра А. Таирова, танцовщица дягилевских летних «Русских балетных сезонов» в Париже, считалась одной из самых красивых и обаятельных женщин богемного Петербурга. Скорее всего, первое знакомство художника и актрисы состоялось в 1913 г. Тогда они тайно убежали в Париж на несколько дней. Их роман тянулся долго, и с 1915 г. пара уже не скрывала своих отношений. Сергей и Вера вместе принимали участие в поставленной А. Таировым «Женитьбе Фигаро», где де Боссе исполняла партию испанской танцовщицы, а Судейкин выступал в роли театрального художника. В том же году Вера сыграла Элен в экранизации «Войны и мира». После этого пара начала работать в петроградском «Привале комедиантов» у Пронина.
В феврале 1917 г., когда в стране произошла революция, художник подчеркнул свое отношение к сложившейся политической ситуации, создав плакат-карикатуру на Николая II («Слетайтесь, вольные птахи…»). После чего Сергея Юрьевича вместе с другими «добровольцами» отправили на фронт. Однако он почти сразу вернулся домой – скорее всего, дезертировав из армии, – и подался в Москву, куда уехала Вера (актриса решила переждать грозные события и отправилась на время к матери).
В мае 1917 г. года пара уехала в Крым. Отношения Судейкина с новой властью складывались весьма удачно: с лета 1917 по апрель 1919 г. он работал по учету ценностей в национализированном Воронцовском дворце, получал приглашения выставить свои полотна в рамках различных художественных выставок. Судейкины жили в Ялте, Алуште, Симеизе, Гаспре, Алупке и Мисхоре. Они находили приют у друзей или снимали квартиры, принимали активное участие в местной художественной жизни, общались с Белкиным, Волошиным, Маковским, Сориным, музыкантами Блуменфельдом, Дроздовым, Якобсоном.
Кстати, период эмиграции Судейкина в Крым, Грузию, Азербайджан, Францию в 1917-1920 гг. известен мало. Долгое время бытовало мнение (абсолютно ошибочное!), что представители творческой когорты Серебряного века потеряли оригинальность после революции 1917 г. и фактически сошли с арены искусства… Жизни и творчеству С.Ю. Судейкина за все время существования СССР была посвящена лишь монография Д.З. Коган (1974 г.), которая никак не может претендовать на звание полной. Правда, и она была своего рода уникумом: удивительно, как в брежневскую эпоху кто-то вообще рискнул говорить о человеке, эмигрировавшем за рубеж. Но именно по этим причинам в монографии почти ничего не сказано ни о самой эмиграции художника, ни о его позднем творчестве. Реконструировать этапы жизни Сергея Юрьевича помогли уникальные архивные материалы, хранящиеся в коллекции Института современной русской культуры. Они были переданы данной организации бывшим секретарем Игоря Стравинского, Робертом Крафтом. Речь идет о дневниках тогдашней жены Судейкина, Веры Артуровны де Боссе, и семейном альбоме «звездной» пары. Все бумаги датированы 1917-1923 гг.
В декабре 1917 г. в Ялте, в помещении женской гимназии, состоялась Первая выставка картин и скульптур Ассоциации объединенных художников. На ней были выставлены четыре полотна Судейкина. А в конце октября 1918 г. в городе проходила организованная Маковским выставка «Искусство в Крыму», которую считают значительным событием в истории русского модернизма. Она состояла из исторической части – 156 картин таких мастеров, как Айвазовский, Боровиковский и Брюллов, – и современной, на которой были представлены 284 работы. Часть картин выставлялась на продажу. Судейкин с удовольствием принял приглашение участвовать в выставке и передал организаторам несколько живописных полотен, среди которых было и знаменитое «Гадание». Мероприятие принесло Сергею Юрьевичу большую прибыль: часть из его работ была почти сразу куплена за солидные суммы.
Трудно сказать, почему Судейкины решили оставить налаженную жизнь и близких друзей, но в апреле 1919 г. они приняли решение уехать во Францию. До Парижа супруги захотели добраться через Константинополь, однако пароход, на котором они плыли, попал в сильнейший шторм и, потеряв курс, вынужден был высадить своих пассажиров в Батуми. Оттуда Сергей и Вера добрались до Тифлиса.
Этот город в 1919 г. являлся средоточием контрастов, соединением европейской элегантности и азиатской экзотики. Сергей Юрьевич сразу же окунулся в богатую культурную жизнь Тифлиса, написал целый ряд прекрасных портретов своих приятелей, живших в этом удивительном месте, где высились элегантные здания посольств многих государств мира, но при этом основным средством передвижения по-прежнему оставались верблюды. Судейкиным интересовались, многие газеты печатали интервью с художником. Сергей Юрьевич принял участие в городских выставках, в частности в «Малом круге» (май 1919 г.), участвовал в создании интерьера некоторых кабаре и ресторанов («Павлиний хвост», «Ладья аргонавтов» и др.). Тогда же прошла персональная выставка художника, имевшая значительный успех.
Несколько позже Судейкину снова захотелось попробовать свои силы в дизайне интерьера, и он занялся оформлением местного кафе «Химериони», а затем в течение некоторого времени часто выступал в нем и как театральный художник. Тогда же он исполнил росписи фойе домашнего театра Туманишвили, написал целый ряд сцен из грузинской жизни, создал несколько гротескно-символических картин, наиболее известными и впечатляющими из которых являются «Химера» и «Дон Жуан».
Но Сергей Юрьевич продолжал мечтать о больших театрах Парижа и других европейских городов, поэтому Тифлис – в общем-то, чужой ему город – рассматривал лишь как временное пристанище. И в декабре 1919 г. художник снова отправился в путь. На этот раз судьба привела Судейкина в Баку, где он также принял участие в нескольких выставках и написал панно для кабаре «Веселый арлекин».
А дальше в истории эмиграции этого мастера кисти – белое пятно. Поскольку бакинская часть альбома и дневников Веры Артуровны была утеряна, единственные сведения, которыми располагают искусствоведы, заключаются в том, что 12 марта 1920 г. Судейкин уехал почему-то опять в Тифлис, 8 мая сел на пароход «Souirah», идущий из Батуми, 18 мая прибыл на нем в Марсель, а через два дня добрался наконец до Парижа.
Здесь он был принят Н.Ф. Балиевым в качестве сценографа в кабаре «Летучая мышь». Несколько позже художник начал сотрудничать также с театром «Балаганчик». Дальше – больше. Его охотно приглашали работать в «Русской опере», театре «Аполлон». Судейкину поручали, среди прочих работ, оформление балетов «Спящая красавица» П.И. Чайковского и «Фея кукол» И. Байера для труппы Анны Павловой. Казалось, художник наконец-то добился желаемого, но жизнь подстроила ему очередную каверзу: 19 февраля 1921 г. Сергей Дягилев познакомил Веру Артуровну с Игорем Федоровичем Стравинским… Эта встреча поставила крест на семейной жизни Судейкина, а де Боссе вскоре стала Верой Стравинской. Конечно, жизнь художника на этом не окончилась – он продолжал много и плодотворно работать, создал ряд портретов театральных деятелей, принял участие в выставках русских художников в Париже и Лондоне. Однако расставание супругов было бурным, сопровождалось шумными скандалами и разделом имущества, что, видимо, подорвало здоровье Судейкина – со времени развода он стал часто болеть.
19 августа 1922 г. вместе с труппой Н.Ф. Балиева Сергей Юрьевич отправился в Америку на гастроли, но во Францию больше не вернулся. Он решил попробовать начать жизнь заново в Новом Свете. Обосновался художник в Нью-Йорке, где продолжил заниматься сценографией и участвовал в постановке многих спектаклей театра Метрополитен-опера, Л.Ф. Мясина, Дж. Баланчина, М.М. Фокина, М. Мордкина и др. Декорации и костюмы, выполненные им для балетов Стравинского «Петрушка» (снова для труппы Анны Павловой), «Соловей», «Свадебка», «Лунная соната» (на музыку Бетховена), «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Золотая рыбка» Н. Черепнина, «Паганини» (на музыку С. Рахманинова), «Жизель» А. Адана, опер «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского, «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Летучий голландец» Р. Вагнера, стали едва ли не лучшими образцами сценографического искусства 20 – 30-х гг. прошлого столетия. Кроме того, Судейкин написал также декорации к кинофильму «Воскресение», снятому в Голливуде в 1934-1935 гг. по роману Л. Толстого. Живя в США, Сергей Юрьевич продолжал развивать традиции «живописного театра» модерна, осуществляя близкую ему идею театрализации жизни. При этом он не прекращал создавать новые станковые вещи, которые регулярно показывал на проходивших в Нью-Йорке, Чикаго, Брюсселе, Уилмингтоне выставках современного искусства. Трижды персональные выставки Судейкина проводились в Нью-Йорке, состоялись аналогичные показы в Чикаго и Питсбурге (в Институте Карнеги). Наиболее известными живописными полотнами, созданными художником в тот период, являются «Русская идиллия», «Американская панорама», «Моя жизнь», «Двойной семейный портрет». Сильное впечатление производит также большое панно, написанное по мотивам балета «Весна священная» И. Стравинского.
Умер Сергей Юрьевич Судейкин 12 августа 1946 г. в городе Найаке (штат Нью-Йорк). Последние годы своей жизни художник тяжело болел и прозябал в крайней нищете. Его творческие силы были исчерпаны, и к краскам он больше не прикасался. Похоронили Сергея Юрьевича на Бруклинском кладбище. А в 1964 г. в галерее Nikoff в Нью-Йорке состоялась мемориальная выставка, посвященная памяти С.Ю. Судейкина. В России работы художника хранятся в Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина. Его живописные полотна могут нравиться либо вызывать недоумение – это дело вкуса и особенностей личного восприятия жизни. Но, потеряв Судейкина, театр так и не смог восполнить эту утрату – недаром его эскизами костюмов и декорациями восхищались многие деятели сцены, в том числе и Анна Павлова, обвинить которую в отсутствии художественного вкуса ни у кого не хватит духа.
Суриков Василий Иванович (род. в 1848 г. – ум. в 1916 г.)
Выдающийся русский живописец, мастер исторического жанра. Академик и профессор живописи. Обладатель наград: серебряных и золотых медалей Академии художеств; ордена Анны на шею за роспись «Вселенских соборов» в храме Христа Спасителя; ордена Святого Владимира четвертой степени за картины «Покорение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы».
«Со всех сторон я прирожденный казак… Мое казачество более чем 200-летнее», – с гордостью вспоминал о своих исторических корнях В.И. Суриков, чьи предки пришли в Сибирь с Дона вместе с Ермаком и испокон веку несли караульную службу. В его роду по отцу, Ивану Васильевичу, были казачьи атаманы, есаулы и сотники, а по линии матери, Прасковьи Федоровны – торговые казаки Торгашины. Мощь и величавость человеческого духа покорителей Сибири, бескрайние просторы вокруг Красноярска, звучный голос строгого отца и его любовь к песням, немногословность матери, ее вышивки и кружева, домашние сундуки, наполненные старинными вещами, мундирами, оружием, казачьи полковые смотры и публичные казни – все это окружало в детские годы Сурикова, формировало его характер и особое отношение к истории.
Маленьким Вася любил рисовать гвоздиком по мебели, угольком на бумаге. В уездном училище (1856-1861 гг.) он переходил из класса в класс с наградами. Особое значение имели для него уроки рисования, проводимые Н.В. Гребневым. Учитель рано распознал будущий талант Сурикова, «чуть не плакал над ним», обучая всему, что знал сам, приучил писать с натуры, работать на пленэре. После смерти отца (1859 г.) заботы о доме и четверых детях легли на плечи матери. Василий помогал ей чем мог: на Пасху расписывал яйца по три рубля за сотню, служил писцом в канцелярии губернатора П.Н. Замятина, давал уроки его дочери. А однажды за рубль серебром написал для купца большую икону «Богородичные праздники», краски на которой горели спустя многие годы. Губернатор отправил папку с первыми работами Сурикова в Академию художеств, а расходы на его обучение в Петербурге (1868-1875 гг.) взял на себя богатый золотопромышленник и известный сибирский меценат П.И. Кузнецов.
Экзаменационный рисунок в академии не удался, но юный художник с присущим ему оптимизмом поступил в школу рисования при Обществе поощрения художников. Работал он упорно и неутомимо, штудировал анатомию и постигал законы перспективы. Трехгодичный курс Суриков одолел за три месяца и, достойно выдержав экзамены, в 21 год был зачислен в головной класс академии. Василий с гордостью писал матери и брату в Красноярск о своих успехах в композиции и колорите, которые он осваивал под руководством П.П. Чистякова. Великолепный педагог, воспитавший Крамского, Репина, Поленова, Васнецова, Серова, Врубеля, развивал «не строгий рисунок» юного художника и угадал суть его дарования. Талант и труд быстро вывели Сурикова в число лучших студентов. «Вид памятника Петру I на Сенатской площади» (1870 г.), «Убийство Дмитрия Самозванца» (1872 г.), «Княжий суд» (1874 г.) и другие академические работы принесли ему серебряные и золотые медали, премии. Небольшой по размерам эскиз «Пир Валтасара» (1874 г.), обладающий драматизмом и законченностью крупного произведения, сделал Василия «героем академического года». А работа «Милосердный Самаритянин», наполненная знойным колоритом пустыни и выразительными фигурами, получила Малую золотую медаль и была с благодарностью подарена автором Кузнецову за многолетнюю помощь и дружбу. Картиной «Апостол Павел объясняет догматы христианства» (1878 г.) завершил Суриков свое обучение: золотой медали не дали никому, да и средств на заграничную поездку академия выделить не смогла. Но зато Василий получил заказ написать в храме Христа Спасителя на четырех пилонах четыре первых Вселенских собора (1876-1878 гг.). Эскизы были выполнены еще в Петербурге; работалось скучно, поскольку приходилось точно следовать церковным канонам, но заказчики платили 10 000 рублей, и художник выполнял все требования. Это была последняя его работа на заказ. «Мне нужно было денег, чтобы стать свободным и начать свое», – объяснял Суриков свою уступчивость. С тех пор он стал полновластным хозяином своей жизни, подчиненным только творчеству и семье.
Жить в Москве Василию нравилось, но в Петербурге осталась Лиличка Шарэ. Познакомились они в католической церкви, куда регулярно приходили слушать органную музыку. Девушка была воспитана на французский лад, одевалась, как парижанка, и обладала при этом скромностью, достоинством и хорошими манерами. Мария Александровна, дочь декабриста Свистунова, не успела оглянуться, как тридцатилетний сибирский казак покорил ее двадцатилетнюю дочь. Родители не могли дать за ней никакого приданого (в семье было еще три дочери и сын), но Василий Иванович ни на что не рассчитывал, будучи уверен, что сам обеспечит свою семью. Он был счастлив, любим и независим. 25 января 1878 г. молодые обвенчались и переехали в Москву. Суриков души не чаял в Лиличке, которая не навязчиво, но твердо управляла жизнью молодой семьи. Осенью у них родилась дочь Оленька, папина любимица.
Личное счастье, казалось, отпустило тугую пружину таланта Сурикова, и заряд огромной творческой энергии был направлен на задуманную еще в академии картину о Петре и стрельцах. Это была исключительно сложная композиция, подчиненная психологическому напряжению исторического события. Художник изучил все документы, создал на натуре сотни эскизов. Образы стрельцов в окружении семей, Петра, придворных искались месяцами, и, как на палитре с красками, в их лицах отразилась вся гамма их чувств: гнев, страх, обреченность, ненависть, безразличие и любопытство. Даже руки с судорожно зажатыми свечами говорят на полотне. Гневные взгляды рыжебородого стрельца и Петра пронзают всю картину. Любая деталь глубоко продумана художником: семь глав собора Василия Блаженного соответствуют количеству приговоренных, а Кремлевская башня – одинокой фигуре Петра. «Когда я стрельцов писал, – вспоминал Суриков, – я каждую ночь во сне казни видел. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Все боялся, не пробужу ли я в нем неприятного чувства. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а не казнь… И никогда не было желания потрясти». Но выставленная в марте 1881 г. на Девятой передвижной выставке в Петербурге картина «Утро стрелецкой казни» все же потрясла публику, а художника выдвинула в ряды знаменитых русских живописцев. Сам Василий Иванович не присутствовал на показе. Сильно простудившись на этюдах, пять дней он находился между жизнью и смертью. Елизавета Августовна (Лиличка) отдала все силы, чтобы выходить мужа.
После выздоровления, окрыленный успехом «Стрельцов», он замыслил сразу две картины. В спокойное течение жизни, где царствовали жена и дочери (к тому времени родилась и младшая – Елена), вошел любимец Петра, генералиссимус, светлейший князь Меншиков. Внук Петра I свалил могучего царедворца, отнял у него все дочиста и отправил в ссылку с семьей. Все пропало – и богатство и почести, похоронена жена. В маленькой промерзлой избушке, где и встать его громадной фигуре в полный рост нельзя, сидит седой «сгорбленный орел», в прошлом гордый, властолюбивый сподвижник Петра, а ныне одинокий старик, окруженный детьми. Среди своей семьи он возвышается как памятник, как обломок великой эпохи. К его ногам прижалась дочь Мария, бывшая «царская невеста» (художник писал ее с жены). Своей работой «Меншиков в Березове» (1883 г.) мастер был доволен, но критики резко обрушились на него за нарушение пропорций, плохое освещение, темные сумрачные цвета. И только Нестеров оставил в своих воспоминаниях строки: «…Мы восхищались его дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл, красками. «Меншиков» из всех суриковских драм наиболее «шекспировская» по вечным неизъяснимым судьбам человеческим». Понял психологическую глубину трагедии личности и Третьяков, купив полотно для своей галереи.
Деньги, полученные за картину, позволили семье Суриковых уехать на восемь месяцев за границу. Проездом побывали они в Берлине, Кельне, Дрездене, жили в Париже, путешествовали по Италии. Василий Иванович нигде не расставался со своим походным альбомом в холщовом переплете. Там, среди карандашных набросков, акварельных этюдов и портретов, появившихся в результате множества впечатлений от поездки, были и первые композиции к «Боярыне Морозовой». Из путешествия Суриков привез прекрасный «Флорентийский пейзаж», яркий портрет итальянки, бросающей цветы на римском карнавале, акварель «Собор Петра и Павла в Риме» и осознание себя как русского художника, которому по плечу глубокие исторические темы.
Художника заинтересовали времена церковного раскола, которые хранили много драматических страниц. Образ одухотворенной верой боярыни жил в его памяти с детских лет, как воспоминание о тетке. Для картины был взят момент, когда раскольницу, скованную кандалами и наручниками, измученную пытками, но не изменившую вере, везут по людным улицам, и она прощается с народом двуперстным крестом. Пять лет создавал Суриков это полотно. Тридцать композиций отверг художник, пока достиг движения саней среди толпы. Ему позировали монашки и юродивые, дети и взрослые, он сам бежал за санями по городу, чтобы ухватить изменения цвета снега под полозьями. На полностью готовой картине не было только лица мученицы за веру, ведь ее лик должен был обладать такой мощью, чтобы не затеряться в толпе, настроение которой менялось от равнодушного безразличия до потрясения и невольного сочувствия отступнице. Неистовость духа и отречение от всего земного нашел Суриков в профиле молодой начетчицы монастыря, и картина сразу же обрела ту трагичность и глубину, к которой стремился мастер. Стасов написал: «…Суриков – просто гениальный человек. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе… Ему равны только "Борис Годунов", "Хованщина" и "Князь Игорь"».
Закончив многолетний труд, Василий Иванович повез семью в Красноярск знакомиться со своей строгой матерью и братом Сашей. Свекровь невзлюбила невестку, а покладистая Лиличка не смогла преодолеть отчуждения. Дети и Василий Иванович вернулись в Москву полные впечатлений, а для Елизаветы Августовны эта поездка стала последней. Суриков винил себя в болезни жены, взвалил на себя и уход за ней, и домашнее хозяйство. Заметив, что посещения Л.Н. Толстого и его наблюдения за угасающей жизнью внушают страх Лиличке, он резко выгнал «злого старика». «Не привел Бог мне выходить ее, как она меня восемь лет назад тому… Жизнь моя надломлена; что будет дальше, и представить не могу», – писал Суриков брату после похорон жены (1888 г.) Он тосковал и бушевал. Пристрастился к Библии, а под ее верхней крышкой написал свою родословную, закончив именами дочерей, словно знал, что ни другой жены, ни других детей у него не будет. Горе накрепко связало их маленькую семью. Отец заменил дочерям и мать, и гувернантку, и няньку. Почти прекратил работать на целых два года. В единственной картине этого периода «Христос исцеляет слепорожденного» Суриков словно справил поминки по личной жизни. «Я писал ее лично для себя», – говорил художник.
Горькие страницы своей жизни он перевернул лишь в 1891 г. Светлым мигом исцеления стала искрометная картина «Взятие снежного городка». Впервые Василий Иванович писал легко и быстро: удалой всадник на черном коне, свежие сияющие лица, слепящий снег и яркие пятна шалей – все удалось на картине, а главное – вернуло художника к творческой жизни.
На смену трагической трилогии «Стрельцов», «Меншикова» и «Морозовой» пришли исторические полотна, прославляющие казачество, солдатский подвиг и стихийную силу русского человека. «Хотелось передать, как две стихии встречаются», – сформулировал Суриков замысел полотна «Покорение Сибири Ермаком». Композиционно картина разделена по диагоналям (любимый прием художника): левую нижнюю часть занимают казаки во главе с монументальной фигурой своего предводителя, а правую верхнюю – татары всесильного в прошлом хана Кучума. Работая над полотном, Суриков изъездил Сибирь и Дон. Кучумова рать и казачье войско пополнялись новыми выразительными типами. Все было важно в историческом полотне, но главное, чтобы «сам дух времени был соблюден», а «в деталях можно какие угодно ошибки делать», – писал художник. Выставленная в 1895 г. картина захватила зрителей. «Я больше и больше приобщаюсь, становлюсь если не участником, то свидетелем огромной человеческой драмы, бойни не на живот, а на смерть», – передавал свои впечатления от полотна Нестеров.
Работая над картиной, Суриков с детьми «кочевал» между Москвой и Красноярском. Он подпитывал свои силы на сибирских просторах, но жить там постоянно не мог, так как дочери нуждались в хорошем образовании. Суриков приступил к воплощению русской патриотической идеи на холсте «Переход Суворова через Альпы» (1895-1899 гг.). «Главное у меня в картине – движение. Храбрость беззаветная – покорные слову полководца идут», – пояснял Суриков. С поразительной теплотой показан Суворов, от его озаренной светом фигуры зажигаются лица солдат, они верят ему и бесстрашно низвергаются с заснеженной горы. Стремительный спуск передан с потрясающей точностью, возбуждая преклонение перед героизмом и храбростью русского солдата.
Труднее всего далась Сурикову его последняя картина «Степан Разин». «"Стрельцов", "Меншикова" и "Морозову" Суриков не мог не написать; "Ермака" он смог написать; "Суворова" мог и не писать, а "Стеньку" не смог написать», – отмечал лучший биограф художника и друг семьи М. Волошин. Медленное угасание психологического напряжения в творчестве Василия Ивановича он связывал с личным дискомфортом: похоронив жену и мать, выдав замуж любимую дочь Оленьку, художник чувствовал себя покинутым и опустошенным. И хотя с зятем Петром Петровичем Кончаловским, молодым художником, они стали друзьями, а во внуках он души не чаял, преодолеть в себе горечь утраты не смог. Его мастерство как рисовальщика несравненно возросло, но в «Степане Разине» (1907 г.) нет драматического напряжения и связи выдающейся личности с историческим окружением. Гекзаметр Ювенала, написанный на одном из эскизов: «Праздный прохожий споет перед разбойником песню», – придает иное, чем ранее, звучание этому полотну Сурикова. Оно – задушевная песня о казацком атамане, тревожное раздумье на волжском просторе. Василий Иванович впервые болезненно воспринял критику в свой адрес. И хотя картина стала «гвоздем выставки» передвижников, Суриков еще три года «усиливал "Разина"».
В последние годы жизни художник с младшей дочерью много путешествовал, гостил у Ольги в Париже, с зятем изъездил Испанию, лечил сложную болезнь глаз у профессора Килиона в Берлине. Сделал массу эскизов, задумал два больших полотна: о княжне Ольге и Емельяне Пугачеве, но успел создать лишь «Посещение царевной женского монастыря» (1912 г.). Позировала ему для картины внучка Наташа, которая спустя многие годы написала книгу о своем знаменитом деде. Но самыми яркими воспоминаниями девочки были великолепные сказки в картинках, которые Василий Иванович сочинял сам и иллюстрировал на любом листе бумаги, приводя в восторг внуков.
Здоровье еще моложавого, крепко сбитого сибиряка осложнилось воспалением легких. 6 марта 1916 г. Сурикова не стало. В нескончаемой траурной процессии шли студенты, художники, артисты, элегантные дамы и богатые господа, рабочий люд и солдаты, шли русские люди, лица которых художник любил, а дух и характер – прославлял в своих бесценных полотнах.
Татлин Владимир Евграфович (род. в 1885 г. – ум. в 1953 г.)
Русский живописец, график, театральный художник, архитектор, дизайнер, один из двух самых авторитетных лидеров русского авангарда первой половины 20-х гг. прошлого века (наряду с К. Малевичем). Родоначальник художественного конструктивизма, предвосхитивший многие веяния в современном искусстве. После периода признания в 1933 г. попал в разряд критикуемых «формалистов» и был одним из немногих, кто пытался защищаться и отстаивать свой взгляд на искусство.
Родился Владимир Евграфович Татлин 16 (28) декабря 1885 г. в Москве. Начальное образование получил в Харьковском реальном училище. Отца своего, инженера по профессии, часто переезжавшего с места на место, мальчик откровенно не любил и боялся – Татлин-старший был сердит, нетерпелив, скор на расправу, с сыном не церемонился и часто бил его. Мать Володи умерла от чахотки, когда мальчику было около двух лет, и в памяти художника почему-то ассоциировалась со светом и… цветами подсолнуха. С мачехой отношения складывались напряженные и неприязненные. Нетрудно понять, почему мальчишка убежал из дома в 14 лет. Из домашних никто особенно не переживал по этому поводу.
В 1900 г. Владимир устроился юнгой на пароход и совершил плавание по маршруту Одесса-Варна-Стамбул-Батум и обратно. Попав в компанию «морских волков», паренек выработал своеобразный иммунитет против насмешек и нападок – робость свою он скрывал под маской дурачества и вскоре попросту превратился в судового паяца.
Море Владимир, конечно, любил. Но связать с ним свою жизнь не спешил: юнгу держало воспоминание о том, как в 10 лет ему в руки попала журнальная статья о японской архитектуре и дизайне. Тогда мальчик «заболел» строгой красотой пространственных решений мастеров Страны восходящего солнца и решил, повзрослев, стать художником. Первый шаг на пути осуществления своей мечты он сделал в 1902 г., поступив в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Но уже через год Владимира выставили оттуда, отчислив «за неуспеваемость и неодобрительное поведение». Татлин вновь вернулся на Черное море и несколько лет плавал матросом на разных судах. (Кстати, значительно позже, уже став художником, он несколько раз нанимался матросом на лето и отправлялся из Одессы в морские путешествия.) В 1905 г. юноша решил все-таки получить профессиональное образование, чтобы обеспечить себе твердую почву под ногами – в жизни ему приходилось надеяться только на самого себя. Поэтому Татлин поступил в Одесское училище торгового мореплавания.
Но в том же году Владимир еще раз решил попытать счастья в искусстве и сумел поступить в Пензенское художественное училище, где проучился до 1910 г. и получил специальность «профессионального рисовальщика». Во время каникул этого студента часто можно было видеть занятым изучением и копированием образцов древнерусского искусства. В то время Владимир завязал связи с авангардистами, в частности с М.Ф. Ларионовым, Д.Д. Бурдюком, Н.С. Гончаровой, В.В. Хлебниковым, А.Е. Крученых, стал принимать участие в выставках «Мира искусства» и «Союза молодежи». Кроме того, его ранние работы выставлялись в рамках нашумевших выставок «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Владимир довольно быстро выдвинулся и стал заметной фигурой среди представителей авангарда: занялся оформлением спектаклей в нескольких театрах и студиях, участвовал в иллюстрировании футуристических изданий. В живописи того периода у Татлина аналитически выделяются крупные, ритмически соподчиненные плоскости. Образцом таких работ могут служить его «Матрос (Автопортрет)», 1911 г. и «Продавец рыб», 1912 г. Вообще, романтическая морская тематика характерна для большинства полотен художника того времени. В разные годы Татлин обучался также во многих авангардных художественных студиях Москвы и Петербурга. Его наставниками были И.И. Машков, Я.Ф. Ционглинский, М.Ф. Ларионов, М.Д. Бернштейн.
Владимира часто приглашали работать в качестве театрального художника, так как его сценографические работы представляли собой на редкость удачное сочетание черт модернизма и футуризма, экспрессивно воплощали идею всеобщего, «мирового» ритма, столь востребованного в те годы постановщиками спектаклей. Самыми интересными в художественном плане стали декорации к «народной драме» «Царь Максемьян», поставленной в московском «Литературно-художественном кружке» (1911 г.) и циклы эскизов к неосуществленным оперным спектаклям «Жизнь за царя» М.И. Глинки (1913 г.) и «Летучий голландец» Р. Вагнера (1915 г.).
В 1912 г. Татлин основал в Москве собственную школу-мастерскую, в которой занимались живописью очень многие художники «левого» толка. В то время Владимир Евграфович принимал участие практически во всех отечественных выставках.
В январе – марте 1914 г. художник, умевший играть на концертино, поступил в ансамбль и отправился в Берлин, сопровождая Русскую кустарную выставку. На ней Владимир выступал в качестве… слепого певца-бандуриста! Музыканты пытались устраивать концерты на улицах, но полиция пригрозила им тюрьмой. Пришлось удовольствоваться редкими выступлениями в кафе. Однажды ансамбль получил разрешение выступить в парке («этих странных русских» со всех сторон окружала полиция – на всякий случай!). Неподалеку от музыкантов остановился проезжавший мимо кайзер и довольно долго, с большой серьезностью слушал их игру. Затем он подозвал адъютанта, указал на Татлина, вытащил золотые часы и, отстегнув их от цепочки, велел передать в знак признания «слепому кобзарю».
На деньги, заработанные в ходе поездки и вырученные от продажи часов, художник отправился в Париж, где познакомился с Шагалом и посетил мастерскую П. Пикассо. Татлин, в ответ на замечание знаменитости о том, что посетитель пожирает его студию глазами, сказал: «Я понимаю то, что вы делаете». На что Пикассо пожал плечами: «Такой и должна быть скульптура». Татлин просил хозяина мастерской взять его к себе учеником. Он был готов мести полы и мыть мастеру кисти. Но Пикассо невозмутимо ответил: «Не теряйте ни минуты. Ступайте делать то, что хотите, что можете. Вместите работу всей жизни в одну неделю. Ничего не планируйте – делайте». Этому совету мастера Татлин старался следовать всю свою жизнь.
В 1914 г. Владимир Евграфович изобрел совершенно новую разновидность искусства, названную им «живописным рельефом» или «контррельефом». Представление о своеобразии татлинских композиций можно составить, рассмотрев уникальный экспонат из цинка, палисандра и ели (1916 г.), выставленный в Государственной Третьяковской галерее. Художник считал, что искусство, лишь пассивно отражающее натуру, изжило себя. Далее оно либо обречет себя на гибель, либо само выйдет в мир, превратившись в конструирование реальных трехмерных вещей. В мае 1914 г. художник организовал в Москве Первую выставку живописных рельефов. Выставленные на ней экспонаты представляли собой объемно-пространственные композиции. Материалом для них служили заведомо «нехудожественные» вещи: картон, дерево, металл, штукатурка и стекло. Иногда материал композиций «дополнялся» бытовыми предметами или фрагментами готовых изделий – ножкой стула, консервной банкой, куском обоев. Столь необычное решение собственных творений художник объяснял просто: он утверждал, что зрительное восприятие не может дать полного представления о результатах художественного труда; поэтому он сочетал в композициях различные материалы с тем, чтобы свойства каждого из них выступали наиболее четко в примененной автором форме, цвете, фактуре и текстуре. Созданием произведений такого рода Татлин занимался на протяжении 1913-1916 гг. Сегодня подобную работу вполне справедливо назвали бы художественным конструированием.
Контррельефы Татлина стали началом русского конструктивизма в архитектуре и дизайне. В этом ряду работ наиболее сложными были контррельефы, отличавшиеся от рельефов тем, что подвешивались в пространстве на тросах, проволоке или шпагате (в зависимости от размера и веса конструкции). Позднее (в 1917 г.) такую же систему декоративных висячих элементов из листового металла художник использовал при оформлении интерьера московского кафе «Питтореск».
Сам художник противопоставлял свое творчество отвлеченно-знаковому супрематизму К.С. Малевича – своего соперника по лидерству в русском авангардном искусстве. На выставке «Ноль десять» (1915 г.), где Малевич впервые представил взорам публики свой знаменитый «Черный квадрат» и объявил о создании нового направления в искусстве, Татлин в соседней комнате выставил (точнее было бы сказать, «вывесил») «рельефы» и «контррельефы». На входе в свой зал Владимир Евграфович укрепил табличку: «Комната профессионалов живописи».
Естественно, что после революции 1917 г. идея глобального преобразования культуры захватила художника. Наконец-то перед ним открывалось широкое поле деятельности! В 1918-1919 гг. Татлин осуществлял руководство московским отделом Коллегии по делам изобразительных искусств Наркомпроса. Художник считал, что развитие архитектуры сковано устаревшими за века канонами. Поэтому назрела острая необходимость коренного обновления этой области искусства при участии «художников-конструктивистов» и инженеров, «свободных от влияния архитектурной рутины». Работа Татлина в этом направлении началась как раз в тот момент, когда и в СССР, и в Западной Европе приближалась эпоха подъема новаторского архитектурного творчества. Поэтому смелые идеи Владимира Евграфовича сразу же получили всемирную известность, став стимулом для дальнейших новаторских исканий.
В 1919-1920 гг. Татлин создал произведение, считающееся главным в его жизни: модель грандиозного здания-памятника III Интернационалу, который известен также как «башня Татлина». Она была собрана из металла, стекла и дерева. В создании модели художник не мог опираться на инженерное образование либо знание технической механики и металлических конструкций. При этом он умудрился ввести в архитектуру совершенно новые формы, использовав в качестве отправной точки открытую красоту стекла и металла.
К сожалению, авторская модель не сохранилась. Она известна лишь по нескольким фотографиям, по которым позднее были сделаны несколько реконструкций (наиболее удачная из них относится к 1993 г. и хранится в музейно-выставочном центре ГВМЦ РОСИЗО). Модель памятника была выставлена в декабре 1920 г. в Москве, во время работы VIII съезда Советов.
Здание, превосходящее в полтора раза по высоте Эйфелеву башню, должно было представлять собой гигантскую конструкцию из металлических балок и вращающихся с разной скоростью прозрачных геометрических фигур, объединенных вокруг общей оси. Энергичная диагональ уникального строения сочеталась с двумя охватывающими башню спиралями. Вращающиеся объемы были вписаны внутрь обнаженной каркасной структуры. Комплекс должен был иметь не только символическое, но и вполне реальное значение: он виделся создателю культурно-пропагандистским и административным центром Коминтерна – организации, готовившей человечество к мировой революции.
В выборе объемов Татлин руководствовался словами Сезанна, который говорил, что «следует схватывать природу, как цилиндр, сферу, конус».
Куб из стекла и стали должен был поворачиваться вокруг своей оси раз в год, конус – раз в месяц, а цилиндр – ежедневно. В кубе художник разместил лекционные залы для ученых и поэтов, гимназии для Спартакиады, конторы Агитпропа, залы собраний для советов, кинотеатры, большой зал для международных коммунистических съездов; ни одно помещение куба не должно было стать музеем или библиотекой. Всему следовало оставаться кинетическим, текучим.
В конусе должны были располагаться кабинеты руководства, комиссаров, секретарей, директоров. Куб являлся также голосом башни. Планировалось, что отсюда каждый день в полдень хор будет исполнять «Интернационал». Кроме того, каждый час отсюда планировалось передавать сводки новостей – транслировать через мегафон на всю Красную площадь. Экран на поверхности куба по ночам должен был показывать фильмы, а табло электрических огней – постоянно менять рисунок. Проектор, нацеленный вместо экрана на серые московские тучи, показывал бы в небе девиз дня. Увенчивать всю композицию должна была тысяча красных флагов.
Конструкция башни, имевшей существенный наклон, вызывала ассоциацию с опорами ракет Циолковского и земной осью. Вместе с тем Владимир Евграфович создавал свое здание именно в тех формах, которые легенда приписывала знаменитому библейскому сооружению (художник свой коммунистический памятник очень близко к оригиналу срисовал с древних икон владимирского письма). «Башня Татлина» больше всего походила на Вавилонскую башню, причем представленную в момент наклона, то есть начавшегося разрушения… Возможно, новоявленный архитектор хотел подчеркнуть, что понимает утопичность идеи единения пролетариев всех стран? Говорят, в каждом художнике спит пророк. Не правда ли, это выражение имеет смысл?
В те годы Татлин продолжал заниматься общественной деятельностью: в 1921-1925-х он являлся председателем Объединения левых течений в искусстве, а в 1923-1925-х руководил Отделом материальной культуры Государственного института художественной культуры в Петрограде. Но художник не мог – да и не хотел! – зацикливаться только на административной рутине. Прежде всего, он продолжал оставаться творческой личностью, искавшей себя во всем. В 1923 г. Владимир Евграфович поставил в Государственном институте художественной культуры в Петрограде спектакль «Зангези» по поэме Велимира Хлебникова. Впервые он выступал в данной постановке не только как театральный художник (им за всю жизнь были оформлены свыше 80 театральных пьес), но и как режиссер и актер. Так родился новый вариант «конструктивистского театра».
В Берлине художник побывал снова в 1922 г. как участник Первой русской художественной выставки.
В годы, последовавшие за революцией, Татлин активно занимался преподавательской деятельностью, стремясь донести до молодежи, которой предстоит строить новое искусство, свой взгляд на вещи. Вплоть до 1930 г. Владимир Евграфович работал в московских Высших художественно-технических мастерских, Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН), в Киевском художественном институте. В Харькове Татлин также на протяжении некоторого времени преподавал предмет, наиболее близкий ему, – художественную обработку металла, керамики и дерева.
Своей педагогической деятельностью этот мастер закладывал основы «производственного искусства», призванного создавать не образы существующих вещей, а вещи, назначение которых – формировать новый быт. Сам художник в те годы создал множество лаконично-функциональных моделей женской и мужской одежды, обуви, мебели, утвари и даже печей. Но его идеи были слишком утопичны и в своем большинстве могли претендовать на реализацию разве что в далеком будущем.
В.Е. Татлин стал инициатором «музеев художественной культуры», куратором реформы художественного образования и монументальной пропаганды – все общественные обязанности стали для художника лишь еще одним видом занятий искусством.
«Жемчужиной» проектной деятельности этой творческой личности стало создание аппарата «Летатлин» (1929-1932 гг.), сейчас он хранится в Москве, в Музее истории авиации. Его сборкой Татлин занимался в башне Новодевичьего монастыря. Конструкция должна была приводиться в действие мускульной силой летчика. Орнитоптер, удивительно похожий на чертежи и рисунки, выполненные Леонардо да Винчи, оказался технически непрактичным (он так и не смог взлететь), но тем не менее предвосхитил принципы биодизайна, учитывающего законы живой природы. Его конструкция была абсолютно природной: больше всего она походила на ископаемый скелет птеродактиля. К несущей части аппарата подвешивалась проволочная колыбель или сани с набором распорок, крепежных планок и рычагов. Управлять «Летатлином» нужно было лежа, нажимая ногами педали, а руками приводя в движение огромные крылья.
В 1931 г. художник был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, а спустя год состоялась его первая персональная выставка – как оказалось, она же и последняя прижизненная. Произведения Владимира Евграфовича и его взгляды на современное искусство оказали значительное воздействие на творчество многих как отечественных, так и зарубежных дизайнеров, архитекторов и художников. Интересно, но это влияние распространялось даже на идейных противников и оппонентов Татлина, впечатляя новизной, большим количеством перспективных профессиональных идей и четкой, последовательной, продуманной программностью.
В 30-е годы Татлин увлекся иллюстрированием, много сотрудничал с несколькими издательствами и при этом продолжал работать сценографом. Однако тенденции, отстаиваемые им в искусстве, потихоньку сходили со сцены. В культурных кругах СССР стала разворачиваться критика «формализма», и Владимира Евграфовича, являвшегося одним из его лидеров, начали все активней вытеснять с художественной сцены. После полного разгрома авангарда возможностей для работы у него становилось все меньше. Наиболее доступной областью для художника оставался театр.
В 1938 г. известные панно, созданные Татлиным для сельскохозяйственной выставки, были уничтожены как «политически вредные» (!). К концу жизни Владимир Евграфович вынужден был для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба, консультировать студентов Московского архитектурного института и даже заниматься изготовлением наглядных пособий для Московского университета.
В середине 1930-х гг. Татлин вернулся к станковой живописи и увлекся написанием натюрмортов и пейзажей. Иногда он возвращался к портрету. Композиции Владимира Евграфовича – простые по построению, но удивительно глубокие по игре живописных фактур и сдержанных, приглушенных, каких-то мерцающих тонов – примыкали уже к сугубо неофициальному «тихому искусству» тех лет. Со временем, в созданном художником цикле цветочных букетов, в «Черепе на раскрытой книге» (1948-1953 гг.) все сильнее проявлялся тот самый реализм, от которого Татлин долгие годы стремился уйти. Поздняя живопись художника – камерная, удивительно тонкая, одухотворенная и спокойно-печальная – чужда вообще какому бы то ни было насилию над натурой. Эпоха бурь, экспериментов и переворотов прошла. Остался тот Татлин, которому не было места в революционно преобразуемом искусстве. Его новые работы говорили об удивительной гармонии чувства, формы и цвета. К сожалению, этот этап творчества оказался недолгим.
Умер В.Е. Татлин в Москве 31 мая 1953 года.
Новое открытие творчества этого своеобразного и, бесспорно, талантливого мастера произошло только в 1960-х гг. С тех пор во многих странах мира не раз проходили выставки его работ, имевшие большой успех. Еще бы, ведь Татлин действительно «предсказал» многие достижения современных авторов. Сегодня им восхищаются, живописные полотна Владимира Евграфовича обрели высокую ценность, его творчество имеет большое число поклонников. А ушел из жизни он одиноким и непонятым, обиженным на общество, безжалостно сбросившее его со счетов за ненадобностью. Неужели правы скептики, утверждающие, что для того чтобы стать великим, нужно сначала умереть?
Тропинин Василий Андреевич (род. в 1776 г. – ум. в 1857 г.)
Выдающийся русский живописец, портретист и пейзажист. Создатель своеобразной разновидности портретной живописи – «домашнего» (халатного) портрета.
Как-то крепостного «казачка» Ваську наказали. Дело было в том, что, собрав обувь для чистки, он забыл про полученное задание. Вместо этого рисовал углем и ваксой головы людей прямо на стенах людской. Просто ему хотелось стать настоящим художником. И, выкраивая любой момент, пусть еще совсем неумело, он пытался рисовать. Тогда мальчик служил в семье графа Моркова, и на просьбы отца юного художника отдать Васю в ученики к живописцу тот ответил: «Толку не будет!» «Казачок» же стал одним из самых замечательных портретистов первой половины XIX в. – Василием Тропининым.
Родился он в селе Карпово Новгородской губернии, в семье крепостного графа А.С. Миниха, у которого его отец служил управляющим. Васю отдали в новгородскую школу, где он обучался чтению, письму, арифметике, основам священной истории и живописи. Учителя обучали лишь тому, что знали, а знания их оставляли желать лучшего. И потому маленький художник брал у своих друзей-одноклассников лубочные картинки и самостоятельно пытался скопировать их.
После окончания школы мальчика взяли на службу в господский дом. Желание рисовать все больше укреплялось в его душе, но он не мог найти ничего подходящего для изображения. Тогда Вася стал помогать в работе горничным, которые прислуживали в господских покоях. За это девушки разрешили ему в отсутствие хозяев заходить в комнаты и рисовать все, что, по его мнению, являлось искусством. Рисунки Васи никто всерьез не воспринимал, и окружающие лишь посмеивались над ним. Да и вообще о своей жизни в доме Миниха Тропинин не любил вспоминать. Прислуга невзлюбила мальчика и отыгрывала на нем все обиды, которые когда-либо доставлял им его отец – управляющий.
В начале 90-х гг. семья крепостного Тропинина перешла в качестве приданого к младшей дочери графа Миниха – Наталье, которая вышла замуж за Ираклия Ивановича Моркова. Тогда же Тропинины переехали в Москву. Новый хозяин не разрешил Васе заниматься художеством и отдал его учиться другому искусству – кондитерскому. Учеником кондитера юноша в 1793 г. переехал в Петербург, где жил в доме графа Завадовского. Здесь он впервые взял в руки кисть и краски, украдкой пользуясь уроками жившего у хозяев художника. Тропинин часто вспоминал, что, когда он убегал к живописцу «посмотреть», жена кондитера приказывала привести его оттуда за уши и отодрать, после чего долго-долго втолковывала, что конфеты и варенья прибыльнее и вкуснее, нежели краски и карандаши.
В те годы в Петербурге была основана Академия художеств, которая помогала развиваться молодым талантам и даже бесплатно выделяла бумагу и карандаши тем, кто не мог их приобрести. В 1799 г. молодой Тропинин был зачислен в академию «посторонним» учеником. Его учителем стал С.С. Щукин, у которого юноша и жил. Однако учителю и ученику не суждено было сойтись. Ходили слухи, что Щукину заказали серию работ, часть из которых он роздал копировать ученикам, а сделав свою, увидел, что у Василия Тропинина копия получилась намного лучше. И якобы это-то и явилось причиной недоброжелательности по отношению к юному ученику. Но вероятнее всего, причиной разногласий было расхождение во взглядах на искусство. Однако даже это не помешало тому, что рисунки Василия были отмечены медалями. В мастерской Щукина он приобрел склонность к гамме зеленых, серых, коричневых и золотистых тонов, которые стали типичными для всего его творчества.
В 1804 г. в академии наряду с работами Кипренского, Акимова, А. Иванова, Боровиковского, Угрюмова и Щедрина выставлялась и была замечена работа Тропинина «Мальчик, тоскующий об умершей птичке», сюжет которой был взят у особо популярного тогда Греза. Однако успех Василия неадекватно повлиял на графа Моркова, который не позволил своему крепостному продолжать образование в академии. В том же году Тропинин был отправлен в имение Моркова – село Кукавку Подольской губернии. Здесь, по приказу хозяина, он стал архитектором строящейся церкви.
В Кукавке Тропинин впервые по-настоящему ощутил жизнь народа, стал изображать простых людей. Самым интересным портретом этого периода считается изображение головы девушки-подолянки. Эта работа во многом повторила один из портретов Левицкого, к творчеству которого Тропинин возвращался на протяжении многих лет.
В 1807 г. иконостас был закончен, церковь достроена и освящена, а сам Тропинин обвенчан в ней с кукавской девушкой Анной Ивановной Катиной. К этому времени слава о Тропинине-портретисте разнеслась по всем окрестностям. Морков разрешил художнику рисовать портреты своих соседей – польских помещиков. Но однажды Тропинин, самостоятельно выучивший польский язык, услышал в доме одного из поляков нелицеприятные оценки в адрес русского народа и отказался рисовать шляхтичей.
В Кукавке Тропинин рисовал и окружавшую его сельскую природу («Вид на церковь и село Кукавку», «Вид на усадьбу Морковых»). Он считал, что именно она является лучшим учителем, только нужно «предаться ей всей душой, и тогда работа будет получаться намного лучше. Я всем обязан природе», – говорил Тропинин.
До нас дошло очень мало произведений художника 1800 – 1810 гг. Бо́льшая их часть сгорела в 1812 г. в имении Морковых во время пожара Москвы. Тропинин часто бывал в Москве. Много впечатлений он получал на ее базарах, у прилавков, где продавались лубочные картинки. Сопровождая в качестве слуги Моркова в поездках, Василий Андреевич возил с собой хозяйственную книгу «разной провизии и припасов», записи расходов в которой были лишь на первой страничке. Художник превратил ее в альбом для рисования, в который помещались и кукавские пейзажи, и композиции на религиозные и мифологические темы, и эскизы портретов.
Тропинин прожил на Украине до начала Отечественной войны 1812 г. Затем начались постоянные переезды, во время которых он делал беглые наброски всадников графитным карандашом. Одним из первых вернулся Тропинин в Москву после пожара, помогал восстанавливать дом Морковых. В 1813 г. все было готово к возвращению хозяев. После их приезда Тропинин написал семейный портрет старших Морковых, в котором читается гостеприимность хозяев. Через два года художник рисует второй групповой портрет, младших детей с гувернанткой и внучкой хозяев. Эту картину он сам наблюдал ежедневно, когда преподавал детям рисование.
Однажды к Морковым на ужин приехал ученый француз. Ему стали показывать дом, в интерьере которого гостя восхитили работы Тропинина. Увидев входящего Василия Андреевича и не зная, что тот крепостной, француз стал приглашать художника за графский стол. Смущенный Морков после этого случая навсегда освободил Тропинина от обязанностей прислуживать за столом.
Слухи о необыкновенном таланте крепостного художника разошлись по всей Москве. Многие помещики заказывали ему свои портреты. В то же время Тропинин рисовал и простых французских эмигрантов, и оставшихся в России военнопленных. Но даже достигнув общественного признания, художник продолжал учиться. Срисовывая с оригиналов, пользуясь мягкой растушевкой, он сочетал с ней живую контурную линию. Этот прием стал одним из любимых у Тропинина.
В 1818 г. художник вернулся на Украину. После шестилетнего перерыва он вновь сосредоточил внимание на образах крестьян. Появляется идеализированный портрет украинского Робин Гуда, сильного духом народного героя Устима Кармелюка (1820 г.).
В 1821 г. Василий Андреевич навсегда покинул Кукавку и вернулся в московское имение Моркова. Поклонники таланта Тропинина требовали освобождения крепостного. Остерегаясь насмешек со стороны общества, 8 мая 1823 г., на пасхальный праздник, Морков отпустил художника. Однако вольную выдал лишь ему одному, оставив его сына крепостным. Граф не хотел расставаться с Василием Андреевичем и даже предлагал ему остаться жить в своем доме, но Тропинин не согласился. Он написал в Петербург своему бывшему учителю С.С. Щукину и другу по академии Варнеку, обратившись с просьбой посодействовать в получении звания художника, но ответов так и не получил. Лишь П.П. Свиньин помог Тропинину представить работы в академию. Художник уехал в Петербург, и уже 20 сентября 1823 г. за «Кружевницу» (1823 г.), «Портрет художника Скотникова» (1821 г.) и «Старика нищего» он получил звание «назначенного академика».
Тропининская «Кружевница» стала новым, очень ярким явлением в русском искусстве того времени. Наиболее точно это выразил друг художника П. Свиньин, говоря, что «и знатоки, и незнатоки приходят в восхищение при взгляде на сию картину, соединяющую поистине все красоты живописного искусства: приятность кисти, правильное, счастливое освещение, колорит ясный, естественный. Сверх того в самом портрете обнаруживается душа красавицы…» Многие очень радовались успеху художника и завидовали его новому положению, но он даже и не думал служить в академии. Для него это уже не имело никакого значения.
Тропинину продолжали заказывать портреты и в Петербурге, но художника обижало то, что приходилось ждать до обеда, пока проснется заказчик. Это чем-то напоминало ему о положении крепостного. В 1824 г. Тропинин, оставив все свои, даже очень выгодные, заказы, вернулся в Москву, где, по его словам, «до первого часа можно наработаться».
В 1833 г. с образованием публичного художественного класса началась педагогическая деятельность Тропинина. Однако Василий Андреевич никогда официально не числился преподавателем. Один из первых его учеников писал о нем: «Какой прекрасный человек, он как отец принимал нас…» Живописец всегда отказывался от частных уроков, а вернее, от оплаты за них. Он всегда стремился помочь и поддержать начинающих художников.
В 1840-х гг. о Тропинине знала вся Москва. Он продолжал выполнять заказы московской знати, театральных деятелей, писал многих купцов. Даже старообрядцы, для которых увековечить свое изображение считалось величайшим грехом, заказывали ему портреты.
Картина «Старуха, стригущая ногти» (1840 г.) стала поворотом в творчестве художника к мотивам голландского искусства. К этому времени романтика начинает уходить из его работ, и этот портрет-рисунок жены живописца – единственное приближение к поэтическому восприятию голландцев. Так в конце своей жизни Василий Андреевич вернулся к гармонии человеческого образа. Теперь его идеал – в старости и покое. Он выразил его в картине «За починкой белья» (1855 г.). Смерть жены в 1856 г. настолько потрясла художника, что до самого конца жизни он так и не смог оправиться от горя. Поэтому эта картина явилась как бы итоговой в творчестве живописца.
Последний год своей жизни Тропинин провел в собственном домике в Замоскворечье. Здесь он очень скучал по старенькой квартирке на Ленивке. Пришедшему к нему в гости Рамазанову он как-то сказал: «Да и дверей-то тех нет, помните?» А те двери сверху донизу были исписаны именами тех, кто приходил к Тропинину, но не заставал его дома. Чаще всех остальных на них встречались имена Брюллова и Витали. Рамазанов однажды сказал Тропинину, что наконец-то его дом, украшенный собственными произведениями художника, полный цветов и птичек, спокоен и даже имеет веселый вид. На что услышал ответ: «Нет, не говори этого; вот старуха моя умерла, и птички меня уже не занимают».
Василия Андреевича Тропинина похоронили на Ваганьковском кладбище. Он оставил огромное наследие, которое никогда не утратит своей ценности. Его образы в большинстве своем типичны для тех лет и в то же время необыкновенны. Живописец всегда видел в изображаемых людях что-то особенное и хорошее. Даже убогий нищий старик, просящий подаяние, вызывал уважение, а в «Кружевнице» он смог показать необыкновенную красоту простой трудящейся девушки. Одним из первых Тропинин увидел и изобразил женщину как личность, выделив ей самостоятельное место в обществе. Василий Андреевич умел показать человека в непринужденной обстановке. Так появился «домашний» портрет, который сразу стал пользоваться огромной популярностью. Такая «неофициальность» привлекла даже А.С. Пушкина, который в 1827 г. заказал Тропинину свой портрет. На нем он был изображен не «возвышенным поэтом», а обыкновенным человеком. Недаром художник Свиньин, вспоминая о Тропинине, говорил: «Все на картинах Василия Андреевича изображено с правдой и простотой…»
Угрюмов Григорий Иванович (род. в 1764 г. – ум. в 1823 г.)
Известный русский исторический живописец, портретист, рисовальщик, декоратор. Академик (1797 г.), профессор (1800 г.), ректор (1820 г.) Петербургской академии художеств, почетный член Вольного общества любителей словесности, науки и художеств (1805 г.).
Григорий Иванович Угрюмов жил и работал на стыке XVIII – XIX вв. Его произведения стали первой ступенью в развитии русской исторической живописи. В.И. Григорович писал в своих сочинениях: «Кто был в силах произвести «Покорение Казани», «Возведение на царство Михаила», тот мог идти далее; тот мог и действительно произвел вещи редкие, если бы знатоки и любители требовали от него картин для славы своей и славы отечества». Но в России «заморское» всегда ценилось выше и греко-римский облик на картинах был намного привычнее лица русского человека. Именно Угрюмов ввел в исторический жанр тему родной истории. Может, этому в какой-то степени способствовало его происхождение, ибо купечество всегда стояло горой за Россию-матушку, хотя бы исходя из коммерческих соображений.
Григорий родился в Москве 30 апреля 1764 г. в семье купца из Норской слободы Ярославской губернии Ивана Михайловича Угрюмова, избранного депутатом в Комиссию по составлению Нового уложения, созванную Екатериной П. Затем отец переехал по делам комиссии в Петербург и там, вращаясь в кругу просвещенных людей и даже не зная еще склонностей своего малолетнего сына, поместил его, шестилетнего, пенсионером в Воспитательное училище при Академии художеств. Там из «еще не порченных» детей под строгим надзором за нравственностью и в полном отрыве от семьи пытались создать «новое поколение людей». Григорию на первых порах трудно давалось «благоповедение», которое ценилось выше успеваемости, и поэтому его не было в списках лучших учеников. Но «тихий нрав, добрая душа и чувствительное сердце», а также талант и трудолюбие вскоре вывели Угрюмова в число первых. При переходе в специальные художественные классы он выбрал наиболее сложное и ответственное направление – историческую живопись, которая включала в себя еще и аллегорические, религиозные и мифологические сюжеты. Конечно, о русской истории речи не было. Рим, Древняя Греция, Египет, туники, сандалии, тоги, амфоры, пирамиды, языческие боги… Никаких кольчужек, армяков и валенок. К этому надо было идти самому.
От первых 50 копеек за ученическую работу «Головка мальчика в шляпе» (1780 г.) на академическом аукционе через 25 рублей за копии с картин европейских мастеров «Торжество Бахуса» (1782 г.), «Детские вакханалии», «Амуры» (обе в 1783 г.) и до золотой медали за «Изгнанную Агарь с малолетним сыном Измаилом в пустыне» (1785 г.) прошло всего пять лет. Угрюмов был выпущен из академии с аттестатом I степени, шпагой и назначением пенсионером в Рим на четыре года. Судя по академическим работам, исторические живописцы П.И. Соколов, Г.И. Козлов и И.А. Акимов воспитали вполне сформировавшегося художника.
В Рим в 1785 г., по мнению комиссионера Рейфенштейна, Григорий приехал «более подготовленным, чем другие пенсионеры». Его день был расписан по часам: утром – рисование с антиков, днем и вечером – занятия в натурных классах Французской и Римской академий, а в свободное время – копирование в Ватиканском музее Пия VI. С удивительной усидчивостью Угрюмов постигал достижения великих мастеров и отсылал в академию копии-отчеты с картин (П. Веронезе «Похищение Европы», Г. Рени «Беседа преподобного Антония Египетского и Павла Фивейского»). И хотя молодой художник осознавал, что «в столь короткое время нельзя взлететь на Парнас», он сумел сохранить в копиях свежесть и неповторимость подлинников. Один из первых исследователей творчества Угрюмова, П.Н. Петров, считал, что «Беседа» едва ли не лучшая вещь в своем роде до «Афинской школы» (Рафаэль) К. Брюллова: «Так копировать, всякий согласится, вдвойне выгодно; это – дарить своему отечеству чуть не оригинал великого мастера».
В 1791 г. закончился срок пенсионерства. Вернувшись в Петербург, Угрюмов был назначен преподавателем академии. Фактически Григорий Иванович сразу стал единственным руководителем класса исторической живописи. Много сил, внимания и все свои познания он щедро отдавал ученикам. Его также сразу привлекли к «освидетельствованию» картин, реставрационных работ и поручили выполнить непрофильный царский заказ – написать плафон «Апофеоз Петра I» (1792 г.) в куполе беседки на Александровой даче. Здесь Угрюмов зарекомендовал себя прекрасным декоратором, как и в более поздних росписях Павловского дворца («Четыре времени года», 1790-е гг.). Екатерина II осталась довольна этой работой и заказала художнику написать для нового Троицкого собора Александро-Невской лавры большие картины: образ «Вознесение Христа» и «Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержания им победы над немецкими рыцарями» (1794 г.). Конечно, Угрюмов из-за недостатка исторических материалов не сумел воскресить в точности события XIII в., но кольчуги, латы воинов, одежды псковитян передал достоверно. Художник без пафоса показал торжественность шествия и ликование народа. И если в изображении А. Невского он был скован религиозными канонами (нимб над головой), то второстепенные фигуры очень убедительны. Реалистически правдиво изображена женщина с ребенком, сидящая у края дороги, привычно, по-крестьянски вытянув ноги. Типично русское лицо у воина с окладистой бородой. В чертах каждого человека видна живая реакция на происходящее событие.
Рост профессионального мастерства, заказы Екатерины II и ее одобрение (а затем Павла I и Александра I) исполненных работ способствовали служебному продвижению Угрюмова. С 1795 г. он уже в числе «назначенных» и руководит всеми живописными классами, спустя два года – академик, в 1798 г. – адъюнкт-профессор, в 1800 г. – профессор, в 1805 г. – почетный член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и наконец ректор академии (1820 г.) и коллежский советник.
Летописное сказание об испытании князем Владимиром силы своего богатыря перед единоборством с печенежским силачом стало темой картины Угрюмова «Испытание силы Яна Усмаря» (1797 г.) на звание академика. Сын киевского кожемяки становится героем полотна. В его единоборстве с разъяренным быком художник великолепно передает колоссальное напряжение мышц. Событие захватывает и впечатляет мощью. Бытовые штрихи, второстепенные персонажи, величественный образ князя дополняют динамику поединка. Пафос усиливается насыщенным цветом, «жаркими колерами Рубенса» и игрой светотени, которые классицист заимствует у барокко.
Следующие исторические картины Угрюмов создает по заказу Павла I для «чуда роскоши и вкуса» – Михайловского замка. «Вступление Иоанна IV в завоеванную у татар Казань» («Взятие Казани», 1799 г.) включает в себя моменты нравоучительности и эмоциональности, что резко уменьшает театральный пафос картины. Человеческое достоинство и добродетель Иоанна, долг царя и милосердие к пленникам, взятые в основу произведения, отдаляют ее от канонов классицизма и сближают с идеями сентиментализма. Не случайно художник вводит в сюжет жен Казанского царя Едигера – прекрасных и трогательных в своей мольбе о помиловании.
Во второй большой картине «Избрание Михаила Федоровича на царство» (1799 г.) Угрюмов исходит из официальной трактовки события: юный Михаил уступает просьбе народа и принимает тяжкое бремя монаршей ответственности за судьбу страны. Художник изображает людей различных сословий, подмечая разницу в жестах, позах, одеждах. Сдержанно и степенно представлена группа бояр и священников, динамично – горожан. Михаила с матерью – инокиней Марфой – и Филарета Угрюмов выделяет из «толпы», поднимая их на ступени амвона перед великолепным, богатым иконостасом. Художник живописно передает драгоценное облачение духовенства и старается соблюсти историческую достоверность одеяний всех персонажей.
За эти работы Угрюмов был назван современниками «отцом исторической живописи». Его слава затмила славу Лосенко, так как он воплотил дух гражданственности на материалах русской истории. Почетный любитель академии М.Н. Муравьев писал: «Какое выражение силы в Печенежском единоборстве! Какое достоинство в Победителе Казани! Какое достоинство в Священном избрании молодого Михаила! Живописец, исполненный любви Отечества, он достоин передавать бессмертную славу Российских героев!» Но, несмотря на признание Угрюмова гением исторической тематики, художника все чаще привлекали к нехарактерным для его таланта официальным заказам: образ Христа Спасителя для иконостаса в Царском Селе (1796 г.), иконостас для церкви лейб-гвардейского конного полка (1803 г.). Признательность и благодарность получил художник от «всего общества г. Одессы» за 23 иконы для Преображенского собора. В последние годы жизни он продолжает выполнять иконостасы для церквей: Крондштадтского собора, 1-го Морского госпиталя, 2-го Гвардейского Лифляндского госпиталя, для церквей Ярославля, Воронежа, деревни Парголово и для частных лиц. За 30 икон и три иконостаса, исполненных для Казанского собора (1804 – 1809 гг.), Угрюмов был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.
Больших исторических картин художник больше не писал, зато раскрылся как великолепный мастер портрета. И по свидетельству современников, их он писал не по заказу, а от души (портрет лейб-лекаря И.К. Каменецкого, протоиерея Андреевского собора Стефана Клевицкого). Наиболее интересны портреты купцов, ведь Угрюмов вырос в их среде и она была близка ему по духу. В них более наглядно проявились реалистические устремления художника, которые не раскрылись до конца в исторических полотнах. Полон чувства собственного достоинства купец А.И. Серебряков с умными, «сметливыми» глазами. Под стать ему жена – А.М. Серебрякова, степенная стареющая добродушная купчиха. Выразительно лицо Ивана Васильевича Водовозова, именитого петербургского купца – он был образованнейшим человеком и вел большую заграничную торговлю. На его дочери Евгении Ивановне Угрюмов женился около 1807 г. и жил с ней в мире и согласии.
С наибольшей свободой и живописной выразительностью показана художником яркая личность «неизвестного купца». Грубый и угрюмый, он остро, оценивающе смотрит на зрителя из-под косматых бровей маленькими заплывшими глазками. На темном фоне его лицо и фигура выглядят мощно и колоритно.
А еще Угрюмов раскрывается как удивительный рисовальщик и акварелист (эскиз «Минин взывает к князю Пожарскому о спасении Отечества», 1804 – 1807 гг.). Живописец много сделал для развития русского рисунка. Современники признали, что «он ввел образ рисования более решительный, более свободный и более полезный для художника». Все свои достижения «верный сын и честный слуга» академии передал своим воспитанникам. Его уроки драматического освещения, выразительного живописного рассказа особенно пригодились О.А. Кипренскому. Именно в «угрюмовском вольном и творческом духе» будет рисовать К. Брюллов. А еще «учитель учителей» воспитал лучших будущих педагогов академии XIX в. – А.Е. Егорова, В.К. Шебуева и Андрея Иванова.
Долгая плодотворная работа Угрюмова была высоко отмечена – в день двадцатилетия преподавательской деятельности он был назначен ректором. Однако в этой должности он проработал недолго. 7 марта 1823 г. Григорий Иванович Угрюмов после долгой и мучительной болезни – водянки – скончался и был похоронен на Смоленском кладбище Петербурга. Вдова художника установила на могиле мужа памятник с эпитафией, достойной его жизни как человека и живописца:
«Служа искусству, он Отечеству служил,
Душой любя добро, он век свой добрым был…»
Ушаков Симон (Пимен) Федорович (род. ок. 1626 г. – ум. в 1686 г.)
Талантливый русский иконописец, гравер и живописец, создатель парсун и миниатюр. Автор «Трактата о живописи» и публицистического труда «Слово к любителям иконного писания».
Семнадцатый век. В Западной Европе создают свои шедевры Рубенс, Веласкес, Рембрандт. Опираясь на художественный опыт предшествующих эпох, они без труда покоряют реальность, переносят ее на свои полотна. В России же изобразительное искусство представлено преимущественно иконописью, не ставящей перед собой цели правдивого отражения окружающего мира. Парсуны (портреты) и ленчавты (ландшафты) – пока что в диковинку. Россия еще ждет своих Рембрандтов.
В это время один русский иконописец размышлял, глядя в зеркало: «Разве не чудо этот удивительный образ? Если человек движется, и он движется; перед стоящим стоит, перед смеющимся смеется, перед плачущим плачет…» Мечтой мастера было уподобить живопись зеркалу. Звали этого художника Симон Ушаков.
Настоящее его имя – Пимен. Будущий «царский изограф» родился в 1626 г. в Москве. О семье его известно мало; только то, что многие его родственники имели духовный сан. Время не сохранило для нас имени человека, обучившего Симона живописи. Очевидно, это был неплохой мастер своего дела. Ведь двадцатидвухлетний юноша без труда попал на «царскую службу» в Оружейную палату. Это заведение на ту пору являлось центром русского искусства, своеобразной художественной школой. «Для государевых дел» здесь трудились иконописцы, оружейники, мастера по золоту и серебру… Симон поначалу как раз и работал как «золотых и серебряных дел знаменщик». Он обязан был создавать рисунки для церковной утвари, для вещей, которые украшали быт самого царя. Это позволило юноше работать, не полагаясь на общеутвержденные «каноны». Иногда Симону приходилось заниматься и другими, более «государственными» делами – чертить планы, карты, придумывать рисунки для монет.
Первой дошедшей до нас иконописной работой Симона Ушакова является «Богородица Владимирская». Это копия греческой иконы, привезенной из Константинополя еще в XII в.
В 1658 г. он создал несколько икон для приходской церкви своей семьи – церкви Грузинской Богоматери. В одной из них – погрудном изображении Христа «Великий архиерей» – Ушаков проявил себя как портретист, хорошо знакомый с западно-европейской традицией. Осторожно, стараясь не отступить от правил церковной живописи, он изобразил лицо Спасителя объемно, придал его коже природный цвет, одним словом, попытался добиться во всем естественности. То же можно сказать и о «Нерукотворном Спасе», также созданном для церкви Грузинской Богоматери. Так Ушаков зарекомендовал себя как искусный мастер «по написанию ликов».
В 1659 г. им и двумя другими художниками была выполнена икона «Благовещение с акафистом». «Писал до лиц сий образ Иаков Казанец; до лиц же выбирку довершил Гаврило Кондратьев; лица у всей иконы писал Симон Федоров сын Ушаков» – гласит надпись на иконе. Несомненно, доставшаяся Симону доля артельной работы была самой ответственной.
Жизнь улыбалась Ушакову. У него было много работы, но и вознаграждение за нее он получал немалое. В Оружейной палате Симону выдавали «корм и питье, жалованье». Царь к нему благоволил, одаривал одеждой и деньгами. Заказы, которые оплачивались сверх жалованья, следовали один за другим. Однако в апреле 1665 г. все изменилось. Художник попал в немилость к царю и был отправлен в ссылку: сначала в Покровский, а потом в Николо-Угремский монастырь. О причинах этого мы можем только догадываться. Как известно, в XVII в. на Руси произошел грандиозный церковный раскол. Возможно, Ушаков имел какую-то связь с раскольниками. Это неудивительно: многие его наделенные духовным саном родственники (епископ коломенский Павел, епископ суздальский Илларион) не поддерживали реформ Никона. В доме Ушакова часто гостили монахи. Вполне правдоподобно, что среди них были и раскольники, последователи мятежного Аввакума. Так или иначе, ссылка Ушакова продлилась четыре месяца.
К середине шестидесятых годов относится публицистическое произведение художника «Слово к любителям иконного писания». Вместе с «Трактатом об иконном писании» Иосифа Владимирова, друга и соратника Ушакова, сочинение иконописца является первым примером борьбы за светскую живопись. «…Пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые…» – так гневно возмущался новыми веяниями в иконописи Аввакум. У Симона Ушакова был другой взгляд на эту проблему. Он ратовал за изучение художниками анатомии, перспективы, всего того, чем европейские живописцы пользовались уже много веков. «Имел от Господа Бога талант иконописательства, врученный моему ничтожеству, – писал он, – не хотел я его скрыть в землю, чтобы не принять за то осуждение, но попытался в своем старании перед Богом выполнить искусным иконописательством ту азбуку искусства, которая заключает в себе все члены человеческого тела, которые в различных случаях требуются в нашем художестве, и решил их вырезать на медных досках…» Возможно, такой «свободный» взгляд на иконопись тоже в какой-то мере послужил причиной ссылки.
Вернувшись в Москву в начале 1666 г., Ушаков снова занял прочное положение. В октябре он приступил к царскому заказу. На семи досках Симон создал картины, изображающие дни недели.
В 1668 г. царь издал указ, запрещающий продавать «плохого письма иконы». За качеством создаваемых икон было поручено следить Симону Ушакову. Авторитет художника в это время был высок как никогда. Осенью 1668 г. он получил еще один ответственный заказ. Речь идет об украшении Георгиевской палаты Кремля. К сожалению, эти росписи не сохранились.
К этому периоду относится, пожалуй, одна из самых значительных работ в творческом наследии художника – икона «Владимирской Божьей Матери», более известная как «Насаждение древа Государства Российского». Это своеобразная иллюстрация политической и церковной жизни Руси XVII в., взгляд в историю. Икона представляет собой виноградную лозу, украшенную цветами-медальонами. В центральном – образ Богоматери, на остальных – изображения русских политических деятелей, боровшихся за укрепление государства: Петр и Иван Калита, митрополиты Алексей, Киприан, Ион, Фотий, царь Федор Иоаннович, царевич Димитрий и др. В нижней части иконы Ушаков изобразил Московский Кремль и фигуры царской семьи – Алексея Михайловича с женой и детьми. Лик Божьей Матери с Младенцем написан с нежностью, мягкой светотеневой лепкой. Миниатюрные портреты не лишены внешнего сходства с изображенными на них историческими личностями.
Период с 1668 г. по 1682 г. исследователи творчества Ушакова называют светским. Он пишет парсуны, например портрет Алексея Михайловича. К этому времени относится гравюра Ушакова «Семь смертных грехов», изображающая обнаженного человека, на спине которого верхом сидит дьявол и висят корзины с животными и птицами, символизирующими семь смертных грехов. Здесь Ушаков показал необыкновенное для русского искусства XVII в. знание анатомии.
Интересна икона, созданная Ушаковым в 1671 г., – «Троица». Ее композиция напоминает рублевскую, однако настроение работы совершенно иное. В отличие от Рублева, делавшего акцент на духовной жизни, Ушаков воплотил в образах ангелов красоту жизни земной. На втором плане иконы – архитектурный фон, причем художником строго соблюдены правила перспективы, что для русской иконописи было необычно. Белокаменные сооружения Ушаков скопировал с гравюры по картине Веронезе «Пир в доме Симона Фарисея».
В 1674 г. уже немолодого художника снова ожидали неприятности: у него отобрали дом. Судебные тяжбы тянулись практически до самой смерти художника. Но это не помешало Ушакову трудиться не покладая рук. Он создает иконы «Нерукотворный Спас» и «Тайную вечерю». Последней известной нам иконой Симона Ушакова является «Спас на престоле». Она была написана в 1685 г. для Троице-Сергиева монастыря. Посвятительная надпись иконы гласит: «Все вы зрящие, их же ради положих труды сия». 25 июня 1686 г. иконописца не стало.
Россия ждала своих Рембрандтов, своих Леонардо да Винчи… И они появились благодаря первому живописцу в истории русского искусства Симону Ушакову. Последнему художнику Древней Руси.
Фаворский Владимир Андреевич (род. в 1886 г. – ум. в 1964 г.)
Русский советский график, живописец, монументалист, театральный художник, выдающийся мастер книжного дизайна, теоретик искусства. Лауреат Ленинской премии (1962 г.), народный художник СССР (1963 г.).
Трудно назвать другого художника книги, умеющего с такой способностью воплощать в своем искусстве творчество разных писателей из различных эпох. Известный прежде всего как книжный график, Фаворский был создателем произведений и в других видах изобразительного искусства – в монументальной живописи (в техниках фрески, сграффито, мозаики), театрально-декорационной живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Он – один из тех мастеров, которые снова подняли гравюру на высокий уровень.
Родился Владимир в Москве 3 (15) марта 1886 г. в семье юриста и художницы и с раннего детства приобщился к искусству. «Я рано начал рисовать потому, что рисовала мать-художница, а она рисовала потому, что дед, Владимир Осипович Шервуд, был известным архитектором. Таким образом, создалась художественная линия в семье», – вспоминал живописец. Учась в гимназии, с 1903 г. он начал посещать частную школу-студию К.Ф. Юона и вечерние занятия по скульптуре в Строгановском училище. В 1906 – 1907 гг. выпускник гимназии жил в Мюнхене, где слушал лекции по искусству в местном университете и учился в частной художественной академии Холлоши. (В дальнейшем знаменитый художник считал его своим основным учителем.) В эти же годы он путешествовал по Австрии, Италии, Швейцарии, посещал музеи и выставки картин. Вернувшись домой в 1907 г., Владимир поступил на искусствоведческое отделение историко-филологического факультета Московского университета. Спустя шесть лет студент успешно защитил дипломную работу «Джотто и его предшественники».
В 1911 г. молодой мастер впервые участвовал в работе московской выставки, на которой экспонировал деревянную скульптуру «Шахматы». В следующем году в выставочном зале выпускник университета демонстрировал свое искусство ксилографии (гравюра на дереве). Кроме скульптуры и графики, талантливый художник занимался иллюстрацией книг. Он даже разработал свою теорию оформления, понимая книгу как целостный эстетический организм, «инструмент для чтения», в котором декоративное начало должно неразрывно сочетаться с функциональным. Такие взгляды сложились у Фаворского под воздействием немецкого скульптора и философа А. Гильдебрандта. Владимир совместно с Н.Б. Розенфельдом перевел его труд «Проблема формы в изобразительном искусстве», который был издан в 1914 г.
После Октябрьского переворота молодой художник в 1918 г. создал серию листов «Виды Москвы», иллюстрации к книге «Суждения господина Жерома Куаньяра» А. Франса и др. Спустя три года для альбома «Революционная Москва Третьему Конгрессу Коммунистического Интернационала» он выполнил гравюру «Кремль. Свердловский зал». В 1928 г. Фаворский создал гравюры-летописи на тему революции и Гражданской войны с изображением множества действующих лиц и исторических эпизодов, органически связанных между собой. На них все пространство охвачено стремительным движением, калейдоскопом событий, пульсирующим центром которых предстает фигура Ленина в окружении сподвижников.
С 1921 г. Фаворский читал студентам лекции во ВХУТЕМАСе – ВХУТЕИНе, заведовал кафедрой ксилографии. В 1923 г. его назначили ректором Высших художественно-технических мастерских, которые во многом благодаря его руководству в годы разрухи процветали и славились. «Несмотря на проклятый холод и голод, там велась большая и серьезная работа над формой, композицией», – писал ученик Владимира Андреевича, А.А. Дейнека. В 1930-х гг. Фаворский преподавал в Полиграфическом институте и в институте изобразительного искусства, позже – в институте прикладного и декоративного искусства. Им были написаны теоретические работы: «Архитектура и живопись», «Лекции по теории композиции», «Об иллюстрации, о стиле и о мировоззрении», «Теория графики» и др. Знаменитый художник был незаурядным педагогом, учителем и наставником большой группы мастеров изобразительного искусства. Среди наиболее известных – А. Васнецов, А. Гончаров, А. Дейнека, А. Каневский, Ю. Пименов.
Параллельно с преподаванием Владимир Андреевич занимался иллюстрацией книг: «Эгерия» Муратова, «Домик в Коломне» Пушкина, «Рассказы о животных» Толстого, «Новая жизнь» Данте, «Фамарь» Глобы, «Рассказы» Пильняка, «Новеллы» Мериме, «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» Гоголя, «Жень-Шень» Пришвина и др. Для каждого автора он находил новые формы выражения, открывал неведомые до этого свойства ксилографии. Точное ощущение мировоззрения писателя позволяло художнику воссоздать в гравюрах и дух эпохи, и стиль писателя. Оформление, начиная с обложки и вплоть до концовки, следовало идее произведений, представляя единое пространственное изображение. Скажем, в «Домике в Коломне» виртуозные гравюры на полях точно передавали ритм пушкинского стиха, беглость авторских отступлений, остроумный, шутливый стиль поэмы. В библейской «Книге Руфь» эпическое мироощущение с редкой силой выражено художником и в пространственно-пластических ритмах и в образах героев – жнецов и пахарей, полных физической силы, похожих на былинных богатырей. В «Новеллах» острая, чуть суховатая стремительность рассказов Мериме под резцом Фаворского обрела зримое воплощение. Он как-то сказал об иных художниках: «Они делают иллюстрации, а я делаю книги». Не зря Владимир Андреевич являлся членом общества живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов «Четыре искусства» (1924 – 1931 гг.). За гравюры в 1925 г. талантливому мастеру был присужден Гран-При. Спустя год в Казани прошла его первая персональная выставка. «В молодости, – писал впоследствии маститый художник, – я учился живописи. Мне сулили успех. Возможно, я даже стал бы хорошим живописцем, но предпочел графику. Предпочел как изобразительное искусство, более доступное людям, чем живопись, как искусство массовое».
Владимир Андреевич являлся также тонким мастером портрета. Его гравюры (Достоевский, 1929 г.; Пушкин-лицеист, 1935 г.), карандашные изображения родных, друзей, попутчиков получали высокую оценку критиков. Они хорошо отзывались и о его росписях по фаянсу, выполненных в 1930-е гг. Разноплановый художник в 1933 г. сделал фрески в Музее охраны материнства и младенчества, через два года – композиции-сграффито в московском Доме моделей.
Владимир Андреевич успешно работал и для театра: оформил во Втором МХАТе спектакли «Двенадцатая ночь» В. Шекспира (1933 г.) и «Мольба о жизни» Ж. Деваля (1934 г.), в театре МОСПС – «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» А. Пушкина (1937 г.), в Московской государственной консерватории – «Орфей» А. Глюка (1938 г.).
В 1936 г. профессора Фаворского провозгласили идеологом «формалистического» движения, обвинили в антисоветских взглядах и отстранили от преподавания в институте. Но несмотря на опалу, он в 1937 г. принимал участие в оформлении павильона СССР на Международной выставке в Париже и получил за эту работу Гран-При.
Перед Великой Отечественной войной книжный график работал над оформлением калмыцкого эпоса «Джангар», где впервые поднял глубоко народную, фольклорную тему. В годы войны на фронте погибли оба сына отверженного профессора и «формалиста», но он продолжал творить, невзирая на личную трагедию, предвзятое отношение и нелюбовь властей. В 1942 – 1944 гг. Фаворский обращался к линогравюре в серии «Самарканд», откуда в Москву он привез несколько ящиков фрагментов древней керамики. Мастер восхищался цветом, совершенством орнамента, вязью арабских букв. Неповторимость древнего города ему удалось передать в своих гравюрах.
После войны Владимир Андреевич начал работу над иллюстрацией киргизского эпоса «Манас». С 10 августа по 28 сентября 1946 г. он трудился в Киргизии. В филиале Академии наук СССР во Фрунзе ученые познакомили книжного графика с основным текстом эпоса. На родине «Манаса», в Таласе, Фаворским было выполнено 30 пейзажных и портретных зарисовок, а всего в Киргизии он создал около 100 больших рисунков и два альбома набросков черными и цветными карандашами. Вернувшись в Москву, мастер стал работать в 1946 – 1947 гг. над станковыми линогравюрами на темы эпоса. Как известно, «Манас» в те годы издан не был и серия его замечательных иллюстраций к этой книге не увидела свет. Параллельно с иллюстрацией в 1945 – 1947 гг. Фаворский выполнил ксилографические изображения великих русских полководцев: Александра Невского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова.
Потом Владимир Андреевич вновь вернулся к оформлению книг, чаще используя в гравюрах белый штрих, активнее передающий светотень. Лучшими его работами считаются: «Сонеты» В. Шекспира (1948 г.), «Слово о полку Игореве» (1954 г.), «Борис Годунов» (1955 г.) и «Маленькие трагедии» А. Пушкина (1961 г.). За три последних цикла в 1962 г. Фаворскому была присуждена Ленинская премия.
Гравюры к «Слову о полку Игореве» – пожалуй, самая «монументальная» работа художника в области книжной иллюстрации. Здесь у него счастливо соединились особая поэтичность поэмы и своеобразный лирический драматизм. Воссоздавая эту поэтичность, книжный график вместе с тем строгим и напряженным ритмом иллюстраций, грозным драматизмом военных сцен сумел передать гражданственную идею «Слова», раскрыв его как героическую народную песнь. Мастер, не нарушая стройности повествования, удачно дополнил насыщенную образную характеристику произведения и при этом сохранил свою художественную самобытность.
Иллюстрации к «Борису Годунову» исполнены с огромной экспрессией и темпераментом. Резец художника дал исчерпывающую психологическую характеристику героям и с абсолютной достоверностью раскрыл время и место действия.
В «Маленьких трагедиях» «время входит в композицию, и композиция становится сложной, многоплановой», – писали критики. Гравюры находятся в строгом единстве, в органической цельности и своим напряженным ритмом делают ощутимыми для читателя сжатость и драматическую насыщенность пушкинских пьес. Взять хотя бы «Каменного гостя». Ужин у Лауры и сцена дуэли, расположенные через несколько страниц, наделены внутренней временной и пространственной взаимосвязью. Подчеркнутая статичность первой сцены с последовательно выстроенными планами взрывается стремительным ритмом сцены поединка, в которой совмещены элементы предшествующего действия, настоящей и грядущей развязки. Неубранный стол на переднем плане напоминает о только что закончившемся спокойно ужине; следующий план – молниеносная дуэль – это порывистое настоящее; далее – сама Лаура, отвернувшаяся от ужаса происходящего, но так, что изобразительно она как бы прижимается к голове Дона Гуана – так и будет сразу же после дуэли; и наконец, тень от руки и эфеса шпаги Дона Гуана, превращенная в зловещий крест, нависший над всем происходящим, – это и есть развязка трагедии. Фаворский писал: «Как страшно иллюстрировать Пушкина! Но помогает его строгость и определенность».
В последнее десятилетие своей жизни Фаворский также выполнял гравюры, посвященные старой русской архитектуре, оформил сборник стихотворений А. Ахматовой. В 1963 г. Владимиру Андреевичу, когда-то обвиненному в «чуждом советскому строю стиле работ», присвоили звание народного художника СССР. 29 декабря 1964 г. В.А. Фаворский умер в Москве.
Его ученик, известный мастер А. Гончаров утверждал: «Это был очень большой художник. Владимир Андреевич был добр, кристально честен, внимателен к людям, доброжелателен. Если бы меня спросили, кого взять образцом человека, я назвал бы Фаворского». К 100-летию со дня рождения великого мастера, в 1986 г., в столице России проходила выставка его работ, вызвавшая большой интерес посетителей. «Фаворский все время как цельная личность действительно был событием», – вспоминал о художнике его ученик А. Васнецов.
Фальк Роберт (Роман) Рафаилович (род. в 1886 г. – ум. в 1958 г.)
Известный русский живописец, график и театральный художник. Профессор живописи Высшей художественной школы (1918-1928 гг.).
Существует мнение, что талант – это не просто тяжкое бремя, а наказание, и трудность одаренного человека не в том, что он выбрал профессию, а в том, что он не мог ее не выбрать. Именно таким человеком был Фальк, в облике, творчестве, нравственных устоях личности которого воплотились лучшие, традиционные качества старой русской интеллигенции. Тепло вспоминая о нем, художница Т. Сельвинская писала: «Удивительна была его жизнь – без суеты, без зависти, без позы, истинная жизнь художника».
Роберт был первенцем в семье присяжного поверенного Р.А. Фалька и его супруги Марии Борисовны, людей образованных и довольно обеспеченных. Через год родился второй сын, Владимир, а Эммануил, «маленький», любимец матери – только через 12 лет. Родители говорили по-немецки, так как дедушка был родом из Курляндии (ныне Латвия), и дети ходили в Петер – Паульшуле, Петропавловское реальное училище, с преподаванием на немецком языке и дававшее довольно неплохие знания.
Рисовать Роберт любил с самого раннего детства и даже вел своеобразный рисовальный «дневник», куда заносил все впечатления дня в картинках. В доме Фальков жила кухарка, которую мальчик очень любил и которой, по его словам, был обязан первыми эстетическими впечатлениями: его острый восторг вызывало ситцевое стеганое одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков. Здесь же будущий художник познакомился с первой коллекцией живописи: на внутренней стороне кухаркиного сундучка были наклеены пестрые лубочные картинки, обертки от мыла, рекламные этикетки. Фальк мог рассматривать их часами, столь красивыми и привлекательными они ему казались. Много лет спустя, оглядываясь на прошедшую жизнь, Роберт Рафаилович скажет о своем раннем творчестве: «Я любил яркие, контрастные сочетания, обобщенные выразительные контуры, даже подчеркивал их темной краской. Теперь мне кажется, что я изживал в то время мои детские впечатления от сундучка и одеяла кухарки…»
Примерно в одиннадцатилетнем возрасте Роберт увлекся музыкой, и желание рисовать отступило на второй план. По окончании реального училища он готовился поступать в консерваторию, но летом 1903 г. получил в подарок масляные краски и страсть к живописи вернулась с удвоенной силой. Целые дни он проводил со своим этюдником на природе, стараясь передать все подробности полюбившегося пейзажа. Наверное, это был единственный счастливый период, когда художник был вполне доволен своими работами.
Родители, как могли, сопротивлялись новым устремлениям сына, желая для него более респектабельной карьеры. Поскольку отец был лично знаком с живописцем В.А. Серовым, на семейном совете постановили показать рисунки Роберта мэтру, дабы его слово было решающим. Приговор был ужасен: «Пусть лучше занимается музыкой». Но желание стать художником осталось непоколебимым, и юноша посвящает год занятиям в классах рисования и живописи К.Ф. Юона и И.О. Дудина, а также в частной студии И.И. Машкова.
В 1905 г. Фальк одним из первых прошел по конкурсу (9 мест на 35 экзаменующихся) в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где главным «судьей» в приемной комиссии был тот же Серов. Роберт был так счастлив, что шел по улице и пел: «Я принят! Я принят! Я принят!» Его наставниками в училище стали известные русские художники – А.Е. Архипов, В.А. Серов, К.А. Коровин. Уже с двадцати лет Фальк участвовал в различных выставках, и не только ученических, в Москве, Петербурге, Одессе, других городах. В 1909 г., перед браком со своей соученицей Е.С. Потехиной, Роберт Фальк принял крещение и получил имя Роман, которое стало фигурировать в официальных документах.
Период становления творчества Роберта Рафаиловича растянулся на многие годы. Еще в стенах училища молодой художник создает несколько полотен музейного значения. Среди них «Лиза на солнце» (1907 г.), в которой явно чувствуется влияние импрессионистов – дробные мазки, пленэр, игра световых бликов. Однако Фальку удалось избежать растворения формы в пространстве, мгновенности впечатлений, так свойственных этому стилю.
Весной 1910 г. в Москве состоялась выставка «Бубновый валет», давшая начало одноименному художественному объединению, одно название которой шокировало и возмущало публику. И совершенно напрасно: на старых итальянских картах бубновый валет изображался с палитрой в руках – символом молодого художника, – вот он-то и перекочевал в «герб» содружества. Талантливые живописцы, составившие ядро общества: А. Лентулов, Р. Фальк, И. Машков, П. Кончаловский, В. Рождественский, А. Куприн почитали одного бога в искусстве – Поля Сезанна, французского художника, в картинах которого их привлекала мощная глубинная энергия цвета и пространства. Как и другие «валеты», Фальк добивался почти осязаемой объемности предметов, писал угловатыми пятнами насыщенного колера, нередко сознательно деформировал изображаемое, стремясь «сдвигами формы акцентировать эмоциональную выразительность». Таковы, например, острый, нервный портрет Мидхада Рефатова (1915 г.), «Негр» (1917 г.) и особенно – шедевр из шедевров художника – «Красная мебель» (1920 г.), мрачная, хищная и угловатая, с ее тяжелым, но агрессивно напряженным цветом. В середине полотна затаился темный, скрытый скатертью стол, а вокруг него и даже над ним сгрудились немыслимо красные кресла, диван… Все в динамике, все спорит, все перекрикивает друг друга. И пространство вокруг такое же беспокойное. Возможно, эта картина была своеобразным откликом на революцию.
К началу 20-х гг. Фальк был уже признанным мастером. Он член всевозможных коллегий, союзов и ассоциаций, профессор живописи, в его мастерскую стремится попасть молодежь, его картины покупаются столичными и периферийными музеями. Ни одна более-менее значительная выставка советского искусства не обходится без его участия, будь то в своей стране или за рубежом. О нем постоянно упоминается в прессе, о нем пишут крупные искусствоведы того времени. Но это только парадная сторона жизни Роберта Рафаиловича. На самом деле это были годы мучительных поисков, сомнений, пересмотра своих творческих позиций. «…Я все более и более смотрю назад, к старым мастерам, – пишет он А.В. Куприну. – И мне становится ясно, что искусство последнего времени переживает тяжелую болезнь… Смотрите, до чего ограничена стала область наших художественных эмоций. Мы не пишем, мы не можем писать легкое, прозрачное небо, полевые цветы на лугу, розовую эмаль щек… Все превращается в мертвые схемы, выражаемые заранее готовыми рецептами. То есть в нашем искусстве пропала сама душа искусства – его содержание, а осталось одно мертвое тело – его форма».
Сами картины свидетельствуют об устремлениях своего автора к поиску нового восприятия мира. В них исчезают кубистические сдвиги – эмоциональное напряжение в портрете теперь может быть передано и без них, появляется глубокий, многослойный колорит, цвет светится изнутри, словно скрытый огонь под пеплом («Обнаженная в кресле», «Лежащая обнаженная», 1922 – 1923 гг.). Живопись Фалька становится сложнее и тоньше.
К цвету, его жизни, фактуре, к его живым переливам художник всегда относился очень трепетно. Цвет для любого, даже самого маленького мазка он долго и тщательно искал на палитре. Любая неточность воспринималась им, как фальшивая нота в музыкальной фразе, способная нарушить общую гармонию его «живописной симфонии». В его мастерской студентки ВХУТЕМАСа, где Роберт Рафаилович преподавал в 1918 – 1928 гг., при его появлении шептали друг другу: «Цвет, цвет, цвет!» Ставил ли он обнаженную модель или натюрморт, он делал это чрезвычайно обдуманно, добиваясь, чтобы возник гармонический облик реального мира, выраженный через музыку цветовых соотношений, он поэтизировал ремесло, возвышая его до уровня мастерства. Вместе с тем Фальк был очень требователен как к себе, так и к своим ученикам. Однажды студенты пожаловались учителю, что им надоело рисовать одни головы и они предпочли бы обнаженную натуру, на что Фальк, посмотрев их работы, ответил: «Да вам, к сожалению, и за головы-то приниматься рано», – и поставил перед ними… табуретку.
В 1928 г. Фальк, декан живописного факультета ВХУТЕИНа, получил разрешение выехать со своей второй женой Р.В. Идельсон на несколько месяцев во Францию – в творческую командировку с целью «изучения классического наследия». «Командировка» затянулась без малого на 10 лет. Лучше всего эти годы описал сам Роберт Рафаилович: «Я много ждал от Парижа и много получил от него: укрепился в своем пути художника, уточнил глаз, познакомился с величайшей пластической культурой. Но работать там становилось все труднее. Не материальные трудности мешали мне. Но это ощущение катастрофы, ощущение заката, общий грустный тонус, общий темп какого-то «уходящего» города действовал очень пессимистически на людей искусства…»
Несмотря на новые интересные знакомства, верным спутником парижской жизни Фалька было одиночество. «До тебя никому нет дела, никто к тебе не пристает, но никто о тебе и не думает», – с горечью вспоминал он. Не улучшил состояния Роберта Рафаиловича и отъезд жены в Россию. Они расстались, но до конца жизни оставались друзьями, помогая и поддерживая друг друга. Есть одно емкое слово, вмещающее в себя всю ту гамму чувств и переживаний, которую испытывает русский человек за границей – ностальгия. Может, потому фальковский Париж и не похож ни на один из бесчисленных живописных Парижей. Он странно безлюден и будто скован тяжкой дремотой, полускрытые в перламутровой дымке мягких золотисто-оливковых тонов здания тонут в пространстве. Интимностью, мягкой лирикой проникнуты и портретные работы, особенно женские, – чуть-чуть нарочито вытянутые, плавно очерченные фигуры: «Портрет Л.М. Эренбург» (1933 – 1934 гг.), «Больная» (1935 г.), «Парижанка» (1936 г.).
Вернувшись в канун 1938 г. на родину, Роберт Рафаилович попал совсем не в ту художественную атмосферу, какую покинул. В советское искусство конца 1930-х гг. утонченная живопись Фалька плохо вписывалась. Только две небольшие выставки, которые сам художник рассматривал как творческий отчет о своей зарубежной командировке, состоялись в 1939 г. Успеха они не имели – в России забыли о его существовании.
На одной из этих выставок, в Доме писателей, Фальк обратил внимание на молодую женщину, которая приходила каждый вечер, и подошел к ней: «Я часто вижу вас здесь. Вам нравятся мои картины?» Так произошло знакомство живописца с Ангелиной Васильевной Щекин-Кротовой, ставшей последней женой Роберта Рафаиловича, его добрым «ангелом».
Чтобы прокормиться, ему пришлось вспомнить свой опыт театрального художника и вновь взяться за работу в театре. В 1939 – 1941 гг. он оформляет такие спектакли, как «Лгун» К. Гольдони в театре им. Моссовета, «Заколдованный портной» Шолом-Алейхема в Белорусском государственном еврейском театре и др.
Годы войны художник провел в Башкирии, затем в Средней Азии, природа и архитектура которой дали его творчеству новую яркую вспышку богатой и сложной красочности («Золотой пустырь», «У хауса», «Регистан», все – 1943 г.). Здесь он преподавал живопись в Самаркандском художественном училище и в эвакуированном Московском декоративно-прикладном институте. При первой возможности Фальк с женой возвращается в Москву, где его ждет «похоронка» на единственного сына Валерия, талантливого художника, погибшего в битве под Сталинградом (о дочери Роберта Рафаиловича, К.Р. Барановской-Фальк, мало что известно, кроме того, что она внучка К.С. Станиславского).
В послевоенные годы фактически отторгнутый официальным искусством художник продолжает работать в своей мансарде в центре Москвы, пишет строгие, сосредоточенные портреты режиссера С.М. Михоэлса (1947 – 1948 гг.), поэта К.А. Некрасовой (1950 г.), искусствоведа А.Г. Габричевского (1951 и 1952 – 1953 гг.) и др. В его поздних натюрмортах с африканской скульптурой (1944 г.), «Голубка и роза» (1952 г.), «Картошка» (1955 г.), «Фикус» (1956 г.) мало предметов, а порой и вовсе – один в мерцающем пространстве пустынной мастерской. А взгляд старца с предсмертного автопортрета «В красной феске» (1957 г.) излучает такую глубину и проницательность, что очевидная здесь тема прощания с жизнью обретает высочайший смысл.
В 1957 г. Фальк перенес тяжелый инфаркт и целый год лежал – то в больнице, то дома. В год смерти Роберта Рафаиловича состоялась его первая после многолетнего перерыва выставка. Маленькая, всего несколько работ, в крошечном выставочном зале в Ермолаевском переулке (ныне улица Жолтовского) Москвы. Но воодушевленный художник до последней минуты строил планы большой, всеохватывающей экспозиции своих произведений. Он и умер с мечтой о такой выставке.
Лучше всего о жизни и творчестве этого большого мастера сказал замечательный актер А. Баталов, бравший у Роберта Рафаиловича уроки живописи: «Сказать, что Фальк был счастлив – невозможно. Он потерял ребенка и все на свете: сидел себе под крышей и продолжал заниматься своим делом. Я учился у него и помню эти никому не нужные, невостребованные тогда портреты людей, которых было "нельзя писать". В те времена выставка у Фалька – это закрытые двери. Впустить туда постороннего человека было нельзя, это – тюрьма. Теперь эти портреты всемирно известны».
Федотов Павел Андреевич (род. в 1815 г. – ум. в 1852 г.)
Известный русский живописец и рисовальщик, основоположник критического реализма в бытовом жанре. Академик живописи (1849 г.). Автор картины «Сватовство майора» (1847 г.).
П.А. Федотов – одинокая и трагическая фигура в русском искусстве середины XIX в. Как и многие талантливые люди того времени, он жил и умер недостаточно понятым и оцененным современниками. Судьба не дала ему ни душевного равновесия, ни материального благополучия, ни простых человеческих радостей, ни даже смерти достойной.
А между тем Федотов был первым из художников, кто сумел своими произведениями бытового жанра разрушить броню академической эстетики классицизма и проложить путь новому направлению в русском искусстве.
Родился будущий художник в Москве в семье титулярного советника. Его первые детские впечатления формировались в общении с мелкочиновничьей и купеческой средой, с которой были связаны родные и близкие. Отец, старый суворовский солдат, готовил сына к военной карьере. И потому десяти лет от роду мальчик был определен в московский Кадетский корпус, который он блестяще окончил, после чего направлен в Петербург, на службу в лейб-гвардии Финляндский полк. Здесь молодой офицер в первое время закружился в вихре петербургской светской жизни, но скоро понял, что с его скудными средствами ему нельзя тянуться за товарищами. Да и давний интерес Федотова к живописи в Петербурге еще больше окреп. И вместо балов он начал посещать вечерние классы Академии художеств.
Пребывание в Корпусе, а затем знакомство с полковыми нравами давали будущему художнику богатый материал. Ранние работы Федотова изображают обычно сцены казарменной жизни, портреты офицеров и близких знакомых. С добродушным юмором высмеивает он в своих несложных набросках неполадки воинского быта. Но уже в этих ученических рисунках ощущается неизменное стремление к правде.
Много времени художник посвящает изучению картин в Эрмитаже, особенно «малых» голландцев. Но основным учителем для него, как он считал, была сама жизнь. Его привлекали площади, рынки, окраины Петербурга. Он любил смешиваться с толпой, прислушиваться к говору, изучать характерные черты и обычаи крестьян, торговцев, ремесленников. Результатом таких наблюдений стали карандашные наброски: «Васильевский остров зимой», «Рынок», серия рисунков сепией «Нравственно-критические сцены из обыденной жизни». Они были довольно слабыми по технике исполнения, излишне морализаторскими, но живыми и достоверными. «Моего труда в мастерской немного – только десятая доля, – утверждал художник. – Главная моя работа на улицах и в чужих домах… Мои сюжеты рассыпаны по всему городу, и я сам должен их разыскивать».
В 1844 г. Федотов оставляет военную службу, чтобы свободно заняться живописью. С выходом в отставку он вынужден довольствоваться скромным ежемесячным содержанием в 100 рублей. Большую часть этой суммы он отсылал родным в Москву. Остальное уходило на художественные материалы и скромную жизнь в маленькой квартирке из двух комнат: в одной была мастерская и спальня художника, в другой жил его денщик Коршунов.
Сначала Федотов подумывал заняться батальной живописью. Но когда его сатирические бытовые сценки попались на глаза баснописцу И.А. Крылову и тот написал ему письмо, в котором советовал развивать эту сторону дарования, художник окончательно выбрал бытовой жанр. Первым законченным произведением Федотова была картина «Свежий кавалер», или «Утро чиновника, получившего первый орден» (1846 г.). Изображенный им чванливый чиновник в халате и босиком, в папильотках и с орденом на груди стал едкой сатирой на чиновничье-бюрократические слои общества.
В 1849 г. на выставке Академии художеств помимо этой картины Федотов представил еще две – «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора». В них во всю ширь развернулся его талант народного бытописателя. Успех превзошел все ожидания. Картина «Сватовство майора» принесла автору настоящий триумф. За рядовым обычаем – сватовством разорившегося дворянина к богатой купеческой дочке – скрывалось осуждение нравов господствующих сословий. Герои картины были достаточно типичны и узнаваемы: молодцеватый жених, пышная, с округлыми плечами и плавными движениями невеста, простоватый купец, озабоченная купчиха, суетливая сваха… Не прибегая к шаржу, лишь с помощью реалистического изображения Федотов сумел передать и ограниченность купеческой дочки, и продажность майора, и грубость купчихи – всю ту душную атмосферу замкнутого эгоистическими интересами мира, в котором живут герои. Недаром за эту картину художник был удостоен звания академика живописи.
Работая над картиной «Сватовство майора», Федотов прежде всего шел от жизни. Здесь все, до последней мелочи – разноцветных стеклышек на люстре, пирога и бутылки шампанского на подносе – было предметом серьезного изучения. Особенно тщательно художник отбирал типажи героев. Так же кропотливо и основательно работал он и над картиной «Завтрак аристократа» (1849 г.).
После выставки в Петербурге произведения Федотова были показаны в Москве, которая приняла их восторженно. «Мои картины производят фурор», – писал радостно Павел Андреевич. Еще больше обрадовали его слова К. Брюллова: «Поздравляю Вас, Вы меня обогнали». Это было настоящим признанием художника-жанриста.
Но вскоре отношение к творчеству Федотова изменилось. В его картинах критики стали усматривать «злобу и сатирическую насмешку над изображаемыми лицами». Стало известно, что имя Федотова фигурировало на следствии по делу петрашевцев. В прессе началась травля художника. Особенно старался реакционно настроенный «Москвитянин». Журнал опубликовал статью московского профессора Леонтьева, который считал живопись Федотова «временной» и «злобной», ей не может быть места в «христианском обществе». В результате – литографии с картин Федотова были запрещены, не стало заказов на рисунки. Тяжелое материальное положение художника усугубилось после смерти отца. Теперь на плечи Павла Андреевича лег весь груз забот о семье (двух сестрах и племянниках). Из-за долгов он был вынужден продать родительский дом.
Даже в это трудное время Федотов не прекращал работы над картинами. Писал лихорадочно быстро, стремясь осуществить все свои замыслы. От жанровых картин он перешел к созданию портретов, лучшим из которых считается портрет Н.П. Жданович (1849 г.), а затем – драматических полотен. Первым из них была картина «Вдовушка» (1852 г.). Толчком к ее написанию стала судьба овдовевшей сестры Федотова. Картина долгое время не удавалась художнику. Он никак не мог передать облик и выражение глаз убитой горем молодой женщины. Трудно было отобразить и двойное освещение: от свечи и от окна. Но художник сумел справиться с этой задачей. А образ героини он нашел, соединив черты лица юной девушки, встреченной им на концерте, с чертами детей своего товарища.
Вслед за «Вдовушкой» Федотов создает картины «Анкор, еще анкор!» (1851 – 1852 гг.) и «Игроки» (1852 г.). Они не похожи на все предыдущие работы художника. В них он отказывается от развитого действия – содержание как бы уходит в подтекст. Живопись становится выразителем душевного состояния – тревоги, тоски, подавленности и духовного опустошения. Свеча в сумерках интерьера – довольно выразительная деталь и быта, и жизни в целом. Сентенция художника: «Они убивают время, пока оно не добьет их» относится непосредственно к персонажам «Анкора…» и «Игроков». Люди – жертвы «пустого времени» – эта тема вырастает у Федотова до образного философского обобщения, где лица заменены масками, фигуры – манекенами; обычное физическое движение подменяется динамикой мелкого мазка, вибрирующим светом, и возникает страх от ощущения эфемерности происходящего.
Сам художник, подобно своим героям, бьется в это время в тисках нужды, непонимания, безрадостного существования. По натуре человек веселый, балагур и острослов, он постепенно превращается в мрачного, раздраженного, молчаливого. Ради искусства Федотов отказался от военной карьеры, личного счастья и благополучия. Своему однополчанину А. Дружинину он признавался: «Меня не станет на две жизни, на две задачи, на две любви – к женщине и к искусству… Нет, чтобы идти и идти прямо, я должен оставаться одиноким зевакой до конца дней моих». Ему прочили в невесты богатую девушку – Юлию, племянницу известного мецената Тарновского. Они полюбили друг друга, часто переписывались, но от брака Павел Андреевич отказался. Теперь все жертвы, принесенные им ради живописи, казались бесполезными: художник был окружен стеной непонимания и враждебного отношения. Он замыкается в себе и постепенно теряет веру в людей, а вместе с верой – и рассудок.
Последние полгода жизни прошли для Федотова в страшных мучениях. Иногда болезнь как бы отступала. Тогда появлялось страстное желание видеть друзей. Но они так и не приходили… Рядом с больным оставался только его верный денщик Коршунов.
Художник умер в больнице для душевнобольных, тридцати семи лет от роду. О его смерти широкого оповещения не было. Хоронили почти тайно. Как и многих тогда в России…
Феофан ГРЕК (род. ок. 1330 г. – ум. ок. 1415 г.)
Выдающийся русский иконописец, грек по происхождению, мастер книжной иллюстрации.
«Преславный мудрец, очень искусный философ, превосходный художник книги и среди иконописцев отменный живописец» – так писал о Феофане Греке талантливый древнерусский писатель, его современник, монах Епифаний Премудрый. Для русской культуры Средневековья Феофан Грек явился художником-мыслителем, благодаря которому русские мастера не только по-новому взглянули на роль и значение искусства в жизни, но и переосмыслили понятие мастерства. Это в немалой степени способствовало наступлению замечательного расцвета русской живописи XV в.
Феофан Грек прибыл из Византии на Русь уже опытным живописцем. К этому времени им были расписаны церкви в Константинополе, малоазийском городе Халкидоне, генуэзской колонии-крепости Галате и Кафе (ныне Феодосия). Но ни одна из этих росписей не сохранилась. Все известные произведения Феофана были созданы на Руси и для Руси, где он прожил более тридцати лет.
К сожалению, сведения о жизни и деятельности художника скудны и отрывочны. Этапы его творческого пути с огромным трудом были восстановлены благодаря немногочисленным упоминаниям о Феофане в московских и новгородских летописях. Но наиболее ценно в этом отношении послание Епифания Премудрого игумену тверского Спасо-Афанасиева монастыря Кириллу, которое является единственным сохранившимся письменным свидетельством о творчестве художника. В письме, написанном около 1415 г., Епифаний, лично знавший Феофана Грека, делился своими воспоминаниями о нем. Из послания известно, что Феофан был «родом грек». Видимо, именно поэтому на Руси он и получил прозвище Грека. Наиболее вероятной датой рождения Феофана считаются 30-е гг. XIV в. Живший поначалу в Константинополе, он много путешествовал, был странствующим художником и потому его творчество сложно отнести к какой-либо живописной школе. Несомненно лишь то, что основное влияние на формирование мастера оказали художественные и философские традиции Византии. Не избежал он в своем творчестве и воздействия исихазма – мистического учения о нравственном и физическом совершенствовании человека, которое в середине XIV в. получило широкое распространение не только на Балканах, но и во всей Восточной Европе. Творчески переработав основные идеи исихастских учений, Феофан воссоздал «свой внутренний духовный мир в образах и символах». Не случайно исследователь русского средневекового искусства В.В. Бычков называл живопись Феофана «философской концепцией в красках».
Оказавшись в возрасте 35 – 40 лет на Руси, Феофан попал на «плодотворную почву для развития своего могучего дара». Первая работа, выполненная им здесь, – фрески церкви Спаса Преображения, одного из самых замечательных храмов Новгорода Великого. Роспись была исполнена в 1378 г. по заказу боярина Василия Даниловича и горожан с Ильиной улицы, на которой четырьмя годами ранее был построен храм. К сожалению, фрески сохранились лишь частично, но даже уцелевшие «позволяют судить о цельности их идейного замысла». Новгородский храм был посвящен Иисусу Христу. Феофан Грек изобразил его суровый и сдержанный лик в окружении серафимов и архангелов в центре купола, окружив надписью, текст которой взял из Псалтыри, наиболее популярной книги в XIV в. В простенках художник изобразил ветхозаветных старцев: Адама, Авеля, Сифа, Ноя, Мельхиседека, Илию и Иоанна Предтечу. Каждый из этих образов отличает глубоко индивидуальная, сложная психологическая характеристика. Вместе с тем все они – и мудрый Ной, и сумрачный Адам, и грозный пророк Илия – имеют нечто общее, объединяющее их. Это суровые люди с великой и неисчерпаемой силой духа, за внешним спокойствием которых кроется тяжелая душевная борьба.
Полные драматизма образы Феофана Грека обладают огромной силой эмоционального воздействия. Глубоко драматичен и живописный язык мастера. Манера его письма экспрессивна и темпераментна. Смелые, энергичные сочные мазки, яркие блики придают лицам трепетность и подчеркивают напряженность выражения. Феофановская палитра, как правило, сдержанна и лаконична, но цвета ее насыщенны и весомы. В ней преобладают серебристо-голубой и оранжево-коричневый, которые соответствуют духовному напряжению образов. Не последняя роль принадлежит белому цвету – символу света. Но мир, созданный кистью Феофана Грека, не назовешь светлым и радостным, напротив, он суров и даже трагичен. По словам В.В. Бычкова, живопись Феофана «далека от обыденного оптимизма», «суть ее составляет идея глобальной греховности человека перед Богом, в результате которой он оказался почти безнадежно удаленным от него и может только со страхом и ужасом ожидать прихода своего бескомпромиссного и безжалостного судьи, образ которого с крайней суровостью взирает на грешное человечество из-под купола новгородского храма».
В росписях Феофана Грека, таящих в себе глубокий философский смысл, ясно ощущаются проницательный ум и кипучий темперамент живописца. Современники поражались оригинальности его мышления. Епифаний Премудрый, наблюдавший за тем, как работал Феофан в Москве, восхищался его способностью творить, не глядя на образцы: «…никто и никогда не видел его взирающим на образцы, как делают некоторые наши иконописцы, которые в недоумении постоянно в них всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, казалось, руками писал роспись, беспрестанно расхаживал, беседуя с приходящими, а умом обдумывал отвлеченное и духовное, ибо чувственными очами ума видел духовную красоту. …Сколько бы с ним кто ни беседовал, не мог не подивиться его разуму, его иносказаниям (притчам) и его хитростному строению».
Фрески новгородской церкви Спаса Преображения принадлежат к числу величайших произведений мирового средневекового искусства. Новгородские живописцы испытали в своем творчестве немалое влияние этого произведения, что нашло отражение в росписях церквей Федора Стратилата на Ручью и Успения на Волотовом поле. По-видимому, Феофан Грек довольно долго жил в Новгороде, затем некоторое время работал в Нижнем Новгороде, а приблизительно с 1390 г. находился в Москве и недолго в Коломне. Возможно, что именно он расписал грандиозный по тем временам Успенский собор Коломны, построенный в 1379 – 1382 гг. В нем хранилась знаменитая впоследствии святыня – икона «Богоматерь Донская» (или «Успение Богоматери»), позднее перенесенная в Благовещенский собор Московского Кремля. Создание ее некоторые исследователи связывают с именем Феофана Грека.
С 1395 по 1405 г. художник выполнил росписи в трех кремлевских храмах: в церкви Рождества Богородицы с приделом Святого Лазаря (1395 г.), в Архангельском (1399 г.) и Благовещенском (1405 г.) соборах. Кроме того, в этот период он сделал и несколько светских заказов: принимал участие в росписях казнохранилища князя Владимира Андреевича Храброго, написал фрески терема великого князя Василия Дмитриевича. Из всех этих работ сохранился лишь иконостас Благовещенского собора в Кремле, который создавался совместно с Андреем Рублевым и «старцем Прохором с Городца». Феофана Грека вполне справедливо считают духовным наставником Рублева, хотя творческие устремления и манеры этих прославленных мастеров имеют мало общего. Каждый из живописцев по-своему выразил в искусстве драматизм современной ему эпохи: Феофан Грек, создавая трагические, величественные образы, Андрей Рублев – гармоничные и светлые, олицетворяющие мир и согласие между людьми. Но оба они по праву считаются создателями классической формы русской иконописи.
Среди росписей Благовещенского собора Феофану Греку приписывают большинство икон деисусного ряда: «Спас в силах», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча», «Апостол Петр», «Апостол Павел», «Василий Великий», «Иоанн Златоуст». Все они исключительно внушительны и монументальны. Почти двухметровые фигуры составляют единую композицию, подчиненную одному замыслу – «воплотить благодарственную молитву святых Спасу, Творцу и Владыке небесных сил, и ходатайство их за род человеческий в день Страшного суда». Каждый лик, созданный Феофаном, индивидуален, почти портретен. Хотя мастер стремился сохранить живописную манеру, характерную для его прежних росписей, все же теперь она несколько иная. Образы икон не столь экспрессивны, как на фресках, а их драматизм будто ушел вглубь. Линии более спокойны и сдержанны, а в рисунке яснее просматривается классическая традиция, уходящая корнями к античности. С именем Феофана Грека предположительно связывают и несколько виртуозно исполненных икон – «Преображение», «Четырехчастная», «Иоанн Предтеча Ангел Пустыни» и др.
Росписи в Благовещенском соборе были написаны в течение одного года. О том, как сложилась дальнейшая судьба Феофана Грека, какими были его последующие произведения, неизвестно. Умер мастер, вероятнее всего, между 1405 и 1415 гг., так как из послания Епифания Премудрого следует, что в 1415 г. художника уже не было в живых.
Для выдающегося византийца Русь стала второй родиной. Творчество Феофана Грека воплотило в себе лучшие традиции византийского искусства, но вместе с тем оно развивалось в тесном взаимодействии с русской культурой. И потому, видимо, стало близким и созвучным мироощущению русских людей, оказало огромное влияние не только на его современников, но и на последующие поколения русских художников.
Филонов Павел Николаевич (род. в 1883 г. – ум. в 1941 г.)
Крупнейший русский живописец и график, один из наиболее выдающихся представителей отечественного авангарда, теоретик аналитического искусства. Участник петербургского художественного объединения «Союз молодежи» (с 1910 г.), организатор группы «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков „Сделанные картины“» (1914 г.), инициатор создания Петроградского института художественной культуры (1923 г.). Участник выставки русского искусства в Берлине ( 1922 г.). Автор статьи «Канон и закон» ( 1912 г.), «Декларации Мирового расцвета» (1923 г.), поэмы «Проповень о проросли мировой» (1915 г.).
Павел Николаевич Филонов – самая крупная, своеобразная и трагичная фигура в русском авангарде 1920-х гг. прошлого столетия. Творческая индивидуальность этого большого мастера не имела аналогов не только в отечественной, но и в мировой живописи. Так же, как и личная судьба художника, в которой восторженное признание его таланта соседствовало с долгим периодом гонений и забвения, а фантастическая убежденность в правоте коммунистических идеалов, одержимость идеей земного рая – с ощущением всеобщего распада в обществе в результате коммунистического террора. Эту трагическую парадоксальность жизни Филонова наиболее точно выразила Е. Плавинская, назвав его «самым русским художником, который более всех был покалечен российской историей».
Отношение к творчеству и личности этого мастера у современников было неоднозначным. Одни называли его «Араратом современного искусства» (В. Шкловский), «великаном погибших сокровищ», «очевидцем незримого» и «смутьяном холста» (А. Крученых). А будущий основатель соцреализма в искусстве И. Бродский утверждал, что «Филонов как мастер-живописец является величайшим не только у нас, но и в Европе и в Америке». Другие, в числе которых были прежде всего официальные искусствоведы и критики 1930-х гг., обвиняли художника в «формализме», называли его произведения «продуктом больной фантазии», а их автора – «контрреволюционером» или просто «помешанным врагом рабочего класса». Сам же Филонов возводил себя в ранг пролетарского мессии «от Изо», убежденно говоря о себе: «Я – художник мирового расцвета».
Сегодня имя этого гения русского авангарда известно всему миру, чего нельзя сказать о его творчестве. Оно по-прежнему недостаточно изучено специалистами, мало знакомо зрителям и содержит еще много загадок. Большинство филоновских работ, несмотря на их гуманистическую направленность, оставляют непонятное, а порой и жутковатое впечатление, такое же, впрочем, как и биография художника.
П.Н. Филонов родился в Москве в бедной, простой семье. Отец его был кучером, а затем извозчиком, а мать брала в стирку белье. Кроме Павла в семье росло еще пятеро детей – четыре сестры и брат. Все они обладали различными художественными наклонностями, но серьезно искусством занимались только Павел и Евдокия, ставшая певицей.
Рисовать Филонов начал с трехлетнего возраста, копируя все, что попадало под руку. А с 5 до 11 лет, чтобы помочь семье (родители к тому времени уже умерли), он танцевал в кордебалетах частных московских театров и вместе с сестрами вышивал полотенца и скатерти на продажу.
Будучи способным и любознательным мальчиком, Павел с отличием закончил начальную школу и после переезда семьи в Петербург стал учиться в живописно-малярной мастерской. Одновременно он поступил на вечерние курсы Общества поощрения художеств. Несмотря на несомненную одаренность, юношу трижды не принимали в Академию художеств по причине «незнания анатомии», и он в течение трех лет занимался ее изучением в мастерской Л.Е. Дмитриева-Кавказского, у которого училось немало талантливых художников того времени. Наконец, в 1908 г., теперь уже «исключительно за знание анатомии», двадцатипятилетний Филонов становится вольнослушателем академии. Но он быстро разочаровался в академическом образовании, да и консервативным мэтрам строптивый ученик пришелся не по душе. Спустя многие годы он вспоминал: «Академическая профессура с первых же дней взяла меня под бойкот. Я с первого же дня стал работать по-своему». Один из примеров такой работы «по-своему» приводила Евдокия Глебова в своих воспоминаниях о брате. Она рассказывала о том, как однажды на занятиях он набросал на холсте фигуру натурщика углем, а потом покрыл рисунок зеленой краской. Не обращая внимания на возмущенные реплики профессора Я.Ф. Ционглинского, Филонов, по словам сестры, «взял краплак и начал им прорисовывать вены по всему телу. "Посмотрите, он кожу сдирает с натурщика!" – буквально взвыл профессор. Быстро подойдя к Филонову, он вне себя, резко обратился к нему: "Вы же с ума сошли, что вы делаете?" Филонов невозмутимо, совершенно спокойно повернулся к Ционглинскому и, смотря ему прямо в глаза, не повышая голоса, произнес: "Ду…рак!" Взял холст и ушел».
В 1910 г. художник распрощался с академией. Он считал, что, «рисуя и работая цветом лучше любого из академических профессоров» (по его словам), совершенно готов к самостоятельной работе. И развернул ее широко и стремительно. В предвоенный период Филонов много путешествует по своей стране и за рубежом, чтобы увидеть подлинники великих мастеров. За шесть месяцев он по паломническому паспорту побывал в Палестине и в Новом Афоне, пешком прошел по городам Италии и Франции, расплачиваясь за пищу и ночлег своими рисунками.
Вернувшись в Петербург, Филонов принял участие в создании общества художников «Союз молодежи», которое впоследствии сыграло большую роль в его творческой биографии. Он принял участие в семи выставках, организованных «Союзом», где были представлены лучшие его картины довоенного периода: «Пир королей», «Восток и Запад», «Запад и Восток», «Мужчина и женщина», «Перерождение интеллигента», «Постройка города». Все они были написаны в 1912 – 1913 гг. в смешанной технике – маслом, темперой и гуашью на бумаге. По своему страстному интересу к «вечным темам» бытия, наличию аллегорических фигур-олицетворений эти произведения, как и картина «Головы» (1910 г.), вплотную примыкали к символизму и модерну. В них отчетливо проступало охватившее автора предчувствие скорой гибели, угрожающей людям. Особенно оно проявилось в «Мужчине и женщине», где обнаженные и отвратительные тела выступают знамением болезней, страданий и смерти. Позже Филонова назовут гениальным провидцем, уловившим трагический дух времени, грядущую мировую войну. Но если и было в его работах что-то пророческое, то скорее неосознанное, интуитивное. Сам художник в это время более всего был занят мыслями о реформировании искусства.
Как и многие его современники-авангардисты, Павел Филонов стремился теоретически обосновать свои взгляды на искусство. Принципы выработанного им художественного стиля он впервые изложил в статье «Канон и закон», опубликованной в 1912 г. В ней он дает основы аналитического искусства, противопоставляя его всем другим течениям, и прежде всего кубизму и кубофутуризму, зашедшим, по его мнению, «в тупик от своих механических и геометрических оснований». Всех художников – от Рериха до Пикассо, кубистов и супрематистов – Филонов считал схоластами и рутинерами, рабами «канона». Исключение он делал только для любимого им Айвазовского и Леонардо да Винчи.
Аналитическое искусство, по Филонову, в отличие от «канона», предполагающего волевое решение формы картины, должно было следовать по иному пути. В основе его – построение формы от частного к общему. Художник учил: «Позволь вещи развиваться из частных, до последней степени развитых, тогда ты увидишь настоящее общее, какого и не ожидал». В своей статье Филонов развивает также положение о «видящем глазе» и «знающем глазе». Если первому подвластны цвет и форма объекта, то второй на основе интуиции улавливает скрытые процессы, которые художник пишет «формою изобретаемою», т. е. беспредметно. Эти теоретические открытия не были новыми, но как большой и самобытный художник Филонов сумел подытожить и объединить в них ценности всего экспериментального искусства – кубофутуризма, абстракционизма, аналитизма и неопримитивизма, пропустив их через призму собственного мироощущения.
Участвуя в деятельности «Союза молодежи», художник тесно сотрудничал со многими поэтами группы «Гилея»: В.В. Хлебниковым, В.В. Маяковским, А.Е. Крученых, Д.Д. Бурлюком, Е.Г. Гуро, В.В. Каменским, Б.К. Лившицем. Он написал декорации к трагедии «Владимир Маяковский», к спектаклям «Победа над Солнцем» Крученых и «Рождественская сказка» Хлебникова. Художник очень избирательно относился к творчеству поэтов-футуристов. Особенно близка ему была поэзия Велимира Хлебникова. Он написал его портрет и очень своеобразно оформил сборник стихов. Зная о стремлении поэта к «вселенскому языку», понятному всем народам, Филонов превратил отдельные буквы в рисунок, как бы возвращая письменное слово к пиктографии. Позднее духовная близость с Хлебниковым проявилась в собственных поэмах Филонова, опубликованных в сборнике «Проповень о проросли мировой» (1915 г.). Общность взглядов на мир, природу искусства будет впоследствии роднить художника и с другим поэтом – Н. Заболоцким.
К числу лучших живописных произведений Филонова этого периода относятся картины «Крестьянская семья», «Коровницы», «Ломовые», «Портрет Евдокии Николаевны Глебовой», написанные в 1914-1915 гг.
После распада «Союза молодежи» художник пытается создать собственную группу из числа единомышленников, разделяющих его идеи аналитического искусства. В марте 1914 г. этой группой, названной «Интимной мастерской живописи и рисовальщиков "Сделанные картины"», был опубликован манифест, в котором говорилось: «Цель наша – работать картины и рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и рисунке – это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу». Выявить ее, по мнению Филонова, можно только путем «сделанности» картины. Он считал, что «организм» ее должен расти так, как растет все живое в природе. Предлагаемый им путь органики в создании произведения искусства предвосхищал идеи бионики. Эти теоретические положения художник методично воплощал в своих работах. Он писал большие холсты маленькой кисточкой, по собственному утверждению, «упорно и точно рисуя каждый атом». Этого же он требовал и от всех своих учеников.
В 1916 г., прервав свою творческую и исследовательскую работу, Павел Филонов ушел на фронт. Как человек искусства, он был далек от политики, но имел свою гражданскую позицию. Она проявилась не только в участии в сражениях Первой мировой войны, но и в восторженном принятии революции 1917 г. Солдаты, воевавшие с Филоновым на румынском фронте, избрали его председателем Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края. В 1918 г., вернувшись в Петроград, он с еще бо́льшим энтузиазмом принялся за создание нового пролетарского искусства.
20-е гг. стали временем наивысшего подъема в творчестве Филонова. Он создает много значительных работ, посвященных Гражданской войне, революции, петроградскому пролетариату. Среди них – картины «Октябрь» (1921 г.), «Петроградская ночь» (1922 г.), «Живая голова» (1923 г.), «Февральская революция» (1924 – 1925 гг.), «Голод», «Человек в мире» (обе в 1925 г.), «Мать и дитя», «Тайная вечеря», «Нарвские ворота» (все в 1929 г.), «Рабочий в кепке» (1930-е гг.) и др. Но основу творчества художника составляют многочисленные композиции, называемые им «формулами». В них представлено все – люди, события, явления: «Формула петроградского пролетариата» (1920 – 1921 гг.), «Формула комсомольца» (1924 г.), «Формула буржуазии» (1924 – 1925 гг.), «Формула империализма» (1925 г.), «Формула весны» (1927 – 1929 гг.), «Формула вселенной» (1920 – 1928 гг.). Эти названия были не случайными. Ведь формула, как известно, содержит максимум обобщения, закономерностей. Это тот путь, по которому художник предлагал следовать зрителю, его воображению и интеллекту. Еще одним типичным филоновским сюжетом было изображение голов, которое, по замыслу автора, призвано передать все богатство знаний, точек зрения, всю сложность мироощущения современного человека.
Картины Филонова неоднозначны, трудны для понимания. Особую загадку представляет собой его последнее произведение – полотно «Лики», написанное им незадолго до смерти. Но сквозь паутину фигуративности в работах художника довольно отчетливо проступают образы и темы, являвшиеся для него главными: извечная борьба добра и зла, страдания людей и животных, втиснутых в каменные мешки городов, серая будничность, полная тоски, напряженности, чреватая эмоциональными взрывами. Его произведения были глубоко социальны, насыщены явным или скрытым драматизмом, который подчеркивался нередко мрачным колоритом, пронзительным сочетанием холодного синего цвета с красным, являвшимся основным для художника. Это цвета человеческой пуповины, но они же и цвета смерти.
Творческую и исследовательскую деятельность Филонов сочетал с педагогической. Отклонив предложение правления Академии художеств занять в ней место профессора, поскольку считал систему преподавания в ней неправильной, он в 1923 г. разработал «Устав Института исследования искусства», стал одним из инициаторов создания Института художественной культуры и руководил в нем отделом общей идеологии. В том же году он опубликовал «Декларацию Мирового расцвета», на основе которой в 1925 – 1927 гг. сформировал коллектив своих учеников и последователей под названием «мастера аналитического искусства» («Школа Филонова») .
Такая интенсивная работа требовала от художника полной самоотдачи. Его рабочий день длился по 18 часов, без выходных и праздников, с короткими перерывами на еду и чтение. Выдержать такой напряженный ритм он мог только благодаря выработанной с детства привычке к аскетизму. Выросший в бедности, он умел обходиться минимумом. Впоследствии привычка переросла в осознанное ограничение условий жизни. Ратуя за новую жизнь, Филонов и сам хотел быть образцом нового человека, одного из «полчищ чернорабочих искусства, на костях которых один или двое могли бы дать бессмертные вещи». Он по-рахметовски закалял и истязал себя: спал на железной кровати без матраса, смотрел невооруженным глазом на солнце, жил в неотапливаемом помещении, жестоко ограничивал себя в еде. Словно чувствовал, что эти ограничения станут его единственным спасением, помогут выжить в годы гонений и травли.
В 1930-е гг., в пору расцвета своего творчества, художнику довелось сполна испить горькую чашу забвения. Его искусство, не укладывающееся в регламентированные рамки официоза, было признано властями ненужным и вредным. Выставка работ филоновцев в 1927 г. была расценена как «общественно-аналитический гротеск с уклоном в патологическую анатомию». Одна из критических статей, написанная в характерном для того времени жанре политического доноса, клеймила «Школу Филонова»: «Под вывеской государственного учреждения приютился монастырь с несколькими юродивыми обитателями, которые, может быть, и бессознательно, занимаются откровенной контрреволюционной проповедью, одурачивая наши советские ученые органы». Художник в долгу не остался. В редких публичных выступлениях, на диспутах он также нелицеприятно бичевал противников, не понимая, что они лишь винтики в страшной машине тоталитаризма. Его дневник изобилует жутковатой лексикой того времени: «правый уклонизм», «деклассированная кучка кремлевских карьеристов», «паразиты, давно издохшие идеологической смертью», «заплывшая желтым жиром сменовеховская сволочь» и т. п. Но грамотно организованная травля в печати привела к разгрому «Школы Филонова», срыву в 1929 г. его персональной выставки в Русском музее. Художника обвинили в «контрреволюционной» тяге к непонятному искусству. Он был лишен заказов, работы, средств к существованию и фактически «выброшен» из художественной жизни страны.
В это тяжелое для него время Филонов находил поддержку и опору в своих учениках и близких, особенно в жене, умной и стойкой народоволке Екатерине Александровне Серебряковой. Они поженились в 1924 г. и прожили вместе до самой смерти художника, любовно и бережно относясь друг к другу, деля все беды и невзгоды. В 1937 г., когда жену парализовало, Павел Николаевич заботливо ухаживал за ней, учил заново говорить, писать, ходить.
О том, что ему пришлось пережить в годы гонений, Филонов с горечью писал в своем дневнике: «Ем кило или полкило хлеба в день, тарелку или две супа с картошкой. Положение мое становится грозным. Выход один – пойти на любую черную работу для заработка. Но я растягиваю последние гроши, чтобы отдалить этот "выход" – и работаю весь день как всегда, пока сон не выводит меня из строя… При моем в полном смысле слова железном, несокрушимом здоровье – я чувствую, однако, как уходит моя прежняя мускульная сила. Но рабочая энергия, воля к работе, неутомимое желание работать – крепнут».
Более 10 лет Филонов прожил в голоде и нищете, в постоянном ожидании ареста и расправы. У него отняли близких (двух пасынков и мужа сестры Евдокии, как и многих преданных учеников, арестовали). Он не продавал свои картины, завещая их государству, отказался от пенсии по состоянию здоровья, поскольку считал, что заработал ее своим вкладом в искусство.
В первые месяцы войны, в блокадном Ленинграде, Филонов все ночи проводил на крыше и чердаке дома, охраняя его от зажигательных бомб. Стоя на морозе, голодный и изможденный, он из последних сил старался спасти свои работы – результат многолетних дум, страданий и напряженного, нечеловеческого труда. Однажды, упав на темной лестнице, он больше не смог подняться. 3 декабря 1941 г. Филонов скончался. Единственной почестью, которой наградил его Союз художников, стали доски для гроба, что по тому времени считалось роскошью.
Екатерина Серебрякова писала о муже: «Если бы он говорил не красками… а человеческим языком, он явился бы тем рычагом, который перевернул бы мир – и наступил бы рай земной». Сам же художник мечтал о «мировом расцвете» и работал для него. И как знать, может быть, люди смогли бы ускорить его приход, если бы поняли таинственный смысл живописных посланий Филонова? Ведь недаром теперь во всем мире его называют гениальным.
Чирин Прокопий Иванович (род.? – ум. в 1627 г.)
Знаменитый русский иконописец строгановской школы, монументалист, декоратор, книжный иллюстратор.
Древнерусское искусство – это прежде всего храмы и иконопись. В огромных соборах и маленьких церквушках, в княжьих и царских палатах, в убогих домишках черного люда икона была сосредоточением не только религиозного духа, но и единственным живописным произведением. Самобытно и неповторимо русское иконописное искусство, бесценен его вклад в сокровищницу мировой культуры. Ведь недаром А. Матисс, побывав в 1911 г. в Москве, был ошеломлен красотой древнерусской живописи. «Это доподлинно народное искусство, – говорил художник. – Здесь первоисточник художественных исканий… Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют… Всюду та же яркость и проявление большой силы чувств», которые «передаются тем сильнее, чем яснее видишь, что его достижения подкреплены традицией».
И.В. Гете на столетие раньше тоже отмечал, что «целая отрасль искусства, с древнейших времен перешедшая из Византии, сохраняется неизменной благодаря постоянной преемственности…» Но как мало (после церковной реформы Никона в 1652 г.) сохранилось этих потемневших, записанных до неузнаваемости старообрядческих икон. И почти ничего не известно о мастерах, создавших эти незамутненные мирской суетой шедевры.
Сведения о Прокопии Ивановиче Чирине отрывочны и неполны. Не установлено, ни когда он родился, ни у кого он учился. Из надписи на одной из икон – «иконник Прокопий Новгородский» – исследователями был сделан вывод, из какого края он был выходцем. В 1590-е гг. живописец уже жил в Москве и писал по заказу семьи Бориса Годунова. 1593 годом датируется первая известная работа Чирина «Никита-воин», написанная с виртуозным мастерством миниатюриста. На иконе вспыхивают чисто-голубые и ярко-алые краски, блеск серебра и золота тихо угасает в темно-оливковом фоне. Одухотворенный трепетный лик святого заставляет забыть о манерности позы и неустойчивости его движения. На иконе «Избранные святые» (между 1598 – 1605 гг.) изображены святые покровители (патроны) царской семьи: Борис и Глеб, Федор Стратилат и Феодот Анкирский, Мария и Ксения Римлянка. Строгая симметричность композиции, обилие золота и орнамента делают икону созвучной торжественно-пышному двору Годунова.
В смутные времена Лжедмитриев мастер нашел убежище в могущественной семье купцов Строгановых. В Сольвычегодске Чирин много работал по заказам именитых людей. При написании икон его привлекали деисусы (композиции с изображением Христа в центре и обращенных к нему в молитвенных позах Богоматери и Иоанна Крестителя), молящиеся святые и Богоматерь. Это были не официальные произведения, а изображения, рассчитанные на интимное общение с молящимися. Отступая от церковных канонов, мастер делал лики на иконах все более индивидуальными, а сами его произведения получали светский характер («Богоматерь Тихвинская»). Светская трактовка образа ощутима и в складне (складная икона) «Богоматерь Владимирская с праздниками и ликами святых» (ок. 1610 г.). Лик Марии подчеркнуто мил, а фигура изящна. Она помещена в обрамлении 24 клейм, издали воспринимающихся как плотное золотое кружево. Миниатюрное письмо самих клейм вызывает восхищение тонкостью и виртуозностью. Совершенство композиции и рисунка дополняется невероятно филигранной прорисовкой мельчайших деталей и придает каждой клейме соответствующее смыслу выражение. В крошечной клейме «Преображение» у одного из апостолов расшнуровалась и упала сандалия. Живописец тщательно выписывает не только саму сандалию, но и босую ногу святого. На боковых створках иконы лицо каждого святого дано индивидуально. Особенно выделяется лик московского юродивого Иоанна. Большой горбатый нос, высокий лоб с залысинами, жидкие светлые волосы, обрамляющие болезненное, некрасивое лицо. Изображение святого отступает от догм и неповторимо передает облик реально существовавшего юродивого, которого Чирин видел при жизни. Нарушая плоскостное изображение, художник стремится передать рисунком «объемность», что уже к концу XVII в. станет обычным приемом при писании парсун.
Патрональные иконы, созданные для Ивана и Никиты Строгановых, решены портретно. Покровитель старшего брата «Иоанн-воин» (ок. 1615 г.) схож с Иваном не только чертами лица, но и грозной неумолимостью характера. Второй брат Никита, тихий и смиренный, интересующийся науками, языками и «Божественным Писанием», передал облику Св. Никиты-воина (1620-е гг.) свою душевную мягкость, благообразие и некоторый аристократизм. Он одет в золотую кольчугу с драгоценными каменьями и платье, расшитое жемчугом и узором, а воинские доспехи лежат у его ног.
К патрональным относятся и другие иконы, написанные Чириным для семейства Строгановых: «Спас на престоле с падающими Св. Максимом-исповедником и Иоанном-воином», «Нерукотворный Спас со Св. Максимом-исповедником и Иоанном-воином на полях», «Дмитрий-царевич и Дмитрий Солунский». Здесь портреты заказчиков узнаются безошибочно.
Чирина, который всего десять лет работал для Строгановых, небезосновательно относят к строгановской иконописной школе. Прокопию Ивановичу, как и другим мастерам этой школы иконописи (Истома, Никифор и Назарий Савины, Емельян Московии), были свойственны миниатюрное письмо, изысканный цветовой строй, индивидуальность ликов и грациозное изящество поз и жестов.
С 1615 г. Чирин, выдержав среди товарищей экзамен на мастерство, вновь числится среди «государственных жалованных живописцев». Получая, как все, «поденное пропитание», Прокопий Иванович, согласно заслугам, имел самое высокое жалованье и государевы подарки («портище тафты», «сукно лазоревое»). Среди знатных заказчиков «придворного живописца икон» встречается имя патриарха Филарета, что в полной мере свидетельствует о признании таланта и мастерства Чирина. Удивительная чистота и прозрачность красок символизируют незамутненность и возвышенность духовного мира «Иоанна Предтечи, ангела пустыни» (ок. 1625 г.). Внимание приковывает замкнутое, сосредоточенное лицо мученика и аскета – «воплощение интеллекта божества, возвышенного, оторванного от всего земного». С ювелирной точностью прописывает Чирин мельчайшие детали: золотые узелки ствола «малахитового деревца», прозрачные зелено-голубые капли на листьях, черненый узор чаши и белоснежных лошадок. Созданием образа ангела пустыни художник завершил свой поиск идеальной человеческой личности.
«Мудрейший изограф» помимо икон исполнял работы по украшению церкви Федоровской Богоматери в Москве, постельной комнаты и столовой избы царя. О мастерстве Чирина как монументалиста и декоратора судить сложно, так как росписи не сохранились. И только вышитое русскими мастерицами конца XVI – начала XVII в. по его эскизу довольно внушительного размера «Знамя Сапеги» дает единственное ясное представление о достижении мастера в этой области искусства. Стройная, устойчивая (в отличие от икон) трактовка фигур архангела Михаила и Иисуса полностью соответствовала назначению предмета, служившего парадным знаменем русских войск.
В 1620 – 1621-х гг. мастер создавал рисунки для гравюр к Евангелию (издано в 1627 г.) для Московского печатного двора. Их изысканные композиции подчеркнуто уравновешены, движение святых и ангелов передано лишь круглящимися линиями контуров одежд и плащей. Недолгая работа по оформлению книг, по всей видимости, связана с тем, что резчики были вынуждены перестраивать изящную живопись, чтобы соизмерить ее с возможностью гравюры.
Прокопий Иванович Чирин скончался, вероятно, около 1627 г. Его работам подражали, их копировали и, главное, изучали, ведь он первый из иконописцев сумел придать религиозной тематике светское содержание, связанное с жизнью отдельной человеческой личности.
Шагал Марк (род. в 1887 г. – ум. в 1985 г.)
Выдающийся живописец, график и скульптор, театральный декоратор, большой мастер монументальной живописи, один из основоположников сюрреализма. Участник многочисленных выставок: в Осеннем салоне (Париж, 1912 г.), объединений «Мир искусства» и «Ослиный хвост» (Москва, 1912 г.), в Берлине (1914 г.), биеннале в Венеции (1948 г.), в Лувре (1977 г.) и др. Обладатель почетных наград: Гран-при за офорты к «Мертвым душам» Гоголя (1948 г.), ордена Почетного легиона (1977 г.). Прозаик и поэт, автор книги «Моя жизнь» (1923 г.).
Искусство этого художника в равной степени считают своим евреи, русские и белорусы. Сам же Шагал до конца своих дней называл себя «русским художником», подчеркивая тем самым свою родную общность с российской живописной традицией. Но как большой, настоящий мастер он в своем творчестве раздвинул национальные, религиозные и любые другие рамки и по праву стал художником мира. Недаром Андре Бретон называл искусство Шагала «магическим универсумом».
Произведения этого художника неизменно погружают зрителя в мир детства. Невероятные персонажи, например зеленые козы или коровы, у него гуляют где хотят, люди ходят задом наперед, сидят на крышах, летают и переворачиваются вверх ногами, предметы помещаются один в другом и вытворяют еще бог знает что, не поддающееся логике обычного мышления. Это похоже на воплощение детской мечты, бессознательных всплесков фантазии или сновидений. Не зря один из критиков назвал искусство Шагала ночным.
Но такое мироощущение художник сохранял всю жизнь, он был всегда неожиданным и эксцентричным. Шагал вспоминал, как, достигнув 13 лет, он с ужасом представлял себя в морщинах и с черной бородой и рыдал при этом. Что же так пугало мальчишку? В автобиографии Шагала есть одно предложение, отвечающее на этот вопрос: «Никуда не денешься, пора взрослеть и делаться как все».
Щуплый большеголовый мальчик, которому отец из каких-то соображений еще и приписал лишних два года, изо всех сил старался превзойти хоть в чем-нибудь своих сверстников. И его действительно стали называть вундеркиндом, потому что он учился игре на скрипке, пел в синагоге, сочинял стихи и рисовал. Мовша Шагал поочередно мечтал «пойти» в канторы, музыканты, танцоры или поэты, потому что все ему удавалось. Вот только в школе успехи были очень средние. Единственным предметом, на котором он не краснел и не заикался, была геометрия. Ну а на рисовании, как он вспоминал позже, ему «не хватало только трона».
Отец Шагала был грузчиком в рыбной лавке, кормильцем большой семьи, в которой росло девятеро детей. Мать заботилась обо всех, была мастерицей, любительницей поговорить и, наверное, одаренной женщиной, потому что Шагал признавал: «Весь мой талант таился в ней, моей матери, и все, кроме ее ума, передалось мне». Именно она поверила в его художественные задатки и повела в школу живописи и рисунка художника Пэна – единственное подобное учебное заведение в Витебске. Мальчик из бедного еврейского квартала буквально бредил словом «художник». Отец заплатил только за два месяца обучения, а потом Ю. Пэн стал учить юное дарование бесплатно. О роли этого человека в жизни Шагала говорит то, что он ставил своего первого учителя рядом с отцом. Пэн и посоветовал юноше продолжить учебу в Петербурге.
Когда отец об этом услышал, то бросил 27 рублей сыну под ноги, и тот собирал их под столом, глотая слезы. Но все-таки строгий родитель достал ему временное разрешение на жительство в Петербурге (дело в том, что по царскому повелению для евреев существовала черта оседлости), и теперь Мовша Шагал ехал в северную столицу якобы по поручению купца за товаром.
Оказавшись в 1907 г. в Питере, юноша сначала попытался поступить в училище технического рисования барона Штиглица, но провалился. А вот в школе Общества поощрения художеств повезло, его приняли без экзаменов сразу на третий курс, а затем, как успевающему ученику, назначили стипендию. Директором здесь был Николай Рерих. Один из преподавателей, скульптор Гинцбург, ученик Антокольского, академик, пускал молодого человека в свою мастерскую. Другим благодетелем стал адвокат Гольдберг, который взял его к себе в лакеи и таким образом дал крышу над головой и стол. Шагал перепробовал еще несколько учебных заведений, пока не остановился на школе Е.Н. Званцевой, где преподавал замечательный мастер театрально-декоративного искусства Л.С. Бакст. Это было единственное учебное заведение, которое ориентировалось на новые европейские веяния в искусстве. Разглядывая рисунки Марка Шагала (он поменял свое имя на более звучное), Бакст вынес свой приговор: талант у юноши есть, но испорченный, хотя и не окончательно. А своеобразие этого таланта состояло в том, что он плохо поддавался шлифовке. Через несколько месяцев учебы Шагал понял, что и здесь, как раньше у Пэна, его что-то не устраивало. «Я способен только следовать своему инстинкту», – решил он для себя.
В это время Бакст должен был уезжать в Париж для оформления постановок антрепризы С. Дягилева. Вслед за ним засобирался и Шагал, понимая, что может чему-то научиться только в столице мирового искусства.
До отъезда некоторое время он пожил дома, в Витебске, надеясь выпросить у отца денег. Семья была против дальних странствий, из которых еще не известно что получится. Но не окажись в то время М. Шагал в Париже, он, наверное, «сделался бы, как все» – приказчиком, бухгалтером или фотографом.
Четырехлетнее пребывание в Париже стало самым важным в творческом становлении Шагала. Он окунулся в разнообразие новых течений, направлений и школ, постигал классическую живопись в залах Лувра и Люксембургского музея, преклонялся перед Рембрандтом, не раз возвращался к работам Шардена, Фуке, Жерико. Художник был завсегдатаем галерей и салонов, где выставлялись Сезанн, Ван Гог, Матисс, Гоген, посещал литературные и художественные салоны, участвовал в спорах, пытался разобраться в искусстве и найти в нем свое место. В конце концов Шагал определился: «Долой натурализм, импрессионизм и кубо-реализм!… Куда мы идем? Что за эпоха, прославляющая технику и преклоняющаяся перед формализмом? Да здравствует безумие!.. Мое искусство не рассуждает, оно – расплавленный свинец, лазурь души, изливающаяся на холст». Хотя теоретики искусства упорно причисляют Шагала к сюрреалистам, сам художник, будучи уже известным и умудренным, сказал: «Направления – это скорее теоретические понятия, я не считаю себя принадлежащим ни к какому направлению. Мое дело – краска, чистота, любовь… Но это не направление, а убеждение». И это убеждение сформировалось у него уже в ранние годы.
М. Шагал много путешествовал по Франции, изучал страну, поддерживал дружеские отношения с Пикассо, Матиссом, Боннаром, Элюаром и другими художниками и поэтами, ставшими гордостью французского искусства. Жил он тогда в «Улье» – общежитии художников, где располагались десятки маленьких художественных мастерских, часто голодал, не имел денег на холсты, бывало, что рвал и натягивал на подрамники постельное белье. В периоды хронического безденежья Марк в дуэте с Ф. Леже давал концерты на улицах Парижа. Картина была незабываемой: Шагал пел еврейские песни, а Леже аккомпанировал ему… на лютне. Но, несмотря на нужду и тоску по родине, молодой художник работал с упоением, выставлял свои картины в салонах и пытался продавать, но их покупали разве что оптом и по дешевке. Чаще же он их раздаривал, и уезжали работы раннего Шагала в Амстердам, Брюссель, Берлин. Среди картин этого периода наиболее характерные «Я и моя деревня» (1911 г.), «Скрипач», «Поклонение Аполлинеру», «Россия. Ослам и другим» (1911 – 1912 гг.), «Автопортрет с семью пальцами», «Голгофа» (1912 г.), «Молящийся еврей» (1913 г.), в которых уже проявился стиль Шагала, один из самых ярких в авангардной живописи начала XX века.
Но тогда ни он, ни кто-либо другой не могли предсказать его взлет. Марк чувствовал себя нищим безродным евреем, чужим почти для всех, за исключением Аполлинера и нескольких поэтов его круга, а также издателя Канудо, который в 1913 г. организовал в редакции своего журнала выставку работ Шагала и назвал его самым блестящим колористом среди живописцев авангарда.
Через год художник собрал почти все свои работы, выполненные во Франции, и поехал в Берлин устраивать первую персональную выставку в редакции журнала «Дер Штурм», организованную издателем Вальденом. Она произвела фурор. Особенный отклик вызвала живопись Шагала у молодых немецких художников, а уже после войны она дала толчок развитию экспрессионизма.
Впитав и переосмыслив все, чем одарил его Париж, М. Шагал обрел свой стиль, который отличался, прежде всего, религиозностью и национальной окрашенностью. Сочный еврейский колорит образов и глубокое осмысление их в контексте ирреального, сверхъестественного существования породили и совершенно невероятную композицию картин, и немыслимые цветовые сочетания, и взрыв устоявшихся представлений о живописи.
Теперь художник мог собой гордиться. Поэтому решил съездить на родину, на свадьбу сестры и на свидание с любимой – Беллой Розенфельд. Их знакомство состоялось еще до Парижа, отношения были чисты и возвышенны. Девушка провожала его за границу, потом писала письма. Любопытно, что он с первого взгляда почувствовал притяжение ее глаз, теплоту души и… понял, что это его жена. Расстояние несколько стерло остроту этого чувства, но теперь, оказавшись рядом, Шагал решил, что эта девушка предназначена ему судьбой. Пусть она дочь богатого ювелира и не ровня ему, но ведь он художник!
Шагал был по-настоящему счастлив. Потому что познал любовь, потому что не ошибся в Белле. С этого времени тема любви станет одной из ведущих в его творчестве. И даже одна из последних картин художника, написанная в 1983 г., будет называться «Двое влюбленных на красном фоне». Белла имела не только привлекательную внешность, она получила хорошее образование, изучала языки (в совершенстве знала французский, что очень пригодилось позже), увлекалась философией, любила творчество Достоевского, обладала литературным даром, обучалась в одной из театральных студий Станиславского. Ей было что дать Шагалу. Она сразу же оценила талант будущего супруга. А он воспевал ее в своих картинах, посвящал ей свои стихи и даже поэму под названием «Жена», а в воспоминаниях слово «Она» – писал с большой буквы. Их любовь – это редкое совпадение миров двух людей.
Счастье молодоженов прервала война. Шагал лишился загранпаспорта и ожидал призыва в армию. Правда, ему удалось устроиться не в окопы, а в Петроградское военное бюро и воевать с бумажками. Когда же армия Вильгельма стала одерживать победы, а русские солдаты разбегаться с лозунгами о свободе и революции, Шагал тоже дезертировал. Разобраться в происходящем ему было трудно. Дума, Временное правительство, Керенский, Учредительное собрание, Маркс и Ленин – все это было где-то рядом, но художник жил прежде всего творчеством. В 1914 – 1915 гг. его картины фиксировали события, он даже именовал их документами. Неожиданно его выдвинули от молодежи в новое министерство искусств. Через некоторое время Шагал едет в Кремль к Луначарскому и получает от него мандат комиссара по делам изобразительных искусств в Витебске. Мудрая Белла сказала тогда: «Все кончится провалом и обидой». И оказалась права.
Но М. Шагал с энтузиазмом взялся за работу. Организовал в родном городе Школу искусств для детей бедноты, успел даже выпустить несколько десятков художников, открыл мастерскую и художественный музей. Дважды он вместе с учениками оформлял город к празднованию годовщин Октябрьской революции. По его приглашению в школе работали Пэн, Малевич и другие живописцы из «левых». В этот период художник создает ряд полотен («Над городом», 1914 – 1918 гг.; «Венчание», «Прогулка», обе в 1918 г.), ставших вершинами его творчества.
Но ученики и соратники во главе с К. Малевичем скоро остыли к идее, предали своего друга и директора. Они организовали настоящую травлю М. Шагала и таки добились его изгнания. Имущество школы и музея было растащено. Административная и педагогическая деятельность, которая не оставляла художнику времени для творчества, потерпела крах. Но все, что оставалось из прежних работ, спасла и сохранила верная Белла. Она одна осталась рядом с супругом. Хотя нет, ко времени переезда в Москву у них уже родилась дочь Ида. Втроем в 1920 г. они поселились в подмосковном поселке Малаховка.
М. Шагалу предложили работу в открывшемся Еврейском камерном театре под руководством А. Грановского. И художник снова с головой ушел в дела. Кроме костюмов и декораций для спектаклей, он за полтора месяца выполнил семь панно для фойе и зрительного зала, а также занавес. Это были поистине монументальные работы, которые, к сожалению, прослужили недолго (в 1930-е гг. их сняли), но дали возможность художнику «размахнуться» в новом виде живописи и ощутить свои силы.
В этот период художник дружил с Эфросом и Михоэлсом, познакомился с Мейерхольдом, Вахтанговым и Таировым, встречался с Маяковским, увлекался Блоком и Есениным. Однако многое из того, что они создавали, как известно, не вписалось в рамки «пролетарского» искусства. Творчество Шагала тоже отказывались понимать и принимать. Он оказался невостребованным. Несколько месяцев художнику пришлось работать в колонии для беспризорных в Малаховке. И все чаще мыслями он летел в Париж, где в его мастерской было много неоконченных работ, а также в Берлин, где он оставил свою выставку. В 1922 г. Шагал решил покинуть неласковую родину навсегда, с надеждой, что, может быть, вслед за Европой его полюбит и Россия.
С тех пор он стал жить, как герои его полотен, – с лицом, повернутым назад. Тысячу раз возвращался художник воспоминаниями в родной Витебск и надеялся на встречу с ним. По этой причине он не принимал французское гражданство до 1938 г. На чужбине М. Шагал долго чувствовал себя «деревом, вырванным с корнями и повисшим в воздухе». А выжил он только потому, что никогда не порывал духовной связи с родиной. Все, что происходило в жизни Марка Шагала после 1922 г., долго не было известно в нашей стране. О нем почти забыли, а его произведения находились в «спецхране». То, что он создавал отныне, уже не принадлежало России.
Один год художник прожил в Берлине, где занялся гравюрой, изучил новые техники и создал 20 офортов к книге «Моя жизнь» (она была издана на французском языке в Париже в 1931 г.). В 1923 г. по приглашению французского галерейщика Воллара Шагал переехал в Париж и в течение нескольких лет работал по его заказам. В 1931 г. он совершил путешествие по Сирии и Палестине, набираясь впечатлений для новой работы, заказанной Волларом, – иллюстраций к Библии. Его полотна со временем были выставлены в центре Парижа, в здании Культурного центра имени Ж. Помпиду, среди произведений русских живописцев.
В живописных работах Шагала 1930-х гг. много ностальгических и тревожных мотивов. Таковы, например, «Одиночество», «Белое распятие» (1938 г.), «Распятый художник» (1938 – 1940 гг.), «Мученик» (1940 г.), «Желтый Христос» (1941 г.) и др. Предчувствия не обманули художника. Фашизм стал величайшей трагедией человечества, в том числе и еврейского народа. Что касается лично Шагала, то ему была оказана особая «честь» – в 1933 г. в Манхейме по приказу Геббельса его картины сжигали на кострах.
Во время Второй мировой войны и до 1948 г. М. Шагал жил в США. Там его постигло огромное горе: в 1944 г. скончалась Белла. Композиции «Моей жене посвящается» и «Вокруг Нее» стали своеобразным памятником этой прекрасной женщине. Только через восемь лет Шагал решился заключить новый брак – с В. Бродской, которая помогла художнику вновь вдохнуть жизнь в его искусство. Вслед за произведениями станковой живописи, замечательными иллюстрациями к роману Лонга «Дафнис и Хлоя» (1960 – 1962 гг.) Шагал все больше увлекается монументальной росписью, мозаикой, керамикой, шпалерами и скульптурой.
За последующие десятилетия мир узнал М. Шагала как гениального художника. Он создал иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя и получил за них престижную премию, затем выполнил серию гуашей для «Цирка Воллара». Художник всегда любил цирк и считал свое искусство близким к цирковому по праздничности, смелости, буйству фантазии и наивной простоте.
На протяжении 60 – 70-х гг. Шагал изготовил множество витражей и панно для церквей, костелов, синагог и общественных зданий разного назначения во многих странах мира. Достаточно сказать, что французы доверили ему создание образа Христа в Реймском соборе и роспись плафона в парижской Гранд-опера, американцы заказали два панно для Метрополитен-опера в Нью-Йорке, израильтяне – мозаики и гобелены для здания парламента в Иерусалиме.
В 1973 г. в Ницце был открыт необычный музей «Библейское послание» – специально выстроенное здание, в котором расположились сотни офортов, рисунков, картин, витражей, шпалер, скульптур Марка Шагала на религиозные сюжеты. Правительство Франции объявило этот музей национальным.
Награды и отличия стали свидетельствами высочайшего мастерства художника. В 1977 г. Шагал был удостоен ордена Почетного легиона – высшей награды Франции. А в честь 90-летия художника, вопреки традиции, в Лувре была устроена его прижизненная выставка.
И только настоящая родина никак не хотела признавать своего сына. Во времена «оттепели» 1960-х гг. художника навестил советский поэт Е. Евтушенко. М. Шагал был счастлив, что о нем вспомнили, передал свою книгу Н.С. Хрущеву, но этот подарок до него так и не дошел, потому что ответственному чиновнику имя художника ни о чем не говорило.
Все одиночество мое – в моей душе. Вы поняли? Вхожу в нее без визы.Эти строки стихотворения Шагал, кажется, выкрикнул. Как много в них тоски, боли и страстного желания увидеть милый сердцу край! Его мечта осуществилась только в 1973 г., когда художнику было уже 86 лет. Он провел несколько дней в Москве и Ленинграде, увидел свою выставку в Третьяковской галерее, побывал в кабинете учителя Н. Рериха. Но в Витебск, о котором грезил более 50 лет, так и не попал. Лишь со временем земляки М. Шагала организовали его музей и установили памятник.
Скончался М.З. Шагал в местечке Сен-Поль-де-Венс, около Ниццы, в возрасте 97 лет. На устах его замерла улыбка. До конца жизни он сохранял удивительное жизнелюбие, несмотря на тяжкие испытания. В одном из интервью, опубликованном во время посещения СССР, он сказал: «Что бы я ни изображал, это о любви и о нашей судьбе… Про это мое искусство. Это во мне заложено, это сильнее меня самого». Художник твердо верил, что только любовью и красотой можно победить жестокость и зло. В этом и состоит жизнеутверждающая сила его искусства.
Шевченко Тарас Григорьевич (род. в 1814 г. – ум. в 1861 г.)
Знаменитый украинский поэт, писатель, художник, гравер, академик Петербургской академии художеств по классу гравюры. Автор около 1200 художественных работ, автор поэм, лирических стихотворений, повестей.
Истории мировой культуры известно немало выдающихся людей, в творчестве которых неделимо соединились поэзия и живопись. Яркий, неповторимый пример такого синтеза представляет собой гений Тараса Шевченко – человека, чье творческое наследие многие годы является визитной карточкой украинской культуры. Его талант был чрезвычайно разнообразен: он – один из наиболее одаренных поэтов, которых знает история украинской литературы, и одновременно – замечательный художник и первый в Украине искусствовед, взгляды которого сохраняют силу и в наше время. Поэтическое наследие Шевченко насчитывает более 240 сочинений, а художественное – около 1200 работ. Среди многочисленных художественных произведений мастера – станковая живопись, монументально-декоративная роспись, графика, скульптура. К тому же Шевченко был талантливым мастером акварели, масла, пера, офорта, рисунка карандашом. Само количество его художественных работ свидетельствует о том, что изобразительному искусству Шевченко придавал огромное значение. Несмотря на это, очень долгое время основная часть его картин оставалась без внимания критики и общественности, которые проявляли интерес к ней лишь потому, что она была создана рукой известного поэта. На сегодняшний день произведения Шевченко-художника исследованы, классифицированы и оценены многократно. Но бесконечные споры об академизме, романтизме, гуманизме в его творческой манере продолжаются. Вообще, мнения о Шевченко как о рисовальщике до сих пор неоднозначны. Кто-то считает его лишь «фотографом окружающей природы», а кто-то – «силой, отразившей целую эпоху». Для одних работы Шевченко – огромная историческая и этнографическая ценность, для других художник интересен только как ученик великого Брюллова.
Родился Шевченко 25 февраля (9 марта) 1814 г. в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии в семье крепостных крестьян помещика В.В. Энгельгардта. Родители мальчика жили убого. Мать, Екатерина Якимовна, надорвавшись от непосильного труда, много и тяжело болела. Ее, как писал сам Шевченко, «еще молодую в могилу нужда и работа свели». Она умерла всего лишь на сороковом году жизни. Почти сразу после этого отец Тараса женился вторично. Мачеха относилась к 10-летнему пасынку сурово. А когда, два года спустя, едва дотянув до сорока, умер и отец, жизнь подростка стала совсем тяжелой. Крепостной, да к тому же сирота, он был вынужден кочевать из одного дома в другой, нанимаясь в услужение. Детские впечатления оставили глубокий след в сознании Шевченко и, вероятно, в огромной мере повлияли на формирование его личности и творчества.
Еще при жизни родителей Тарас был отдан «в науку» к учителю-дьячку, который в течение двух лет обучал его премудростям чтения и письма. Уже в то время одаренный от природы мальчик почувствовал тягу к рисованию. С малолетства уголек и кусочек мела были для него самой большой радостью. Ими юный художник разрисовывал вокруг себя все, что только мог: лавки, столы, стены и двери хаты. Он изображал то, что окружало его в повседневной жизни, но больше всего любил рисовать птиц, животных и людей. Как говорил сам Шевченко, уже тогда он мечтал «сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром». Будучи по-настоящему художественной натурой, он еще в детские годы отличался от своих сверстников. Первым черты «необычности» мальчика заметил его отец, Григорий Иванович. Умирая, он сказал: «Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не нужно; он не будет "абы-каким" человеком: из него выйдет или что-то очень хорошее, или большой бездельник; для него мое наследство или ничего не будет значить, или ни в чем не поможет». Талант Шевченко-художника проявился рано, значительно раньше, нежели талант поэта. Если первые литературные пробы относятся к 1836 – 1837 гг., то наиболее ранний рисунок, который дошел до нас и известен как «Бюст женщины» или «Женская головка», датирован самим автором еще в 1830 г. С этой юношеской работы и началось живописное творчество мастера.
В 1832 г., когда Шевченко исполнилось 18 лет, судьба его круто изменилась. Хозяин юноши помещик Энгельгардт решил иметь в доме собственного квалифицированного художника и потому отправил талантливого крепостного в Петербург, на обучение. Существуют свидетельства, что еще до появления в Петербурге Шевченко какое-то время жил в Вильно вместе со своим хозяином, адъютантом литовского военного губернатора. Некоторые исследователи полагают, что после этого он успел побывать и в Варшаве, где постигал секреты живописного мастерства, обучаясь у Йогана-Батиста Лампи-младшего либо у Яна Рустема, профессора живописи Виленского университета. Этот период жизни украинского художника – один из самых таинственных, поскольку свидетельств о том, что происходило с ним в течение трех лет до появления в Петербурге, нет. Оказавшись в столице Российской империи, Шевченко попал в мастерскую к одному из лучших художников того времени В. Ширяеву. Поначалу особыми успехами он не блистал, но это не печалило старательного юношу. Ведь началось систематическое и по-настоящему серьезное обучение у первоклассного мастера! Вместе с другими учениками Шевченко принимал участие в росписях стен Большого и других городских театров. Желание стать настоящим художником заставляло его в белые ночи выходить в Летний сад и зарисовывать статуи. В 1836 г. закончился четырехлетний контракт обучения Шевченко. Но Тарас остался у Ширяева, очевидно, уже в роли наемного подмастерья. Примерно в это время он подружился с учеником Академии художеств И. Сошенко. Новый друг очень помог ему, познакомив с Е. Гребенкой и конференц-секретарем Академии художеств В. Григоровичем, с разрешения которого Шевченко начал посещать рисовальные классы Товарищества поощрения художников. 21 мая 1838 г. Шевченко был зачислен учеником Академии художеств, где начал обучение под руководством талантливейшего художника К. Брюллова – Карла Великого, как называли его студенты и коллеги. Шевченко же в академии стали именовать «русским Рембрандтом», согласно существовавшему тогда обычаю давать наиболее одаренным учащимся имена гениальных мастеров, манере которых работы этих учеников были наиболее близки. Один из любимых студентов Брюллова, в живописи Шевченко уже тогда достиг больших успехов: за картины «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке» (1840 г.), «Цыганка-гадалка» (1841 г.), «Катерина» (1842 г.) он был награжден серебряными медалями. Успешно работал он и в жанре портрета (портреты М. Лунина, А. Лагоды и др., автопортреты) и вскоре стал одним из самых популярных портретистов Петербурга. Удивительно, что позднее Шевченко довольно критично отзывался о себе как о художнике. В его письмах и на страницах «Дневника» нередко встречаются высказывания, подобные такому: «О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего».
1840 – 1847 годы – лучшие в жизни Шевченко. В этот период расцвело не только художественное, но и поэтическое его дарование. В 1840 г. в Петербурге вышел сборник его стихотворений «Кобзарь», а в 1842 г. – «Гайдамаки» – самое крупное его произведение. И поэзия, и живопись Шевченко вызывали не всегда однозначную реакцию у критиков. Один из них писал в «Киевской Старине» в 1894 г.: «Шевченко в живописи был лишь фотографом окружающей природы, к которой и сердце его не лежало, и в создании жанра он не пошел дальше ученических проб, шуток, набросков, в которых, при всем желании найти какую-либо художественную идею, мы уловить ее не в состоянии, до такой степени неопределенна композиция рисунков». Тогда как Е.М. Кузьмин, напротив, считал, что «…Шевченко справедливо может быть приписана слава едва ли не первого российского офортиста в современном значении этого слова». Среди больших поклонников таланта Шевченко был также поэт и переводчик В. Жуковский, которому в знак особой признательности Шевченко посвятил знаменитую поэму «Катерина». В судьбе Шевченко известный поэт вместе с К. Брюлловым сыграл заметную роль. Благодаря стараниям этих замечательных людей Шевченко смог избавиться от крепостной зависимости и обрести долгожданную свободу. В 1838 г. портрет Жуковского, написанный Брюлловым, был разыгран в лотерее, и на полученные 2500 руб. крепостной художник был выкуплен у своего хозяина.
В 1843 г. уже свободным человеком, студентом Академии художеств, автором «Кобзаря», Шевченко приехал на Украину, осуществив свою заветную мечту. Почти в течение года он путешествовал по городам и селам родины. Все это время он много рисовал. Как итог художник создал целый ряд зарисовок с натуры для серии офортов «Живописная Украина», ставшей своеобразной энциклопедией истории, быта и народного творчества украинского народа. Задуманный автором как периодическое издание, этот альбом рисунков стал единственным отдельным прижизненным изданием художественных произведений мастера. Выпуск его единожды вышел в 1844 г. в Петербурге. Вспоминая эту серию офортов, М.К. Чалый писал в 1882 г.: «Сюжеты, которые вошли в это чудесное издание, отличаются целиком реальным характером. Таким образом, "классическая кабала" Карла Великого… не заглушила в нем врожденного чувства реальной действительности, в нем выявилось то же стремление, та же тяга к родной природе, которые мы отмечаем в его "Кобзаре"». Видимо, автор интуитивно пришел к мысли о едином восприятии всего творчества Шевченко – художника и поэта. Ведь поэзия и живопись тесно переплелись в его творчестве. Не случайно многие из его полотен написаны по мотивам собственных произведений. Но если на поэзию Шевченко смотрел как на призвание, то рисование стало его профессией, средством существования. Художнику нередко приходилось делать работы на заказ, а также по заданию Киевской археографической комиссии. Выполняя ее поручения, уже закончив академию и имея звание «неклассного» (свободного) художника, Шевченко вновь путешествует по Украине, записывая народные песни, рисуя архитектурные и исторические памятники, портреты и пейзажи. В 1846 – 1847 гг. Шевченко переживает необычайный творческий подъем не только в живописи, но и в поэзии, создавая одно произведение за другим. Тогда же он планирует новое издание «Кобзаря», куда должны были войти произведения 1843 – 1847 гг. Однако планы его не осуществились, так как в 1847 г. Шевченко был арестован по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе. С группой оппозиционно настроенной молодежи, из которой и состояло это тайное общество, Шевченко сблизился еще в период своей работы художником во Временной комиссии по разбору древних актов в Киеве. В этом окружении поощрительно воспринимались его «вольнолюбивые поэзии», в частности написанная еще в Петербурге поэма «Сон», где в карикатурном виде изображался император Николай I и его супруга. Некоторые исследователи считают, что именно эта поэма сыграла роковую роль в судьбе Шевченко. Во время ареста экземпляры ее текста были обнаружены и представлены императору. Автора наказали по всей строгости тогдашних законов. «За сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений» он был определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус с приговором: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать». Суровость царского приговора Тарасу Шевченко до сих пор остается одной из загадок в жизнеописании поэта, ведь большинство членов тайного общества отделались весьма мягкими наказаниями. Однако к Шевченко Николай I остался строг, неумолимо отклоняя все прошения о помиловании. Некоторые биографы полагают, что причина этого кроется в биографии самого поэта. Дело в том, что к моменту ареста членов тайного общества (1847 г.) Шевченко был уже известен Николаю I. Ведь именно царская семья несколькими годами ранее приобрела в лотерее портрет кисти Брюллова, выкупив таким образом Шевченко из крепостной неволи. Определенную роль сыграла в этом императрица, о которой затем так нелицеприятно написал поэт в поэме. Монарх не мог простить Шевченко нанесенного его жене оскорбления, и потому «за проявленную им неблагодарность» Шевченко «единодушно был признан никакой милости не заслуживающим».
8 июня 1847 г. он был доставлен в Оренбургский край, в Орскую крепость. «Все прежние мои страдания, – пишет художник в одном из посланий 1847 г., – в сравнении с настоящими были детские слезы. Горько, невыносимо горько». Особенно тягостным было для Шевченко запрещение писать и рисовать. Он послал трогательные письма Жуковскому и Гоголю с просьбой о ходатайствовании за разрешение ему только одной милости – права рисовать. Но помочь художнику оказалось невозможным: запрещение рисовать не было снято до самого его освобождения. Некоторое утешение дало ему участие в экспедиции по изучению Аральского моря в 1848 – 1849 гг. Благодаря гуманному отношению к ссыльному генерала Обручева и лейтенанта Бутакова Шевченко было позволено зарисовывать виды Аральского побережья (за время экспедиции художник создал 350 акварельных пейзажей и портретов). Но когда об этом стало известно в Петербурге, офицеры получили выговор, а Шевченко сослали в Новопетровское укрепление на полуостров Мангышлак в Каспийском море. Здесь, не имея возможности рисовать, он занимался лепкой, пробовал заниматься фотографией, которая, однако, стоила в то время очень дорого. Освобождение Шевченко состоялось лишь в 1857 г. Он вернулся в Петербург, чтобы снова посвятить себя поэзии и искусству. Но тяжелые годы ссылки и, как считают некоторые биографы, укоренившийся в Новопетровском алкоголизм привели к быстрому ослаблению его здоровья и таланта. Самочувствие Тараса Григорьевича быстро ухудшалось, хотя сам он никогда не жаловался на невзгоды. По воспоминаниям О. Конисского, он «не любил рассказывать о своем недуге… Наоборот, стремился спрятать от людей свое горе…» В последние годы Шевченко писал и рисовал мало. Зато много времени он отдавал гравированию, которым тогда сильно увлекся. Его заслуги как гравера были оценены в последние годы жизни. 2 сентября 1860 г. Совет Академии художеств присвоил ему звание академика по классу гравюры. Однако это состоялось незадолго до смерти художника, который даже не увидел диплома академика. Увы, на его похоронах никто из художников-академистов не вспомнил о Шевченко как о художнике. Об этом свидетельствуют слова современницы Шевченко – К. Юнге: «Жаль, что из академиков никто не сказал о нем как о товарище и художнике, словно он им не был. Остался один лишь поэт».
В 1859 г. художник побывал на родине, где у него возникла мысль купить усадьбу на берегу Днепра. Он выбрал живописный участок под Каневом, усиленно хлопотал о приобретении, но поселиться тут ему не пришлось. Художник и поэт был здесь похоронен, и его могила стала местом паломничества для всех почитателей его памяти (теперь Тарасова гора). Скончался Тарас Шевченко 26 февраля (10 марта) 1861 г.
Шевченко-художник не оставил поражающих масштабом полотен – таких, как иные его современники. Видимо, мастеру больше импонировали произведения небольших размеров, в которые автор стремился вложить глубокий смысл. Он редко прибегал к кисти – картин, написанных масляными красками, очень немного. В богатом собрании шевченковских работ В. Тарновского в Чернигове (свыше 300) находятся всего лишь четыре его картины маслом – «Катерина», «Голова молодого человека», «Потрет княгини Репниной» и «Кочубей». В Харькове, в частном музее Б. Филонова, хранится приписываемое кисти Шевченко полотно «Спаситель». Чисто академическая по стилю картина изображает Христа и впечатляет чистыми, отлично сохранившимися красками. Музей Харьковского университета также владеет небольшой картиной Шевченко, которую автор подписал такими словами: «Та нема гiршe так нiкому, як бурлацi молодому». На почти черном фоне полотна изображен пожилой малоросс. Здесь заметно влияние Рембрандта, которого Шевченко почитал с юных лет.
И все же Шевченко был больше графиком, нежели живописцем. Видимо, поэтому современные ему критики, которые порой недооценивали графику, были уверены в том, что поэзия и личная судьба Шевченко помешали ему стать великим художником. Такой мысли придерживался и друг мастера М. Микешин, который в 1867 г. писал: «…Если бы судьба не пошутила с ним так жестоко и если бы он мирно шел по пути усовершенствования мастерства, то из него получился бы выдающийся реалист…» Вопрос этот довольно спорный и сегодня, несомненно лишь одно – рисунки и картины Шевченко так же ценны и значимы для Украины, как и его поэзия. Они интересны не только как реликвии выдающегося поэта, но имеют и самостоятельное значение и заслуживают того, чтобы их изучали и собирали в музеях.
Шемякин Михаил Михайлович (род. в 1943 г.)
Известный русский живописец, график, скульптор, представитель русского «неофициального» авангарда. Обладатель нескольких Почетных докторских степеней, в том числе Университета Сан-Франциско, США (1984 г.) и Академии искусств Европы (Франция, 1987 г.); член Нью-Йоркской академии наук (1984 г.). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993 г.), Президентской премии РФ (1997 г.) и премии «Петрополь» (2001 г.); кавалер Ордена Рыцаря искусств и литературы Министерства культуры Франции.
Давайте мысленно перенесемся в небольшой городок на севере США. Пять часов езды на машине от границы, два – два с половиной часа – от Нью-Йорка. Это так называемые Катскильские горы. 300 с лишним лет назад этот городок основали голландцы. Он называется Клаверак. Представьте мрачный замок на холме, а вокруг, насколько хватает взгляда, расставлены диковинные скульптуры: огромный оскаленный череп, четырехликий всадник на коне – то ли рыцарь в доспехах, то ли обтянутый сухожилиями скелет, кривляющиеся шуты. Сам ландшафт с привкусом русской истории и даже географии: северного типа ивы, раскидистый дуб и скамья под ним, беседка, пруд, болотистая низина. А вот и хозяин – удивительная детская, слегка лукавая улыбка, в зубах голландская трубка с длинным чубуком, черный милитаризованный костюм, картуз, высокие сапоги…
Мы в гостях у Михаила Шемякина, человека, чье искусство имеет как неистовых поклонников, так и непримиримых противников, но никого не оставляет равнодушным. Мистика, романтика, метафизика, карнавал, мистерия, одержимость, гротеск, сны, видения, загадки, превращения… Все эти слова подходят для характеристики его творчества, но и все вместе они не дадут нам полного представления о нем.
Отец художника, Михаил Петрович Шемякин, происходил из знатного кабардинского рода Кардановых (Кардан), по мнению некоторых историков, восходящего к хану Картану (Кадану), внуку Чингисхана. Рано осиротевший, он был усыновлен офицером Белой гвардии Шемякиным, вскоре сгинувшим на фронтах Гражданской войны. Мальчик же волею судьбы стал красноармейским сыном полка, кавалеристом, в 13 лет получившим один из первых орденов Красного Знамени.
Мать художника, Юлия Николаевна Предтеченская, тоже гордилась древностью своего дворянского рода. Актриса по образованию, уже на втором курсе Московского театрального училища она снялась в фильме «Друзья» (1938 г.), но встреча с лихим кавалеристом на вороном скакуне изменила всю ее жизнь. Вскоре после знакомства с Михаилом Петровичем Юлия ушла с ним на фронт и вернулась в Москву только затем, чтобы родить сына. Когда это произошло, прилетел отец, посадил младенца с собой на коня, сделал несколько кругов по двору – так по кавказским обычаям мальчиков посвящают в джигиты. Некоторое время спустя все трое отправились дальше по дорогам войны. В 1945 г. семья осела на окраине Кенигсберга, и там прошла часть детства маленького Миши. Михаил Петрович Шемякин, полковник, кавалер шести орденов Красного Знамени, был комендантом многих восточно-германских городов, в 1957 г. он ушел в запас.
В 50-х гг. Юлия Николаевна с сыном переехала в Ленинград. Достигнув четырнадцати лет, Миша поступил в среднюю художественную школу им. И.Е. Репина. В Академии художеств, при которой состояла школа, была замечательная библиотека, где юноша изучал культовые и религиозные корни в древнем и современном искусстве. Впоследствии эти изыскания легли в основу его теории «метафизического синтетизма», которая предполагает творческую интерпретацию общих, глубинных основ культуры древних эпох. 1962 г. принес Михаилу первый успех: выставка, организованная ленинградским журналом «Звезда», сделала его имя известным. Талант его уже тогда был слишком ярок и индивидуален, а стиль экстравагантен и непонятен настолько, что Шемякина исключили из школы (за «эстетическое развращение» однокурсников) и отправили в психиатрическую больницу. От психотропных средств, которыми его пытались «вылечить» от искусства, у Миши после освобождения начались острые приступы депрессии и панического страха. Никому ничего не сказав, он уехал на Кавказ, чтобы наедине с природой исцелиться от своих фобий.
По возвращении Михаил устроился разнорабочим в Эрмитаж, понимая, что нужно продолжать художественное образование, а его можно было получить только копируя старых мастеров, изучая их технологию. «Мои университеты продолжались пять лет, – вспоминает Шемякин. – Отдышусь после работы, вымою руки, возьму свой холст и до самого закрытия Эрмитажа копирую старых голландцев, Пуссена и Делакруа». Здесь же на выставке картин работников музея в 1964 г. были показаны его работы – скандал получился грандиозный: через три дня экспозицию закрыли, а директора Эрмитажа сняли с должности.
С 1965 по 1967 г. художник выставляется в различных учреждениях Ленинграда и Новосибирска, а с 1969-го – и за рубежом. В 1971 г. его работы на выставке «Санкт-Петербург-71», открытой в галерее искусствоведа мадам Дины Верни в Париже, имели невероятный успех. Но очень скоро Шемякин был арестован и поставлен перед выбором: тюрьма, сумасшедший дом или немедленный и бесшумный отъезд из страны. О том, что сын изгоняется навсегда, не знали даже родители Миши, а с отцом он так больше и не увиделся – Михаил Петрович умер в 1976 г.
В 1971 г. Михаил Михайлович уехал в Париж вместе с женой Ребеккой Модлен, художницей-графиком, и дочерью Деборой. Он покинул Советский Союз (а точнее, Союз выкинул его) уже вполне творчески сформировавшейся личностью. Становление собственного стиля Шемякина происходило под влиянием, с одной стороны, петербургского модернизма и петроградского авангарда, эстетики мастеров «Мира искусства», а с другой – основоположника «аналитического» направления в живописи П.Н. Филонова. Сквозной темой художественной практики Шемякина, соединившей в себе черты символизма и сюрреализма, стал карнавал, космически всеобъемлющий маскарад, лихой и зловещий – с маской Смерти, или Бренности, как центрального символа пестрого хоровода фантастических фигур. По меткому определению писателя В. Соловьева, художник подобного склада в процессе творения «спускает с привязи свое подсознание…»
Шемякин работает многолетними циклами, в разных техниках, повторяя и пародируя сам себя – серия литографий «Чрево Парижа» (1977 г.), графическо-скульптурные серии «Карнавалы Санкт-Петербурга» (1970 – 1980 гг.), «Метафизическая голова» (1980 – 1990 гг.), огромная серия «Коконы» (1990 – 2000 гг.), на вопрос о которой: «Что это – еще живопись или уже скульптура?» – Шемякин отвечает: «Вот именно».
Графическая часть «Карнавалов» впервые была показана в 1974 г. в Париже и принесла Михаилу мировую славу. Там же он не раз устраивал коллективные экспозиции русского «неофициального искусства» (андеграунда), в частности, организовал вместе с коллекционером А.А. Глезером выставку «Современная русская живопись» (1976 г.), издал альманах «Аполлон-77», объединивший многих писателей и художников-нонконформистов России (1977 г.).
Художник неоднократно выступал и как график-иллюстратор (рисунки к прозе Ю.В. Мамлеева, поэзии М. Юппа, произведениям Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина). Особую популярность завоевали его графические листы по мотивам стихов и песен В.С. Высоцкого (1980-е гг.), с которым Михаила связывала тесная дружба. По обоюдным признаниям, они сыграли в жизни друг друга огромную роль. Говорили даже, что так, как знал и понимал поэта Высоцкого художник Шемякин, его не знал и не чувствовал никто. Когда Михаил купил и установил в мастерской аппаратуру, чтобы записывать песни Володи, тот был настолько растроган, что вставил в мольберт свою гитару и сказал: «Пусть она живет у тебя». С тех пор гитара, перевязанная теперь траурным бантом, и «живет» в мастерской художника. Нужно добавить, что Шемякин первым выпустил полное собрание произведений Высоцкого в трех томах с комплектом из семи пластинок (1988 г.). Есть среди стихов и посвященные творчеству Михаила:
А то, что друг мой сотворил, — От Бога, не от беса.Парижский период жизни Михаила Михайловича закончился в 1981 г., когда семья Шемякиных разъехалась в разные страны: жена и дочь – в Грецию, а сам художник – в США, в Нью-Йорк. В Америке он много и плодотворно работает в области живописи, графики и скульптуры. Выставляется в Европе, США, Бразилии, Японии. Регулярно дает в американских университетах открытые класс-уроки, наглядно демонстрируя процесс творения. Он, теоретик собственного искусства, уже не первый год вынашивает идею Института философии и психологии творчества, который пока что весь помещается в одной из его мастерских в Хадсоне (Гудзоне). Это городок, соседствующий с Клавераком, где мэтр обосновался вместе с Сарой де Кэй, подругой и менеджером, после 10 лет жизни в Нью-Йорке.
Приехать на родину Шемякин получил возможность лишь в конце 1980-х гг., когда в Советском Союзе началась перестройка. И хотя возвращаться насовсем художник не собирается и по-прежнему больше времени проводит в Европе и Америке, он принимает самое активное участие в культурной жизни России. Его выставки с успехом прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске. В 2001 г. Михаил Михайлович создал на сцене Мариинского театра в Петербурге новую версию знаменитого балета «Щелкунчик»: здесь он выступил не только в роли режиссера-постановщика, но и сценографа, декоратора, бутафора и даже либреттиста. Надо ли говорить, что атмосфера спектакля была суперкарнавальной и гипергротескной.
Вообще-то, говоря об искусстве Шемякина, всегда нужно уточнять, о каком Шемякине идет речь. О метафизическом, маскарадном, о Шемякине-графике или скульпторе… Есть фантасмагорический Шемякин, есть труднопостижимые метафизические вещи, над которыми художник работает лет по пять, шесть, восемь. Он занимается исследованием проблемы фактур и сложнейших цветовых гармоний: белое на белом или черное на черном, скульптурой. Скульптура заказная – для городов, скульптура абстрактная, метафизическая – для себя или для более рафинированных друзей-коллекционеров.
Памятники работы Михаила Михайловича установлены в Нью-Йорке («Кибела: богиня плодородия»), в Венеции («Монумент Джакомо Казанове»), в Вашингтоне («Диалог Платона с Сократом»). Тремя монументами одарил Шемякин Санкт-Петербург. На набережной Робеспьера, напротив следственного изолятора «Кресты», стоит его памятник «Жертвам политических репрессий» (1995 г.). Это «метафизические сфинксы»: половина лица – чудный женский лик – обращена к набережной, другая – оскал черепа – к бывшей тюрьме. На кладбище Сампсониевского монастыря воздвигнута композиция «Первостроителям Петербурга» (1995 г.): шестиметровая гранитная стена, под часовню, с бронзовыми барельефами и французским окном, рама которого образует крест. И наконец, «Российский император Петр I», отлитый в 1989 г. и установленный спустя два года в Петропавловской крепости: огромный бронзовый истукан, сидящий в кресле-троне. Непропорционально большие ноги и маленькая бритая голова создают впечатление «взгляда снизу», психологически усиливая колоссальность фигуры.
Главный устроитель и персонаж петербургских маскарадов царь-шут Петр Великий – центральный образ в творчестве Шемякина. «У нас с ним много общего, – объясняет свое пристрастие художник. – Я тоже человек «отвязки», бурлеска, карнавала». В 2001 г. очередной монумент Петру I был установлен в Лондоне в память о Великом посольстве, именно на том месте, где 300 с лишним лет назад молодой царь сошел с корабля.
Почти одновременно с лондонским «Петром» в Москве был открыт памятник «Дети – жертвы пороков взрослых», отражающий зловещие интернациональные проблемы: детскую проституцию, наркоманию, алкоголизм, страдания маленьких человечков от войн… Идея решена в средневековой символике. Центральная фигура памятника – это 17-метровый пьедестал, окруженный 12-ю аллегорическими фигурами пороков. К самому пьедесталу, на котором разбросаны детские книжки, мячики, поднимаются мальчик и девочка с завязанными глазами. Они, играя в жмурки, выбегают из светлого детского мира, не видя, кто же на самом деле окружает их.
Вот еще несколько штрихов к портрету мастера.
Самым главным людским пороком он считает равнодушие. Самая сильная привязанность в жизни – размышления. К числу любимых мест на планете относит Венецию и Санкт-Петербург, а идеальная женщина, по Шемякину, – верный, надежный и понимающий друг. Из художников ближе всего – Пабло Пикассо многогранностью своего творчества.
Шемякин, что называется, self-made man – человек, который сделал себя сам. «Его успех оглушителен до зависти, мести и полного твоего неверия в себя», – писал о Михаиле С.Д. Довлатов. И добавлял: «Можно всю жизнь… проваляться в материалистической луже. А можно… оседлать, как Шемякин, метафизическую улитку и в безумном, ошеломляющем рывке пробить небесный купол… И что тогда? А тогда – разговор с Небожителем».
Шишкин Иван Иванович (род. в 1832 г. – ум. в 1898 г.)
Замечательный русский художник-пейзажист, выдающийся мастер рисунка и графики. Создатель более 600 живописных произведений. Обладатель почетных наград: нескольких серебряных и золотых медалей Академии художеств, Большой золотой медали за пейзаж «Кукко», ордена Станислава третьей степени. Академик (1865 г.) и профессор (1873 г.) живописи Петербургской академии художеств. Руководитель пейзажной мастерской при Академии художеств (1894 – 1895 гг.).
«В рисунке природы не должно быть фальши. Это все одно, что сфальшивить в молитве, произнести чужие и чуждые ей слова», – так полагал И.И. Шишкин и последовательно воплощал эту мысль в своих знаменитых полотнах.
Родился будущий художник в Елабуге. Его отец, купец второй гильдии, городской староста, был большим ревнителем старины, увлекался краеведением и археологией, издал книгу «Жизнь елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, написанная им самим в 1867 г.». Мать художника, Дарья Романовна, была из мещанского рода. Выйдя замуж, она посвятила себя дому и шестерым детям. Родительский дом Шишкиных стоял на высоком берегу р. Тоймы, из окон было видно место, где она впадала в Каму, а вокруг – озера, заливные луга, дубравы и вековые сосновые боры. Все это развивало поэтическое воображение мальчика. Домашние рано подметили страсть младшего Ванечки к краскам и одно время звали его «мазилкой». Отец дал сыну разностороннее образование и, помимо уездного училища, посылал его к разным учителям, выписывал серьезные научные книги и журналы. Учился Ваня прилежно, но из гимназии ушел раньше срока – ему претила чиновничья жизнь. Да и к купеческим делам он был непригоден. А вот зарисовки лесных берегов Камы, «Чертова городища» всех приводили в восхищение. Отец выписывал сыну книги по искусству. А восемнадцатилетний Ваня записал в тетради: «Посвятить себя живописи – значит отказаться от всяких легкомысленных занятий в жизни». Он решил учиться на художника.
Шишкин обучался вначале в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. К занятиям подходил серьезно, работал без устали. Его первые пейзажи с натуры заслужили всеобщую похвалу. Ивану многие советовали бросить пейзаж, как низший и недоходный род живописи, но, один раз избрав себе дорогу, он уже никуда с нее не свернул. Несмотря на молчаливый нрав (товарищи дали ему прозвища: Монах, Семинарист), он имел множество друзей: А. Гине, В. Перов, Е. Ознобишин, К. Маковский. С тяжелой душой Шишкин расстался с ними и любимым учителем А.Н. Мокрицким, решив продолжить обучение в Петербургской академии художеств.
В северной столице с учителями ему не повезло. Ему не нравился академический и романтический стиль обучения пейзажу. Иван обратился к работам русских художников А. Матвеева и С. Щедрина, отказался от классического пейзажа и занялся живой натурой. Не сразу ему удалось найти собственную манеру письма. В первых работах он писал не в полную силу, придерживался необходимых канонов. Тем не менее этюды «Вид окрестностей Петербурга», «Пейзаж на Лисьем Носу» в 1857 г. были удостоены серебряной медали.
Лето 1885 г., проведенное на острове Валаам, который, казалось, был создан для подвига человеческого духа, раскрыло Шишкину истину: «Природу нужно писать во всей ее простоте… Рисунок должен следовать за ней во всех ее прихотях формы». От пейзажей «Вид на острове Валаам», «Сосна на Валааме» повеяло заброшенной, дикой красотой, мощной духовной силой, суровостью и величием природы. Выставленные в Москве, они были сразу же проданы, и художник впервые получил большие деньги. Покоренный на всю жизнь видами Валаама, он часто приезжал на остров сам или с друзьями, проводил лето в монастыре, и казалось, что духовная сила земли стала созвучна мощи его кисти, и живописец, его личность растворялись в природной гармонии. Национальный пейзаж стал основой творчества Шишкина, но, как настоящий талант, он сомневался в верности выбранного пути. И только получив большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу за большое полотно «Кукко» (урочище на Валааме), Иван Иванович поверил в свои силы, но ехать сразу не решился, а вернулся в Елабугу, порадовав родителей званием «классного художника первого разряда». За лето он «написал разных картин до 50-ти штук клеевыми и масляными красками». Среди них – «Шалаш», «Мельница в поле», «Болотистая местность при закате солнца», «Речка».
В Европе желание работать исчезло, не было натуры по душе: виды Германии, Чехии, Бельгии, Голландии, Швейцарии не вдохновляли Шишкина. Он писал друзьям: «Полюбить природу чужого народа – что изменить своей церкви». Только в Дюссельдорфе русский пейзажист оттаял душой. В Тевтобургском лесу было написано этюдов намного больше, чем за все время пребывания за границей. Особенно удавались художнику рисунки пером. Отсылая осенью 1864 г. на академическую выставку в Петербурге свои картины, Шишкин всей душой хотел отправиться вслед за ними. Но удачный показ своих работ в Дюссельдорфе, Бонне, Аахене и Кельне задержал его отъезд, да и Академия художеств разрешила досрочное возвращение лишь летом 1865 г.
По возвращении Шишкин представил на суд Совета академии «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» и получил звание академика. Иван Иванович вступил в Артель художников, возглавляемую И.Н. Крамским, чьи идеи брать сюжеты из народной жизни и продвигать искусство в провинцию были ему близки. В воспоминаниях о знаменитых «четвергах» Артели И.Е. Репин писал: «Громче всех раздавался голос богатыря И.И. Шишкина; как зеленый могучий лес, заражал он всех здоровьем, весельем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью. Немало рисовал он пером на этих вечерах превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким-то от такого грубого обращения автора, выходит все изящней да блистательней».
В 1870 г. Шишкин вместе с И.Н. Крамским, В.Г. Перовым, Г.Г. Мясоедовым, А.К. Саврасовым, Н.Н. Ге становится членом Товарищества передвижных выставок. Следуя идеалам товарищества и своему творческому призванию, Иван Иванович всегда отображал в своих картинах природу родной земли, но как самобытный художник он начался с этюда «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево» (1866 г.). Живые облака, легкий ветер, мокрая земля – все просто, естественно и достоверно. Через три года на основе этого этюда Шишкин создаст картину «Полдень» – бескрайний простор и воздух, напитанный покоем, покорят зрителей (это первое полотно Шишкина, приобретенное П.М. Третьяковым для своей галереи).
Что бы ни изображал художник на холсте – лес, реку, поле, одинокую сосну, для него природа была самим совершенством, облагораживающе действующим на человека. Творческие достижения Шишкина связаны с эпическим изображением пейзажа, с представлением о неторопливой и величественной жизни русского бора, о дебрях лесной глуши, напоенных запахами смолы и преющих листьев. В своих живописных рассказах художник не упускал ни единой подробности и безупречно изображал все: возраст деревьев, их характер, каждую хвоинку и листочек, почву, на которой они растут, и как обнажаются корни на кромках песчаных обрывов, и как лежат валуны в чистых водах лесных ручьев, и как бликуют пятна солнечного света в кронах и на траве. Его картины «Сосновый лес», «Сосновый бор» (звание профессора 1873 г.), «Святой ключ близ Елабуги», «Горелый лес», «Песчаный берег», «Ручей в лесу», «Родник в сосновом лесу», «Лес», «На опушке леса», «Вырубка леса» – дали ему право занять первое место среди мастеров пейзажа.
«Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа», – говорил о нем И. Крамской, и это известное высказывание главы передвижников можно отнести и к преподавательской деятельности художника. Он всегда сам находил себе учеников, выделяя тех, кому было тесно в академических рамках. Третьяков и Крамской небезосновательно считали, что Шишкин способствовал развитию молодых дарований в стиле русской национальной школы. Среди его учеников были Е.Е. Волков, А.Н. Шильдер, Н.Н. Хохряков и рано ушедший из жизни Федор Васильев, чьи картины учитель бережно сохранил и организовал его посмертную выставку.
По своему характеру он был не только великолепным педагогом, надежным другом, но и прекрасным семьянином. В октябре 1868 г. Иван Иванович обвенчался с Евгенией Александровной Васильевой, «милой Женькой», простой и хорошей женщиной. Она создавала в доме уют и скромный комфорт, которому всегда были рады многочисленные гости и друзья. У них родилась дочь, а затем двое сыновей. Для своих детей Шишкин был самым нежным и любящим отцом. Вдали от них он никогда не был спокоен и почти не мог работать. Но семейное счастье художника оказалось недолгим. Евгения Александровна болела, умер старший сын Владимир, а вскоре и любимая жена (1874 г.), а через год смерть унесла младшего – Константина. Шишкин бросил работать, запил. Художники-неудачники быстро нашли дорогу в его дом и помогали залить горе вином. Друзья ничего не могли поделать и надеялись только на «крепкую натуру» Ивана Ивановича.
Привычка к труду победила, его картины «Родник в сосновом лесу» и «Первый снег» нашли такой отклик в журнале «Пчела»: «Если вы утомились среди этой житейской, человеческой обстановки, виденной вами на картинах, мимо которых вы прошли (на выставке), то можете освежиться впечатлением лесных пейзажей И.И. Шишкина». А художник, чтобы опять не потерять душевного покоя, приступил к работе над «Рожью» (1878 г.). На обороте подготовительного рисунка Иван Иванович написал: «Раздолье, простор, угодье, рожь, благодать, русское богатство». То же чувствует и зритель, глядя на это полотно.
Горе постепенно отпустило художника. Он напряженно работал, встречался с друзьями, нравился многим женщинам. «С виду суровый, на самом деле добряк, по внешности волостной старшина, на самом деле тончайший художник. Наружность его была типично великорусская, вятская. Высокий, стройный, красивый силач, с зорким взглядом, густой бородой и густыми волосами». Таким и увидела его в доме Д.М. Менделеева Ольга Антоновна Лагода, начинающая художница, ставшая с 1880 г. верной женой и другом Ивана Ивановича. Она оставила академию и начала заниматься с учениками Шишкина. Он высоко ценил ее талант и посоветовал серьезно заняться пейзажами цветов и растений (в 1887 г. даже сам издал альбом ее рисунков). Их дом всегда был полон гостей. Родилась дочь Ксения. Но счастье вновь отвернулось от художника. В 1881 г. Ольга Антоновна скоропостижно скончалась. Тоска и обида охватили Шишкина, но он выдержал, не запил, а обратился к работе и воспитанию дочерей. Заботу о девочках и доме разделила с Иваном Ивановичем сестра покойной жены Виктория Антоновна. Не позволяя себе раскиснуть, художник создавал одну картину за другой («Кама», «Дубки», «Вечер», «Речка», «Полесье», «Заря», «Ручей в березовом лесу», серия станковых рисунков).
Успех полотна «Среди долины ровныя» (1883 г.) превзошел все ожидания. Привыкшие считать Шишкина «царем леса», «дедушкой лесов», «пейзажистом-лесовиком» зрители увидели перед собой обширную равнину, почувствовали настроение, созвучное тому, которое вызывала песня А.Ф. Мерзлякова («Одиночество», 1810 г.), долгое время считавшаяся народной. Такой же неожиданной стала картина «Перед грозой», передающая детское чувство тревоги от первых раскатов грома и низких туч, тенью бегущих по земле.
Мастерство Шишкина общепризнанно, техника его настолько совершенна, что вызывает восхищение у зрителей и художников. В.В. Верещагин, посмотрев этюд «Сосны, освещенные солнцем. Сестрорецк», сказал: «Да, вот это живопись! Глядя на полотно, я, например, совершенно ясно ощущаю тепло, солнечный свет и до иллюзии чувствую аромат сосны». А «Утро туманное» (1885 г.) И.Н. Крамской назвал «одной из удачнейших вещей Шишкина». Но не только в живописи он был мастер. Еще в 1857 г. художник увлекся литографией, серьезно занимался офортом, разработал новый в России способ гравирования – так называемый рельефный штрих, или «выпуклый офорт», позволяющий печатать репродукции одновременно с текстом. Третий альбом его офортов (1886 г.) назвали «поэмами в рисунках». Да и сами рисунки, представленные на выставке Академии художеств, удивляли, ибо такого богатства черного цвета в русской живописи еще никто не показывал.
«Работать ежедневно, отправляться на эту работу, как на службу. Нечего ждать пресловутого вдохновения… Вдохновение – это сама работа», – говорил Иван Иванович своим ученикам, когда руководил пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств. Но все чаще и чаще в адрес создателя «Утра в сосновом лесу», «Золотой осени», «На севере диком…», иллюстратора книги Д.Н. Китайгородова «Беседы о русском лесе» сыпались обвинения в превращении его в художника-фотографа. Несмотря на успех его персональной выставки, где были собраны только черновые этюды (300 шт.) и более 200 рисунков, друзья настойчиво советовали Шишкину обратить внимание на выразительные средства при передаче световоздушной среды. Художника обвиняли в том, в чем он по молодости обвинял Айвазовского, – в тиражировании одной темы, ремесленничестве и бездуховности. В январе 1893 г. после посещения, по желанию царя Александра III, беловежских лесов Шишкин выставил 58 этюдов (из них 17 «громадных»), наработанных за лето и осень. Зрители и критики увидели, что Шишкин «не исписался, не выдохся и в колорите он истинный виртуоз».
Художника огорчали нападки. Он словно чувствовал, что жить осталось недолго. Работал с какой-то жадностью и страстью. «Таких тонов и правды красок, как в этом году, кажется, еще не было», – писали критики. «Вы будете поражены изумительным знанием каждого дерева, каждой травинки, каждой морщинки коры, изгиба ветвей, сочетанием стеблей, листьев в букетах трав. Но это не холодное изучение… Без искренней любви нельзя дойти до такого точного знания… Нет, Шишкин жил своими деревьями и травами».
Словно желая оставить последнюю хорошую память о себе, художник писал свою главную картину, к которой шел всю жизнь. В сущности, он все время писал одно большое полотно, наполненное ощущением радости соприкосновения души с божественной красотой, разлитой в природе. Его «Корабельная роща» (1898 г.) стала гимном русскому лесу, его вековому могуществу и покою.
Отвечая в 1893 г. на вопросы «Петербургской газеты», Шишкин признался:
« – Мой идеал счастья? Душевный мир.
– Величайшее несчастье? Одиночество.
– Как бы я хотел умереть? Безболезненно и спокойно. Моментально».
Начав картину «Краснолесье», изображавшую «целое море соснового леса – лесное царство», художник выронил уголь и рисунок и упал замертво. Над могилой Шишкина его ученик М. Иванов взволнованно сказал, что он «был чистым и крупным художником, истинно русским человеком… Он же будет продолжать жить, пока живы мы, ибо он в памяти нашей».
Шубин Федот Иванович (род. в 1740 г. – ум. в 1805 г.)
Выдающийся русский скульптор, создатель галереи психологически выразительных скульптурных портретов, представитель классицизма. Академик Петербургской академии художеств (1774 г.).
Холмогоры. Эта северная поморская деревня, где большинство жителей издавна занималось рыбным промыслом, известна многим из нас как родина великого Ломоносова. Но не только его дали Руси Холмогоры. В 1759 г. вместе с рыбным обозом вслед за «уже выбившимся в люди» Михайлой Ломоносовым ушел в Петербург и девятнадцатилетний Федот Шубин.
Как и знаменитый земляк, он был выходцем из черносошенных (некрепостных) крестьян. И он, и его братья с детства увлекались резьбой по дереву. И только Федот решился оставить все ради более высокого искусства и попытать счастья в столице. Благо в Питере было к кому обратиться. Ломоносов сначала устроил Шубина истопником во дворец, а потом помог стать учеником Академии художеств. Здесь его педагогом был Н.Ф. Жиле, приверженец традиций рококо, но уже явно тяготевший к классицизму. Шубин довольно успешно прошел академический курс. В 1766 г. его барельеф на историческую тему «Убиение Аскольда и Дира» получил золотую медаль, что дало молодому скульптору возможность отправиться в следующем году в Париж для совершенствования мастерства.
Поездка пришлась очень кстати: в Архангелогородской губернской канцелярии на беглого крестьянина Федота Шубина уже завели дело (прекратят его только в 1776 г.).
В Париже Федот стал учеником известного скульптора Ж.Б. Пигаля, одним из направлений творчества которого был реалистический портретный бюст. Это определило дальнейшую судьбу Шубина. Пигаль сумел передать ученику дар схватывать в модели самое основное, вдыхать в холодную скульптуру жизнь.
В 1770 г. Шубин отправился в Рим. Искусство древнего города вдохновило Федота на несколько прекрасных работ. В 1771 г. были созданы бюсты Ф.Н. Голицына, А.Г. Орлова-Чесменского, овальный медальон Л.И. Шувалова. Шубин изобразил этих людей в античной одежде и в париках XVIII в. Однако это не вызывает у зрителя ощущения стилистической и временной дисгармонии. Стремясь к реализму, скульптор мастерски передал истинную натуру русских дворян.
В 1772 г. Шубин, вместо того чтобы ехать в Петербург, решил вернуться в Париж. Здесь его пути пересеклись с горнозаводчиком Н. Демидовым и его женой. Шубин сделал бюсты супругов, а потом отправился с ними в путешествие по Италии, посетил Лондон.
В Россию скульптор вернулся только через год. Первой его работой, созданной на родной земле, стал бюст бывшего вице-канцлера А.М. Голицына. Гордый, умный скептик, уверенный в себе аристократ, несколько утомленный жизнью, – таким предстает перед зрителем Голицын. В одном образе Шубин соединил и внешний, и внутренний, и социальный облик модели. «Никуда скульптора не определять, а быть собственно при ее величестве» – таково было решение Екатерины II, которой чрезвычайно понравился бюст А.М. Голицына. Теперь Шубин без заказов не оставался: увидеть свой портрет в мраморе желали многие придворные и даже сама императрица. 4 сентября 1774 г. сын крестьянина Ивана Шубина стал академиком.
Приблизительно в это время надменная красавица, гордая и упрямая графиня Мария Панина стала одной из заказчиц «бывшего рыбака». Какие чувства испытывала высокомерная аристократка, позируя плебею в его мастерской? На этот вопрос можно легко ответить, лишь взглянув на бюст, хранящийся в Третьяковской галерее. За маской женского обаяния и красоты спрятана жестокость. Шубин заметил это в своей модели и мастерски воплотил в мраморе. Однако женские портреты в творческом наследии Шубина редки. Полководцы З.Г. и И.Г. Чернышевы, П.А. Румянцев-Задунайский, братья Орловы – вот далеко не полный перечень вельмож, чьи образы запечатлел Шубин. Особенно поражает серия скульптур, изображающих Алексея, Ивана, Владимира и Федора Орловых. Шубин проявил себя как талантливый психолог. Каждый из братьев обладает особой, отличающей его от других, чертой характера: коварный и бесстрашный Алексей, смелый, но «недалекий» Федор, высокообразованный и при этом простой, лишенный всякого высокомерия Владимир, тупой и своевольный Иван.
В 1774 – 1775 гг. Шубиным была создана серия из 58 круглых барельефов. На них скульптор изобразил российских князей – от Рюрика до Елизаветы Петровны. Учитывая, что документальных портретов многих исторических лиц не сохранилось, Шубину пришлось проявить незаурядную фантазию. Древних властителей Руси он изобразил простыми и сильными, даже похожими на свободных поморских крестьян.
В 1775 – 1785 гг. скульптор работал над сложным заказом. Ему следовало выполнить для Мраморного дворца 42 скульптуры. Естественно, одному Федоту справиться с таким объемом работы было бы сложно. Мастеру помогали некий итальянец «Валлий» (видимо, Л.А. Валли) и немец Иван Франк Дункер. Трудно сказать, какие из работ в композиции принадлежат Шубину. Многие скульптуры выполнены не на самом высоком уровне. Точно установлено авторство Шубина по отношению к статуе «Равноденствие». Она наиболее далека от академических шаблонов. Перед нами женщина с явно русским типом лица. Следует отметить, что в подобных декоративных работах Шубин практически всегда прибегал к помощи других, менее известных скульпторов. Нередко он лишь выполнял эскиз и руководил работой. Наиболее интересной для него оставалась портретная скульптура, хотя она и ценилась в Академии искусств намного ниже декоративной.
Работы было много, а екатерининское благословение обеспечивало нормальное материальное положение. Неприятности начались, когда Шубин создал портрет Платона Зубова, очередного фаворита состарившейся императрицы. В облике юнца Шубин-психолог не смог найти ничего человеческого. Самовлюбленность, глупость, спесь – все эти признаки душевного уродства Шубин попытался скрыть внешней декоративностью: за складками подбитой горностаем мантии и многочисленными орденами. Однако и сквозь этот декор просматривается настоящее обличие молодого князя. Собственное отражение Платону Зубову не понравилось. А вслед за ним и императрице. Шубин попал в немилость. Лишенный монарших заказов, мастер оказался на грани финансового краха. Казалось, Екатерина совсем забыла все заслуги скульптора. А ведь никто не мог изобразить царицу так, как Шубин. Еще в 1783 г. им был сделан медальон с профильным изображением Екатерины, а также ее скульптурный бюст. В последнем он скрыл многие недостатки ее внешности. «Екатерина II – законодательница» – так называлась статуя, над которой в 1789 – 1790 гг. Шубин работал по заказу Потемкина. Федот воспользовался эскизом памятника, созданного скульптором Фальконе еще в 60-х гг. Потому только о выразительном лице царицы мы можем говорить как об истинно шубинском произведении.
Будучи «любимым скульптором императрицы», Шубин никогда не добивался высокого положения в академии. А ведь оно могло дать скульптору хотя бы пенсию, в которой он сейчас крайне нуждался. Шубин обратился за помощью к Потемкину, но это ничего не дало; «…осмеливаюсь купно и со своим семейством повергнуться к высокосвященнейшему Престолу и всеподданнейше просить: повели, Великий Император, объявленное жалованье мне выдать», – унижаясь, молил гениальный скульптор уже нового монарха Павла I.
В это же время Шубин создал его бюст, являющийся поистине шедевром скульптурного искусства. Мастер даже не попытался смягчить, скрыть уродливые черты царя: непропорциональное лицо, вздернутый нос, отвисшую челюсть. Это – император-истерик, император – загнанный зверь, если смотреть на бюст с одной стороны. Это – исполненный величия самодержец, если подойти с другой. Как ни странно, эта работа понравилась Павлу I. Однако это не улучшило положение скульптора. Ему и его большой семье, в которой было шестеро детей, по-прежнему приходилось буквально перебиваться с хлеба на квас. К тому же в 1801 г. в огне пожара погибла его мастерская и, видимо, деревянный дом.
Несмотря на все эти несчастья, Шубин работал. В 1802 или 1803 г. он создал бюст очередного на своем веку императора – Александра I. Монарх пожаловал скульптора бриллиантовым перстнем, казенной квартирой и должностью при академии.
Одну из последних своих работ Шубин посвятил тому, без чьей помощи он, быть может, никогда не состоялся бы как скульптор. Речь идет о Михаиле Ломоносове. Портретист Шубин воплотил в бюсте великого земляка все величие его гения, силу ума. Никаких украшений, даже парика – перед нами великий мыслитель, улыбающийся, устремивший взгляд куда-то в будущее.
12 мая 1805 г. Шубин умер. Но ему удалось продлить на несколько веков память не только о себе, но и о людях своего времени, а значит, позволить им жить вечно.
Щедрин Семен Федорович (род. в 1745 г. – ум. в 1804 г.)
Знаменитый русский живописец, один из родоначальников русского видового пейзажа, мастер декоративного панно. Академик (1779 г.), адъюнкт-ректор (1799 г.) Петербургской академии художеств.
Когда заходит речь о русской пейзажной живописи, зритель невольно вспоминает прославленные имена И. Айвазовского и И. Шишкина, Ф. Васильева и И. Левитана. Но это художники XIX в. Все они – гениальные продолжатели жанра, зародившегося в России еще в Петровскую эпоху. «Зародыши» пейзажа представляли собой ландшафтные виды строящегося Петербурга или прославляли военные победы, изображенные на придуманном природном фоне. Но в основном культивировался особый вид условного идеалистического пейзажа – душещипательные сельские мотивы с пастухами и пастушками или абстрактные руины, написанные «заморскими» мастерами. Одним из родоначальников русской пейзажной живописи, создававшим живые изображения окружающего мира, стал С.Ф. Щедрин.
Будущий художник родился 6 апреля 1745 г. в Петербурге в семье солдата лейб-гвардии Преображенского полка Федора Щедрина. На пятнадцатом году жизни он был отдан отцом в только что открывшуюся Академию художеств. Спустя три года ее порог переступил и его семилетний брат Федос, ставший впоследствии известным скульптором и ректором академии. Семен же вначале учился в гравировальном, а затем в классе орнаментальной скульптуры. Преподаватель Г. Козлов, заметив за ним «вольную кисть» и в то же время отсутствие «верного контура академических фигур», забрал Щедрина к себе. И непригодный для исторической живописи юный талант сразу расцвел в классе «ландшафтного художества». Уже через два года Семен, выполнив программную картину «Поле с протекающим ручьем», получил за нее Вторую золотую медаль и в 1767 г. вместе со скульптором Гордеевым и архитектором Мерцаловым отправился пенсионером в Париж.
Посол Д.А. Голицын, ведающий обучением за границей, и его друг философ Д. Дидро определили Щедрина к итальянскому баталисту и пейзажисту Казанове. В его мастерской молодой художник закрепил то, чему уже был обучен. А вот выставки Салонов 1767, 1769 гг. открыли перед ним романтические пейзажи Ж. Берне и «величественные руины» Ю. Робера.
Передовая эстетика французского реализма нацелила Щедрина на поиск красоты в окружающем мире. Его самостоятельные работы начались в области натурных эскизов. Между тем в Риме, куда пенсионеров перевели в 1769 г., он попал в обстановку утвердившегося классицизма, где в первую очередь ценились античные образцы. Но итальянская природа, которую Щедрин знал только по картинам чужих мастеров, очаровала его своей неповторимой живой красотой. Поэтому он уже не только учится, но и начинает самостоятельно работать. Первые живописные полотна художника не сохранились, но его рисунки – «Альбано» (1770 г.), «Пинии» (1771 г.), «Руины» (1772 г.), «Водопад Тиволи» (1773 г.) – привлекают легкостью, предметной реальностью и декоративной выразительностью композиции.
В 1772 г. истек срок пенсионерства, однако Щедрин еще на четыре года остался в Италии, живя уже на свои средства. Сразу по возвращении в Петербург, по ходатайству своего бывшего наставника Г. Козлова, он поручил должность преподавателя живописного класса. В качестве «назначенного» в академики художник приступил к своей программной работе «Полдень» (1779 г.), но окончил ее и получил звание только спустя три года. Такая задержка была связана с распоряжением писать виды дворцов и парков для «Кабинета Ее Величества» Екатерины П.
Щедрину в какой-то мере повезло, что его устремление к видовым реальным пейзажам совпало с модой и желанием царского дома и знати любоваться в дворцах изображениями своих парков, садов и усадеб. Первые виды Царского Села и Павловска получились у художника безжизненными и статичными («Паульлуст», «Вид большого дворца со стороны озера»). Ему еще предстояло слиться с русской природой, почувствовать ее неповторимость.
Но уже среди «разных видов английских садов» в имении Демидовых появляется прекрасный, абсолютно не приукрашенный «Вид в окрестностях Петербурга» (1780-е гг.). Эта типичная сцена сельской идиллии проникнута теплотой и искренним чувством. Чтобы усилить впечатление простоты и естественности вида, Щедрин часто вводит в пейзаж фигуры мирно пасущихся коров и овец («Пейзаж с животными», 1796 г.). Возрастает и живописное мастерство художника. Особенно это ощущается в произведениях, написанных им после реставрационных работ в Эрмитаже (с 1782 г.), требующих особой виртуозности. Основной колористической гаммой в них остается классическая «трехцветка» (зеленый, голубой, коричневый), но тонкость цветовых переходов и прозрачность лессировочных слоев придают особую мягкость и пушистость листьям, усиливают воздушность и глубину панорамы, сообщают своеобразную «вибрацию» и подвижность всей композиции.
Положение придворного художника, пользующегося особым покровительством Павла I, определило основную тематику творчества Щедрина – изображение дворцовых и усадебных парков. Живописец становится настоящим поэтом Павловска, Гатчины, петергофского Монплезира. Мечтательно-чувственный образ природы в соединении с прекрасными рукотворными произведениями скульптуры и архитектуры превращены Щедриным в «поэзию души и сердца». По картинам художника можно совершить медленную прогулку вдоль живописно извивающейся речки, в которой дрожит отражение изящного мостика, помечтать на бархатной зеленой лужайке, залитой солнечным светом. По струящимся между деревьями тропинкам, «протоптанным ногами мечтателей», подойти к «Большому каскаду в Павловске» или к «Итальянским фонтанам в Петергофе», задержаться у «Храма дружбы» или у «Галереи Аполлона». А можно полюбоваться безмятежными видами на Гатчинский дворец с Длинного или Серебряного острова, рассмотреть дачу Строгановых с противоположного берега Большой Невки, а затем завороженно застыть перед белопенным «Фонтаном Евы».
И хотя большинство картин Щедрин строил на декоративных композиционных приемах, реальное живое видовое начало занимало в них главенствующее место. Эта же тенденция сохранилась и в великолепных, тонко градуированных и очень сдержанных по колориту панно («Крепость Бип в Павловске при лунном свете», «Каменный мост в Гатчине у площади Констебла»).
Свою живописную деятельность Семен Федорович неразрывно связывал с преподавательской и до самой смерти (1 сентября 1804 г.) обучал в академических стенах юных художников. Вначале он вел пейзажный класс, но с 1799 г. «под распоряжение адъюнкт-ректора Щедрина» поступает только что созданный специальный граверно-ландшафтский класс. В нем обучали гравировать (гравер Клауберг) виды «императорских дворцов и парков», преимущественно по картинам Щедрина. Для братьев Ческих, Галактионова, Ухтомского, Телегина это была хорошая школа для создания русской пейзажной гравюры. Но главное, что мастер, обучая их основам национального пейзажа, не превратил свои уроки в академические догмы. Для наиболее одаренных учеников (Причетников, Филимонов, Малютин) манера и стиль Семена Федоровича Щедрина стали отправной точкой, живой живописной школой, выйдя из которой они развили узкий жанр паркового пейзажа в видовой реальный образ природы любого уголка России. А имя их замечательного учителя навсегда осталось в истории русской пейзажной живописи наравне с другими ее родоначальниками – Федором Алексеевым и Михаилом Ивановым.
Экстер Александра Александровна (род. в 1882 г. – ум. в 1949 г.)
Яркая представительница украинского художественного авангарда 1920-х гг. Живописец, график, театральный художник, сценограф, педагог. Одна из основоположниц «арт-деко» и создатель школы собственного направления.
Судьба Александры Экстер удивительна настолько, насколько и судьба любого художника, сумевшего не сдаться под грузом критики и продолжать творить, чтобы кто-то когда-нибудь воскликнул: «Это гениально!» Свой путь от ироничных слов критика А. Грищенко, сказанных в 1913 г.: «Как дамы каждый сезон меняют свои шляпки, так и госпожа Экстер создала из импрессионизма, кубизма, футуризма модную шляпку для каждого нового сезона в живописи», – до приглашения самого Ф. Леже читать в его Академии модерна в Париже лекции по вопросам театрального искусства и сценографии, художница прошла за 12 лет.
Детство Асеньки, как девочку называли родные, было наполнено непрекращающимся весельем, занятиями музыкой и рисованием. Родилась она 6(18) января 1882 г. в богатой еврейской семье коллежского асессора Александра Авраамовича Григоровича в г. Белостоке Гродненской губернии (ныне территория Польши), но уже в четырехлетнем возрасте переехала с семьей в Киев, где прошло все ее детство и юность. Девочка была несомненно талантлива. В 1892 – 1899 гг. она прилежно училась в частной женской гимназии св. Ольги, по окончании которой получила право давать приватные уроки, но ни на день не оставляла занятия рисованием, которые с переездом в Киев стали регулярными и серьезными.
Через два года после гимназии Ася Григорович, сделав выбор между карьерой учительницы и художника, поступила вольнослушательницей в Киевское художественное училище Н. Мурашко, где на протяжении 1901 – 1903 и 1906 гг. ее учителями были такие мастера живописи, как В. Менк и И. Селезнев, а друзьями – будущие известные творцы А. Лентулов, А. Архипенко, А. Маневич, Н. Давыдова-Левкович и др. В те годы состоялось и личное счастье Александры: она вышла замуж за своего кузена Николая Экстера, молодого преуспевающего адвоката, а так как детей у них не было, то единственным любимым ребенком для Александры стала живопись. Постепенно она «обросла» многочисленными знакомыми в художественных кругах, особенно среди футуристов, и дом супругов Экстер стал больше похож на богемный прогрессивный улей, нежели на жилище светской четы. Многие из новых друзей месяцами «гостили» у нее, но муж, буквально боготворивший Александру и с некоторым снисхождением относившийся к ее пристрастиям и знакомствам, ни во что не вмешивался. Задатки будущей художницы развивались практически в идеальной атмосфере, и вскоре на живописном горизонте Киева загорелась новая звездочка – Александра Экстер.
Как и все, даже самые бедные живописцы тех лет, молодая художница мечтала побывать в столице тогдашней живописи – Париже. В 1907 г. Александра в течение нескольких месяцев посещала там Академию Гранд Шомьер, тогда же познакомилась с Ж. Браком, Ф. Леже, П. Пикассо и навсегда «заболела» кубизмом, декоративизмом, новой живописью, которую увидела в их мастерских. Молодая провинциалка стала одним из первых художников, стремившихся к тому, чтобы творчество итальянских художников-футуристов и французских кубистов стало известно у нее на родине. Александра осуществляла это двояко: и через свое собственное творчество, которое включало элементы этих двух движений, и своей пропагандистской деятельностью. Например, первая русская монография о Пикассо была написана художественным критиком И. Аксеновым по ее инициативе и с ее помощью.
После первого посещения Парижа Экстер практически каждый год проводила здесь по несколько месяцев. В 1912 г. она впервые экспонировала свои работы на 28-й выставке «Салона Независимых» вместе с М. Шагалом, В. Кандинским и др. Ее творчество хорошо знали и ценили во Франции, потому что, проповедуя кубизм, Александра стала самобытным мастером. Она четко уловила в кубизме драматическое начало и старалась его преодолеть. Чуждая холодному рационализму, Экстер сообщала своим полотнам живую эмоциональность. Она могла как угодно экспериментировать с формой или трансформировать предмет, но никогда не могла лишить их звучного живого цвета, который, по сути, стал подлинным героем ее живописи. В кубизме художницы отчетливо прослеживается жизнерадостное, карнавальное начало. Оно в низвергающихся каскадах цветных плоскостей, в бесчисленных меняющихся контрастах, во множестве вспыхивающих световых рефлексов. Экстер словно играет свойствами цвета и света: плотностью, легкостью, прозрачностью.
В 1910-е гг. Александра участвовала во всех авангардных выставках Киева, Москвы и Петербурга («Треугольник», «Союз молодежи», «Бубновый валет», членом которого была, «Трамвай В», «Звено» и «Магазин»). Ее фамилия звучала рядом с именами Малевича, Кандинского, Шагала, Поповой, Татлина, Д. Бурлюка и Н. Кульбина. Тогда Экстер часто сравнивали с амазонкой за ту воинственность, которую она неизменно проявляла во всех дискуссиях и спорах о современном искусстве, поэтому поэт Бенедикт Лившиц в своих стихах назвал ее «амазонкой и скифской наездницей». Ею восхищался Борис Пастернак, а А. Ахматова в 1910 г. посвятила Экстер стихотворение «Старый портрет» и впоследствии вспоминала о ней так: «Художница, из школы которой вышли все левые художники Киева».
А когда Экстер увлеклась изображением городских пейзажей, они были буквально заряжены энергией движения. Так, на картине «Венеция» выхваченные светом и наполненные цветом плоскости громоздятся друг на друга, наклоняются, соскальзывают, но композиция при этом каким-то чудом сохраняет ясность и устойчивость, однако кажется, стоит изменить лишь одну деталь, – и все рассыплется. Перед зрителем Венеция будущего – мистически прекрасный город, напоминающий реальную Венецию стеклянной прозрачностью форм и общим впечатлением отражения в воде, ускользающего от глаз. Живописный образ этого города близок поэтическим строкам О. Мандельштама: «Тяжелы твои, Венеция, уборы. / В кипарисных рамах зеркала. / Воздух твой граненный. / В спальне тают горы голубого-дряхлого стекла». А еще чуткая критика приметила, что музыкальность цвета и ритмов ее картин настолько сильна, что, казалось, сбывается мечта русского композитора А. Скрябина о синтезе слова, звука, цвета.
Масляная живопись Экстер полифонична, многотемброва и как-то даже торжественна. Она свидетельствует о живописной силе и уверенности мастера. В гуашах же проступают импровизационность, лирический порыв, дерзость попытки и радость игры. В них мало что сказано до конца – и кажется, что эта незавершенность тоже входила в задачу. Это ведь и в самом деле эскизы – ничем не скованные порывы души.
В более поздней «Конструкции цветовых плоскостей» элементы композиции складываются в подвижную цветовую формулу. Горячие красно-оранжевые поверхности притягивают взгляд, белый цвет призывает усталый глаз отдохнуть, черный и синий переливаются ночной глубиной – смотреть хочется еще и еще. Абстракции Экстер обладают почти гипнотической силой. Тяга к беспредметной живописи в станковых работах у художницы усилилась после 1915 г. под влиянием идей Малевича. К тому же периоду относятся иллюстрации, выполненные совместно с братьями Д. и В. Бурдюками к сборнику футуристов «Гилея»; росписи лестницы, вестибюля и портала сцены здания Камерного театра в Москве. Экстер всегда изначально была склонна ко всему театральному, праздничному, поэтому нет ничего необычного в том, что она нашла общий язык с великим театральным экспериментатором и режиссером-новатором Александром Таировым.
Экстер последовательно перенесла принципы кубизма и футуризма в реальное трехмерное пространство сцены. Этапными в авангардной сценографии явились работы Александры для Камерного театра (оформление «Фамиры Кифареда» И.Ф. Анненского, 1916 г. и «Саломеи» О. Уайльда, 1917 г.), где она предвосхитила принципы конструктивистской «биомеханики», подчиняющей тела актеров единому сверхличному ритму спектакля. Надо сказать, что в 1917 г. люди в Москве не ходили на выставку «Бубнового валета», которая считалась гвоздем сезона, сколько шли смотреть «Саломею» с декорациями и в костюмах Экстер. Оформление спектакля произвело эффект разорвавшейся бомбы. (Потом почти три четверти века он приковывает к себе внимание.) Критик А. Эфрос назвал мастерство художницы «торжественным парадом кубизма». Живопись Экстер наконец дождалась своего часа. Освобожденная, сорвавшаяся с холста, она отправилась владеть пространством, царить в нем. Художница придумала не только макет декораций, ею были созданы костюмы и грим персонажей. Она формировала не только пластику лица, но и подчеркивала мускулатуру ног и рук, акцентировала мышцы тела актера. Такой грим «лепил героя», придавал его облику скульптурную четкость.
Таиров не скрывал своего восхищения театральными произведениями художницы. Влюбленный в ее работу, с каким-то не утихающим восторгом он так описывал декорации к спектаклю: «Когда в мелодию начавшегося действия внезапно, как грозное предостережение, врывается звенящая медь исступленных пророчеств Иоканаана, перед зрителем раздвигается черно-серебряная завеса и открывает роковой водоем. Далее, когда накопившаяся по мере развития действия энергия получает воплощение в возгласе Саломеи: "Я буду танцевать для тебя, тетрарх", – алчный вопль радости исторгается из груди Ирода и на сцене появляется окровавленный пьяными лучами красный занавес пляски и смерти». Из этих темпераментных строк совершенно понятно: человек, его эмоции и среда в спектакле были слиты в единое целое. Камерный театр даровал Экстер всемирное признание.
Без эпатажа, скандалов, присущих футуристам, она вошла в историю искусства со своим барочно-футуристическим стилем с украинскими корнями. Роль художницы в развитии кубизма, беспредметного искусства и сценографии была и остается кардинальной, но ей довелось жить и творить в очень тяжелые годы. В Киеве, где в глазах мельтешило от беспрерывной чехарды властей, умер муж Александры. Город буквально пустеет, и Экстер переезжает к родственникам в Одессу. Чтобы как-то выжить, она рисует гигантские панно, которыми украшают улицы города к 1 Мая. В эмиграции она неоднократно рассказывала о них своим ученикам, но при этом надеялась, что все это будет уничтожено временем, чтобы не остались в ее наследии постыдные, по ее мнению, следы. Если бы она знала, как много ее произведений пропадут бесследно… А для души Экстер организовала в Одессе культурный оазис – школу, в которой учила молодых художников и которая на долгие годы определила уровень живописи и театра в этом городе. (По утверждению литературоведа Джона Боулта, Экстер наряду с Малевичем была единственной представительницей русского авангарда, создавшей свою «школу». О возникновении школы Экстер можно говорить с 1916 г., когда в Киеве она начала давать уроки таким впоследствии известным художникам, как Александр Тышлер, Павел Челищев, Анатолий Петрицкий и другим). Она также совместно с режиссером К. Миклашевским и танцовщицей Э. Крюгер работала над созданием эстрадно-балетного театра и готовила «Саломею» О. Уайльда на музыку Р. Штрауса, но этот проект остался не осуществленным.
Александра Александровна была человеком очень сложного характера и всегда ощущала себя Мастером, а не простой исполнительницей чьих-то замыслов. Ею восхищались В. Мейерхольд и С. Дягилев, но оба предпочитали не работать с ней, а только дружить. В гостеприимной Одессе ей было тесно, попытка выехать за границу не удалась, и она решила вернуться в Киев, но по семейным обстоятельствам вынуждена была покинуть и его. Она писала Таирову: «Знаете, свекор мой оказался величайшим негодяем. Он взял у меня все и даже не отдает моей живописи, и меня не впускает к нам на квартиру. Месяц тому назад он повенчался. Как видите, есть люди, не теряющие расположение духа, несмотря на горе». И Таиров помог ей.
Теперь Экстер вновь работала для московских театров, выполняла эскизы костюмов, на правах профессора преподавала во ВХУТЕМАСе (1921 – 1922 г.), сотрудничала с Мастерской современного костюма. Другая «амазонка русского авангарда», скульптор Вера Мухина вспоминала об этом времени: «Мы с Александрой Александровной Экстер старались заработать. Придумывали делать пояса и шляпки из рогожи. Красили, отделывали их горохом – получались удивительные вещи». В 1923 г. Экстер с группой ведущих художников-модельеров страны работала над созданием парадной формы Красной Армии. В Москве она вышла замуж за драматического актера Г.Г. Некрасова. Та же Мухина рассказывала: «Жорж Некрасов был очень ласков, очень добр и нежен. Он очень любил Александру, обожал ее, но он был не рабочий человек. Александра Александровна представляла в доме мужское начало, зарабатывала она, а он был хорошей домашней хозяйкой».
Тем не менее супруги жили дружно и гостеприимно, несмотря на пришедшую нужду. Александра до самозабвения увлекалась театром, дизайнерскими разработками, много преподавала. Жизнь ее была чрезвычайно заполнена, в это время она создала свои самые знаменитые костюмы и декорации к спектаклям, много и интересно работала в кино (костюмы к фильму Я. Протазанова «Аэлита», созданные вместе с В. Мухиной и Н. Ламановой). Еще с середины 1910-х гг. Экстер одной из первых стала внедрять стилистику нового искусства в моду и бытовой дизайн (эскизы платьев, платков, скатертей и т.д.), тем самым закладывая основы «арт-деко», универсально охватывающего жизнь, но свободного от тотального утопизма постреволюционного «производственного искусства». Вольное игровое начало всегда царило в ее дизайнерских разработках.
Последней работой Экстер в России стал спектакль «Ромео и Джульетта» у Таирова, но сцену постановка не увидела. Режиссер вынужден был признать, что он не дотянул режиссерское решение до уровня костюмов, эскизов декораций А. Экстер. Может быть, именно тогда она окончательно решила уехать в Париж, в русскую художественную колонию, куда ее так настойчиво звала подруга, тоже художница-авангардистка Соня Делоне. Выехав с мужем в командировку в Италию в 1924 г., Экстер осталась за границей, поселившись в Париже. Александра Александровна плодотворно занималась театральным искусством, создавая декорации и костюмы к балетным постановкам Б. Романова, Б. Нижинской и Э. Крюгер (1924 – 1930 гг.), создавала марионетки, принимавшие вид динамической «скульптоживописи» (1926 г.), детские книжки-картинки (1936 – 1938), проектировала мебель и интерьеры, декоративные ширмы и керамику. Ее огромные знания мировой живописи и, конечно, собственное мастерство были полностью востребованы: преподавала в школе Фернана Леже, а также в парижской Академии современного искусства и ателье М. Франкетти. К тому же она активно работала на киностудиях Франции и Германии. Через три года после отъезда в Берлине прошла ее первая персональная выставка.
Затем ее работы неоднократно выставлялись в Париже, а также в Нью-Йорке, Праге, Оттаве, разлетелись и осели по всему свету. А их хозяйка, у которой в 1930 г. вышел в свет альбом, посвященный ее творчеству, поселилась в скромной квартирке в пригороде Парижа – Фонтене-о-Роз. В отличие от первого периода творчества французский период был более спокойным и уравновешенным. Но Экстер оставалась человеком, искренне уважающем таланты других мастеров, открытой, щедрой, неутомимой в творчестве. Ее же ценили и любили буквально все. Ни болезни, ни более чем скромное существование не могли поколебать поистине аристократического величия Александры Александровны.
Перед войной Экстер посещают старые друзья – А. Таиров и его жена, актриса А. Коонен, которая вспоминала: «Очень тяжела была наша последняя встреча в ее маленьком домике, утопавшем в кустах мелких вьющихся роз. Мы уже знали, что она хворает… А между тем творческая энергия Экстер била ключом… Грустно улыбаясь, Александра сказала: "Чтобы пробиться сейчас в Париже, помимо таланта, нужны здоровье, молодость и… деньги". Она провела нас в небольшой закуток, где стояла потрясающей красоты керамическая посуда, поражающая глаз прекрасно преображенными в кубистическую форму украинскими мотивами. "Вот это мое богатство, – весело сказала Экстер, – товар, дающий мне деньги на жизнь"».
17 марта 1949 г. Экстер скончалась в Фонтене-о-Роз и была похоронена на местном кладбище. Часть ее работ погибла в Советском Союзе, где в течение нескольких десятилетий авангард подавлялся, парижская же часть наследия в 1970-е гг., можно сказать, начала свою вторую жизнь. С огромным успехом в Европе и за рубежом прошла выставка «Амазонки русского авангарда», «гвоздем» которой было жизнерадостное, мажорное искусство Александры Экстер.
Яблонская Татьяна Ниловна (род. в 1917 г.)
Народный художник СССР, УССР, действительный член Академии художеств СССР, профессор, лауреат Государственных премий СССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, орденом Державы II степени (2001 г.). Герой Украины, Художник года (ЮНЕСКО, 1997 г.), Женщина года (Международный биографический центр в Кембридже, 2000 г.).
В советское время среди почти забытых сегодня классиков соцреализма и их антиподов – подвергавшихся гонениям художников, пытавшихся творить не так, как положено, – особняком стояла Татьяна Яблонская. Она не писала портретов вождей, пейзажей с заводскими трубами, майских демонстраций или комбайнов в поле, но стала лауреатом трех Государственных премий СССР и обладателем нескольких правительственных наград. Ее произведения не таили в себе вызова системе, но они вызывали раньше и продолжают вызывать сегодня неподдельный интерес у ценителей искусства во всем мире. Художница при жизни признана классиком, ее имя внесено во все мировые энциклопедии изобразительных искусств.
Татьяна Ниловна Яблонская родилась в Смоленске в дни Февральской революции 1917 г., 11 (24) февраля. Ее отец, Нил Александрович Яблонский, учился во ВХУТЕМАСе, но вынужден был бросить учебу из-за тяжелого материального положения в семье. Он был учителем многих выдающихся художников, участником первых смоленских выставок картин и произведений прикладного искусства, хранителем картинной галереи в Смоленском музее. Двух дочерей и сына он воспитывал как будущих художников, желая в детях воплотить свою мечту о профессиональном искусстве. Нил Яблонский пропал без вести во время Великой Отечественной войны. В 1928 г. семья Яблонских переехала из Смоленска в Одессу, через два года – в Каменец-Подольский, где Татьяна закончила школу, после чего поступила в Киевский художественный техникум. В 1935 г. она становится студенткой живописного факультета Киевского художественного института. Ее творческим наставником стал известный украинский художник Федор Григорьевич Кричевский.
Первая персональная выставка работ Яблонской состоялась в 1941 г., когда она была еще студенткой. Татьяна успела окончить институт до войны, которая на время прервала ее творческое развитие. Она эвакуируется в Саратовскую область, где работает в колхозе. В 1944 г. художница возвращается в Киев и преподает в родном институте рисунок, живопись и композицию. Параллельно с преподавательской деятельностью она продолжает развиваться как художник, пишет целый ряд разноплановых картин. В этот период она создает одну из самых известных своих работ – «Хлеб», за которую в 1950 г. была удостоена Сталинской премии. Картина изображает довольно тяжелый труд – женщин, пересыпающих зерно, но изображает легко, спокойно, непринужденно; благодаря светлым тонам и лицам она пронизана счастьем и, кажется, солнечным светом. И нет в ней присущих соцреализму того периода возвышенности, пафоса, монументальности. Только теплые чувства по отношению к хлебу и людям, дарующим его миру. Сама художница так вспоминает о создании этого полотна, находящегося сейчас в Третьяковской галерее: «…Колхозный труд я знаю не из оптимистических кинохроник. Работая в деревне под Саратовом целых два года, я насмотрелась всякого… Но я писала картину, радуясь за тех женщин, которых полюбила, – они смогли вырастить хлеб, благодаря которому мы все забыли о голоде». Когда на Всесоюзной художественной выставке «Хлеб» увидел выдающийся русский живописец Аркадий Александрович Пластов, он стал на колени перед Татьяной Яблонской и поцеловал ей руку. Уже в 1951 г. художница получает вторую Сталинскую премию – за картину «Весна». Картины этого периода творчества Яблонской – «Вечер на Днепре», «Летом», «Над Днепром», «Ранней весной» – отражают единство человека и природы, раскрывают душевное состояние изображенных на них людей, наполнены теплыми чувствами и вызывают сильный эмоциональный подъем. Хотя отношение к ее произведениям этого периода не всегда было однозначным. Наряду с восторженно принятыми «Хлебом» и «Весной» были работы, вызвавшие неодобрение партийного руководства. Картины «Перед стартом» и «Жизнь продолжается» были названы проявлением формализма и импрессионизма. «Все поиски колорита, эмоциональности в искусстве были объявлены формализмом», – вспоминает художница, очень тяжело переживавшая такое отношение к своему творчеству.
В 1954 г. была написана картина «Утро», известная нескольким поколениям людей, учившихся по советским учебникам. На ней изображена девочка, делающая зарядку напротив открытой двери балкона, через которую по комнате разливается солнечный свет. Моделью Яблонской послужила ее дочь, Елена, которая пошла по стопам матери и стала довольно известной художницей. По времени написание картины совпало с окончанием сталинской эпохи, и «Утро» стало своеобразным символом пробуждения страны. Репродукции быстро распространялись по всему Советскому Союзу – в календарях, открытках, альбомах, школьных учебниках.
В 60-е гг. наступил новый этап творчества Яблонской. Она увлеклась декоративным народным искусством, ездила в Закарпатье и Армению, где знакомилась с местными художниками и их творчеством. Картины этого периода – «Жизнь», «Невеста», «Бумажные цветы», «Молодая мать» – передают устойчивые, непреходящие черты народного образа, взаимосвязь человека с историческим прошлым, обычаями, традициями, обрядами. В вышедшем альбоме репродукций работ этого периода картины художницы сопровождали баллады Ивана Драча, очарованного творчеством Яблонской. Почти весь тираж был уничтожен, так как издание было признано националистическим. Примечательно, что русская по происхождению, Яблонская, попав в Украину, стала ее пламенной патриоткой, считала, что как художник могла состояться только в этой стране. Хотя большее признание ее творчество получило в России, и именно в российских музеях сейчас находится большинство ее работ. А в Украине довольно продолжительное время картины Яблонской не выставлялись и не печатались.
70-е гг. также были переломными для творчества художницы. Она посетила Италию и Испанию, где напряженно работала над этюдами и эскизами будущих картин. Одна из наиболее примечательных работ этого периода – «Старая Флоренция», в которой чувствуется влияние искусства Возрождения, подчеркивается красота, гармоничность окружающего мира, – также находится в Третьяковской галерее, хотя сама Яблонская очень хотела оставить ее в Киеве. В 1979 г. она получает Государственную премию СССР за картину «Лен».
Личная жизнь выдающейся художницы не сложилась, но она не сильно переживала по этому поводу. От двух браков у нее родились три дочери, и удивительно, как она совмещала преподавание, творческую деятельность и воспитание детей. Мужчинам было тяжело долго находиться рядом с такой успешной женщиной. Личность сильная, трудолюбивая и оптимистичная, Яблонская была независимой во всех отношениях. Был у нее и свой, достаточно интересный, взгляд на роль мужчины и женщины в творчестве: «Мне кажется, что женщины тоньше чувствуют настроение, колорит. Возможно, это связано с материнством, глубокой чувственностью. Мужчины хотят заявить о себе. Для них искусство – соревнование, выражение своего "эго". Женщины заняты делом, а не внешней стороной. В искусстве им чужда гордыня».
Яблонская во все периоды своего творчества писала очень много, и ее произведения – крайне редкий в искусстве пример сбалансированности количества и качества. «Искусство – не механическое отображение жизни, а особая форма его осмысления, преломления через душу, сердце и талант художника», – говорит Татьяна Яблонская и постоянно доказывает это в своих работах.
Последние годы, после тяжелой болезни, перенесенной в начале 1990-х гг., художница почти не покидает своей киевской квартиры. Этот период она сама в шутку называет «постинфарктизмом». На самом деле это – импрессионизм, выражение глубоких чувств творца, философского взгляда на жизнь, любование природой. Яблонская проводит очень много времени у окна и рисует то, что происходит снаружи, на балконе, на окнах. Циклы картин 1990-х гг. «Времена года» и «Окна» – написаны в технике пастели, работы излучают тепло и радость жизни. И по картинам не скажешь, что писал их человек, переступивший 80-летний рубеж. «Художник существует только тогда, когда он молод. Не возрастом, душой», – сказала Яблонская в одном из недавних интервью.
В 2001 г. Указом Президента Украины Леонида Кучмы художнице Татьяне Яблонской было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Державы «за самоотверженное служение Украине в области изобразительного искусства, выдающиеся творческие заслуги и достижения». Леонид Кучма лично побывал у нее дома и вручил орден. На сегодняшний день Яблонская – единственная из художников, удостоенная звания Героя Украины.
Сегодня выставки Татьяны Яблонской пользуются огромной популярностью как в Украине, так и за рубежом, ее работы представлены во многих музеях мира. Она выглядит намного моложе своих лет, каждый день встает в шесть часов утра и никогда не перестает творить. Ее возраст – скорее физический, она молода душой, что позволяет ей писать свои необычайно светлые и жизнеутверждающие картины даже левой рукой и не покидая квартиры. Это не окончание творческой карьеры большого мастера, а еще один период его творчества, в котором раскрываются новые стилистические возможности и качества художника. Окружающий реальный мир, изображенный на картинах Яблонской, лишен обыденности и банальности, возможно, он несколько светлее, чем есть на самом деле, но видимо, именно в этом его прелесть и секрет неугасающей популярности произведений выдающейся украинской художницы.
Примечания
1
Парсуна (искаженное слово «персона») – условное наименование произведений русской, белорусской и украинской портретной живописи конца XVI-XVII вв., сочетающих приемы иконописи с реалистической образной трактовкой.
(обратно)2
«Знамя мира» (в русском языке слово «мир» означает не только мирность, но и вселенную) как бы охраняет духовные сокровища всего человечества, охраняет путь к миру, к будущему единству всех достижений науки, искусства и философии, составляющих человеческую культуру. Три соприкасающихся круга на флаге символизируют прошлое, настоящее и будущее, или – человека, планету, космос; этику, науку, искусство; три состояния материи, объединенные единым кругом. Поднятое индийскими и русскими подвижниками, оно знаменует наступление нового витка в духовно-культурной эволюции человечества и символизирует Великую космическую спираль эволюции.
(обратно)



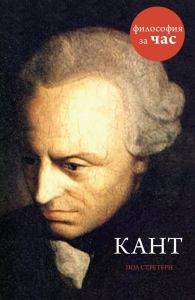

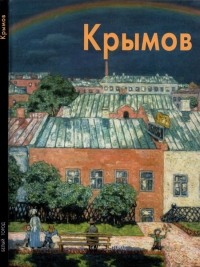


Комментарии к книге «100 знаменитых отечественных художников», Илья Яковлевич Вагман
Всего 0 комментариев