Николай Непомнящий Брем
Птичий пастор
Почему книга Брема «Жизнь животных» и сейчас, спустя 150 лет после первого выхода, привлекает все новых читателей? В чем ее сила? Что за человек создал этот труд? Как сумел соединить научность и популярность изложения, да так, что люди искренне считали его «отцом животных»?
Альфред Эдмунд Брем ощутил непередаваемый книжный запах в доме своего отца в городке Рентендорфе, что в Тюрингии, на юге Германии, в самом детстве. Семья не отличалась достатком, но и не голодала. Нищета Альфреду, по счастью, была неведома, поэтому мальчик мог не трудиться на близлежащей ферме, а проводить время на природе. Отец был ему хорошим наставником, а мать усердно прививала литературные вкусы и пристрастия.
Кристиан Людвиг Брем (1787—1864) был известен далеко за пределами своего прихода. Причем славу в округе он завоевал не нудными проповедями христианского учения, а активной помощью простым людям – кому добрым советом по жизни, а кому и куском хлеба. Длинные проповеди вообще были не в его стиле. Добрый пастор был желанным гостем в любом доме, а вместе с ним всюду поспевал его любознательный сынишка.
Небольшой городок, раскинувшийся на обоих берегах Роды, окружали леса, луга и поля, в которых водились бесчисленные пернатые, и «птичий пастор», как его прозвали соседи, избрал их главным местом своей работы, более любимым, чем церковная кафедра. Причем путь к природе он открыл сыну не через любование ею, а посредством внимательного изучения, с трезвым умом и добрым сердцем.
Старик Брем основывал свои наблюдения прежде всего на работе замечательного немецкого натуралиста Иоганна Андреаса Наумана (1744—1826), самоучки, беспредельно преданного науке, который в результате непрестанных трудов создал новую область знаний – научную орнитологию для Центральной Европы. В конце концов после его систематических глубоких исследований в 1820—1844 годах появился капитальный 13 томный труд «Естественная история птиц Германии», поистине кладезь знаний о пернатых всей Европы.
Старший Брем так оценил работу Наумана: «Я признаю свои скромные достижения в орнитологии только на фоне успехов обоих Науманов – отца и сына. Этот труд стал классическим для всех, кто изучает и будет изучать птиц по всему миру».
В стремлении к познанию он мог проводить ночи, препарируя тушки птиц. Старший Брем беспрерывно пополнял свои и без того огромные собрания. К моменту его кончины коллекция составила без малого 15 тысяч экземпляров птиц, добытых по большей части им самим. Остальные были выменяны им или подарены ему другими увлекающимися орнитологией людьми. За всю свою жизнь он не купил ни одного экземпляра для своей коллекции!
В его время собиратели чучел птиц старались сделать свои коллекции эффектными, яркими, пестрыми, привлекательными для зрителей. Людвиг Брем преследовал иные цели. Он собирал множество экземпляров одного вида – обследовал целые серии, методично, одну птицу за другой, выявляя изменения в окрасе, размерах, форме, причем и молодых птиц, и достигших зрелости, к тому же охота и силки были для него не страстью, не самоцелью, а средством служения науке. Самым главным для него было время наблюдения и подслушивания животных от выхода в поле ранним утром до возвращения домой поздним вечером. В итоге благодаря этому опыту была написана его первая книга «Вклад в изучение птиц» (1822).
Она была полна свежих впечатлений от увиденного и, главное, закрывала крупные пробелы в работе Иоганна Маттеуса Бехштайна (1757—1822) «Общеполезное изучение естественной истории», которую Альфред буквально «проглотил» в молодости.
Подобные увлечения христианского пастора на фоне всеобщей религиозности не могли не вызывать нападок коллег-единоверцев. Наблюдения за пернатыми и занятия естественными науками явно не вязались с догматами католичества. Слишком редко пастор появлялся на проповедях, предпочитая им свои походы в лес и ночные описания птиц при свете свечи. Сам Брем-старший иронично и со свойственным ему чувством юмора вспоминал об этом противоречии в своей жизни: «Я полагался на творения создателя нашего Господа Бога только там на все сто, где явно чувствовал его вклад в нашу природу. В этом я находил единственное утешение в своей сопричастности с божественным. Но это не мешало мне нести собственного Бога в своем сердце».
Кристиан Брем описывал не только внешний вид птиц, но и их возможные изменения цвета, формы и поведения. Не боялся вносить коррективы в ранее установленные факты, дополняя и поправляя самого себя. Маленький тюрингский городок превратился в настоящий магнит для всех немецких орнитологов. Каждый день почтальон приносил десятки, бывало, и сотни, писем и посылок не только из окрестных городов, но и со всей Европы. Коробочки и ящички с тушками птиц стояли везде в доме – на столах и подоконниках, даже прямо на полу. Самому пастору Брему окружающий мир оставался неизвестным, он никуда не ездил, но этот мир шел к нему сам…
Старый Брем полностью посвятил себя изучению птиц родной Германии, и он стремился поделиться со всеми своими знаниями и открытиями. Важным решением было создание на свой страх и риск в 1824 году первого орнитологического журнала «Орнис», предназначенного как для знатоков, так и для новичков в деле изучения птиц. К огорчению пастора, проект провалился: вышло только три номера, которые сегодня представляют собой великую библиографическую ценность.
Своей работой старший Брем старался прежде всего вдохновлять, а не поучать кого-либо. Науман, чья деятельность не достигла уровня успеха Брема, конечно, вносил свой вклад в дело первого научного знакомства с видами местных птиц. Он вспоминал о положении орнитологии в начале своей работы: «Давайте вернем себя в последнюю четверть XVIII столетия. Мы поймем, что вся орнитология основывалась на безудержном убийстве огромного множества птиц. Крайне редки были случаи, когда ученые интересовались не количеством, а научными теоретическими знаниями». Именно Кристиану Брему можно быть благодарным за то, что в Германии середины 20 х годов XIX века пробудился живой интерес к изучению пернатых. Причем в удивительно гармоничном сочетании теоретических познаний и реального опыта полевых исследований.
Старший Брем строго придерживался канвы науки и остерегался строить ее здание по собственным меркам. Однако список его трудов не так уж и мал – 142 публикации! Недаром известный дрезденский врач, естествоиспытатель и художник Карл Густав Карус (1789—1869) в своем некрологе, посвященном Кристаину Брему, написал: «Его имя будет навечно внесено в анналы науки».
…14 е заседание Общества немецких ученых и врачей, состоявшееся в Йене в 1836 году, было для Кристиана Брема особенно важным. Здесь ему была оказана честь в рамках пленарных заседаний выступить с докладом по зоологии и, несмотря на критику коллег, решил продолжить работу и завершить составление коллекции. Ловля птиц была в его эпоху обычным делом, отменить ее он был не в силах, хотя и хотел бы. Чтобы хоть как-то повлиять на людей, занимающихся изъятием пернатых из природы, он издал в 1831 году книгу «Совершенная ловля птиц». Сначала изучить, а потом, только если нужно, – ловить… Вот девиз этого издания, не потерявшего актуальности и сегодня.
Время учебы
Альфред Эдмунд Брем, родившийся 2 февраля 1829 года, был первым ребенком, появившимся во втором браке Кристиана Брема с Бертой Рейц. От первого брака у него родилось 8 детей, 6 из которых умерли, прежде чем достигли года жизни.
Из шести детей от второго брака только один умер рано. С Альфредом Эдмундом Бремом жили в доме священника его сводный брат Оскар (1823—1850) и его младшие братья и сестры Рейнгольд (1830—1891), Фекла (или Текла) (1833—1857), а также умственно отсталый Эдгар (1835—1890) и Артур (1839—1876).
В странствиях по долинам и лесам пастора всегда сопровождали сыновья. На радость отцу все они проявляли интерес к природе. Но в сравнении с ними юный Альфред выказывал куда большую привязанность к увлечениям отца и вскоре приобрел немалый опыт полевых и камеральных изысканий. Прискорбно, что маленькой зарплаты сельского священника не хватало для того, чтобы мальчик мог продолжить дальнейшую учебу. Обучение на фармацевта брата Оскара отнимало все имеющиеся средства. Но, несмотря на все трудности, мальчик после окончания деревенской средней школы в Альтенбурге в 1844 году был отдан в обучение на мастера-строителя Фридриху Шпенгеру, который спустя год имел все основания для следующего заявления: «Могу свидетельствовать о его великих послушании и трудолюбии». В те же годы Альфред посещал в Альтенбурге школу ремесел и искусств, в дипломе которой, выданном в 1846 году, значилось: «Учиться дальше ему не составит больших усилий».
Конечно, физический труд и навыки строителя пригодятся будущему естествоиспытателю и путешественнику в разных жизненных ситуациях, а пока его манил к себе отчий дом, и плохая погода и снегопад не могли удержать его от многокилометровых походов пешком из города домой, в родной Рентендорф – поближе к любимым матушке и отцу.
После завершения средней ступени обучения Альфред Брем осенью 1846 года приступил к учебе в архитектурном институте в Дрездене. Но прежде, уже летом того же года, наступил поворотный момент в его жизни. Вюртенбергский барон Вильгельм фон Мюллер (1824—1866) посетил его отца в Рентендорфе для того, чтобы проконсультироваться по некоторым вопросам орнитологии. Мюллер и его старый школьный друг Теодор фон Хойглин (1824—1876), ставший позднее известным путешественником по Африке, переняли от своего учителя, известного орнитолога Кристиана Людвига Ландбека (1807—1890), страсть к изучению птиц. Хойглин уже тогда вынашивал планы большого африканского путешествия, а Мюллер был тем человеком, который мог помочь воплотить его в жизнь благодаря капиталу дедушки, сколоченному в далеком Капштадте в Южной Африке. Кстати, там же дед купил себе и громкий титул барона… Он уже успел съездить в Алжир и Марокко в 1845 году, где, по его словам, пережил необыкновенные и захватывающие приключения.
И вот теперь этот человек готовился ко второй африканской экспедиции – по изучению тропических птиц. Для этого вояжа он искал молодого скромного секретаря, «обладавшего навыками охоты и препарирования тушек».
Увиденный им в Рентендорфе 18 летний Альфред Брем полностью совпал с образом помощника, который создал в своем воображении Мюллер.
Понадобилось немного времени, чтобы уговорить юношу на такую авантюру. Но поначалу отец и слышать не желал об этом предприятии. «Пока я еще хоть что-то решаю в этом доме, – писал он своему другу орнитологу Фердинанду Хомайеру, – Альфред не поедет ни в какую Африку!» Мы не знаем, как именно удалось убедить пастора отпустить сына, но, вероятно, решающую роль в уговорах сыграла мама будущего «отца животных». Наконец строгий отец благословил Альфреда. К тому же, в конце концов, тот подумал, что сын значительно пополнит его коллекцию, а через год, когда он вернется, жизнь вернется в прежнее русло…
Как бы не так!
В Греции: новые впечатления
Когда в начале июня 1847 года настал час отъезда, у молодого путешественника было тяжело на сердце. Все-таки впервые он покидает он родной дом и пускается в неизвестность, да не куда-нибудь в соседний город или даже в соседнюю европейскую страну, а в далекую и неизведанную Северную Африку!
Получив паспорт в Альтенбурге, Альфред сел на поезд в Лейпциге и доехал до Дрездена, но из-за нехватки денег отправился до Праги, где он должен был встретиться с бароном, пешком, вернее на перекладных, меняя лошадей, благо времени было достаточно.
К удивлению юноши, для него уже подготовили униформу, поскольку Мюллер в Египте решил представить его своим лесником. В пражском имперском кабинете природных коллекций барон надеялся получить рекомендательные письма видных ученых, которые должны были помочь при дальнейших перемещениях. Но если ихтиолог Геккель был готов на этот шаг, то орнитолог Хаттерер проявил сомнения в целесообразности этой услуги, поскольку считал Мюллера шарлатаном.
После короткого пребывания в Триесте, где Брем впервые в жизни увидел море, дождавшиеся погрузки оборудования пассажиры наконец сели на пароход. Здесь все было ново и интересно – и беготня матросов на палубе, и жаркая преисподняя машинного отделения, и картинки самого побережья Далмации, пробегавшие за бортом как в бесконечном калейдоскопе… Трогир, Сплит, Дубровник… «Мне казалось, что я мечтаю или сплю и вижу сон, и только суета наших буден возвращала меня к прекрасной реальности», – писал он в дневнике.
На четвертые сутки круиза по Адриатике пароход бросил якорь у острова Корфу. С высоко расположенной крепости открывался прекрасный обзор на окрестности.
В самом начале путешествия Альфред начал записывать впечатления.
Из дневника[1]:
Красивейший Корфу
«9 го июля только что потухли огни на сторожевой башне острова Корфу, когда пароход “Махмудиэ” вступил в узкий пролив, отделяющий этот величайший из Ионических островов от материка. Бесчисленные виллы, апельсинные рощи и виноградники этого прелестного острова еще были погружены в предрассветный сумрак, а город покоился в ночной тишине, когда мы бросили якорь в виду Корфу. С одного из фортов, построенных на мелких островках, раздались два пушечных выстрела – привет рождающемуся дню. Со всех бастионов крепости отвечали веселыми звуками сигнальных рожков и барабанным боем. Багряные облака над вершинами Албанских гор побледнели при первых лучах солнца, шпиль сторожевой башни над маяком загорелся, словно пламенем, город и море подернулись золотистым туманом. Вся эта чудная картина так и горела в блеске солнца. Панорама была восхитительная».
И еще:
«Видимый с моря, Корфу представляется красивейшим городом, какой только можно вообразить себе. На крутых утесах стоят горные крепостные башни, по их стенам и зубцам, так же, как на неприступных скалах, растут кактусы. Растения, которые мы лишь в малом виде видим в своих садах, здесь под солнцем Греции разрастаются в кусты и деревья, а между домами города, построенного уже совершенно на восточный лад, цветут и зреют в своей темной зелени золотые апельсины. Греческие церкви с низкими прорезными колокольнями стоят рядом с жилищами переселившихся сюда англичан, и южные террасы перемешиваются с северными черепичными кровлями. Улицы тянутся по широким уступам, высеченным в береговых утесах, или вьются по отвесным скалам на такой крутизне, что издали кажется, будто дома верхней улицы стоят на крышах домов следующей ниже. Повсюду с величайшим тщанием разведены садики, и везде, где только выдалась на скале площадка, заботливо насажены цветы. Зеленеющие сады и масличные рощи, миловидные виллы и виноградники с обеих сторон обрамляют эту волшебную картину.
С верхнего укрепления, на котором находятся маяк и сигнальная башня, открывается превосходный вид на остров: он расстилается под ногами как один цветущий сад, ограниченный высокими горами, которые в некотором расстоянии от города совершенно закрывают дальнейшую перспективу. Всюду заметна мощная жизненность природы: растительность чисто южная и, по причине перепадающих здесь дождей, очень роскошная; фауна та же, что в живописных горах противолежащей Албании, или та же, что в соседней Греции. Мы убедились в этом, осматривая небольшую коллекцию чучел здешних птиц».
К вечеру путешественники уже отправились на Итаку, родину Одиссея.
Из порта Пирей Альфред двинулся осматривать Афины. Конечно, он ожидал большего, но Акрополь все же потряс его. На его развалинах будущий зоолог побывал 14 июля 1847 года.
Из дневника:
Храмы Акрополя
«…Мы посетили храмы Акрополя на следующий день, взобрались на крутую скалу с северной стороны, потом повернули на запад и прошли на площадь храмов через единственный вход, охраняемый одиноким сторожем-инвалидом. Варварство и эгоизм соединенными силами тщетно пытались разрушить эти величавые памятники минувших веков. Большая часть фриза с Парфенона, этого “прекраснейшего здания в прекраснейшей местности света”, приобретена англичанином, который увез его в Лондон и там выстроил для него прескверную башню; из капителей колонн турки жгли известь, а из металлических стержней лили пушечные ядра. Нынешнее правительство (1847 года) заботится о собирании находимых остатков древности и о реставрации памятников. Я, конечно, не намерен вдаваться в описание Акрополя, тем более что скульпторы и живописцы уже давно вымеряли и описали каждый камень каждого храма; довольно сказать, что как ни велики были наши ожидания, однако действительность далеко превзошла все, что рисовало нам воображение».
Уже в те времена Акрополь сильно страдал от вандализма беспечных туристов, безжалостно растаскивавших его на сувениры. Альфред возмущался бездеятельностью греческого правительства, попустительствовавшего разграблению сокровищ Древнего мира.
Путешественники предприняли короткую поездку верхом в глубь страны, которая заметно поколебала их прежние романтические представления о Греции. Реальность оказалась суровее грез. В древних Фивах их ожидал приятный сюрприз – теплый прием у соотечественника, немецкого врача, но и здесь тоже рушились иллюзии юноши о сохранившихся древностях. «Можно едва ли узнать былое величие этих мест, расхаживая по грудам щебня, оставшимся от гигантских построек…» – писал он в дневнике.
Вернувшись в Афины, пассажиры парохода пожелали поближе познакомиться с обычаями греческого народа. В течение дня на улицах было почти пусто, а вот вечером началось оживление, продлившееся до глубокой ночи.
Везде были слышны звуки гитары, которые оказались явно не по душе молодому Брему, выросшему в немецком захолустье. После полуночи наконец все успокоилось. Тут и там прямо на улице лежали спящие бедняки, которым негде было укрыться, и нужно было проявлять чудеса изобретательности, чтобы ни на кого не наступить или, чего доброго, не наехать.
25 июля 1847 года их «Императрица» взяла курс на Египет, берегов которого она и достигла 29-го числа. В дороге судно прилично качало.
Из дневника:
Жертвы качки на море
«Ничего не может быть уморительнее тех гримас, которые выделывают одержимые этою странною болезнью. Я почти совсем не страдал от качки парохода, а потому был способен подмечать все комические сцены, которых мне пришлось быть свидетелем. Те из несчастных, которым приходилось совсем плохо, с трагическою решимостью платили свою дань морским божествам. Забавно было смотреть, как один за другим покидал свою койку и, судорожно сдерживаясь, с платком у рта, поспешно выбирался из каюты на палубу, “подышать свежим воздухом”. Многие вовсе не могли встать с коек и спокойно переносили на месте все казни, на которые осуждены были судьбою. Более всех страдали, впрочем, женщины. Сквозь дверь их каюты нам были слышны их вопли и стенания, и так как состояние их туалетов при таком недуге не позволяло им показываться из своей тесной конуры, они в самом деле были в жалком положении. Утверждают, что морская болезнь располагает к совершеннейшему равнодушию; я положительно могу засвидетельствовать, что она причиняет на корабле самый невообразимый беспорядок».
Египет: Александрия и Каир
Долгожданные первые шаги по африканской земле, однако, были отложены местной службой здравоохранения: порт Александрии был закрыт. Не привыкшему к жаре юному Брему африканский зной преподнес первый урок: жгучие лучи вызвали ожоги лица у постоянно пребывавшего на палубе путешественника. Наконец пассажиры получили возможность спуститься на берег. Сразу же наняли нескольких ослов и через арабский квартал без приключений добрались до европейского района.
Из дневника:
Солнечный удар
«Ворча и досадуя, покорились мы своей участи; нечего и говорить, с каким страстным нетерпением смотрели мы на близкий берег. Время тащилось медленно, хотя все наше общество прибегало ко всевозможным средствам для сокращения времени пребывания на пароходе. Довольно долго забавлялись мы тем, что стреляли в чаек, которые стаями летали вокруг. Жара египетского июля была нам не под силу; не сообразив еще опасностей этого нового для меня климата, я вздумал для освежения головы снять шляпу, гуляя по палубе. Через несколько минут я уже понес наказание за такое невежество: почувствовал жестокую головную боль, которая все усиливалась и оказалась лишь предвестницею ужасной болезни, до тех пор знакомой лишь понаслышке, – солнечного удара. Египет оказывал мне плохое гостеприимство».
И далее Брем продолжает:
Из дневника:
Столица Птолемеев
«В первое время в Александрии мне казалось, что я все вижу как бы сквозь сон, однако впечатление, произведенное на меня городом, на первых порах было крайне неблагоприятно. Для новоприезжего в высшей степени любопытно и занимательно проехаться по оживленному многолюдному базару арабского квартала; требуется довольно долгое время, чтобы удержать в памяти впечатления этой новой картины, присмотреться к жизни, знакомой нам только из восточных рассказов; но вся свежесть поэтических впечатлений от этого первого арабского города бледнеет, как только придешь в столкновение со столь известными формами европейской жизни.
В Муски, то есть той части Александрии, которая обитаема исключительно европейцами, арабский отпечаток совсем пропал. Не привив Александрии ни красот, ни удобств европейского города, эта полуцивилизация – или, так сказать, европеизация, только уничтожила здесь восточный характер, лишив улицы всякой прелести и местного колорита».
Брем ожидал встречи с бывшей столицей империи Птолемеев с большим нетерпением. Но он вынужден был с сожалением признать, что если во времена Цезаря число жителей составляло около миллиона человек, то в конце XVIII века это был город всего лишь с 6 тысячным населением, и только при Мухаммеде Али (1805—1849) его значение как порта снова выросло в разы.
Сразу по прибытии на Африканский континент у Альфреда начались проблемы со здоровьем. Особенно плохо переносил он жару.
Из дневника:
Плавание по Нилу. Жара
«Я, впрочем, мало был способен заниматься и наслаждаться всеми новыми зрелищами, какие доставляло нам плавание по Нилу. Во время переезда болезнь моя значительно усилилась. Никак не могу описать ее; знаю только, что у меня были жестокие припадки головной боли, отдававшейся преимущественно внутри черепа, как бы в мозгу; когда же они становились невыносимы, то вскоре получалось сравнительное облегчение, в том смысле, что я надолго впадал в беспамятство, бредил и уже вовсе ничего не сознавал и не чувствовал. Только крепкое телосложение спасло меня от погибели, потому что от этой болезни не только многие европейцы, но и туземцы умирают».
Дальнейшее путешествие в Каир проходило на арендуемой бароном Мюллером дахабие – парусной лодке. К сожалению, солнечные ожоги, тепловые удары и связанные с ними головные боли доводили Брема до обморочного состояния, так что первый круиз по Нилу был значительно подпорчен. Но когда 5 августа юноша впервые увидел на горизонте пирамиды, он не мог больше оставаться на больничной койке.
Из дневника:
«Мне казалось, что я вижу это во сне. Сотню раз я видел пирамиды позже, многократно стоял перед ними, но никогда они не будили во мне таких чувств, как тогда, и именно такими они остались во мне, как величайший памятник древних египтян».
Из Булака, оживленного каирского порта, они добрались, снова на ослах, до своего квартала, где провалялись в кроватях до 11 августа – наверное, сказалась смена климата. А потом началось землетрясение.
Из дневника:
Землетрясение в Каире
«Едва от нас вышел наш доктор Кукини, койки начали трястись, а через несколько минут послышался сильный шум. Мы слышали вопли на улицах, видели, как рамы выпрыгивали из оконных проемов и люди выскакивали из домов. Каждую минуту мы ждали, что рухнет потолок. Дом качался, но стоял. Хотя стихийное бедствие длилось едва ли минуту, она показалась прикованным к постелям людям целой вечностью…
Покорившись судьбе, они ждали последнего удара стихии. Но потом все неожиданно стихло.
В один из таких дней, 7 августа, мы, изнеможенные и бессильные, лежали по своим кроватям и жаловались на невыносимую духоту в воздухе. Как вдруг услышали как бы раскат грома, на улицах вопли и крики, рев животных и быструю беготню по коридорам отеля; наши кровати зашатались, двери захлопали взад и вперед, оконные рамы и разбитые стекла со скрипом и звоном полетели на пол, штукатурка в нескольких местах растрескалась и обвалилась – мы не могли понять, что все это значит. Затем последовал новый, сильнейший толчок, мы услышали, как где-то по соседству обрушились стены, и почувствовали, что наш дом покачнулся на своем фундаменте. Тогда мы с ужасом поняли, в чем дело: в Каире было землетрясение. А мы, больные и слабые, беспомощно лежали на своих постелях, едва могли шевелиться и не были в состоянии, подобно другим путешественникам, выбежать вон из строения; наше положение было ужасно. Вся катастрофа длилась не более минуты, но нам время показалось вечностью. До сих пор я очень хорошо помню мучительные мысли, овладевшие нашими испуганными умами: опасаясь, что дом сейчас разрушится, мы в смертельном страхе смотрели на треснувшие стены и с покорностью ожидали своей участи. Но дом, построенный европейцами, устоял-таки против ужасного потрясения. Через несколько минут слуга, бежавший мимо нашей комнаты, возвестил нам о спасении. По соседству 17 человек погибли от землетрясения, раздавленные развалинами своих жилищ».
После трех недель болезни Альфред Брем смог наконец выйти на улицу. Постепенно к нему возвращались силы и способность наблюдать и оценивать происходящее. «Это другой мир, который не представлялся мне даже во снах, – писал он. – Это вечно снующая братия босоногих и полуголых людей, на ослах и верблюдах, пешком и на лошадях, феллахи и торговцы в тюрбанах… Оборванные солдаты, украшенные золотыми позументами офицеры, европейцы, персы, турки, греки, бедуины и негры, торговцы из Сирии, Индии, Дарфура, Кавказа… Укутанные в складки черного шелка знатные и важные дамы и простые крестьянки в голубых рубахах и длинных паранджах, скрывающих лица… Верблюды с их огромной поклажей, мулы с товарами, осел, прицепленный к скрипучей тележке и ревущий не менее противно, дрожки, груженные восхитительной посудой, и дорогая лошадь, скачущая галопом на полной скорости… Рабы, погоняемые кнутом, и богато одетый турок на разукрашенном жеребце, гордый жених весь в красном одеянии, водоносы, позвякивающие кувшинами, слепые и нищие, просящие милостыню… Торговцы сладостями и фруктами, пекари и продавцы сахарного тростника… Стоит шум, в котором вы не слышите собственных слов, это толпа, через которую невозможно продраться».
Каждая минута приносила новые впечатления. Из шума уличной жизни Брем попал вдруг в тишину мечети. Мраморный пол был устлан циновками и коврами, а под куполом на цепях из латуни висели огромные лампы. «Наиболее впечатляющим был высокий сводчатый купол и широкие арки и колонны», – так оценил он мечеть.
Из дневника:
Сказочный Каир
«С одной из батарей Цитадели мы полюбовались поразившим нас видом Каира и его окрестностей; перед нами расстилалась живописнейшая из всех панорам Египта. В южном освещении есть что-то волшебное: глаз не может вполне схватить всей прелести пейзажа, освещенного таким образом. У ног наших лежал сказочный Каир, город, заключающий более трехсот тысяч жителей, с тысячью куполов, минаретов и мечетей, с предместьями, из которых каждое само по себе составляло порядочный город; кругом ландшафты, утопающие в роскошной растительности земли фараонов, перерезанные громадною рекой; непосредственно за ними виднеются сторожевые оплоты против сыпучих песков пустыни, чудо света – пирамиды; на горизонте же тянулась пустыня – однообразная, бледно-желтая, как бы беспредельная и неизмеримая полоса, в которой глаз теряется; таков был вид, представившийся нашим восхищенным взорам. На райской картине ложились вечерние тени, Нил золотою лентой извивался вдаль, через цветущие луга, легкий западный ветер колыхал вершины пальм. Изумленные, мы без слов стояли перед этим зрелищем. Как дальний гром, доносился к нам снизу гул оживленной толпы. Наступил час вечерней молитвы – солнце опускалось в бесконечный океан песков, тогда высоко над нами, с вершины стройного минарета мечети, раздался звучный напев муэдзина, провозвестника веры; он взывает к народу: “Hai aal el sallah!” Благочестивый магометанин спешит на молитву, да и христианин чувствует, что в его сердце также теснится воззвание муэдзина: “Да приступи к молитве!”»
Из Цитадели открывалась красивая панорама города и его окрестностей. Тысячи церквей, мечетей, минаретов создавали поистине сказочный вид. Долина Нила была вся в древних развалинах, а на горизонте виднелась бледно-желтая полоса бесконечной пустыни, которой предстояло надолго стать домом для молодого Брема…
В компании миссионеров
В Каире Брем и Мюллер узнали от австрийского консула Лаузина, что вскоре в глубь Африки отправляется группа католических священников, и стали просить чиновника поспособствовать в том, чтобы поехать с ними. Их мольбы не остались без ответа: вскоре просьба была удовлетворена. Основной задачей миссионеров являлось распространение христианского учения среди населения долины Нила. В XIX веке под эгидой Лондонского миссионерского общества, образованного в 1795 году, в Европе создаются многочисленные протестантские миссии. Их «кадры» проходят обучение в особых миссионерских школах, где изучаются местные языки, география и этнология, иначе говоря, осваиваются азы страноведения, а точнее – африканистики.
Конечно, Ватикан не остался в стороне от этого начинания. Именно он назначил главой апостольского совета для Центральной Африки польского иезуита Максимилиана Рилло (умер в 1847 году), который, поддержанный Габсбургами, направился в Хартум. Там он собирался учредить опорный пункт миссии. Именно к нему Мюллер и обратился в Каире с просьбой взять их с собой. Брем характеризует Рилло как «человека редкой одаренности и поистине продуктивной энергии, но иезуита до мозга костей». Уже в Каире Рилло заболел дизентерией, которая позже, после прибытия в Хартум, свела его в могилу.
Реальной опорой и душой всего предприятия стал Игнатий Кноблехер (1819—1858), назначенный после Рилло в 1848 году апостольским провикарием и взявший на себя руководство экспедицией. Брем писал о нем: «Этот жизнелюбивый и одаренный человек считал главной задачей всей жизни достижение конечной цели путешествия, не считаясь с личной выгодой. Пока его коллеги тратили время на бесполезные для дела, хотя и нужные для души молитвы, он беспокоился о повседневных делах, занимался ежедневными хозяйственными работами и вел подробный научный дневник».
В 1849 году он в сопровождении двух священников совершил сложнейший рейд в область Гондокоро, где ранее побывали экспедиции европейских ученых Арно, Сабатье, Тибо и Верна. Кноблехер сообщил об этом в своем отчете «На Белом Ниле», наделавшем много шума в немецких научных кругах.
Брем во всем брал пример с Кноблехера, с которым ему посчастливилось совершить поездку по Нилу. Он учился у него выносливости и научному поиску, хотя и не разделял его религиозных взглядов. Многое перенимал он и у других участников миссии. Отец Эммануэль Педемонт (1802—1867) был одержим охотой и помимо постоянных поучений об истинном пути в этой жизни давал ему уроки меткой стрельбы и обучал правильному обращению с оружием. Епископ монсеньор ди Маури Кастер сопровождал миссию до Хартума. Он, по словам Брема, не очень дружил с законом Божьим, ибо жил только для плотских удовольствий… А отец Анджело Винко (1819—1853) был так же прост, как и добродушен.
До конца сентября, пока до выезда из Каира оставалось некоторое время, Мюллер и Брем пополняли запасы оборудования и снаряжения и знакомились с новыми для них местами. Особое мероприятие было намечено на 16 сентября – посещение пирамид в Гизе.
С помощью арабских спутников сначала направились к пирамиде Хеопса.
Из дневника:
Вечность боится пирамид
«Солнце давно уже закатилось, когда мы достигли подножия пирамид. При бледном свете луны они казались еще вдвое больше, чем на самом деле. Мы разбили палатку на песке пустыни, сгребли песок по сторонам в кучи, наподобие постелей, накрыли их привезенными коврами, зажгли веселый костер среди палатки, и бивуак наш принял очень уютный и приятный вид. Однако барону Вреде показалось, что недостает чубуков и кофе, он спросил себе трубку и потребовал, чтобы приготовили кофе. Как вдруг погонщик объявляет нам бедственное известие, что предмет наших желаний – позабыт, оставлен. Велико было отчаяние, но утешение не долго заставило себя дожидаться. Нечувствительный к ударам судьбы, наш практичный проводник взял несколько бутылок привезенного вина и начал приготовлять глинтвейн. Напиток вполне удался и не замедлил оказать свое благотворное действие. Вскоре немецкие песни вырвались из палатки в вольную пустыню, а вслед за песнями и мы потянулись туда же. Выйдя из палатки, мы насладились всею прелестью этой чудной ночи. Исполинские конусы пирамид магически освещались луною и мириадами звезд; свет их изливался на нас в своей неизменной чистоте, воздух был прозрачен и свеж. Спокойствие ночи обнимало пустыню; не слышно было никакого звука, изредка лишь трещал потухающий огонь. Мы не спали почти всю ночь. Перед отходом ко сну Вреде несколько раз выстрелил из ружей, чтобы отбить у соседних арабов охоту к нечаянному нападению на наш лагерь.
Невозможно найти контраста более поразительного, чем тот, который представляют с высоты Хеопсовой пирамиды виды ливийской пустыни с ее необозримыми песчаными холмами и зеленеющей долиной Нила. Величественна панорама, открывающаяся с высоты пирамиды, но еще величественнее мысль, что стоишь на высочайшем сооружении в мире. Много арабов и феллахских женщин последовало за нами на пирамиду; все они принесли по кружке воды, которой предлагали нам утолить жажду за малое вознаграждение. Известное проворство здешних грациозных женщин удивило нас меньше, нежели та ловкость и меткость, с какою феллахи прыгали с уступа на уступ, чтобы показать нам свое уменье лазить. Один из них взялся в десять минут перейти с вершины Хеопса на вершину Хефрена, и действительно – за два пиастра совершил этот удивительный маневр. Для нисхождения с пирамиды мы избрали ту же сторону, по которой поднялись. Сходить несравненно опаснее и труднее, чем влезать: угол наклонения боков настолько крут, что падение угрожает опасностью жизни. Несколько лет назад один англичанин поупрямился и захотел решительно обойтись без провожатых, но у него закружилась голова, и он расшибся насмерть». Вот он – долгожданный вход внутрь гигантской постройки».
Из дневника:
Внутри пирамиды Хеопса
«С помощью сопровождающих нас арабов мы благополучно сошли вниз и, желая посетить внутренность пирамиды, немедленно отправились ко входу, который находится на 40 футов выше уровня песчаной равнины; однако первый поход до того утомил нас, что мы не решились тотчас предпринимать дальнейший осмотр и должны были предварительно отдохнуть. Мы вошли внутрь пирамиды с зажженными свечами. Острый, противный запах, происходящий от экскрементов летучих мышей (которыми изобилуют все египетские памятники), делает эту экскурсию в высшей степени неприятною.
Чем дальше мы шли, тем странствие становилось затруднительнее. Совершенное отсутствие вентиляции, постоянно ровная, средняя годовая температура Египта, которая здесь никогда не изменяется, и столбы пыли – все вместе стесняет грудь, да к тому еще приходится двигаться в этом узком и скользком проходе с величайшею осторожностью и в согнутом положении. Таким образом, мы дошли до конца спуска, потом стали подниматься по такому же, круто поднимающемуся вверх ходу, перелезли через несколько огромных каменных обломков и вошли в третий ход, который, быстро повышаясь, становится все просторнее и вводит наконец в “покой короля”. Он имеет 32 фута длины, 16 футов ширины, 18 футов вышины, по стенам выстлан отвесно поставленными громадными камнями, а посредине возвышается саркофаг в 7 футов длиною и 3 фута шириною, который сделан из такого же полированного гранита, как и стены; когда по нему ударяют, саркофаг издает гудящий звон, который, многократно повторяясь под сводами покоя, напоминает собою звон колокола.
“Покой королевы” помещается ниже, но во всем остальном совершенно сходен с первым. Кроме этих двух пустот найдены до сих пор еще только две: во-первых, комната, в которую влезают по ступеням, или, скорее, деревянным перекладинам, вбитым в каменную стену; во-вторых, глубокий колодец, или шахта, которую успели уже исследовать на глубину 200 футов. Но пыль и духота до того утомили нас, что на посещение двух последних диковинок у нас не хватило любознательности.
Чем дальше мы продвигались, тем более трудным представлялся поход. Нехватка воздуха сдавливала грудь, мы были вынуждены буквально ползти согнувшись в три погибели и с большой осторожностью. Там мы добрались до конца коридора и оказались у горизонтального расширения, поднялись на уровень нескольких каменных блоков и вошли в высокий проход, который привел нас наконец к царской усыпальнице. Стены кафедры были выполнены из полированного гранита, как и саркофаг, который при ударе в него звучал как колокол, а стены отражали звуки… Так как пыль и духота мешали дышать, мы покинули помещение достаточно быстро.
Вскрытые могилы, остатки стен, готовые и незаконченные статуи, окаменелые груды строительного раствора и другие фрагменты прошлого вповалку лежали вокруг пирамид».
Там же, в соответствии с точно предопределенным порядком, располагались мастабы – каменные гробницы бесконечных родственников и придворных фараонов. На протяжении тысячелетий большой царский могильник полуразрушился от эрозии и прочих бедствий и представлял во времена Брема довольно жалкое зрелище.
За три десятилетия до него здесь побывала экспедиция Джованни Батисты Бельдзони (1778—1823), положившая начало эпохе изучения всего это чуда света, продолжающегося до сих пор.
Из дневника:
Отплытие из Каира
«При грохоте прощальных салютов покидаем мы Каир. На душе у нас немного грустно: мы чувствуем, что отрешаемся и от последних признаков цивилизации, как будто навсегда прощаемся с отечеством. Однако страстная охота посмотреть чужие страны превозмогает: мы не без удовольствия видим, как один за другим исчезают из наших глаз дома Булака. С острова Роды повеяло на нас благоуханиями, минареты цитадели, еще недавно сиявшие перед нами в лучах солнца, понемногу заволакиваются сумерками, проезжаем мимо Старого Каира – и вся столица халифов исчезла из вида. С наступлением ночи ветер спадает и лишь слегка надувает наши распущенные паруса, тихо плещутся струйки вокруг носа барки, и мелодический говор священного потока отдается в нашей душе».
В глубь Африки
27 сентября 1847 года Брем и Мюллер в компании священнослужителей поднялись на борт большой парусной лодки. Нильское путешествие началось.
Из дневника:
Кувшины, охлаждающие воду
«Запасаясь в Каире разною утварью, необходимою по нашим европейским понятиям на время поездки по Нилу, отнюдь не следует забывать кувшинов для охлаждения воды. В Египте с незапамятных времен изобретены глиняные кувшины, которые через мельчайшие поры своих стенок постоянно “просачивают” некоторое количество содержащейся в них жидкости: она является на поверхности кувшинов в виде крошечных капель, которые постепенно испаряются и тем постоянно охлаждают и самый сосуд, и его содержимое. Такие кувшины бывают двух родов и называются сир и кхула. Первый объемистее, в него наливают большое количество воды прямо из Нила, чтобы дать ей отстояться и очиститься, а во втором, меньшего размера, такую отстоявшуюся воду только холодят для непосредственного употребления. Сир – большой сосуд, вмещающий до двух ведер, имеет форму сахарной головы, ставится на пол острым концом вниз и наполняется водою. Масса, из которой он сделан, более пориста, и хотя ее поры довольно мелки, чтобы очищать пропускаемую через нее воду, просачивание происходит здесь обильнее и быстрее. Вода, процеженная таким образом, стекает в муравленую чашу и уже оттуда разливается в маленькие, изящные и разнообразно вылепленные сосудики кхула-ли, в которых можно охладить ее до +8 °R».
Просторные каюты давали возможность комфортно проводить время. На затенененной палубе можно было подолгу наслаждаться поездкой. Плодородные поля и густые леса чередовались с бесплодными равнинами и не менее бесплодными каменистыми осыпями. К сожалению для Брема, поскольку миссия осуществлялась в спешке, он мог пользоваться только утренними краткосрочными пребываниями на берегу. Так что многое из того, что он мог увидеть и главное – описать, оставалось для него недостижимым…
Из дневника:
Злой дух египтян
«Когда мы входили в какое-нибудь селение, нас немедленно окружала толпа больных, принимавших нас за медиков и просивших о помощи. В деревне Коссеир мы нашли двух страждущих лихорадкою, из которых один был болен три месяца, а другой уже тринадцать месяцев. Несчастные, не ожидавшие ниоткуда врачебной помощи, терпеливо ожидали исхода своих страданий – смерти. Местные лекари и знахари бессильны против лихорадки – этого египетского злого духа. Они просили у нас лекарств для своих больных и надеялись вылечить их через несколько дней».
С попутным ветром 2 октября путешественники достигли небольшого египетского городка Миннеса. Поразительно, но повсеместно они видели лишь стариков, женщин и детей: почти всех мужчин призвали на военную службу, по приказу вице-короля они должны были трудиться вдали от родных мест на строительстве зданий, в торговых компаниях и на фабриках. Эти строгие меры привели к тяжелым и далеко идущим последствиям для сельского хозяйства Египта.
Первый значительный пункт путешествия по Нилу появился 12 октября. В местечке Луксор (сегодня это крупный туристский центр) путешественники ступили на землю прямо под стенами древних Фив, бывшей столицы Египта. Именно здесь были воздвигнуты наиболее известные архитектурные памятники и крупнейшие храмы эпохи Нового царства (1600—1000 гг. до н.э.). Среди них два известных храма бога Амона в Карнаке и Луксоре, которые связаны друг с другом длинной аллеей сфинксов.
В то время как в эпоху Древнего и Среднего царств главной и легкой добычей грабителей были пирамиды, правители Нового царства уже позаботились о том, чтобы их гробницы оказались недоступными разбойникам. В свое время богатые захоронения быстро указывали путь к еще более знатным гробницам. Это побудило фараона Тутмоса I (1545—1515 гг. до н.э.) принять решение не устраивать захоронение в роскошной гробнице, а сделать его в скрытой от посторонних глаз камере в скале. Так в уединенном месте возникла знаменитая ныне Долина Царей. Но надежды на секретность не оправдались. Разбой процветал и вскоре превратился в хорошо отлаженный бизнес.
Первым о таинственном месте в 1793 году сообщил англичанин Ричард Покок, позднее здесь побывал Джеймс Брюс (1703—1794), который искал истоки Нила.
Брем имел возможность быстро осмотреть развалины храмов и помимо былой роскоши не преминул отметить «вечную нищету ребятишек да и взрослых» – то, на что он всегда обращал внимание, где бы ни находился.
После визита в храмы Луксора и Карнака экспедиция была продолжена.
По следам Наполеона
В ходе своего путешествия Брем и его спутники следовали по пути, которым шла военная экспедиция Наполеона Бонапарта. Помимо военных в этом походе участвовало множество ученых, поскольку император полагал использовать достижения науки и в военных целях. В армии находилось 175 ученых самых разных областей знаний. (Многие из них вскоре составят костяк образованного позднее парижского Египетского института.) Среди них физик Гаспар Монж (1746—1818), врач и химик Клод-Луи Бертолле (1748—1822), натуралист Этьен Жоффруа Сент-Илер (1772—1844), химик Николя Конте (1755—1805), врач Доминик Жан Карен (1766—1842). Официальный отчет о работе всей этой команды составлял художник-график Доминик Виван Денон (1747—1825). До этого завсегдатай модных парижских салонов, он нашел свою судьбу в Египте. Но завоевал он эти земли не с оружием, а с карандашом в руках. Он всегда был в центре событий, но его интересовали не детали боевых действий, а особенности древних культурных памятников. В сопровождении генерала Дезэ он осмотрел некрополи Гизы, царскую усыпальницу пирамиды Хеопса, могилы в Саккаре, зарисовал храмы Эсна и Эдфу. В 1802 году Денон опубликовал книгу «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту», которая произвела сенсацию в Европе, поскольку открыла миру неведомую до сих пор великую древнюю цивилизацию.
Из дневника:
«Возвышающее впечатление» от памятников
«Все египетские памятники величавы, но безжизненны и суровы; греческие храмы и другие образцы зодчества и ваяния своими оживленными формами воспламеняют и возвышают дух; кто видел греческие образы, тот останется равнодушен к египетским. На мой собственный взгляд, только три рода памятников древнеегипетского зодчества производят истинно возвышающее впечатление, именно: пирамиды, царские гробницы и скалистые храмы Абу-Симбела. Все остальные древнеегипетские постройки поражают или громадностью каменных плит, из которых они сложены, или неподражаемой отчетливостью и тонкостью резьбы иероглифов, которые в любопытнейших сочетаниях стоят длинными рядами, без всякого соблюдения перспективы; дивишься колоссальным планам всех этих работ, но поражаешься только размерами, а не красотою форм. Фигуры священных древнеегипетских письмен пропадают при сравнении с греческими фресками и даже с арабесками – суровые колоссы бледнеют перед оживленными, изящными изваяниями греков. В этих последних отражается вся цветистая поэзия мифологии, а в первых таится мрачная важность богослужения, посвященного Исиде. Только тогда, когда первоначальное назначение того или другого египетского храма находится в связи с явлениями, которые и ныне нам сродны и понятны и в нас самих возбуждают соответственные чувства благоговения и грусти, только тогда они и в нынешних людях возбудят мощные впечатления».
24 томный труд участников экспедиции, выпущенный в 1803—1813 годах, вобравший весь собранный материал, представлял высокую научную ценность. Важно и то, что помимо описания исторических памятников в нем нашли отражение вопросы зоологии, ботаники и географии.
Мир, полный чудес, открывался перед изумленными европейцами. Путь к современной египтологии был проложен. У его начала стоял и Жан-Франсуа Шампольон (1790—1832) с его расшифровкой древнеегипетских иероглифов в 1822 году.
За несколько лет до Брема, в 1842—1846 годах, по долине Нила проехал другой немец – Карл Лепсиус (1810—1891), увенчавший свой многолетний поиск великим трудом «Памятники Египта и Эфиопии».
Следует заметить, правда, что собственные концессии для работ по изучению древностей египетское правительство получило лишь в начале XX века. Последовали успешные работы американца Теодора Дэвиса в 1902 году, а затем и всем известная находка усыпальницы Тутанхамона Говарда Картера в 1922 м, открывшая дорогу в Египет миллионам туристов. А во времена Брема большинство останков фараонов и их приближенных еще покоились в своих могилах, окруженные крутыми горными склонами Долины Царей…
Великие храмы в Луксоре и Карнаке, как и греческие развалины, произвели на Брема неизгладимое впечатление. Как мы уже говорили, он пробыл здесь всего несколько часов, поэтому его заметки достаточно субъективны.
Благоприятный попутный ветер был на руку путешественникам, и к 13 октября они достигла города Исны, а еще через три дня – и Асуана, пограничного города у ворот Нубии. Древняя Сиена была известна с глубокой древности своими каменоломнями. Вырезанные здесь колоссы использовались для украшения многих храмов по всему Египту. Во времена Брема здесь еще можно было найти следы прежних работ: в глубоких шурфах сохранились клинья и следы опалубки, благодаря которым отливались огромные формы весом в сотни тонн.
Из дневника:
Сколько стоит красивая египтянка?
«Нынешний Асуан, пожалуй, вовсе не заслуживает названия города. В нем очень мало лавок, да и те самые плохие, в которых иногда не бывает ни продавцов, ни покупателей, но зато здесь находится резиденция египетской таможни, где все товары, идущие в Судан или из Судана, платят пошлину. За невольников, которые на Востоке повсюду рассматриваются как обыкновенный товар, пошлина очень высокая. Во время нашей остановки в Асуане тут было несколько торговцев невольниками, задержанных, вероятно, оценкою своих негров и негритянок. Нам предлагали очень красивую девушку за 1800 пиастров; негритянские мальчики и девочки стоили гораздо дешевле».
Напротив Асуана лежит остров Элефантина с храмовыми постройками Тутмоса III и Аменхотепа. Рев воды на перепадах первого нильского порога можно было услышать в самом городе, штаб-квартире египетских таможенных органов. Пять десятилетий спустя в 6 километрах выше по течению была построена первая 45 метровая плотина, ставшая сенсацией в начале прошлого века. (Позже при щедрой поддержке Советского Союза возвели большую плотину «Аль-Садд аль-Али» в 28 километрах вверх по течению.)
Поскольку лодки были не в состоянии перебраться через пороги, оборудование экспедиции на руках перенесли к верблюдам, которые и доставили все имущество на остров Филэ, где два других судна уже были готовы продолжить вояж ко второму порогу Вади-Хальфа. Жителей окрестных поселков местные власти обязали вручную тянуть кораблики вверх по течению. Брем с жалостью смотрел на тяжелый труд нильских бурлаков, но таковы уж были безжалостные законы этой страны.
Разрушенная крепость Ибрихм напомнила им об одном из последних оплотов сопротивлявшихся до последнего патрона мамлюков[2]. Только с помощью дальнобойных орудий Мухаммеду Али удалось покорить твердыню. Многие следы жестоких боев еще долго вспоминались молодому и впечатлительному Брему… «Заброшенные поля, покинутые города, разоренные жители говорят без слов о том, какие беды обрушились на эти земли», – с горечью писал будущий ученый.
Мухаммед-Али – вице-король Египта
Когда после завершения Наполеоновских войн эти места покинули британские оккупационные войска (позаботившись для усиления своего влияния об установлении собственной администрации), Египет снова попал под сюзеренитет Османской империи. Между турецкой администрацией и феодальным правящим классом мамлюков началась жесточайшая борьба за власть. Для египетского народа обе эти силы означали усиление эксплуатации и чужеземного владычества. А когда в конце концов ненавистные беи-мамлюки были изгнаны в ходе всенародного восстания, вице-губернатором и затем вице-королем был избран Мухаммед Али, бывший командир албанских добровольческих отрядов, пришедших в страну с турецкой армией.
Его деятельность стала поворотным пунктом в истории Египта. Чтобы укрепить свою систему правления, он поставил четыре основные задачи: ликвидацию вассальных отношений с Османской империей, прекращение политического и экономического влияния династии мамлюков, защиту от британской колониальной державы и развитие централизованной власти с помощью комплексного реформирования.
После того как ему удалось добиться вывода британских войск, он сосредоточился на борьбе с примерно 40 тысячами членов турецкой касты мамлюков, которые вовсю сопротивлялись его усилиям. Между 1808 и 1810 годами он экспроприировал их земли, которые были объявлены собственностью государства. Когда же мамлюки при поддержке Блистательной Порты и британских войск оказали сопротивление, он обманом заманил их вождей в каирскую Цитадель и устроил там резню.
Гибель ненавистных угнетателей, свержение эксплуататорской касты были для египетского народа большим облегчением, однако кровавые методы, с помощью которых восточный тиран пробивался к власти, стали тем стилем, к которому отныне прибегал и сам Мухаммед Али в борьбе против политических противников…
Экономические реформы, с помощью которых он на ощупь, без изменения феодального способа производственных отношений, пытался способствовать развитию капиталистических элементов в хозяйстве, были прежде всего средством для упрочения его собственного положения на внутренней и внешней политической сценах.
Тот факт, что к 1816 году вся земля (в том числе и территория духовных лиц) была объявлена государственной собственностью, никоим образом не способствовал улучшению условий жизни миллионов бедных египетских феллахов из 3500 деревень, разбросанных по всей стране. Де-факто они становились собственностью правящих семейств. Новый слой чиновников и офицеров, как правило, неегипетского происхождения, занял все ключевые посты в армии и правительстве, получив не облагаемые налогами владения. Феллахи, которых действительно освободили от непосредственной эксплуатации местных помещиков, оставались, однако, привязаны к земле и подвергались грабежу со стороны центральной власти. Они привлекались также к принудительному труду на ирригационных системах и, как сообщал Брем, являлись тягловой силой – то есть бурлаками на Ниле.
Беззащитные перед законом, они подвергались бесконтрольному призыву на военную службу или направлялись в качестве рабочей силы на заводы, принадлежащие лично Мухаммеду Али.
Да, его программа привела к некоторым прогрессивным реформам. Строительство плотин повлекло за собой регулирование оросительной системы и удвоение посевных площадей к 1840 году. Внедрение новых культур, в частности хлопка, стало сырьевой базой промышленного развития страны.
Успешные реформы укрепили централизованное феодальное государство и власть самого Мухаммеда Али в намерении создать путем расширения своей территории независимую египетскую империю. С 1811 по 1818 год он возглавлял на Аравийском полуострове победоносный поход против вахабитов[3], а с 1819 по 1822 й подчинил земли восточной части Судана (Нубия, Сеннар и Кордофан).
Нестабильная политическая ситуация в этих областях (султанат Сеннар только номинально подчинялся центральной власти, а в действительности был разделен на отдельные племенные районы, а Дарфур и Кордофан пребывали в упадке) только способствовала этим завоеваниям. Летом 1820 г. Исмаил, сын Мухаммеда Али, отправился с войском в 5000 человек вдоль Нила в направлении Сеннара, в то время как другой его сын, Мухаммед бей-Хушров, с 3000 войск – в Дарфур.
Несмотря на героическое сопротивление вооруженных лишь копьями жителей, они не могли долго противостоять интервентам. Вскоре, в 1822 году, из-за непосильных налогов здесь вспыхнуло восстание против угнетателей. Пламя народного гнева охватило весь Судан, но восстание было жестоко подавлено армией Мухаммеда Али. Страна была опустошена, более половины населения убито или угнано в рабство.
Когда Брем посетил эти области 25 лет спустя, то повсюду еще оставались следы тех страшных времен. Свидетели кровавых сцен рассказывали ему о запомнившихся им зверских расправах с населением.
Из дневника:
«Натиск на юг»
«Имея за спиной завоеванные области, Мухаммед шел все дальше на юг, но ожидаемые богатства все не обнаруживались. Потери захватчиков были велики. Они были вызваны не отпором населения, а инфекционными болезнями и коварным климатом. Чем дальше за спиной оставался родной Египет, тем настоятельнее была необходимость создания постоянной военной базы. Он выбрал для этого стратегически выгодное положение – место слияния Голубого и Белого Нила. Таким образом, возле бывшей деревеньки Хартум были возведены в 1823 году первые казармы для солдат. Вскоре это место стало столицей завоеванного Судана и отправной точкой для дальнейших кампаний, прежде всего, в сторону Красного моря.
Отсюда Мухаммед Али с 1839 по 1842 год посылал экспедиции для изучения верхнего течения Белого Нила в качестве транспортной артерии для путешествий в неизвестность африканского Юга».
В результате многочисленных военных авантюр египетская армия сильно поредела. Поскольку рейды за рабами не давали весомых результатов, армия была пополнена 235 тысячами феллахов, согнанных из деревень с помощью облав; на их содержание потратили более половины госбюджета.
Вместе с тем расширение сферы влияния египетской империи противоречило интересам европейских держав, которые уже давно рассматривали эти земли как свои потенциальные колонии. С помощью англо-австрийских войск продвижение египтян к Константинополю – а они стояли уже у Акко – приостановили, и закачавшаяся было Османская империя временно оказалась спасена. Усилиями четырех держав – Англии, России, Пруссии и Австро-Венгрии – была заключена Лондонская конвенция (1841), которая вынудила Мухаммеда Али отказаться от земель за пределами Египта и Судана и признать власть турецкого султана, чья политическая и экономическая зависимость от европейских держав к тому времени сильно увеличилась.
У подножия древних храмов
После провала чаяний Мухаммеда Али, особенно в последние годы его правления, когда и состоялось первое путешествие Брема в Африку, страна стала сырьевым придатком европейских держав. Особенно возросла эта зависимость при шахе Аббасе I (1849—1854), Саид-паше (1854—1863) и Исмаил-паше (1863—1879).
2 ноября Брем и его спутники ступили на землю в Вади-Хальфе возле второго порога. Незадолго до прибытия они имели удовольствие лицезреть на берегу Нила величественный храм Абу-Симбел. К сожалению, Альфред не имел возможности осмотреть его внутренний интерьер, но зато вволю полюбовался мощными порталом. Храмы Абу-Симбела уступают пирамидам по древности, но по интересу к ним – нисколько. В ансамбль Абу-Симбела входят два сооружения: Большой храм, посвященный самому фараону Рамзесу II и трем богам: Амону, Ра-Хорахте и Птаху, и Малый храм, воздвигнутый в честь богини Хатор, в образе которой представлена жена Рамзеса II Нефертари-Меренмут. Примечательно, что лица статуй богов копируют изображения лиц царственной семьи.
Поскольку появились трудности с арендой судов и верблюдов, Брем и его спутники вынуждены были на две недели задержаться в этих местах. Альфред, как исследователь, конечно, только обрадовался этому обстоятельству, однако бесплодная местность вокруг Вади-Хальфы не очень-то подходила для наблюдений и охоты.
Из дневника:
В селениях берберов
«Мы остановились в караван-сарае, который жители важно величают замком – “эль-Хасср”, и так как в Вади-Хальфа не оказалось на ту пору ни верблюдов, ни каких-либо судов по ту сторону порога, то мы вынуждены были провести тут 13 дней. Наше жилище (четыре года спустя оно представляло почти одни развалины) состояло из двухэтажного дома с немногочисленными комнатами и очень обширного двора. Все здание было выстроено из необожженного кирпича, а покрыто совершенно к тому непригодными стропилами из пальмовых стволов. В наружной стене, которою было обнесено все здание, проделано было много бойниц, очевидно, предназначенных для обороны на случай нападения.
В прежние времена, может быть, и в самом деле богатым караванам угрожала какая-нибудь опасность этого рода; но во время нашего пребывания в Вади-Хальфа тамошняя торговля составляла монополию правительства и караван-сарай стоял без всякого употребления. Во всяком случае, нам он очень пригодился.
Для путешественника, очутившегося в таком безынтересном месте, всегда бывает приятно немедленно найти себе пристанище и не выгонять ради этого какую-нибудь беззащитную семью туземцев из их бедной хижины. К тому же жилища барабров[4], хотя почище и уютнее феллахских мазанок, сбитых из нильского ила, все-таки очень плохи. Они с виду похожи на четырехсторонние, усеченные сверху пирамиды, сложены из необожженного кирпича, не имеют световых отверстий (слово “окно” не желаю упоминать всуе) и освещаются внутри посредством единственного входа, кверху расширенного и прикрываемого на ночь циновкою из плотно связанных пальмовых листвяков, называемых “джерид”. Пол в нубийских домиках часто покрыт пестрыми, искусно сплетенными из соломы ковриками или просто состоит из вбитой земли. Внутри хижины, кроме постели, состоящей из такой же плетенки, как и дверь, но только на четырех ножках, да нескольких деревянных чашек и глиняных горшков, нет решительно никакой утвари.
Жители Вади-Хальфа ни нравами, ни обычаями, ни телосложением, ни наружностью и духовными способностями – словом, ничем, кроме некоторых особенностей своего наречия, не отличаются от остальных обитателей Нубии, вплоть до старой Донголы. Их язык, по близкому сходству своему с эфиопскими наречиями, указывает на происхождение барабров от эфиопов, что, по-видимому, подтверждается также и телосложением нубийских племен[5]. Нубийцев можно назвать здоровым народом. Первое, что бросается в глаза, когда вступишь в их области, – это совершенное исчезновение глазных болезней. Как самые страны и народы Северо-Восточной Африки резко и внезапно друг от друга отличаются, как природа здесь делает странные скачки, разделяя лишь несколькими шагами плодоносные нивы от суровых, безжизненных пустынь, так распределяются здесь и болезни. В Асуане свирепствует эпидемия, а за милю оттуда, в селении Шеллаль, о ней знают только по слуху. Можно достоверно сказать, если встретишь слепого или кривого бербера, что он лишился зрения не на родине, а в Египте. Зато в Нубии чрезвычайно опасны какие бы то ни было раны: малейшая царапина разбаливается на целые месяцы. Многие из наших спутников по неделям страдали от последствий самых обыкновенных порезов».
Между тем старший Брем прислал из Рентендорфа хороший совет по ловле птиц. В письме сыну от 13 сентября 1843 года он делился своим опытом: «Будь прилежным, так чтобы в скором времени добиться успехов в препарировании, и неустанно трудись, чтобы добыть как можно больше птиц».
Наконец поездка была продолжена на верблюдах, в обход порога. Насколько хватало глаз, везде были камни, песок и снова камни. Сотни скалистых островков препятствовали течению Нила, который с ревом пробивал себе дорогу среди камней.
Следующий отрезок пути был покрыт с помощью маленьких юрких парусников и проходил вдоль мрачной каменистой равнины.
«Самые печальные земли, которые я когда-либо видел, – записал Брем в дневнике. – Высокие голые скалы, почти вертикально вздымающиеся прямо со дна реки…»
Но опытный шкипер и отважные матросы преодолели все препятствия, которые были для них детскими развлечениями.
Сильный ветер задерживал продвижение, и запасы продовольствия неумолимо сокращались. Завтрак теперь состоял из чашки кофе и печенья, обед – из сухого риса, а ужин – из неопределенного содержания водянистого супа.
Из дневника:
Приключения на стремнине
«20 ноября мы пришли к шеллалю[6] Семне. Вся громадная масса нильских вод стремится тут через три перехвата, или ущелья, не больше 40 футов шириною; у верхнего конца этой быстрины уровень воды положительно на 6 футов выше, чем за три сажени оттуда, вниз по течению. Мы на всех парусах подплыли к первому из этих бушующих проливов, наши матросы, захватив с собою крепкий канат, бросились в пенистые волны, переплыли быстрину и прикрепили к глыбе камня канат, следовательно, и самую барку. Так мы стояли на месте, пока со всех восьми судов сошла и соединилась наша команда; тогда каждую из дрожащих барок протащили за веревки через стремнину, меж тем как волны яростно хлестали нам навстречу и чуть не заливали через нос.
По обеим сторонам этих проходов, на береговых утесах, стоят развалины небольших, но очень изящно построенных храмов, относящихся ко временам фараонов и украшенных иероглифами необыкновенно тонкой работы.
Если ветер постоянно благоприятный, то все быстрины каменной долины минуют в 6—8 дней плавания.
На этот раз ветер был нам не совсем попутный, поэтому мы в 3 дня сделали не больше полутора немецких миль. Ни миссионеры, ни наша корабельная прислуга не ожидали такого неудачного плавания и не приготовились к нему. Съестные припасы стали подходить к концу, и, несмотря на самую скудную раздачу порций, на всех судах настал серьезный пост.
Пользуясь безветрием, наши матросы тщетно бегали по окрестностям за целые мили, отыскивая чего-нибудь съедобного. Вместо овощей они ели дикую траву, какая им попадалась изредка, и то в очень малом количестве, и при всем том постоянно были в хорошем настроении духа, пели и смеялись. Мы, европейцы, гораздо труднее переносили недостаток пищи и от всей души вздыхали о свежем мясе и овощах. Утром выпивали по чашке кофе с морским сухарем, в полдень нам давали пилав, то есть просто сухой рис, а вечером жидкий суп. Все наши кушанья были очень невкусны, потому что запас топленого сала давно уже истощился. Я застрелил нильского гуся: мясо его показалось нам настоящим лакомством, за которое мои европейские товарищи наградили меня самыми приветливыми лицами, а нубийцы немало дивились удачному выстрелу.
На одном из противолежащих каменных островов, футов за триста впереди, завидел я двух нильских гусей; это красивые, но очень робкие птицы; однако, принимая во внимание, что нас отделяло от них такое широкое пространство бушующих волн, кое-где образовавших даже водопады, гуси, очевидно, считали себя в полной безопасности. Однако мое превосходное ружье настигло их: я попал самцу пулей в грудь; он еще попытался взмахнуть крыльями, но упал мертвый на берегу островка.
Прислуга всех судов – которой набралось в этом месте более двадцати человек, – следила глазами за моею охотой и приветствовала удачу громким воплем одобрения. Но я все-таки был далеко от добычи, которая лежала по ту сторону широкого волнующегося речного рукава. Тогда один из матросов, в надежде на бакшиш, взялся достать птицу. Он лег на деревянный обрубок и вместе с ним бросился в воду. Кипящие волны, казалось, хотели поглотить его и, действительно, не раз скрывали его от наших глаз, но он бодро работал руками, благополучно добрался до цели и без всяких повреждений воротился назад с птицею в руке.
Нельзя достаточно надивиться искусству нубийских пловцов. Египтянин не вдруг идет в воду и преодолевает себя, для того чтобы пускаться вплавь, между тем как нубиец в воде совершенно как у себя дома. Несмотря ни на какую быстрину и волнение, он смело плавает от утеса к утесу, нередко держа при этом в зубах конец веревки во сто футов длиною. Он с самого младенчества приучается к этому искусству. Мальчики и девочки ради забавы гоняются друг за другом в воде; взрослый человек надует воздухом толстый кожаный мешок, ложится на него и плывет себе вниз по течению по целым дням. Мужчины и женщины с полнейшею беззаботностью садятся на такие мешки и пускаются в путь в таких местах, где река, пожалуй, более 1000 шагов шириною».
Но постепенно местность начинала становиться более приветливой. Попутный северный ветер гнал лодку по открытой воде на юг. Жители, обитавшие у острова Арсо на третьем пороге, приготовили странникам давно забытую горячую домашнюю пищу, а на следующий день они прибыли в Донголу.
Почти месяц прошел со времени выхода путешественников из Вади-Хальфы. Как узнал Брем, здесь в свое время побывал известный натуралист и основатель микропалеонтологии Готфрид Эренберг (1795—1876), который путешествовал по Египту и Нубии по поручению Мухаммеда Али и участвовал в церемонии закладки городка Акромар.
Так как члены миссии намеревались ждать здесь выздоровления их руководителя, Мюллер и Брем решили ехать дальше самостоятельно. Как видно из более позднего письма Брема своему старому учителю из алтенбургской школы искусств и ремесел Эдуарду Ланге, у совместного путешествия с духовными лицами был один существенный недостаток: «Мы дошли до Донголы в Нубии с членами католической миссии, которая была назначена в Риме для распространения христианской веры на Белой реке, и я полагаю, что отказ от многих наших намерений зависел именно от их планов, которые никак не вязались с нашими научными делами».
Из дневника:
Происшествие на берегу
«Вследствие страшного ветра и двух бессонных ночей у меня разболелась голова. Рейс Беллаль непременно захотел меня вылечить симпатическим средством, которые вообще в большом почете у арабов. Он подошел ко мне, выделывая всевозможные жесты, крепко прижал мне висок пальцами правой руки, потом, бормоча про себя молитвы, накладывал в известном порядке пальцы своей левой руки на мою ладонь. Наконец он сжал мою голову в своих руках, поплевал себе на левую руку и несколько раз похлопал ею по полу. Не знаю, этому ли удивительному врачеванию или ослаблению ветра следует приписать это действие, но только после полудня моя головная боль действительно утихла…
…9 декабря, полный штиль. Барон ушел на охоту; я лежал в трюме, испытывая первые пароксизмы тамошней лихорадки; озноб потрясал меня с головы до ног. Как вдруг на палубе нашей барки поднялись дикие крики, которые вскоре сделались для меня невыносимы. Наш служитель Идрис объяснил мне, что люди очень сердиты на барона, за то что он не возвращается, между тем как уже поднялся попутный ветер. Чтобы поскорее пуститься в дальнейший путь, отрядили за бароном в погоню матроса Абд-Лилляхи (или Абдаллу). Это тотчас показалось мне подозрительным: Абд-Лилляхи всем был отлично известен как самый злой, грубый и сердитый человек.
Через несколько минут послышался голос барона, звавшего на помощь, и я увидел его на берегу: он отчаянно боролся с нубийцем, который отнимал у него охотничье ружье. Если бы нубийцу удалось овладеть оружием, он, наверное, убил бы моего товарища, поэтому я, не медля ни мгновения, поспешил по возможности предупредить несчастие. Я схватил свое ружье и стал целиться в нубийца, но борцы так часто меняли положение, что я никак не решался спустить курок, опасаясь задеть барона. Наконец он вырвался, я прицелился, но не успел я выстрелить, как неприятель упал весь в крови – барон ударил его кинжалом в грудь.
Тогда он рассказал мне все, как было. Абд-Лилляхи наскочил на него в сильнейшей ярости, осыпал его ругательствами, насильно потащил к барке и тут же на берегу начал бить. Барон рассердился, перекинул ружье на руку и хотел ударить нубийца прикладом, но тот бросился на него как зверь, схватил его за горло, обозвал христианскою собакой и “неверным” и пригрозил застрелить из ружья, которым силился овладеть. От такого человека можно было всего этого ожидать, и потому барон имел полнейшее право защищаться так, как он защитился.
Невозможно описать, что за гвалт поднялся у нас вследствие этого. Прислуга ревела во все горло, клялась отомстить и гурьбою повалила к патеру Рилло. Этот иезуит был настолько низок, что не только признал нубийцев правыми, но даже постарался восстановить их еще больше против нас, еретиков. Позвали дона Анджело, миссионерского врача (который, сказать мимоходом, имел самые туманные понятия насчет возможности прибегать к медицине), и приказали ему освидетельствовать “бедного раненого” и перевязать его. Само собою разумеется, что эти христианские меры еще больше ожесточили народ и придали ему дерзости. Рейсы со зверским ревом объявили, что нашу барку тут оставят, а с нами сами расправятся. Дело шло о жизни или смерти; мы привели свое оружие в наилучший порядок, и на следующее утро, когда лоцманы возобновили свои угрозы, мы приказали им исполнять свои обязанности, обещали прибегнуть к покровительству правителя Донголы и требовать у него суда и наконец поклялись, что всякого, кто с недобрым намерением приблизится к нашей барке, тотчас застрелим. Наша энергия возымела желаемое действие. Матросы, ворча, повиновались нашим повелениям и принесли повинную.
Рана Абдаллы была не опасна. Удар кинжала был бы, вероятно, смертелен, но, к счастью, попал на ребро, которое задержало лезвие. Когда миновала первая сильная лихорадка – обычное следствие раны, нубиец вскоре выздоровел. Так как он потом изъявил готовность отложить всякую вражду, то барон дал ему за увечье три ефимка и тем окончил дело к обоюдному удовольствию.
Впоследствии иезуиты постарались представить поступок моего товарища в очень дурном или, по крайней мере, двусмысленном свете, вменяя ему в преступление защиту своей личности, что я долгом считаю опровергнуть. Он поступил так, как всякий поступил бы на его месте. В этих странах убийство вовсе не такой редкий случай, чтобы человек не должен был прибегать к самым крутым мерам, когда ему угрожают смертью.
20 декабря барон Мюллер арендовал лодку до деревни Амбиголь, ворота в пустынную степь Бахиуда».
Тяготы пустыни
Участники экспедиции предприняли поездку по суше до Хартума. Она оказалась значительно короче, чем нильское путешествие, но по сложности превзошла речной круиз во много раз.
29 декабря, после того как трое погонщиков потребовали выплатить им вперед треть требуемой суммы и их просьба была удовлетворена, группа сделала первые шаги в неизвестность. Бахиуда не являлась пустыней в истинном смысле этого слова. Обширные низменные области и сезоны дождей создавали благоприятные условия для богатой растительности на обширных площадях. На севере, однако, преобладали песчаные равнины и бесплодные каменистые земли. Горячий песок как зеркало отражал жар палящего солнца. Колодцы, в которых буквально по каплям собиралась вода, были здесь редкостью.
Во многом пустыня напоминала Брему море: «Легко меняющееся, так же как и океан, море песка… Опять же этот ветер, который перемешивает песок, как морские волны, похожие на горы…»
Ужас путешественников вызывают песчаные бури – самумы. Альфред, столкнувшийся с этим явлением впервые, удивительно точно описывает его.
Из дневника:
Самум и фата-моргана
«Признаки их всегда одни и те же. Воздух становится тяжелым, почти непроницаемым, животные – пугливыми и возбужденными, отказываются от работы. Наконец все вокруг покрывается плотным сухим туманом. После бури питьевая вода стала непригодной – ее нельзя было восстановить ни с помощью вина, ни уксусом, ее потребление неизменно вызывало сильные боли в животе.
Уже несколько дней заранее сын пустыни чует и предсказывает этот страшный ветер, которому он приписывает смертельное действие. Впрочем, и чужестранец, достаточно поживший в стране, научается заранее предугадывать это явление. Температура воздуха становится в высшей степени тягостна: она душна и томительна, как перед сильной грозой, что ясно указывает на электрическое свойство ветра. Горизонт подернут легким красноватым или голубым туманом – это песок, крутящийся в атмосфере; но нет еще ни одного дуновения ветра. Животные, однако, явно чуют его приближение: они становятся беспокойны и пугливы, не хотят идти обычным порядком, сбиваются в сторону, вон из строя, и разными другими знаками несомненно выражают свое предчувствие. При этом они в короткое время утомляются гораздо больше, нежели в предшествовавшие дни сплошной ходьбы, иногда падают вместе со своею ношей и с величайшим трудом поднимаются опять на ноги или же вовсе не встают.
В ночь, предшествующую урагану, духота необыкновенно быстро усиливается. Пот проступает по всему телу; нужны упорнейшие усилия духа и воли, чтобы поддержать тело в надлежащем напряжении. Караван с тревожною поспешностью идет вперед, покуда может, пока еще люди и скоты не пали под бременем чрезмерного утомления, пока хоть одна звездочка мерцает в небесах, указывая вожаку направление пути. Но вот погасла последняя звезда, густой, сухой, непроницаемый туман покрывает равнину.
Проходит ночь, на востоке встает солнце – странник не видит его. Туман становится еще гуще, еще непроницаемее, темно-красный воздух постепенно принимает сероватый, мрачный оттенок: “Воздух свинцового цвета и тяжел – таков бывает вид умирающего человека”.
Наступает почти сумрак. Едва можно различать предметы на ста футах расстояния. В действительности должен быть полдень. Тогда с юга или юго-запада поднимается тихий, горячий ветер; от времени до времени налетают сильные, отдельные порывы. Наконец завыла буря, поднялся ураган, песок крутится вверх, густые тучи застилают воздух. Если всадник вздумает скакать против ветра, его унесет вон из седла, а верблюда никакими силами не заставишь идти далее. Караван вынужден остановиться. Верблюды ложатся на землю, вытягивают шеи, фыркают и стонут; слышны беспокойные, неправильные вздохи перепуганных животных. Арабы поспешно пристраивают все мехи с водою с той стороны лежащего верблюда, которая его же телом защищена от ветра, – это для того, чтобы уберечь их поверхность от иссушающего влияния сухого ветра; сами арабы как можно плотнее закутываются в свои плащи и так же ищут приюта за ящиками и тюками.
Мертвая тишина царствует в караване. В воздухе ревет ураган; слышатся треск и дребезжание: то трещат доски в ящиках. Пыль проникает во все отверстия, даже насквозь пробивает плащи, и, оседая на тело человека, жестоко мучит его. Вскоре чувствуется сильнейшая головная боль, дыхание трудно, вся грудь поднимается; пот выступает градом, но не смачивает тонкой одежды: палящая атмосфера жадно впитывает в себя всякую влагу. Там, где водяные мехи приходят в соприкосновение с ветром, они тотчас коробятся, растрескиваются и вода испаряется. Горе бедному путнику, если самум надолго разгулялся в пустыне! Гибель его неизбежна.
“Преклоняйте голову, веет дыхание самума, идет кара Божия. Алла! Сжалься над нашим бедствием! Алла! Ангел смерти грозит нам. Небеса уступают, ад победит, помоги нам, лежащим пред Тобою во прахе!”
Продолжительный самум больше истомляет людей и животных, нежели все остальные тяготы пустыни. Путешественник испытывает при этом совершенно новые, неизвестные ему страдания: через короткое время у него трескаются губы, потому что всякая влажность испаряется в горячем воздухе, и из ранок идет кровь; сухой язык жаждет воды, дыхание становится зловонным, все члены отекают. К безмерной жажде вскоре присоединяются нестерпимый зуд и жар во всем теле, кожа трескается и во все трещины набивается тонкая пыль. Страдальцы испускают громкие жалобы; иногда жалобы эти доходят до настоящего бешенства, а иногда становятся все тише, слабее и наконец вовсе затихают. В первом случае несчастный сходит с ума, в последнем кровь, лихорадочно бьющая в жилах, так отяготила голову, что страдалец впал в бесчувственное состояние. Минует буря, но многие из людей уже не встанут – жизнь их пресеклась от мозгового удара. Некоторые верблюды также при последнем издыхании.
Да и пережившему немногим легче. Жажда уморит его, но только еще медленнее, мучительнее. Верховой верблюд его пал, мехи почти вовсе сухи. Он пытается идти пешком, но раскаленный песок вскоре обжигает ему ноги и покрывает их ранами. Каждый из спутников слишком занят самим собою, чтобы оказать больному внимательную помощь; все правила и порядки нарушаются, погонщики стараются завладеть верблюдами, которые покрепче, чтобы на них спастись бегством; если это им удастся – тогда пропал весь караван, следовательно, нужно противодействовать им. Вьюки сбрасываются, навьюченными остаются только те верблюды, которые несут мехи с водою; в случае благоприятного исхода каждый путник берет себе по какому-нибудь верблюду, и все спешат к ближайшему потоку или колодцу – конечно, не все доходят живыми. Один верблюд как-нибудь отстал, уморился, пал – седок его наверное останется тут же. Напрасно рвет он свою бороду в клочки, проклинает свою участь – для него нет спасения: вода его выпита и ему предстоит умереть от истощения.
Тут-то и расстилается перед ним “море дьявола”. Умирающему представляются самые восхитительные виды: сельские жилища, окруженные рекою, пальмовые леса на берегу озера, потоки, по которым идут расцвеченные флагами суда; ему чудится вода во всевозможных комбинациях. Воображение так услужливо услаждает болящую душу милыми призраками! Если представим себе, что фата-моргана при таких именно обстоятельствах разостлала по равнине свое воздушное озеро, то досужая фантазия легко может добавить к тому, что действительно чудится, еще деревья, дома, людей – словом, все, чем вздумается потешить умирающего. Как удивительно верно представляется это состояние в стихотворении Фрейли-грата, из которого приводим выдержку в прозе:
“Она с изумлением озирается вокруг. Как, что такое? Ты спишь, супруг мой? Небеса были свинцовые, а теперь облекаются в светлую сталь. Где же пламенная желтизна пустыни? Куда ни взгляну – всюду свет! Все сияет, словно море, бьющееся о берега Алжира.
Блестит и сверкает, точно река, – она манит к себе свежестью и влагой, громадным зеркалом светится она – проснись же, то, быть может, Нил! Ах нет, мы шли к югу, так это, верно, Сенегал? Или это само море, с его резвыми пенистыми волнами?
Все равно, это вода, проснись же! Моя одежда уже лежит на земле. Вставай, господин мой, и побежим туда, потушим пламя, палящее нас. Один освежительный глоток, одно прохладное купанье, и мы запасемся новыми силами. Вон виднеются высокие башни – там и конец нашему странствию. Милый, язык мой пересох, я жажду! Проснись же, уж сумерки наступают”. Еще раз открывает он глаза и глухо произносит: “Марево! То призрак, злее самого самума, – потеха злых духов!” Он замолк – призрак исчез – и жена упала на бездыханное тело мужа!»
Тело остается на месте и высыхает, как мумия. Пройдет тут новый караван, засыплет песком почерневший труп, легкий, как перо; но ветер непременно опять раскроет его. На всяком значительном тракте в пустыне путник всегда может встретить такие “песчаные мумии” верблюдов и людей; обыкновенно из песка торчит лишь какой-нибудь отдельный член, при виде его араб произносит краткую молитву – этим и ограничиваются похороны в пустыне.
Я, как очевидец, по собственному опыту могу описать впечатления этих воздушных призраков. Воздушные явления-отражения я видал сотни раз, в Хартуме, например, ежедневно – но настоящие признаки фата-морганы испытал только один раз. Мы шли с караваном, уже более суток вовсе не имели воды и восемнадцать часов ничего не ели. Жажда и голод томили нас ужасно. Мы направились к Нилу. “Смотри! – говорю я проводнику. – Вот он, наконец, виднеется. Я вижу большое селение, много пальм, спеши, спеши привесть нас туда: там найдем воду, скорее, скорее!” – “О, господин, река еще далеко – ты видишь дьявольское море!” – ответил мне араб. Явление повторялось несчетное число раз и все было лишь обманом ослабевших чувств. Наконец всем нам стали чудиться разнообразнейшие виды: все такие же плоды фантазии, но они, как нельзя больше, соответствовали желаниям и потребностям наших пустых желудков и пересохших языков. Когда томишься жаждою в этих палящих зноем широтах, то все представления сосредоточиваются на понятии о воде; больше ни о чем не грезишь. Надо побывать в пустыне и испытать все муки жажды, чтобы понять, с какой стремительностью бросается к реке даже самый свежий и здоровый караван; надо самому пострадать от такой жажды, чтобы уверовать в призраки фата-морганы. Когда среди жаркой пустыни истощается живительная влага, тогда воображение рисует в отуманенном мозгу самые прелестные призраки; если же человек совершенно здоров и обеспечен против всех лишений, тогда всякие воздушные явления исчезают и видишь только то, что есть на самом деле.
Фата-моргана представляется в виде пространного наводнения, из среды которого действительные предметы, как живые, так и неодушевленные, являются плавающими на воде. Они как будто и отражаются в ней, и представляются в опрокинутом виде, как настоящее отражение. Живые и движущиеся существа, представляясь носящимися на поверхности влаги, кажутся громадными и лишь по мере приближения к ним принимают свои настоящие формы. Самая отражающая поверхность представляется от 6 до 8 футов глубиною, а цветом похожа на мутную, не освещенную солнцем воду.
Призрак начинается обыкновенно около 9 часов утра, в полдень всего явственнее, а к 3 часам пополудни пропадает; об эту пору он в разных местах разрывается, подобно туману, становится бледнее и наконец вовсе исчезает. Таково явление фата-морганы, с точки зрения неповрежденных нервов, при здоровом состоянии крепкого тела.
К счастью, проводник, наметив верный путь, решительно вел караван вперед».
В первых числах нового, 1848 года степная природа стала разнообразнее, растительность – ярче, а животный мир – богаче. У кочевников путешественники разжились свежим козьим молоком – настоящим лакомством и лекарством для пересохших от жары глоток. После привала быстрее пошли дальше. Дромадеры бежали резво, переходя на рысь, чувствуя близость свежей воды. Издалека услышанный скрип водяных колес показался божественной музыкой. Наконец-то! Тяготы пустыни были вскоре забыты.
Они решили остаться в деревне Керери на ночь, потому что она была расположена в 10 километрах к северу от Омдурмана[7], где ночевать они не решились.
Мюллер пошел вперед, взяв на себя роль квартирмейстера, а Брем двинулся в путь с медлительным, тяжело груженным караваном и прибыл в Хартум на день позже. Там Мюллер уже снял небольшой дом, окруженный высокой стеной. В нем-то и собрались вскоре все находившиеся поблизости в наличии европейцы. Генерал-губернатор Солеман-паша радушно встретил гостей.
Приключения в Хартуме
Менее чем за десятилетие место слияния Белого и Голубого Нила стало крупным торговым центром. Земли, завоеванные Египтом, были разделены на провинции Нубия, Така, Фашль, Сеннар и Кордофан. Здесь находилась столица Хартума во главе с генерал-губернатором, который оказался весьма общительным, добрым человеком, пообещавшим Брему всяческую поддержку.
Со временем соломенные хижины уступили место одноэтажным глиняным постройкам, появились даже улицы с грунтовым покрытием, сразу же заполнившиеся мусором. От главной дороги, что пересекала Хартум с запада на восток, почти все улицы вели к рынку, который вместе с выросшими мечетями превратился в центр города. На рынке бойко шла торговля разными товарами, которые были отделены здесь друг от друга. Хлеб продавался отдельно от муки, молочные продукты – в стороне от овощей, масло и другие жиры – в отдалении от кормов для животных.
Резко контрастируя с серыми окрестностями, на берегах Голубого Нила раскинулись сады, где росли виноград, лимоны, бананы, инжир, гранаты и кышта – вкусный, похожий на ананас плод. Тут были даже фиги, которые в этих местах достигли самой южной границы своего ареала.
Очевидно, что поначалу местное население не соблюдало никаких планов по застройке, и дома возникали там, где хотелось их владельцам. Прямо на месте из глинистой почвы лепили кирпичи и высушивали их на солнце. Стены из таких «кирпичиков» росли как грибы после дождя. Крыши опирались на деревянные балки из мимозы, а покрытие делалось из крупных пальмовых листьев. Любой сильный дождь превращался для обитателей таких домов в теплый душ, причем вода легко затапливала все помещения.
Внутреннее убранство этих домов было более чем скромным – глиняный пол и такие же голые беленые стены. Решетки на окнах и запоры отсутствовали. Ведь имущества у населения, которое нужно было бы защищать, практически не имелось…
Отдельно стоящие здания во время сезона дождей помимо людей населялись огромным количеством всякой живности, главным образом пауков и насекомых, поэтому уборка, если хозяева вообще за этим следили, занимала у них все свободное время.
Открытые оконные и дверные проемы всегда манили к себе бесчисленное количество мух, ос и кровожадных комаров, поэтому всегда приветствовался свободный доступ в дома ящериц (главным образом гекконов и сцинков), которые с аппетитом поедали по ночам непрошенных шести– и восьминогих постояльцев. Зоолог Брем подолгу наблюдал за охотой ящерок, и впоследствии этот опыт немало пригодился ему при оборудовании террариумов в европейских городах.
Из дневника:
Неприятное соседство
«Всего хуже относительно жилищ приходится в Хартуме вновь прибывшим. Когда иностранец в первый раз нанимает квартиру, он неизбежно получает самый скверный дом, потому что лучшие здания уже заняты долее живущими. Здесь он должен устроиться, как может лучше, сам, потому что хозяин не дает своему жильцу, кроме четырех стен, решительно ничего. Прежде всего приходится отчищать дом от всяких гадов. Во всех темных местах гнездятся в дождливое время года скорпионы, тарантулы, уродливые ящерицы, шершни и другие отвратительные гости. Вечером никогда не следует входить в комнату без свечки, потому что иначе оживленное в это время сонмище легко может быть опасно. Я наступил однажды в темном проходе на очень ядовитую виперу[8], которая, по счастью, была занята глотанием только что убитой ею пары ласточек и не могла укусить меня. К большим паукам и скорпионам привыкаешь так, что никогда не пропустишь принять против них необходимые меры предосторожности. Ночные ящерицы, бегающие с помощью своих клейких пальцев по потолку и ловящие мух, скоро становятся любы каждому за приносимую ими пользу и за их невинную оживленность; с удовольствием слышишь “гек-гек”, испускаемый ими крик, за который их называют гекконами. Но зато крайне неприятны докучливые насекомые.
Открытые оконные отверстия предоставляют свободный вход днем голодным роям мух и ос, ночью неисчислимым полчищам жужжащих, кровожадных москитов. Эти духи-мучители ночью терзают спящего точно так же, как днем терзают бодрствующего мухи, осы и шершни. От них не знаешь, как защититься. При этом ветер свободно свищет по пространствам, которые мы должны называть комнатами, и засыпает их песком и пылью. Господствующая обыкновенно в большей части низких комнат сильная жара несколько ослабляется только от частых вспрыскиваний водою. Если вы не привезли все необходимое для своего благосостояния из Египта, то вынуждены покупать это на базаре по чрезвычайно дорогой цене. Но и при возможно лучшем устройстве хартумского дома все же ощущаешь недостаток в очень многом, и всего лучше попытаться принять здесь полудикий образ жизни суданцев».
Стоящий в отдалении кирпичный дворец генерал-губернатора явно отличался своим помпезным видом от остальных построек Хартума. В дополнение к залу для приемов и жилищу самого губернатора он включал рабочий кабинет и комнаты для слуг, гарема, а также камеры тюрьмы.
Нездоровый климат, тяжелые условия жизни и изолированность от окружающего мира – все это делало губернаторскую службу в этих местах больше похожей на ссылку. В самом деле, паша отбывал здесь положенные три года как повинность и затем уже в Египте его ждало повышение. Подчинялся он исключительно вице-королю и имел тут практически неограниченную власть над жизнью своих подданных. Он также был верховным судьей и главнокомандующим войсками, расквартированными в окрестностях. Здесь поочередно правили местные руководители, которым в свою очередь подчинялись другие. Нижнем уровнем административной иерархии был каймакан, староста. Все эти служащие состояли также на военной службе. В то время как в мирное время они выполняли обычные административные и судебные обязанности, в военную годину, а таковая выпадала частенько, командовали в соответствии с их рангом.
Быстрый рост города, несомненно, был связан с торговлей, которая интенсивно развивалась здесь, в точке пересечения двух караванных дорог. Слоновая кость, эбеновое дерево, страусовые перья, листья сены, индиго, кофе, табак сплавлялись по Нилу и скапливались на складах в Хартуме.
Губернатор пытался следить за тем, чтобы торговля шла в интересах правительства страны, но и не выступал против инициатив частных предпринимателей, поскольку имел бакшиш со всех сделок…
Наряду с этим верховья Нила оставались крупнейшим в мире центром работорговли, которая была запрещена в Судане только в 1889 году, а на самом деле продолжалась вплоть до конца Первой мировой войны.
Особое впечатление произвели на молодого Брема солдатские казармы. Он писал: «Они были больше похожи на свинарники, чем на жилища для бедных солдат и их семей».
Из дневника:
Вавилон племен и народов
«Суданцы хорошо сложены, среднего или высокого роста, сильны и могут выносить значительные физические труды; мужчины, за исключением гассание, обыкновенно красивее женщин, которые в некоторых городах, как например в Хартуме, считаются безобразными. Этому способствует главным образом их обычай красить себе губы в синий цвет, чего не делают женщины номадов. Их одежда, с немногими изменениями, везде одна и та же и очень проста. У мужчин она состоит из коротких, первоначально белых, довольно широких панталон, называемых “либбаас”, которые от пояса идут до колен, из “фердах” – хлопчатобумажного плаща, длиною часто до 16 футов и шириною до 4, серого цвета с красною или ярко-синею каймою, им заворачивают тело; из простых сандалий и из “такхие” – белой шапочки, плотно стягивающей голову, из сложенной вдвое хлопчатобумажной ткани, сшитой несколькими параллельными швами. На левом плече носят они, вместе с луком, короткий нож, “секин”, в крепком кожаном чехле и на сплетенном из ремней шнурке; часто также несколько кожаных свертков с талисманами, “хеджаб”. Ни того, ни другого они не снимают никогда; нож служит для обыкновенных употреблений и как оружие, а талисманы пользуются большим почетом, хотя состоят просто из бумажек, исписанных изречениями из Корана, которым приписывают врачебные свойства против разных болезней. Некоторые носят на длинновисящих ремнях кожаные бумажники, красиво обделанные и содержащие пять отделений; их прячут в панталонах. В них суданцы хранят небольшие свои деньги и нужные бумаги. Более для забавы, чем для надлежащего употребления, в руках у них магометанские четки, которых зерна они постоянно перебирают без всяких благочестивых помыслов.
От времени до времени они бреются дурною бритвою, которую предварительно оттачивают на сандалии. Лишь на макушке оставляют они густые, шерстистые локоны длиною в несколько дюймов.
Иногда встречаешь, как видение из старого, прошедшего времени, номада из стран Атбара или из внутренней Джезиры, который своим волосяным украшением существенно разнится от остальных суданцев. Он носит волосы длиною в шесть футов и зачесывает их через лоб кверху, обильно смазывает их маслом и втыкает в это курчавое сооружение две тщательно сглаженные и разукрашенные деревянные иглы, длиною в 9 дюймов, чтобы держать в покое неисчислимых обитателей его головы[9]. До 1850 года мужчины постоянно ходили с одним или двумя копьями длиною в восемь футов. Они никогда не покидали этого оружия, и оно служило им так же хорошо для нападения, как и для защиты. Латиф-паша запретил суданцам, кроме номадов, носить это оружие и этою, заслуживающею признательности мерою предосторожности, предотвратил много убийств. Но с исчезновением копья вид суданца значительно утратил свой самобытный характер.
Одежда женщин Судана так же проста, как и мужская. Девушки до замужества носят “раххад”, то есть пояс, состоящий из нескольких сот узких ремешков, украшенный кистями и, в обозначение девственности, раковинами. В день свадьбы они переменяют красивый, хорошо идущий им раххад на хлопчатобумажный пояс. Они тоже имеют талисманы, но носят их не на плече, как мужчины, но на длинных шнурках под поясом на голом теле. Суеверие заставляет их видеть в этих талисманах верное лекарство от многих болезней, и особенно от бесплодия. Они тоже носят фердах, как верхний покров для тела, но надевают его не так, как мужчины. Даже материя женских фердах иная, она похожа на наш газ и сквозь нее виден темный цвет тела красавиц. Фердах заворачивает тело до самых ног, обутых в сандалии; им окутывают и голову так, что только никогда не закрываемое лицо остается свободным. Нос украшен большими и толстыми медными или серебряными (прежде золотыми) кольцами, что, вместе с окрашенными синею краскою губами, придает лицу противный вид, и эстетическое чувство заставляет желать, чтобы оно было закрыто. Как повсюду, женщины суданские стараются выказать некоторую роскошь.
Вследствие этого их сандалии разукрашены гораздо драгоценнее, чем мужские. Между тем как мужчины довольствуются простыми кожаными подошвами, стоящими всего полтора гроша на наши деньги, женщины употребляют сандалии, состоящие из нескольких кусков и разукрашенные всякого рода завитками и вычурами, так что цена таких сандалий доходит до тридцати пиастров, или двух прусских талеров. Кудрявые их волосы причесываются совершенно особенным образом специальными искусницами.
Сперва сплетают с лишком сто косичек и так проклеивают их аравийскою камедью, что они отдельными прядями и тремя или более уступами торчат над головою. Когда эта трудная работа кончена, начинается смазывание художественного волосяного здания. Для этого берут смесь говяжьего жира и пахучих веществ, например симбил (Valeriana celtica), одогач (душистый и обильный смолою браунколь) и т.п. Это помада накладывается так густо, что она только мало-помалу, расплавляясь от солнечной теплоты, распространяется надлежащим образом. При этом жир каплет на плечи и на шею, и его тщательно втирают в кожу. Сперва запах этой помады сносен, но когда через несколько дней жир прогоркнет, он совершенно нестерпим.
Такой головной убор считается в Судане очень красивым и стоит больших денег, но его устраивают только раз в месяц. Тщеславие женщин прибегает к совершенно героическим мерам, чтобы поддерживать его столь долгое время и предохранять от разрушения. Как в прежнее время европейки проводили ночь в кресле, чтобы не испортить завитые для следующего дня локоны, так же и суданские женщины лишают себя сладости сна для достижения подобной же цели. Они кладут во время сна затылок на маленький стул, вышиною в 4 дюйма, шириною от 1/2 до 2 и вырезанный соответственно выпуклости головы; таким образом, они мученически проводят ночь на этом ужасном изголовье.
Оба пола от времени до времени смазывают себе тело жиром, как нубийцы и негры; для этого употребляется “тэлка” – мазь, совершенно подобная вышеописанной головной помаде. Они предохраняют этим кожу от трещин и сухости и поддерживают ее мягкость и лоск. Европейские врачи, долго жившие в Судане, уверяли меня, что если они бывают вынуждены прекратить свои натирания тэлкою, то у них скоро развиваются накожные болезни. Негры через эти втирания поддерживают блестящий черный цвет кожи, который мы у них видим в Европе; женщины темнокожих народов размягчают этим свою эпидерму до того, что она кажется очень нежною и бархатистою и не уступает коже европейских красавиц.
Прежде во всех знатных суданских домах было обыкновение посылать красивых невольниц смазывать тэлкою тело гостей перед сном. К сожалению, с тэлкою случается то же, что и с головною помадою: она горкнет и воняет тогда ужасно. Известно, что темнокожие народы имеют уже сами по себе неприятный запах; в зловонии же прогоркшего жира он приобретает себе спутника, решительно невыносимого для обонятельных нервов цивилизованного человека и становится до того силен, что по целым годам остается в платьях, носимых суданцами. Раххад тоже смазывают жиром, чтобы сделать его блестящим; я привез несколько экземпляров его в Германию, и они воняют еще и теперь».
Около 30 000 жителей города и 3000 солдат являли собой целый сонм племен и народностей: представители негроидной расы, эфиопы, суданцы, евреи, турки, европейцы… Последних Альфред называл отбросами своих народов. Разговорными языками европейцев были французский и итальянский. Каждый вечер они встречались и злоупотребляли спиртным, так что дискуссии превращались в конфликты и даже кровавые стычки. Главными причинами являлись личные разногласия, имелись и разные политические взгляды. Особенно ожесточенные споры происходили среди французских роялистов и республиканцев, угрожавшие зачастую перерасти даже в поножовщину.
Одним из представителей таких бездельников был тосканский купец Никола Уливи, злобный вымогатель и ростовщик, с которым имел несчастье познакомиться Брем. Он оставил о нем несколько нелицеприятных записей в своих дневниках.
Из дневника:
Охота на рабов
«Еще недалеко то время, когда необразованный сын дикой природы смотрел на белого как на существо неуязвимое, священное, подобное божеству или дьяволу. В 1851 году итальянец Никола Уливи, тот купец, проживавший в Хартуме и известный всему восточному Судану как мошенник, обманщик, вор и убийца, начальствовал над торговым флотом, ежегодно посылавшимся из Хартума к Белой реке, чтобы производить там меновую торговлю с туземными неграми племен динка, шиллук, нуэр и др. Алчность итальянца не удовлетворялась получаемым таким способом громадным барышом. Однажды во время торговых сделок в стране Кик один из нескольких тысяч негров, собравшихся около суден, поспорил с матросом, который, как ему показалось, надул его, – что и было на самом деле. Люди на берегу начали было роптать на вопиющую несправедливость белых. Тогда Никола, устрашившись опасности, которая могла грозить его торговле, и желая показать бедным черным свою силу, приказал пятидесяти солдатам из негров, сопровождавшим торговую экспедицию, стрелять по собравшемуся на берегу народу. Более двадцати негров упало после первого залпа.
Трепеща как перед неотразимым судом всемогущих богов, невежественные дети природы бросились перед этим преступником на колени; с криками невыразимого ужаса попадали они ниц; с плачем и рыданиями осматривали они тела убитых, из ран которых струилась горячая кровь. Как дети, не способные постичь неисповедимые судьбы Божии, ощупывали они эти раны, из которых не торчало ни стрел, ни копий. Свинцовые смертоносные пули из оружия белых невидимо совершили свой жестокий путь. В то время огнестрельное оружие не было еще известно черным. Они знали преступника, но не знали, что за оружие было в его руках. Вот их братья лежат убитые, точно лесные звери. Они видят ужасное событие, но не видят причины его, и с воплем убегают от страшного места. А Никола Уливи впоследствии похвалялся этим делом. За убитых отомстила только лихорадка.
Мне, быть может, возразят, что жестокость Уливи была печальною необходимостью, самосохранением. В том-то и дело, что нет. Несколько тысяч собравшихся негров непременно уничтожили бы кучку своих врагов, если бы только они были уверены, что могут победить их своим оружием. Это мы можем видеть из тех охот на рабов, которые производятся в новейшее время».
Совсем иначе звучат строки, записанные Бремом и характеризующие местных жителей: «Они в основном хорошие люди, гостеприимны и вежливы по отношению к чужеземцам, при их бедности… готовы отдать нуждающимся все, что у них есть…»
Ужасный климат тех мест оставил незабываемое воспоминание у молодого человека. Нестерпимый жар марта—апреля усугублялся сильными ветрами с юга. Природа оправлялась из этого плачевного состояния лишь к началу июня и возвращалась к жизни на период вплоть до средины сентября. Иссушенная земля жадно впитывала воду, на улицах образовывались глубокие лужи, которые затем бесследно исчезали. Реки выходили из берегов, а к началу августа возвращались в свое прежнее русло.
Как ни тяжко было переживать жару весной, в сухой сезон она была еще более непереносимой. Частые головные боли, тошнота и лихорадка доводили до изнеможения без того ослабленные организмы. Больница в это время была переполнена.
Во времена Брема военный врач на египетской службе француз Альфред Пеней превратил ее из разбитого вертепа в настоящий госпиталь. Брем был частым гостем в его доме. Пеней сопровождал, как врач, экспедиции Мухаммеда Али к истокам Нила и позже предпринял собственную поездку в Экваториальную провинцию.
Пребывание в Хартуме было использовано для охотничьих вылазок по окрестностям. В начале февраля Брем перенес тяжелый приступ малярии и был вынужден находиться дома. Барон Мюллер, который рассчитывал на быструю добычу, осыпал Альфреда упреками. Это привело к спору, который позже довел бывших друзей до разрыва. «Я был возмущен этой неблагодарностью и черствостью, ведь я действительно был еще слаб… Впервые я почувствовал на себе, как редко признаются должным образом усилия ученых…»
Поездка в Кордофан: лихорадка, падение с верблюда и другие несчастья
Раскаленная духовка пустыни вскоре сбавила градусы, и после двух месяцев задержки поездка в верховья Белого Нила и Кордофан была продолжена. Для проекта оказалось очень удобно, что находящийся на службе в Египте валлийский горный инженер Джон Петерик (1813—1892) преследовал аналогичные цели. С 1845 года он безуспешно пытался найти в Верхнем Египте и на Красном море угольные месторождения. Теперь он хотел попытать счастья в Кордофане. За это время он выучил арабский язык, что было немаловажным фактором для Брема и Мюллера.
Повседневных забот требовал небольшой зверинец Брема, который он устроил во дворе своего жилища. Два детеныша гиены, обезьяны, газели, пара гордых страусов уже чувствовали себя здесь как дома. «Боссом» в этом зверином сообществе по праву считался смешной марабу, важно расхаживающий со своим внушительным клювом по двору.
Сможет ли нубиец Фадт справиться с живностью во время его отсутствия?
При благоприятной погоде вечером 25 февраля путешествие возобновилось. Свежий северный ветер нес дахабие по Белому Нилу мимо берегов, заросших мимозовыми лесами, населенными тысячами птиц. Хотя на берегу не было видно больших поселков, крупные стала овец, коров и верблюдов паслись на тучных лугах у реки, а сами поселки, должно быть, были скрыты среди растительности. Это делалось туземцами из соображений безопасности, чтобы не привлекать внимания грабителей и работорговцев.
Уже и так, казалось, широкая река расширялась все больше и больше. Леса приобретали тропический характер и сулили новые приключения…
Через несколько дней Брем опять перенес тяжелый приступ малярии. Для того чтобы не останавливать продвижение вперед, недалеко от деревни Торах решили пересесть на верблюдов. Альфред, стиснув зубы, забрался в седло, хотя едва мог держаться в вертикальном положении. Каждый шаг животного вызывал неимоверные мучения. После трех часов, проведенных в седле, придя в деревню, он сполз с верблюда и упал без сознания. Барон Мюллер чувствовал себя не намного лучше, так как тоже страдал от приступов малярии. Столь малоутешительно оказалось начало кампании, из которой они надеялись привезти богатую коллекцию пернатых.
Наконец, немного подлечившись и отдохнув, путники смогли ехать дальше с небольшим караваном. Монотонный пейзаж навевал тоску. К тому же здесь Брем увидел настоящий большой пожар. Жители подожгли траву, чтобы подготовить место для новых пастбищ, а огонь быстро распространился на огромную площадь. Весь горизонт был затянут дымом, невыносимо пахло гарью.
Подлинным счастьем показался короткий привал и обед в тени мимозы, а редкие ужины состояли лишь из кофе и печенья.
По пути встречались поразительно красивые женщины и девушки из деревень Кордофана. Но поскольку они выполняли тяжелую работу, которую полагалось делать мужчинам, то красота их увядала слишком быстро…
Из дневника:
Любовь туземок к украшениям и танцам
«Одежда маджанинов также не отличается от одежды гассание. Маленькие девочки носят, как и в Судане, рахад и отлично понимают, что он к ним очень идет. Между взрослыми девушками, то есть достигшими двенадцати– или тринадцатилетнего возраста, встречаются фигуры идеальной красоты; нередко и черты лица их так же привлекательны. Они украшают себе голову и шею кусочками янтаря, цветными камнями, например сердоликом, стекляшками и т.п.; бедные украшаются кольцами из желтой меди, рога, слоновой кости и даже железа; у богатых встречаются даже серебряные пряжки. Женщины все без исключения очень кокетливы, чрезвычайно заботятся о своем украшении и почитают великим стыдом, когда волосы у них не напитаны салом или жиром. Они быстро стареют и тогда становятся настолько же уродливы, насколько в молодости были красивы. На них лежат почти все тяжелые работы; мужчины работают мало: занятия их ограничиваются добыванием дерева, еще они таскают воду, пасут стада; а остальное время проводят в полном отдыхе в своих токулях – домах.
Маджанины любят петь и танцевать. Г. Петерик, который был далеко не прочь полюбоваться на красивых, стройных танцовщиц, поощрял их щедрыми подарками, и на эту приманку ежедневно собирал всех девушек селения на “фантазию” перед своим токулем. Пляска их не похожа на танцы рауазий и феллахских женщин в Египте. Они становятся в широкий полукруг, поют и хлопают в ладоши; одна из девушек выступает вперед и начинает плясать. Мерными шагами под такт пения и перегнув назад верхнюю часть тела, подходит она к избранному кавалеру, постепенно и с изысканным кокетством раскрывает перед ним свою грудь, в начале танца прикрытую фэрдою, потом наклоняется вперед и с размаха задевает его по лицу своими распущенными волосами, которые пропитаны жиром. После этого она с томными глазами медлительно отступает назад, а другая девушка начинает ту же самую проделку, потом третья, четвертая и так далее, пока не перетанцуют поочередно все…»
Все еще не выздоровев, в дополнение к старым болячкам, Брем еще ухитрился пополнить чашу своих страданий, упав с верблюда прямо в куст колючей мимозы. Поцарапанный, весь в ссадинах, почти полуживой, он еле передвигался верхом от деревни к деревне. Местные жители принимали его тепло и делали все от них зависящее, чтобы облегчить юноше страдания и чтобы он мог продолжить свой путь.
6 апреля они достигли города Эль-Обейд с населением около 20 000 человек, столицы Кордофана. (Сегодня численность его жителей составляет около 350 000 человек.) При нестерпимой жаре, которая царила здесь почти постоянно, жизнь в городе начиналась с заходом солнца. Поскольку местная промышленность могла обеспечить лишь несущественные собственные запросы, торговля велась в весьма широких масштабах. На базаре продавались в основном продукты питания, изделия из хлопка, стеклянные бусы и табак. Основные же сделки проходили за закрытыми дверями в прохладных домах купцов. Здесь обсуждались цены на рабов, гуммиарабик, слоновую кость и золото. Тяжелую работу в доме и поле выполняли только рабы, которые жестоко наказывались за малейшую провинность.
Глава местной администрации предоставил Брему и Мюллеру дом путешественника Джорджа Тибо с некоторыми удобствами, пока тот был в отъезде. Путники смогли смыть с себя пыль и перевести дух перед новой дорогой, поскольку следующим пунктом назначения был район Такале, ранее не исследованный европейцами.
Скорее всего, дома, в Германии, бурно обсуждались дальнейшие планы экспедиции, потому как в письме, отправленном 12 февраля 1848 года сыну, старший Брем отчаянно пытался удержать его от нового проекта: «С неописуемыми чувствами мы получили сообщение, что вы решили путешествовать из Абиссинии через всю Африку до Золотого Берега, я уважаю рвение господина барона и твое мужество, но эта новость опустошила наши сердца, лишив их радости».
В действительности барон Мюллер недооценил всех сложностей задуманного предприятия. Начать с того, что сам наем верблюдов представлял трудности. Дождливый сезон стремительно приближался, а бюджет экспедиции таял прямо на глазах. Даже самые удачные планы не могли улучшить материальное положение путешественников. Надо было помнить и об обратном пути в Хартум.
Однажды в непроницаемом тумане они сбились с пути и заблудились в пустыне. С помощью местного следопыта наконец-то вышли на нужную тропу. Но этот инцидент чуть не закончился печально. Друг проводника рассказал жителям близлежащей деревни о происшедшем. Туземцы приняли чужаков-европейцев за работорговцев. В одно мгновение те были окружены галдящими аборигенами. Любая попытка сопротивления граничила с самоубийством. Только чудом Брем и барон удержались от искушения применить пистолеты. К счастью, какой-то арабский торговец, проезжавший мимо, смог наконец прояснить ситуацию и успокоить возмущенных африканцев.
Тем временем южный ветер принес жару. Воздух наполнился пылью. Нагретые тела покрылись обильным потом. Двигаться вперед днем стало просто невыносимо. 6 июня Брем вернулся из Тендара с Петериком, который искал здесь полезные ископаемые. Благодаря его препаратам удалось снять у юноши приступы дизентерии.
Дневная жара вынуждала двигаться по ночам. Перед началом короткого сезона дождей такие ночные рейды стали удачным способом преодолевать большие расстояния в относительно комфортных условиях. При свете звезд и зарниц ближних гроз двигались быстро, в относительной прохладе. Местные жители чрезвычайно неохотно сдавали в наем вьючных животных, даже если за них предлагали двойную цену. Слишком сильна в них была ненависть к белым, которые лишили их земли и теперь отнимали свободу, – даже сильнее, чем желание получить прямую выгоду!
День 23 июня 1848 года стал для юного Брема самым тяжким за все время странствий. Сломленный лихорадкой, он больше не мог сидеть в седле. Попросив воды, он устроился в тени мимозы и отдал себя на волю провидения. Но барон заставил его продолжить путь.
Из дневника:
Страдания под тропическим солнцем
«У меня опять сделалась лихорадка, и я, сидя на верблюде, страдал больше чем когда-либо. В полдень зной сделался страшным. При этом лихорадочное состояние так усилилось, что я у каждого дерева слезал с верблюда, чтобы защититься от палящих лучей солнца и хоть на минуту ощутить прохладу. Усердно молил я барона и служителей дать мне лишь несколько капель воды, потому что мне ничего более не нужно, и оставить меня тут на дороге; я готов хоть умереть, лишь бы не подвергаться пытке карабкаться в седло. Никогда я не чувствовал себя таким несчастным. Когда барон или честный старый Гитерендо снова принуждали меня к езде, я считал их своими лютыми врагами, а между тем они выбивались из сил, чтобы как-нибудь облегчить мои страдания. Описать их мне кажется невозможно. В Европе самый жалкий бедняк в подобных обстоятельствах найдет себе прохладный приют – какое-нибудь место, где может полежать спокойно. А я, палимый снаружи африканским тропическим солнцем, чувствовал, как разгоряченная лихорадкою кровь распирает мне жилы, едва сохраняя сознание висел на спине верблюда, да еще должен был изловчаться, чтобы не упасть с высокого седла; мое тело сотрясалось от озноба, который колотил меня наперекор жгучему зною.
Никакими словами нельзя описать мучений лихорадочного пароксизма, когда едешь на верблюде, в полуденную пору, через пустыню внутренней Африки, облитую отвесными лучами неумолимого солнца».
На следующий день стали наконец видны воды «Белой реки». Страна с адским климатом оказалась позади. Все страдания вскоре были забыты. После долгих лишений можно было насладиться свежей водой и пересесть на лодку. Ожесточенные порывы ветра быстро гнали небольшую барку вниз по течению.
Хартум встретил их проливным дождем. После четырехмесячного путешествия они вернулись на базу с огромной коллекцией. Беспокойства Брема о зверинце оказались напрасными: все его друзья были в хорошем состоянии. Большой двор нового дома, где они расположились по возвращении, давал Брему больше возможностей для временного устройства дорожного зоопарка.
Сезон дождей начался в том году сравнительно поздно, и это помогло группе совершить ряд удачных охотничьих вылазок. С середины июля случались некоторые кратковременные грозы, но только в начале августа начались одна за другой бури, активно мешавшие их путешествиям.
3 августа Альфред отправил родителям подробный отчет о поездке, в котором очень подробно писал отцу об африканском мире пернатых. Впервые Брем позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес барона, с которым он уже с февраля имел несколько тяжелых стычек. «Коллекции оказались целиком на мне, а барон ездит, куда ему вздумается, навесив все дела на меня».
В общем, поездка в Кордофан была не самым приятным воспоминанием Брема.
Из дневника:
Наихудшая из стран
«Кордофан во всех отношениях наихудшая страна из тех, что я знаю, вода здесь имеется только в сезон дождей, а так путник вынужден ограничиваться скромными запасами из бурдюков, часто грязных, и вода эта часто малопригодна для питья. Леса состоят из небольших низкорослых кустов мимозы с устрашающими шипам и, как правило, без листвы, что делает их весьма неприглядными. Земля покрыта колючками и травой, растущей буквально на глазах, – под названием асканит, с мелкими страшными шипами, которые через одежду проникают в кожу, заставляя ее гноиться… Селения арабов все в бедственном положении находятся вдали от оживленных дорог, в 2, 5 и даже 12 часах езды друг от друга».
В письме Брем сообщал родителям, что он не собирается пока возвращаться домой.
Из дневника:
Быть натуралистом – моя судьба
«Мы получили тут известия о беспорядках во Франции, Германии, Италии. Буду осваивать здесь ремесло натуралиста. Это моя судьба, и я не стану ни кем иным, как естествоиспытателем. Я не хочу домой. Так же как невозможно вывести из дуба ель, так и у рентердорфского пастора может быть только сын-натуралист».
Свои соображения он изложил Мюллеру, которого просил оставить его здесь для сбора коллекций и изучения животных.
В начале июня ситуация прояснилась. Стало понятно, почему так долго не приходили деньги для продолжения экспедиции. Дедушка Мюллера, спонсировавший поездку, неожиданно умер, и барон для урегулирования вопросов наследства срочно возвратился домой.
Возвращение в Каир
Когда прибыла остальная часть денег, путешественники стали готовиться к обратной дороге. Генерал-губернатор щедро приказал выдать в полное их распоряжение две небольшие гибкие лодки, которые обычно перевозят лес на север. На них было достаточно свободного места, что также явилось немаловажным фактором при транспортировке животных. Наутро 29 августа подняли парус и 3 сентября были уже в устье Атбары, последнего притока Нила.
В Бербере команда приготовила судно для последнего опасного участка у порогов. Вскоре пустыня уже тянулась бахромой по берегам реки. Брем обязательно хотел увидеть те грандиозные памятники древней культуры, которые на пути в ту сторону он не смог посмотреть. Комплекс пирамид Мероэ давал прекрасную возможность приобщиться к древностям. Построенные из песчаника памятники сильно разрушились[10].
Поселок Абу-Хамед, ворота в Нубийскую пустыню, знаменовал собой начало опасного участка водного пути. Команда умело и решительно преодолела все коварные места.
Храмовые комплексы Напаты, расположенные у подножия священной горы Баркал, оказались полностью разрушенными[11].
Царские гробницы в целом были похожи на пирамиды области Мероэ, хотя они гораздо меньше, чем пирамиды в Гизе. Например, если длина стороны Великой пирамиды 233 метра, то расположенные на небольшой территории «пирамидки» Мероэ и Напаты имеют длину стороны 10, а высоту всего 20 метров.
После монотонных пустынных берегов нубийское побережье Нила порадовало хоть некоторым разнообразием: появились финиковые пальмы и зеленые поля. Около Эд-Деббы путешественники достигли точки, где в прошлый раз сошли с лодки и двинулись пешком.
В Дондоле путешественники позволили себе несколько выходных, которые были использованы для орнитологической охоты, принесшей большую добычу.
Между тем близился главный рискованный порог в Вади-Хальфе. Европейцам неоднократно говорили об опасностях, которые грозят при преодолении этого участка реки. Однако Брем и Мюллер были непреклонны в своем решении плыть этим путем. Но надо было позаботиться хотя бы о бесценных коллекциях – они ни в коем случае не должны были пропасть. Под присмотром слуги Али Арха коллекции были выгружены на берег. Нубийским же спутникам была предоставлена свобода выбора – и никто из них не решился плыть через пороги. Капитан, старый и опытный речной волк, в последний раз попытался уговорить молодых людей сойти на берег, однако те не внимали никаким мудрым советам.
И вот настал долгожданный, но страшный день 5 октября. Кораблик дрейфовал в направлении скального лабиринта.
Из дневника:
Сквозь скальный лабиринт
«5 октября. На закате солнца палуба маленького корабля оживилась. Пришли важные рейсы, люди опытные и бывалые, бодрые и крепкие матросы – и все предлагали нам свою помощь. Лоцман выбрал из них лучших и наиболее крепких. По нашему желанию, пришел наконец и беллаль, наш прежний старый реис, пришедший помочь молодым людям своими советами. У каждого весла стало по два гребца, а на руле трое лоцманов. На берегу поставили матроса с громадным деревянным молотком, который должен был развязать канат, державший нашу лодку. Он уж был готов.
– Мужи и сыны Нубии, читайте фатха, – скомандовал беллаль. И все присутствовавшие хором громким голосом стали произносить первые строки вечной книги – Корана.
– Помилуй нас, Господи, от беса, окамененного Тобою!
– Во имя Всемилостивейшего!
– Слава и хвала Создателю, Всеблагому, Царствующему в день судный! Тебе послужим, Тебе помолимся, да направишь нас на истинный путь, на путь тех, к которым Ты милостив, а не на тот путь, по которому ходят заблудшие, возбудившие праведный гнев Твой! Аминь!
Тогда Беллаль сказал: “Эшхету ину ла иль лаха иль Аллах!” и все отвечали ему: “Ву нешхэту ину Мухаммед рассуль Аллах!” И по данному знаку все весла опустились в воду.
Таково было краткое общепонятное богослужение перед началом опасного плавания. Оно являлось вполне достойным здешнего народа. И слова и деяния религии вовсе не пустые формулы для магометанина; для него это глубоко прочувствованные истины. Пока мы все молились, чтобы Бог отвел нас от пути заблуждающихся, они молились в то же время, чтобы Аллах показал им сегодня истинный путь. Молитва этих иноверцев и на нас произвела глубочайшее впечатление: не страх опасности смирил нас, а благоговение к религиозности этого полудикого народа, который не начинает ни одного дела, ни за что не берется, не сказав перед тем: “Во имя Бога Всемилостивейшего!” – именно так, как сотни лет перед тем повелел им Пророк. Религия действительно руководит и управляет всеми действиями благочестивого магометанина, влияет на всю его жизнь.
Невозмутимая река медленно несла нашу барку вниз по течению. Продолжая молиться, нубийцы гребли по направлению к лабиринту утесов, расстилавшемуся перед нами, и вскоре достигли первого порога. С ужасною силой рвались волны через подводные камни, едва скрытые под поверхностью воды; барка трещала и стонала по всем швам; весла бездействовали, и судно, не повинуясь рулю, беспорядочно вертелось в бушующей пене. Волны, перебросившись через борт, окатили нас, и мы каждое мгновение ожидали, что барка развалится. Гул водопада был оглушителен; в этом хаосе звуков невозможно было расслышать никакой команды. Береговые утесы теснились все более и, казалось, хотели совершенно заградить нам путь. Тоскливо вперяли мы глаза в узкое ущелье, видневшееся между высокими черными массами блестящего сиенита.
В этом узком отверстии кружились и бушевали исполинские волны. С некоторым замиранием сердца приближались мы к нему. Внезапно все пали ниц, так как корабль с треском ударился о подводные скалы. Однако последствием этого случая, отнявшего у нас всякую надежду, был лишь небольшой пролом и легкая течь. Притом же повсюду кругом рассеяны скалы, на которые по нужде можно выплыть и спастись, стало быть, чего же бояться?
Мы собрались с духом и приготовились как можно спокойнее вступить в опасное ущелье, в котором должны были очутиться через секунду. Мы стояли по крайней мере двенадцатью футами выше уровня реки по ту сторону водопада. Но это продолжалось одно только мгновение, потому что сила течения уже захватила нас. С обеих сторон нависли над нами отвесные скалы в расстоянии каких-нибудь восьми футов от барки, и все весла убрали. Но если барка разобьется об эти утесы, какая возможность взлезть на них? Конечно, никто не залезет, и мы тут погибнем. Но вооружимся мужеством! Вперед! Эти страшные волны не погубят, а спасут нас: они захватывают, подбрасывают корабль и стремительно несут его дальше. Как стрела из лука, летит наша барка через ущелье между скалистыми стенами. Как вдруг, о Аллах! прямо перед нами на том конце водопада возвышается громадный утес: упрямая вершина его возникла из бушующей бездны и, вместо того, чтобы сломиться под напором кипящих волн, служит только к тому, чтобы усилить их бушеванье. Высоко взбивается пена; белый прибой охватывает вершину утеса, словно седые кудри рассыпаются вокруг этой исполинской головы – и прямо на нее летит наша барка! “Во имя Божие, гребите, гребите, молодцы мои, вы смелые, вы сильные мужи, гребите, гребите!” – кричит и стонет рейс.
Впереди летит, раскачиваясь и ныряя, наша вторая барка, проворно забирает она влево, юркнула вниз – раздается радостный крик ее матросов – она вне опасности. “За нею, за братьями вашими, молодцы мои, бравые молодцы”, – умоляет, командует, льстит старый рейс. Но это оказывается невозможным: мы летим вниз, также не задев за утес, но с другой стороны. За нами идет дахабие, принадлежащая правительству. Она слишком длинна, чтобы с достаточною быстротой повиноваться движениям руля; хотя и забирает влево, но волны сильнее ее – раздается ужаснейший треск – дахабие налетела на утес! Великан-таки добился своей жертвы и грозно держит ее на своей голове. Тщетно силится кучка матросов сняться с утеса; он крепко держит их. Рейс в отчаянии поднимает руки к небу, кричит, зовет нас на помощь, умоляет – мы не можем разобрать ни слова из того, что он говорит; да и какую помощь мы можем оказать ему, раз сами пока принадлежим реке. Однако дахабие еще может спастись как-нибудь, потому что она принадлежит правительству. Вот уж один отважный, искусный пловец бросился в разъяренные волны: плывя от одного утеса к другому, он доберется до берега и принесет недобрую весть своим товарищам матросам, собравшимся в Абкэ. Так или иначе, наверное пустят-таки дахабие по течению, хотя это будет стоить неимоверных трудов. Между тем оставшиеся на ней матросы занялись, кажется, починкою проломов.
А где же мы? Чего еще высматривают наши рейсы, с таким беспокойством оглядывая окрестные скалы? И точно, нам кажется, что отсюда нет выхода. Мы заблудились, попали в настоящий лабиринт! Тоскливое опасение овладевает всею прислугою. Ни матросы, ни лоцманы не могут понять, куда мы попали. Некоторые матросы уже скидают остальную одежду, чтобы пуститься вплавь до берега: о спасении барки никто больше и не думает. У весел нет гребцов, у руля нет лоцмана. Барка все еще стремится вперед между скалами, но со всех сторон вода отступает, наш фарватер становится все мельче. В этот страшный час раздается голос семидесятилетнего беллаля, этого “Абу-Реизина”, отца лоцманов; голос его пересиливает вопли матросов и грохот водопада: “За весла, герои! Не с ума ли вы сошли, дети неверных? Работайте! Работайте! Собаки! Мальчишки! Молодцы мои, бравые удальцы! Машаллах! Аллах керим! Иа Аллах амаль!” – а сам хватается за руль. Тут влево открывается широкий рукав реки, туда беллаль направляет барку, искусно попадает в течение и твердою рукой выводит нас в настоящий фарватер. Опасность миновала, и мы ружейными выстрелами приветствуем показавшееся на горизонте, осененное пальмами селение Вади-Хальфа. Арабы падают ниц, и как перед началом плаванья, восклицают: “Слава и восхваление Тебе, Создателю мира!” Полчаса спустя мы приплыли в Вади-Хальфа. Как лестно для нас сознание, что мы счастливо избегли такой ужасной опасности! Однако в другой раз я бы уж не согласился переплывать водопад у Вади-Хальфа, изведав однажды все его ужасы».
Около получаса длился этот неистовый танец по порогам, пока наконец приключения не окончились. Второй раз, как признался сам Брем, в такую авантюру он не пустился бы.
Стоянка в Асуане была недолгой. На следующий день появился Эдфу, а уже 15 октября – Исна. Тысячи водоплавающих птиц населяли здесь затопленные поля и представляли прекрасный материал для орнитологов. Вот уже Луксор, Асьют и Кенне позади. 28 октября над морем пальм поднялись верхушки Великих пирамид… Город халифов был рядом.
Верхом на ослах подъехали к воротам древней столицы, жизнь которой сразу же захватила спутников в свой водоворот. Прежде всего им был необходим отдых и покой, которыми они смогли насладиться в комфортабельном доме. У австрийского консула Чемпиона скопилась для них кипа почты, а вот денежного перевода все еще не было. Мюллер был склонен сразу же ехать дальше, однако большой груз с животными требовал особой заботы.
Вынужденный простой использовали для ознакомительной поездки на озеро Манзала, в ней принял участие примкнувший к ним барон фон Вреде, обследовавший с 1843 года пустыни юго-востока.
В середине февраля барон Мюллер вступил на борт корабля, увозившего его в Европу. Брему, который оставался в Африке, трудно было расставаться со старым спутником, хотя они и не стали друзьями.
Из дневника:
Прощание со спутником
«Я ехал с ним сюда из Германии и проехал всю Северную Африку до страны негров, целых два года делил радости и невзгоды, мы много пережили вместе, спали под одним одеялом в одной палатке, пили из одного котелка и черпали воду из одного источника. Даже если он и был иногда несправедлив ко мне, мы все равно как братья, и вот наши пути разошлись: он едет домой, а я возвращаюсь на дальний юг. И я прижимаю его к своему сердцу и говорю: “Прощай”».
Вторая экспедиция в Судан
После отъезда Мюллера Брем вернулся к озеру Манзала. В этом птичьем раю он намеревался заложить основу для будущей орнитологической коллекции. Страницы его дневника заполнялись наблюдениями и описаниями жизни различных животных. Весной он снова вернулся в Каир.
Из дневника:
Воспоминание о любимом городе
«Привет тебе, мой Каир! Еще раз приветствую тебя из далеких холодных стран. И пусть привет мой, долетев до тебя, согревается под твоим теплым небом! Приветствую тебя, великолепный город, осененный пальмами, облегаемый пустынею, наполненный садами! Приветствую твои мечети с их стройными минаретами, твою цитадель с ее грозными батареями, твои узкие, извилистые, прохладные улицы; приветствую твои сарацинские дома, благоуханные эсбёкиэ, твои аллеи шумящих платанов, отягченные плодами смоковницы; твои укромные роскошные сады с их душистыми апельсиновыми рощами, пахучими цветами, финиковыми пальмами и журчащими по канавкам ключами; приветствую твои издревле славные пирамиды, твои пустыни с их величавыми кладбищами; приветствую горы, у подошвы которых ты раскинулся, приветствую твои предместья, твой Булак с его многолюдною пристанью и оживленный садами, Нил с его прелестным островом, приветствую каждое местечко в тебе, тебя и народ твой!
Эль салам алейкум (мир с вами)!
Да, кто, подобно мне, подробно познал Каир, тот, без сомнения, часто стремится туда, в несравненный город. Хотя иногда устаешь от шума и толкотни улиц Каира, но утомление это продолжается недолго, и, отдохнув, опять и опять хочется броситься в несравненную суматоху этой столицы. Конечно, всякий, кто захочет обжиться в Каире, должен наперед отказаться от некоторых старых привычек и усвоить себе совершенно новые; он должен приучиться обходиться без многих удобств, какие представляет ему каждый большой город в Европе; но тот, кому случится сделаться гражданином Египта и у кого достанет решимости и любви на то, чтобы стряхнуть с себя немецкое, да и вообще европейское, филистерство, тому Каир с каждым годом, с каждым днем будет дороже. Шутка ли, в самом деле изо дня в день ощущать вместо наших холодных туманов этот теплый египетский климат, с которым не сравнится лучший день наших широт; шутка ли, вместо наших дубов, так скоро теряющих листья, гулять в вечноцветущих апельсиновых рощах. Да, вечная весна не то, что наше короткое лето и наша длинная, длинная зима».
В Каире Брем наконец получил письмо от своего «шефа» Мюллера. В нем он обнаружил доклад «Об основных славных моментах достопамятного путешествия во время академической научной экспедиции в Центральную Африку в 1845—1849 гг.», который был прочитан им 11 апреля на заседании Императорской Академии наук в Вене. В нем он не только хвастливо заявил, что «завершил исследование истоков Белого Нила», но и уведомил уважаемых слушателей, что готовит пешеходный переход через Африку к побережью Атлантического океана! Вот так – просто наполеоновские планы!
Брему предписывалось идти в Александрию, готовиться к поездке и ждать Мюллера. В ожидании дальнейших указаний Альфред предпринял вместе с секретарем австрийского консульства Константином Рейтцем несколько охотничьих вылазок в окрестностях города. Хвастливый доклад «хозяина» показал Брему, что тот без зазрения совести воспользовался всеми достижениями своего помощника. Поэтому Брем поспешил написать отцу пространное письмо, в котором он отослал ему все описания открытых и изученных им видов животных и рисунки к ним и приписал 14 мая 1849 года: «Если барон “забудет” указать где-либо, что именно я открыл тот или иной вид, скажите ему, кто подлинный автор открытия, и дайте мне знать об этом…»
В то время Мюллер как раз гостил у старшего Брема в Рентендорфе. Желая пообщаться со стариком, в Тюрингию приехали также орнитологи Иоганн Науман и Эдуард Бальдамус. Последний вспоминал об этой встрече: «Барон Мюллер привез в Рентендорф, где находились Науман и его референт, часть добычи его второй африканской экспедиции. Я никогда не забуду эти восемь дней, проведенные в гостеприимном доме пастора, занятые распаковкой, сортировкой, сравнением и определением редчайших, хорошо сохраненных тушек».
Во время своего пребывания в Рентендорфе Мюллеру удалось привлечь к третьей экспедиции старшего брата Альфреда Оскара, который был на шесть лет старше Альфреда. Тот изучал фармацевтику в Йене и проходил практику в Рудных горах и Лимбахе. Кроме того, он давно собирал бабочек и жуков, а также гербарии и минералы. Оскара не нужно было долго упрашивать принять участие в новом проекте: идея пополнить свои коллекции чудесными экзотическими образцами привела его в восторг.
Науману удалось убедить поехать в Африку и молодого врача Рихарда Фирхалера (1820—1852). Орнитологический герцогский музей выделил некоторый аванс на поездку и заготовку шкурок.
Между тем финансовые дела барона обстояли в то время не блестяще. Его отец протратил большую часть наследства, да так, что над ним было установлено опекунство. Теперь Мюллер взял все заботы на себя, надеясь на помощь «деловых кругов Нижней Австрии, заинтересованных в колониальных проектах и новых землях».
Эти идеи распространялись через некоего А. Унгера в 1850 году под названием «Центральная Африка – новый важный пункт в планах немецких колонистов». Очевидно, программа не вызвала особого энтузиазма в купеческих кругах. Да и тот план, который Мюллер озвучил в апреле на заседании Императорской Академии наук в Вене, оказался слишком авантюрным и не был воспринят всерьез.
По просьбе Мюллера Брем подготовил смету расходов, которые составили 5600 прусских талеров плюс стоимость необходимого оборудования. Между тем он продолжал свои исследования в Александрии и приобретал там новых друзей. Блестящий зоолог Эдуард Рюппель (1794—1884) постарался передать ему ценный опыт своего шестилетнего путешествия по Египту и Нубии в 1822—1828 годах, которое он затем, в 1831—1833 м, продолжил в лесах и горах Эфиопии. С Вреде он совершил несколько полезных с точки зрения приобретения новых экспонатов поездок в разные концы Египта.
Тем временем обещанные деньги не приходили. Наконец благодаря посредничеству австрийского консула вице-король Египта выписал долгожданный фирман (разрешение) для готовящейся экспедиции Мюллера. В нем говорилось: «Где бы он ни ехал, никто не имеет права чинить ему препятствия. И когда приедет к Белой реке, сможет беспрепятственно путешествовать, где ему захочется. Все, что потребуется – транспорт, лодки, вьючных животных – предписывается предоставлять ему беспрекословно. Если он пожелает пересечь границу моего царства, разрешить ему это сделать немедленно. Если же захочет в научных целях изучать жизнь людей и животных, следует помогать ему в этом деле».
Таким образом, Мюллеру и его спутникам разрешалось ездить по стране везде, где им заблагорассудится. Однако самого главного – денег – по-прежнему не поступало…
Во время вынужденного ожидания Брем знакомился с жизнью египтян и изучал арабский язык. Его умение налаживать дружеские отношения с простыми людьми сослужило ему добрую службу в дальнейших странствиях.
Из дневника:
Спасибо учителю арабского
«Я чувствовал себя здесь как дома, арабский помогал мне в общении, и народ стал доступнее. Я стал понимать многие из их обычаев, потому что начал разбираться в мотивах их поведения в тех или иных ситуациях. Прежде всего, хочу сказать слова благодарности моему учителю арабского языка, благодаря которому я узнал арабов лучше, чем другие европейцы. Я бродил по городу и ездил по стране с моим учителем, мы заходили в кофейни, слушали там местных сказателей, участвовали в праздниках. Я оказался в самой гуще населения».
Так Брем завоевал доверие у арабов. Он принял имя Халиль-эффенди, которое и носил во время всей экспедиции по Африке. Приятным сюрпризом для него было то, что сводный брат Оскар примет участие в поездке и скоро прибудет в Александрию. 24 ноября 1849 года Брем уже встречал его и Рихарда Фирхалера. Из обещанных 90 тысяч пиастров они привезли едва ли треть суммы. Брем пишет Мюллеру полное отчаяния письмо, в котором снова просит денег на подготовку экспедиции. А пока ждет ответа, отправляется с друзьями в Эль-Фагун на озеро Мерис.
Непредвиденные обстоятельства
Понятно, что при отсутствии средств у участников экспедиции поубавилось энтузиазма. Вреде, ранее с жаром говоривший о своем научном вкладе в предприятие, предпочел покинуть экспедицию, показавшуюся ему не очень перспективной. В начале февраля последовал циничный ответ Мюллера: «У меня нет сейчас возможности предоставить вам остальную сумму, но и без этих денег у вас хватит воли и сил отправиться в путь. Вперед, в Судан! А тот, кто не поедет, пусть возвращается».
Наконец он прислал еще 500 талеров и уверил Брема, что остальные деньги тот получит до 1 июля в Хартуме. Казалось, положение стало понемногу улучшаться. Компаньоны приободрились. Альфред же, несший основное бремя ответственности за судьбу экспедиции и людей, терзался сомнениями: «Я начинаю эту экспедицию, снедаемый многочисленными проблемами. Прежде всего, я являюсь их проводником, поскольку у меня имеется опыт предыдущих странствий, и я должен до минимума сократить возможные непредвиденные обстоятельства, которые неминуемы в пути».
Не имея опыта географических исследований, Брем не мог предвидеть всей утопичности и безрассудности самой идеи пересечения Африки с такими ограниченными ресурсами и возможностями. Неизведанные страны манили, юношеская романтичность подменяла трезвый рассудок, «нашептывала»: возложи свою жизнь на алтарь науки! Еще более, чем он, восторженно были настроены его спутники, не знакомые с реалиями Черного континента.
Они тронулись в путь 25 февраля 1850 года. Начало путешествия было для Альфреда, шедшего этим маршрутом уже в третий раз, довольно скучным. Ничего примечательного не происходило, помимо увлекательных вылазок за добычей. Он с увлечением рассказывал спутникам о тех местах, которые они проплывали, а те восхищались знаниями своего юного гида.
Брем старался набраться как можно больше впечатлений, которые ускользнули от его внимания в первые две поездки. К таковым относился провинциальный городок Кина – место, где Нил ближе всего подходит к Красному морю. Кина была отправной точкой маршрута, который в основном использовался паломниками, идущими в Мекку. Шесть минаретов устремили здесь свои шпили в синее небо, а многочисленные кофейни, таверны и ночлежки, где женщины легкого поведения имели неплохой заработок, являлись красноречивым свидетельством того, что благочестивые люди были не чужды и вполне земных удовольствий.
В непосредственной близости лежала Дендера, один из старейших и самых известных египетских городов. Находившийся здесь храм любви был одним из самых «юных» творений египетского искусства – он был построен по инициативе Клеопатры в 100 году до нашей эры и хорошо сохранился. Каждая из 24 покрытых иероглификой колонн портика имела диаметр более двух и высоту около десяти метров.
Из дневника:
Храм Дендера
«В получасе расстояния вверх по реке и столько же вовнутрь страны, на правом берегу Нила находится храм Дендера. Он содержится лучше всех и по новейшим исследованиям считается древнейшим египетским памятником. Этот хорошо сохранившийся храм построен еще за 100 лет до P. X. Клеопатрой и ее сыном от Цезаря. Храм был посвящен богине Хатор – египетской Венере. Портик поддерживается четырьмя рядами колонн, которые, соединившись в каждом ряду по три, образуют широкое пространство для входа. Соединенные с севера низкой стеной, эти двадцать четыре колонны сплошь исписаны иероглифами. Каждая колонна 7 футов толщины и 32 фута вышины. На крыше передней залы находился зодиак, перевезенный впоследствии в Париж.
В храме десять комнат. Из них самые великолепные те, которых колонны украшены пальмовыми капителями. Здесь, как и во всех египетских храмах, залы следуют одна за другой и делаются все меньше и меньше, пока наконец приходишь в самое маленькое помещение. Оно, вероятно, считалось святейшим местом храма. Если смотреть на храм снаружи, то с боков и сзади увидишь только его гладкие стены с львиными головами. Вероятно, эти львиные головы служили вместо водосточных труб для скоплявшейся на плоских крышах воды. Но вспомнив, что в верхнем Бинте почти никогда не падает дождя, бросаешь это предположение, не объяснив себе этим назначение водосточных труб.
За святилищем Венеры стоит меньший храм, посвященный Исиде; теперь он совершенно почти в развалинах. Рядом с ним стоящий храм более уцелел. Он посвящен Тифону, или дьяволу (злому духу).
Вокруг развалин храма лежат развалины деревни, построенной при фараонах. С одной стороны храм окружает пустыня, а с другой – поросшая осокой равнина “хальфа”, ограниченная со стороны Нила прекрасным пальмовым лесом».
Брем с удовольствием выполнил просьбу друзей и показал им великие творения древности – Луксор и Фивы. Надо сказать, что поток посетителей здесь за прошедшее время существенно увеличился. Когда друзья 15 марта оказались в Луксоре, там на якорной стоянке у берегов Нила находилось не менее 15 больших лодок с туристами из Европы и Америки! К сожалению, недостаток времени не позволил посетить храм Эдфу, воздвигнутый в IV веке до нашей эры и дошедший до нас в практически неизменном виде…
В Асуане лодка была оставлена, чтобы не повторять печальный опыт преодоления на ней порогов. А на следующий день продолжился круиз по Нилу до Вади-Хальфы. Отсюда пошли вдоль берега на верблюдах до Донголы. Дорога срезала изгибы Нила, но тем не менее была долгой и муторной и заняла две недели. Тяжелый путь не позволил наслаждаться красотой тропических оазисов, встречавшихся то тут, то там, хотя густые заросли цветущей мимозы давали хоть какую-то тень. Плодородные земли здесь оставались по-прежнему неиспользованными, потому что местного населения не хватало для их обработки. Аборигены пользовались спросом у работорговцев…
Пребывание в Донголе было очень приятным. Должностные лица и местные торговцы оказались гостеприимными хозяевами. Команда провела там несколько безоблачных дней с обедами и вылазками на природу.
Во время охоты Альфред набирался самых разных историй для свои будущих книг.
Из дневника:
В лапах колдунов
«Во время нашей остановки мы видели летающих кругами больших грифов и решили приманить их. Мы купили приговоренного к смерти осла, отравили его и положили вместо приманки за одним задним зданием нашего временного жилища. Но грифы не явились, а вместо них каждую ночь повадились ходить гиены, так что пришлось охотиться на них и каждый вечер делать облаву. Ночи были так темны, что нам не удавалось сделать ни одного верного выстрела, утром же мы находили следы крови на большом пространстве в пустыне, между тем нигде не встречали издыхающей гиены.
Один из моих слуг, Али, по прозванию Муклэ[12], по поводу этой охоты рассказал мне следующее: “Здесь стрелять в табаэ (Hyaena striata) нет никакой опасности; совершенно иное в Судане, а главное, в Сеннаре или Фассокле, где рыщут большие марафилы (Hyaena crocuta), которые не что иное как оборотни и большие волшебники. Они могут сделать много вреда нападающему на них.
Такие колдуны одним взглядом “злых глаз” (аеин-эль-хассид) останавливают кровь в жилах, заставляют умолкать биение сердца, высушивают внутренности и приводят в помешательство умы своих врагов. Хотя Хуршид-паша (да благословит его Бог!) сжег много деревень, в которых находились такие колдуны, однако все-таки число их еще слишком велико, и “аус билляхи мин эль шеитан эль раджим! (Да пересилит небо над сверженным дьяволом!)” У меня дрожь пробегает по телу, когда я только подумаю о тех, которых Аллах бросит в глубочайшую преисподнюю Джэхенна (ад). Хуршид-паша умер ранней смертью оттого, что слишком ревностно истреблял колдунов, и, наверное, это Аеин-эль-хассид унес его с собой под землю. Однажды он охотился с солдатами на бегемотов и выстрелил в Джамамис-эль-баар[13], несмотря на доброжелательное предостережение одного мудрого шейха. Напрасно повторял шейх, что это не настоящие аёзинат, а только превращенные люди, которые ночью спят в своих жилищах, днем же принимают образ аёзинт. Паша не обратил внимание на этот совет, и за то как скоро он был убит ядовитым взглядом Саахра-волшебника! Мир его праху и да упокоит Бог его душу! Его смерть была ускорена болезнью. Он доверился франкским докторам, а они не могли найти целебного лекарства. Ведь он был просто околдован, и ему мог помочь только другой волшебник или мудрый благочестивый шейх. О господин, и я некогда был также в великой опасности! К счастью, Аллах субхаана ву таалэ[14] открыл мое сердце к принятию доброго совета, и мои уши были готовы внимать гласу предосторожности, который я запечатлел в своем сердце. Однажды брат и я собирались охотиться на гиен, сильно дравшихся на трупе верблюда, но, к счастью, мы были вовремя остановлены – эль хамди лилляхи. Сын шейха обратил наше внимание на их голоса. “Слушайте, – сказал он, – разве такой голос у марафила? Клянусь Аллахом и его великим пророком – Аллах муселлем ву селлем аалеиху – это саахир”[15]. Тут члены мои затряслись от ужаса, язык пересох, в глазах померкло, и я в страхе начал прокрадываться к своему лагерю. Всю ночь напролет раздавался голос марафила. Казалось, слуги дьявола – спаси нас от него, Господи, – дрались между собой. Да, господин, то были не гиены, а настоящие волшебники, сыны проклятого, и сердце мое того не отрицает, что видели мои глаза и слышали уши”.
“Но, господин, ты все еще сомневаешься в моих словах? И ты не хочешь доверять тому, что я говорю? Все франки – неверующие, и поэтому как тебя убедить? Неужели же в подобные вещи ты вовсе не веришь?”
“Нет!”
Муклэ звонко засмеялся и начал сильно клясться, желая уверить в правде всего сказанного. Но я продолжал не верить. “Так знай же, господин, – ей богу, моя речь правдива! В Судане совершаются еще не такие колдовства. Ведь я лучше тебя знаю свою родину[16]. А мой отец и дед знают более тебя о совершающемся в нашей земле, о которой ты ничего не знаешь. Ты говоришь, что в вашей стороне не бывает волшебников! Да я разве не видел своими собственными глазами, какую чертовщину делал саахр Боско в Александрии, при эфенди Мухаммеде-Али (да снизойдет на него милость Божия!). Наше заклинание змей просто мыльные пузыри в сравнении с этим. Разве в Маср-эль-Кахира не было индейского волшебника, который мог высушивать выпуклость глиняного сосуда, вовсе не касаясь до него, и поэтому отчего же в Судане не быть колдунам, могущим высушивать внутренности у живого человека. Я тебе расскажу еще одну историю.
В Судане, именно вблизи Сеннара, живут женщины, так хорошо знающие колдовство, что могут раз поцеловавшего их мужчину заставить не касаться других женщин. Без их воли не может даже исполнить своих супружеских обязанностей. Я знал одного молодого человека, Ибн-эль-Харахми[17], который колдовством на долгое время был превращен в кастрата, несмотря на то, что нож не касался его. Только после усиленных просьб саахрэ возвратила ему снова его мужественность. Но он не мог любить другую женщину, пока была жива саахрэ. Он был раб ее воли, и никто не был в состоянии снять с него это колдовство.
Но, право, не всегда эти чары имеют такое пагубное действие. Они бывают и другого рода, например, в виде маленьких корешков. Эти корешки уезжающий супруг зарывает в землю подле порога, и тогда может быть вполне спокоен, что по возвращении найдет свою жену такой же точно непорочной, чистой и верной ему, так как эти корешки имеют свойство защищать вход от не имеющих права на то. Есть еще и другого сорта колдовства, которые употребляются, когда желают приобрести любовь женщины. Посещая любимую девушку, надо спрятать этот маленький корень под такхие или под тарбуш. Это действует лучше всякого любовного напитка. Корень зажигает в груди любимой женщины самую горячую, страстную любовь, или же увеличивает и укрепляет ее.
Такие чары надо добыть у обнаженного саахир за деньги или ценою денег. Они находятся в пустынных местах. Но благочестивым не следует их отыскивать, потому что они прокляты и сыны проклятого. Им никогда не улыбнется счастие испытывать отцовские радости, даже если б они обладали гаремом, подобным султанскому; они никогда не удостоятся видеть рай, но будут стонать в глубочайшей ночи ада”.
Подобными фактами я не мог не убедиться и, к удовольствию Муклэ, не только поверил всему, что он рассказывал, но даже записал это в своем дневнике. Муклэ обещал принести мне корни со свойствами зажигать любовь и поддерживать ее, но, к сожалению, он не сдержал своего слова и лишил меня этим великой выгоды в отечестве – уменья побеждать сердца красавиц совершенно новым, а главное – неотразимым оружием.
Очень глубоко укоренена и распространена вера в подобную бессмыслицу. Понятно, что на саахир сваливаются только такие вещи, которые мы, в смятении душевном и сердечной простоте, признаем за случайные. Суданец все несчастие приписывает влиянию волшебников. Таким образом, они посредством страха приобретают почитание. Благочестивому мусульманину нет ничего ужаснее и оскорбительнее, как ругательное название саахр. За подобное оскорбление он ведет обидчика к судье-кади».
А потом наступил день 8 мая 1850 года, оказавшийся одним из самых тяжелых в жизни Брема…
К вечеру братья решили искупаться и выбрали тихую песчаную бухту со спокойной водой, напоминавшей скорее озеро, чем реку. Поскольку у берега вода слишком прогрелась, решили зайти подальше. Альфред выбрал для брата, который не умел плавать, нужную глубину и показал ему, где тот может плавать без риска. О том, что случилось, он потом не мог вспоминать без содрогания всю жизнь.
Из дневника:
Гибель брата
«Это случилось 8 мая 1850 года, в среду, накануне праздника Вознесения Господня. Мы с братом, помогая друг другу в наших многочисленных работах, так наконец утомились, что под вечер почувствовали желание выкупаться в прохладной воде Нила. Около города есть тихая бухта в реке, которая соединяется с нею только в нижнем конце своем. Она большею частью окружена песчаным островом и совершенно свободна от крокодилов. К тому же вода в ней так спокойна, что бухта походит на озеро. Тут-то мы и намеревались выкупаться. Право, в жизни бывают минуты, когда кажется, что какой-то внутренний, предостерегающий, пророческий голос как будто хочет противодействовать суровым решениям нашей судьбы. Это как будто голос доброго гения, посланного в наше сердце милосердным Богом. Так, после обеда мне без всякой причины пришла на память песня: “Заря, заря, ты освещаешь мне путь к ранней смерти” и т.д.; промурлыкав про себя мелодию, я пропел потом громко, обращаясь к брату:
Ты хвастаешь своими ланитами, Блестящими, как золото и пурпур, Ах, но розы вянут все!Однако мы пошли купаться без всяких опасений. Оскар уже много раз купался в этой бухте, которая выше была очень мелка, отчего ее вода неприятно нагревалась. Мы стали отыскивать более глубокое место, как вдруг мой брат, побледнев как мертвец, сказал:
– Ах, Боже мой, неужели же я утону! Я чувствую, что не могу преодолеть какого-то внутреннего страха. Просто я плыть даже не могу дальше.
Моя обязанность была отговорить брата от купанья. Но чего бы я ни сделал и чего бы не в состоянии был сделать, если б только предвидел случившееся в эти четверть часа! Нырнув под воду, я исследовал глубину и сообщил брату, что берег вовсе не крут. Затем показал ему, как далеко он может плыть без всякой опасности. Сам же я поплыл на середину бухты и с наслаждением погружался в прохладную воду. Много раз я оборачивался, взглядывая на брата, и постоянно видел его стоящим на совершенно безопасном месте. Я уже собрался было в обратный путь, как вдруг услыхал ужасный крик глухонемого мальчика, которому мы часто подавали милостыню. Он сопровождал его такими телодвижениями, что я, уже не веря себе, начал сомневаться в безопасности глубины. Я видел, что произошло несчастие, хотя ум мой не мог и не хотел допустить ужасную истину. Плывя со всем напряжением сил, я скоро достиг берега. Он был пуст. Брат! Оскар! Оскар! – ответа нет. Куда же он мог деться, ведь даже его башмаки остались здесь. Но вдруг я понял, что случилась беда! Между тем глухонемой созвал людей. Я попробовал нырнуть в глубину, но члены мои как бы расслабли – я не мог! Несколько раз я погружался в воду, но меня постоянно выносило наверх, так что я должен был поручить нырянье подошедшим нубийцам.
Я сидел на прибрежном песке, не зная, что делать. В глазах у меня помутилось, я дрожал и ни на что не был способен. Я делал себе горчайшие упреки, что покинул того, кого теперь даже и спасти не способен. Говорить я не мог.
На берег высыпали нубийцы. От пятнадцати до двадцати неутомимо ныряли по всем направлениям. Доктор, Али-ара, мой немец слуга, наш домохозяин – все они старались убедить людей продолжать поиски. Тотчас притащили барку, и снова беспрерывно ныряли под воду. Наконец тело отыскали и, подняв его на барку, снесли в нашу комнату. Меня тоже скорее несли, так я плохо сам передвигался.
Мы положили безжизненное тело на кровать и начали его тереть шерстяными платками. Доктор сперва открыл жилу на правой руке – кровь не показалась! Потом он повторил ту же операцию с левой рукой – появилось только несколько капель крови! Доктор был неутомим. Он принял все надлежащие меры и сам старался привести брата в чувство. Он делал все, что в состоянии сделать благородный человек и дельный врач. Под конец он открыл дыхательное горло, чтоб впустить воздух в легкие – но уж было поздно! Нам пришлось оплакивать мертвого. Доктор Фирталер полагал причиной его смерти апоплексию.
Меня увели и пробовали утешить. И действительно, я начал плакать! Я не мог удержать слез, струившихся из моих глаз. Я старался собраться с духом – и не мог. Я пробовал, как магометанин, заставить себя верить в безжалостный рок – и этого не мог. Всю ночь я не смыкал глаз. Эта ночь была самая печальная и самая долгая в моей жизни. Когда я смотрел на мерцание свеч, которые, как последние стражи, горели вокруг дорогого мертвеца, то мне казалось, что с ними гаснет последняя искра надежды, вспыхивающая во мне. Когда же приходил взглянуть на меня верный турок Али-ара и когда я видел его скатывающиеся по бороде крупные слезы, тогда мои чувства снова вырывались на свободу, и я снова начинал горько плакать.
На следующий день я стал хлопотать обо всем необходимом для погребения. Гроб сделали из двух наших дорожных ящиков красного цвета, и в полдень положили в него труп. Доктор приказал его обмыть и одеть в белую одежду. Шерим-бей прислал не только столяров для изготовления гроба, но и двух своих адъютантов, чтоб приготовить все необходимое для парадного погребения. Позже явилась команда солдат, чтоб почетным эскортом следовать за похоронным шествием.
После обеда мы покрыли запертый гроб австрийским флагом, под защитой которого мы так счастливо путешествовали до этой поры. Сверху мы положили две пальмовые ветви, под которыми часто сидели вдвоем с братом. Потом мы покинули город и направились к коптскому кладбищу. Впереди нас шли солдаты, сопровождаемые адъютантами дивана. За гробом шли мы, Али-ара, наш гостеприимный друг Морпурго, купец Ханна-Субуаэ, домашняя прислуга и несколько коптских христиан. Мы направились на восток пустыни и через четверть часа пришли на кладбище. Много труда стоило сделать могилу, так как ее вытесывали в скале. По распоряжению губернатора принесли на кладбище несколько сот маленьких обожженных кирпичей, приготовленных для постройки мечети. Это для того, чтоб сделать свод над могилой христианина! Последнюю работу скоро окончили, коптское духовенство благословило и молилось над мертвецом. Мы вторили ему словами и мыслями. Турки тоже молились с нами».
В пекле пустыни
Удар судьбы долго казался Брему дурным сном. Больше всего ему хотелось сразу же уехать домой. Он писал: «Смерть брата произвела на меня слишком глубокое и тягостное впечатление, чтобы я мог более оставаться в Африке. Я вернусь в Германию, если барон мне разрешит. А пока он требует, чтобы все оставалось по-прежнему. Больше мне нечего добавить».
После того как все участники экспедиции вечером 13 мая простились с Оскаром и выразили искреннюю благодарность всем, кто помог им в трудную минуту, они продолжили наутро путешествие в Амбиголь. Небольшой караван верблюдов должен был увезти их под уже жаркими лучами солнца на юго-восток от Хартума. Песок пустыни был так горяч, что даже погонщики то и дело обжигали защищенные сандалиями ноги. Пот тек по запыленным смуглым телам. Лишь в редких случаях удавалось увлажнять язык каплями теплой, дурно пахнущей воды. Голода в этой жаре никто не чувствовал.
На холмистой местности не наблюдалось никаких признаков растительности. Верблюды утопали ногами в мелкозернистом песке и потому шли медленно.
Все новые порывы раскаленного ветра доводили жару до невыносимого состояния.
С 6 июня местность стала приобретать характер степи. Караван встретил группу бедуинов. Брем был под глубоким впечатлением от их независимого и гордого характера.
Из дневника:
Бедуины – гордые и свободные
«Они родились и выросли в пустыне. Они живут и умирают здесь, они думают и действуют свободно и благородно, как любой свободный человек. И они сохраняют старые обряды их предков, они уважают те же чувства о добре и зле, которые испытывали их предки, их рука карает или милует по справедливости. Бедуин, сын пустыни, пользуется свободой, данной ему навсегда. Бедуин никого не обманывает, но он с оружием в руках встречает грабителей, чтобы защитить своих родных и имущество. Сам он не грабит мирно странствующих через пустыню паломников и купцов. Он никогда не позволит себе напасть на безоружного, когда человек обратится к нему с вопросом, как пройти по этой земле. Верный своему слову, он беспрекословно держит его во имя интересом племени. Он не прощает оскорблений, не прощает предательства. Свой последний кусок хлеба он делит с гостями, свой последний глоток воды отдает страждущему. Он велик в своей верности и страшен в мести. Не признавая над собой господства угнетателей, он как полноправный вождь племени защищает свою родину от любого врага. Он ночует в своей палатке и в жару, и в холод, терпит жажду и голод, не ожидая и слова благодарности. Его лошадь так же горда и благородна, как и он сам, и он любит ее, как своих жену и ребенка».
Каково же было их облегчение, когда вечером 12 июня путники смогли разглядеть на горизонте минареты Хартума!
К полудню следующего дня они достигли скрытой в густом тумане заветной цели.
Тщетные ожидания
Альфред Пенни был очень рад возвращению своего друга и предложил путешественникам кров в своем доме. Скоро сюда собрались все старые знакомые, чтобы обменяться новостями. Как ни разнились эти известия, в одном они были схожи: новый генерал-губернатор Абд аль-Латиф Аллах-паша (1805—1883) был для них глубоко нежелательным чиновником. Этот турок родом из Греции получил на флоте звание фрегаттен-капитана и назначен в 1850 году в качестве преемника Сулеймана-паши в Хартуме. Его целью было под страхом суровых наказаний положить конец беззаконной деятельности европейцев, поселившихся здесь, а особенно прибрать к рукам все торговые сделки. Поскольку торговые пути, налаженные при Мухаммеде Али, стали обеспечивать такие желанные товары, как слоновая кость, гуммиарабик, на них нужно было установить государственную монополию.
Через два года выяснилось, что эта затея абсолютно бесполезна. Торговцы жаловались в консульства, а те своим правительствам в Европу. Так Белый Нил снова вернулся к частной торговле. Но хотя частные торговцы прогнали этого честного и неподкупного человека, Альфреду Брему он был весьма симпатичен.
Брему хотелось как можно ближе познакомиться с Латиф-пашой, о котором он слышал столько всего противоречивого. На 15 июня была назначена первая аудиенция, во время которой он передал губернатору фирман вице-короля. Латиф-паша был вежлив и говорил с Бремом на итальянском языке. Темой разговора являлся в первую очередь Белый Нил, верховья которого были целью Брема.
Из дневника:
К портрету Латиф-паши
«Он красивый мужчина лет сорока с небольшим с очень хитрым, правильным и располагающим лицом, густой черной и ухоженной бородой и темными, сильно изогнутыми бровями. Латиф-паша очень образованный человек, он говорит на арабском, турецком, своем родном, владеет также итальянским и хорошо разбирается во многих науках».
И хотя он твердой рукой в силу своих обязанностей очистил Хартум от мошенников и преступников, в других областях жизни, как отмечает Альфред, вполне разделял слова Лютера: «Кто не любит вино, женщин и песню, остается дураком на всю жизнь». Местный судья-кади тоже следовал этому девизу, и они нередко встречались с Бремом в самых различных местах, в том числе в доме губернатора на оживленных застольях.
Насколько ненавидели губернатора коррумпированные чиновники и спекулянты, настолько уважали простые и честные люди, которых он защищал от происков мошенников и воров.
День, который барон назначил для получения денег, приближался, но сообщений от него не поступало. После долгих ожиданий, использованных Бремом для поездок по Голубому Нилу, наконец 28 июня пришла долгожданная почта, однако в письме не оказалось и намека на какие-либо средства, «и я считаю далее невозможным, – писал Брем, – оставаться в каких-либо отношениях с этим человеком, который отказался от нас и фактически предал. Ему абсолютно безразлично, находимся мы в нужде или нет. Я написал ему, что с сегодняшнего дня считаю себя свободным от каких-либо обязательств перед ним. Он обязан обеспечить экспедицию деньгами на обратное путешествие до середины июля».
Что же делать? Запас денег был почти исчерпан, несмотря на строжайшую экономию. В середине июля начался сезон дождей, реки разлились. С разливом рек усилилась предпринимательская деятельность торговцев. Среди них был сардинский купец Антуан Брюн-Ролле, который в отличие от подавляющего большинства своих коллег увлекался изучением Африки и совершенно безвозмездно предоставил Брему хоть какие-то средства.
Барон Мюллер нарушил свое обещание. Он не прибыл в оговоренное время в Хартум и не прислал столь необходимые деньги. Турецкий полковник Хусейн Арха выделил сумму в 2000 пиастров. Своим же европейским «друзьям» Брем даже не направил писем: он знал, что его мольбы останутся без ответа.
Полученные суммы дали возможность совершить несколько охотничьих экспедиций на Голубой Нил, чтобы заработать хотя бы немного денег. Наняв лодки, он взял с собой местного нубийского охотника Томбольдо, непревзойденного мастера своего дела. Утром они стреляли птиц, а уже вечером их препарированные тушки укладывались в водостойкие коробочки и готовились к отправке. Вода была повсюду, она настойчиво билась в лодку, угрожая залить все добытые материалы.
С конца сентября уровень воды начал падать. Нездоровый климат выматывал людей. Первым свалился от малярии сам Брем. Потом заболели Тишендорф и четыре рабочих-араба. О работе в этих условиях нечего было и думать. Несколько здоровых людей занимались уходом за больными. Хотели путешественники того или нет, пришлось возвращаться в Хартум. Там Брем едва смог добраться до своей квартиры. Но не только физическое состояние вселяло беспокойство. Из Европы по-прежнему не было никаких сообщений, не говоря уже о денежных переводах. В отчаянии Брем сделал шаг, которого он всеми способами пытался избежать раньше: он попросил кредит у торговца Никола Уливи. «Я назвал сумму в три тысячи пиастров. Никола потребовал 3 процента ежемесячной выплаты. К тому же он обязывал нанять его лодку, но у него было на 60 процентов дороже».
Из дневника:
Умирающий хватается за соломинку
«Наши обстоятельства становились все хуже. Из Европы мы не получали ни писем, ни векселей. Все мои старание занять в Хартуме денег оказались неудачными. Под конец я был принужден обратиться к Никола Уливи, перед его отъездом на Белую реку. Я послал к нему Контарини для переговоров, и был немало удивлен услышав, что Никола объявил, что даст мне незначительную сумму. Я отправился в его диван со своим верным Али-ара. Никола принял меня весьма приветливо.
“Вы желаете получить от меня денег, многоуважаемый господин; я с удовольствием исполню ваше желание. Но я купец, и потому вы не удивитесь, что я могу дать взаймы лишь с процентами. Потом я полагаю, что вам будет полезно взять мою барку для вашего путешествия. Я ее отдам вам за семь тысяч пиастров в месяц. А сколько пиастров вам нужно?”
Я объявил, что мне нужна сумма в три тысячи пиастров, и Никола потребовал пять процентов в месяц. К этому присоединилась стоимость барки, на которую был лишь намек, но я знал, что было необходимо нанять ее, несмотря на то, что цена ее была на шестьдесят процентов дороже своей стоимости. Внутри меня так и кипела досада, но мне казалось, что не оставалось другого средства для получения денег; поэтому я позволил обмануть себя, обещая за барку тысячу двести пиастров, или восемьдесят прусских талеров, и кроме этого, на всю сумму (в последнюю включаются две тысячи пиастров за наем барки) шестьдесят процентов росту. Выручка Никола была в двести восемьдесят талеров. И я согласился на это условие – потому что был принужден к этому! Как утопающий хватается за соломинку, так и я в отчаянии ухватился за этот последний спасительный якорь. Что происходило в моей душе тогда, об этом никто не узнает. Я видел свою гибель и чувствовал, что неведомая рука тащит меня на самое дно пропасти; я должен был скрыть свои чувства от своего мучителя. Мы сосчитали всю сумму, и я обещал представить на нее вексель. Никола при счете еще раз попробовал надуть меня на двадцать процентов.
Тут уж я не мог сдержать своего негодования. Страшная ярость овладела мной; мощной рукой схватил я мошенника за его длинную бороду и начал бить его своей нильской плетью до тех пор, пока мог пошевелить рукою. Это продолжалось долгое время. Али-ара с заряженным пистолетом охранял дверь дивана, чтоб слуги не явились на помощь кричащему Ульви. Святое правосудие! Прости, если я тогда захватил твои права! Я еще до сих пор благодарен, что моя рука была так сильна!
Наконец Ульви вырвался из моих рук, убежал и закричал мне из своего гарема: “Maladetto, посмотрим, где ты теперь достанешь денег”. Я ушел из дивана, не отвечая на слова наказанного ростовщика.
Когда гнев мой прошел, я начал думать о нашем положении. Я не видел выхода из денежного затруднения. Вдруг мне пришло в голову попросить пашу о деньгах. Я написал ему прошение, в котором представил свое положение, рассказал о низости европейцев и под конец просил его одолжить на четыре месяца пять тысяч пиастров. В течении этого времени я надеялся получить из дому деньги и ими погасить долг. Переведя письмо на арабский язык, я послал его паше с Али-ара. В тот же день я получил ответ. По турецкому обычаю паша написал на другой стороне посланного мною листа приказ казначею мудирии. Он заключался в следующих словах: “Мы решились согласиться на просьбу немца, Халиль-эффенди, и приказываем вам выдать ему пять тысяч пиастров без процентов. Возьмите с него расписку. Если же по истечении четырех месяцев этот господин не будет в состоянии возвратить в правительственную кассу взятые им деньги, то перешлите ко мне его расписку и высчитывайте сумму в пять тысяч пиастров из наших доходов. О дальнейшем мы распорядимся впоследствии”.
Этот поистине по-царски великодушный поступок не требует комментариев. Я пошел благодарить его. Он встретил меня словами, в которых звучал упрек: “Нехорошо с твоей стороны, Халиль-эффенди, что ты мне раньше не сказал о своей нужде; я давно помог бы тебе, потому что я ведь тоже на чужбине”.
Теперь я радостно начал готовиться к путешествию по верховью Голубой реки. Вместо семисот пиастров, которые я должен был бы заплатить за барку Никола Ульви, я заплатил теперь триста за другую, которая, покрытая палаткой из соломенных рогож, вполне удовлетворяла нас. Настоящее судно было гораздо больше дахабие Никола Ульви. Через несколько дней мы собрались в дорогу; наша корабельная прислуга была гораздо старательнее, чем та, которую содержал этот мошенник».
Охотник среди джунглей
На хорошо оснащенной лодке 23 ноября 1850 года экспедиция покинула Хартум. Команда насчитывала 13 человек: немцы Брем, Фирталер и Тишендорф, очень необходимый в походе охотник Томбольдо, 4 помощника, капитан и 4 матроса.
Утренние часы были в основном посвящены охоте, в другое время шли обработка и подготовка тушек птиц и зверушек. Позднее Брем назовет эту поездку самым прекрасным из всех своих путешествий. То была яркая, полная приключений жизнь охотника среди тропической природы. Джунгли, не знавшие вмешательства человека, не слышавшие удара топора, открылись перед ними.
Лучшим способом проникнуть в девственный лес, чтобы побольше узнать о богатствах растительной и природной жизни, был водный путь. Низко висящие ветви и встречный ветер помешал установке паруса, так что экипажу суденышка приходилось только с помощью багров буквально ползти вверх по течению. Часто можно было видеть, какой ущерб наносит этой почти непроницаемой на первый взгляд стене леса саранча. Прожорливые насекомые в свою очередь являлись добычей сотен хищных пустельг.
3 декабря Альфред уже находился около местечка Мусселемие, откуда купцы направлялись дальше в Эфиопию. В Вад-Медани река повернула на восток, но вскоре потекла в прежнем направлении. Этот изгиб, или, как говорят географы, – меандр, образовал живописный полуостров, который местные жители прозвали «слон», поскольку здесь в лесной чащобе водились целые стада слонов. Во времена Брема они уже здесь исчезли… Зато это было настоящее царство цветов, выросших на черной плодородной почве, а на цветах кормились тысячи птиц – настоящий рай для орнитологов. Среди птичьего гомона выделялись криками попугаи, а также аисты огромных размеров. Издали слышалось рычание леопарда, а из воды высовывались массивные головы и крупы гиппопотамов.
Многочисленные сценки дикой природы навсегда отпечатались в памяти молодого Брема и много позже отразились в репродукциях лучших художников к его книгам.
К середине декабря барка дошла до Сеннара. До захвата шейхом Измаилом этот город был столицей большой, но распавшейся империи. Эти места первым посетил в 1699 году французский врач Шарль Жак Понсе. По его описаниям город купцов насчитывал 100 тысяч жителей. Францисканский священник Теодор Крумп, который жил в миссии Сеннара, подтвердил данные сведения.
Всего семь десятилетий спустя перед Джеймсом Брюсом лежал разрушенный город, который разграбили воинственные племена, так что шейху Измаилу во время рейда 1821 года взятие города практически ничего не стоило.
Даже вечером, когда другие города оживали, здесь было тихо и пустынно, в чем и убедился Брем.
Великолепие тропических лесов легко заменяло нехватку удобств и цивилизации. Рождество здесь встретили, угощаясь стаканом пунша, а привет с родины принесли на крыльях птицы, прилетавшие сюда зимовать из холодной Европы. В первое утро путников разбудили слоны, чей громовой рев стал побудкой для всех обитателей леса.
Коллекция собранных птиц росла, записи в дневнике прибавлялись. Хорошая погода благоприятствовала исследованиям. Кроме того, для поддержания физического здоровья здесь существовали все условия. Риса, бобов, чечевицы вместе со свежим мясом забитых животных было более чем достаточно. Не хватало только овощей, которые местные жители не хотели им продавать, принимая за турков.
1851 год начался с сильной бури, после которой установилась хорошая погода. Путники прибыли наконец в город Рессерес. После походов Измаила этот центр бывшей империи представлял собой лишь «группу деревенек, разделенных полями и полосками пустыни». Местное население уменьшилось до 2 тысяч человек.
Из дневника:
В гостях у африканцев
«Около полудня прибыли мы к довольно большому лагерю арабов бакара. Они вчера только перебрались сюда с противоположного берега и расположили свои воздушные палатки под тенистыми мимозами на правом берегу реки. Вскоре по прибытии нашем несколько человек подошли к нашему судну и рассматривали возложенные на соломенной рогоже чучела птиц. Через несколько времени к ним присоединились еще некоторые, и между прочим и женщины, так что немного спустя около нас собралась половина всего население палаток.
Женщины разукрасили себе ожерельями из янтаря, отдельные куски которого часто были в полдюйма в диаметре, из кораллов и стеклянных бус голову, шею, руки и волосы. Некоторые же из них вплели себе в волосы толстые медные кольца или носили их продетыми в носу; но одна из этих красавиц помрачала их всех: она носила в волосах, как совершенно необыкновенный убор, от двенадцати до пятнадцати медных наперстков, и закидывала иногда свою голову, с чисто европейскою претензией нравиться, для того чтобы производить весьма жалкий и прозаический звон наперстками. Девушки и женщины были покрыты только платком, обнимавшим их бедра, остальное же тело было совершенно обнажено. Они все без исключения были безукоризненно хорошо сложены и выказывали зубы такой необыкновенной чистоты и правильности, что не одна европейка позавидовала бы им. Столь же красивы, как и зубы, были черные глаза красавиц, а у молодых – полная и действительно пластично сложенная грудь. Одежда невольниц и маленьких девочек состояла из короткого передника; мальчики ходили совершенно голые.
Мне было приятно разговаривать с этими детьми природы. Точные изображения Библии воспроизводятся во всей их чистоте, но нимб, в котором представляется ребенку пасущий овец Иаков или черпающая воду Ревекка, к сожалению, исчез. И теперь, как прежде, можно видеть пастуха, стоящего с посохом или копьем у своего стада; и теперь, как прежде, подходит к реке девушка со старинными сохранившимися сосудами почерпнуть воды, и теперь, может быть, так же завертывается она в складки своей одежды, как и за несколько тысяч лет, – но все это может казаться библейским только издали. Подойти же поближе – вся эта патриархальная картина исчезает в тумане: жирный запах в высшей степени грязной “библейской” одежды чувствительнее для нас, чем это могло быть при чистоте нравов наших праотцев. Фантазия входит в более узкие рамки, несмотря на то, что какой-нибудь старец приглашает нас в свою хижину точно такими же словами, какими некогда Авраам приглашал к себе странствующих ангелов.
Прежде всего я показал женщинам бусы. Они понравились им, но были слишком хрупки. Потом подал я им свое зеркало и был вознагражден за него нескончаемыми криками радости. Зеркало переходило из рук в руки, от женщин к мужчинам и от них опять к женщинам и, казалось, служило всем, в особенности женщинам, несказанной забавой. Я получил его обратно только тогда, когда все они по нескольку раз рассмотрели внимательно свои не слишком красивые, а скорее неправильные черты лица. Некоторые красавицы, как это ежедневно случается, намазали себе кожу коровьим маслом, и одна из них примешала еще к нему толченого корня куркумы, что придавало ее лицу желтый шафранный цвет. Она не переставала смотреться в зеркало и, казалось, с таким же удовольствием любовалась своим желтым цветом лица, с каким любуются некоторые из моих прекрасных соотечественниц “искусственным” цветом своих нежных щечек.
Наконец я принес естественную историю Каупа и показал им на картинках людей и зверей. Крики удовольствия раздавались каждый раз, как я развертывал перед ними изображение какого-нибудь знакомого им животного. Замечательно то, что они, никогда даже не слыхавшие о картинах, тотчас же узнавали всякий порядочный политипаж; они каждый раз умели то жестами, то подражанием голоса, или описанием наружности представить мне точные признаки нарисованного животного. Больше всего понравились им изображение людей. Изображение же негра послужило предметом бесконечных острот и неудержимых насмешек.
К вечеру оставили мы этот счастливый люд и пристали после нескольких часов пути к маленькой деревушке, лежащей неподалеку от Россереса. Тут узнали мы, что знакомый наш Али-бей возвратился из своего путешествия в Кассан и лежит больной в Россересе.
В сегодняшнем нашем путешествии мы видели по правому берегу реки только пальмовый лес, в котором редко живут дикие звери. На другом берегу могло быть иначе, потому что вечером несколько раз раздавался голос “лютого зверя”; вероятно, он был голоден и злился на бакару, которая лишила его добычи, быков и диких коз номадов и увела их в безопасные места.
Рано утром явились двое слуг Али-бея и просили, от имени своего господина, доктора нашего навестить его. На случай, если бы мой товарищ захотел ехать верхом, они привели отлично оседланного жеребца. Но доктор, пользуясь попутным ветром, предпочел сделать этот визит на лодке и посетить полковника тотчас же по приезде нашем в Россерес. Али-бей лежал в выстроенной на самом берегу рекубе больной, в лихорадке, но ему становилось уже лучше, а при помощи некоторых лекарств он скоро выздоровел…»
К сожалению, путешествие дальше на юг оказалось невозможно: река от жары сильно обмелела. Отсюда решили сделать несколько охотничьих вылазок в более богатые области. В одном из походов Альфред наткнулся на огромного гиппопотама, которого принял в темноте за большую кучу земли, и только быстрота ног спасла его.
…Настала пора возвращаться. Отмели реки перекрыли дорогу, заканчивались боеприпасы. В лесу стало тихо. Листва быстро опадала, и животные подались в изобилующие водой дальние районы. Богатая добыча – более 1400 птичьих тушек – больше не помещалась в ящиках, и ее пришлось складывать просто в кучи.
Был взят курс на Хартум, где 6 марта 1851 года барка и бросила якорь.
Преданы и забыты
По-прежнему о «шефе» экспедиции Мюллере не было ни слуху ни духу. Но зато случай привел в Судан трех отпускников-англичан. Брем решил объединиться с ними и в качестве проводника отправиться по Белому Нилу. По пути они встретили идущее под австрийским флагом судно, которое везло в Хартум нового консула Константина Рейца. Среди его спутников был Тило Бауэрхорст, немецкий купец из Санкт-Петербурга. Рейц передал Брему письмо от барона Мюллера, в котором, кроме очередных жалоб и пустых обещаний, ничего больше не было.
Консул был хорошо информирован о финансовом состоянии «великого открывателя земель». Все надежды лопнули: Мюллер находился на грани банкротства. Новость, хотя и вполне ожидаемая, все же ошеломила Брема. О продолжении экспедиции нечего было и думать. Намеченные планы оказались химерой. Даже если они и смогут продать собранную коллекцию, вряд ли удастся на эти деньги добраться даже до Каира. Брем был близок к отчаянию.
Положение небольшой команды оказалось критическим. Брем не мог скрывать от товарищей весь трагизм ситуации. Он попросил их самим решать свою судьбу. Рихард Фирталер тут же оставил группу и перешел на службу к консулу. (Вскоре он умрет в Судане. Три ящика его коллекций, предназначенные для герцогского музея, никогда не попадут в родной Кётен.)
Особенно мучило Брема то, что он не может оплатить труд честных слуг. Тем не менее они оставались верными хозяину и не покидали его в самые сложные моменты.
Альфред с головой ушел в сборы коллекций, чтобы заглушить тоску. Настоятельная необходимость в деньгах вскоре заставила его использовать последние оставшиеся возможности: «Я обменял серебряные часы на 8 фунтов пороха! Я продал одежду, оружие, ящики, шкафы, стиральные принадлежности и несколько драгоценных камней, что мне принадлежали. Я распродал все, что только мог. И мое сердце, которое столько времени находилось в печали и заботах, на какое-то время воспрянуло, и я с ружьем на плече погрузился в природу, чтобы затем снова отдаться борьбе». Действительно, трогательные строки.
В трудные месяцы проживающие в Хартуме турки оказались хорошими друзьями. Они бескорыстно помогали Брему в тяжелом положении, в котором тот оказался. Полностью отличалось поведение «братьев-христиан», палец о палец не ударивших ради терпящих бедствие Альфреда и его друзей
Пережить сложнейший период жизни, в том числе и приступы жестокой лихорадки, Брему помогали его любимые занятия – ухаживание за зверьем. Животные оказались лучшими из друзей, которым он был действительно нужен. Радость, которую они доставляли ему, помогла ему выжить в, казалось бы, безнадежной ситуации. Эта тесная эмоциональная связь, которая помогла Брему в тяжелом положении в тысячах километров от дома, позволила ему сформировать собственное отношение к животным, которое позже неоднократно подвергалось критике как некое «очеловечивание животных».
Особенно нежной была его дружба с львицей Бахидой, не отходившей от хозяина ни на шаг. Она была от роду шести месяцев и размерами едва превосходила пуделя, когда он получил ее в подарок от Латиф-паши. В мгновение ока она привыкла к новой обстановке, где с легкостью ориентировалась. Львица бродила, где ей вздумается: ходила по двору, бывала в сарае и саду, а больше всего обожала лежать на плоской крыше дворовых помещений. Все жители Хартума считали ее сторожем дома и соответственно относились к ней уважительно.
Другие животные вскоре признали ее превосходство. Сопротивлялись до последнего лишь старый павиан и строптивый марабу. Однажды обезьяний вожак задал ей серьезную трепку и повредил Бахиде уши и зрение. Марабу же оборонялся от нее мощным клювом, но в конце концов был посрамлен.
Особенную привязанность испытывала Бахида к одному барану… Они стали просто закадычными друзьями.
Впрочем, предоставим слово самому Брему.
Из дневника:
Любимица Бахида
«Но кто же, наконец, была эта Бахида? – спросит читатель. Мне бы следовало, правда, раньше рассказать это, тем более что, как мы знаем, “Бахида” имя девушки, значащее по-персидски “счастливая”. Поэтому можно бы подумать, что любовь к женщине была тогда моим утешением. Действительно Бахида была женского рода, но не девушка; короче сказать, Бахида была молодая львица, принадлежавшая Бауэрхорсту, воспитание которой он поручил мне. Он получил ее в подарок от Латиф-паши, потому что я сказал ему, что друг мой находит очень милым это молоденькое животное. Львице было должно быть около полугода, когда мы получили ее. Величиною она была со среднего барсука, совершенно ручная и привыкшая к людям, так что бегала повсюду совершенно свободно.
Я особенно занимался ею и скоро приобрел ее привязанность. Она следовала за мной по пятам как собака. Часто посещала она также и своего бывшего хозяина, которого она тотчас же узнавала, если он пешком или верхом приближался к нашему дому. Ночью нередко львица спала со мною; она была ручнее собаки и вообще вела себя очень хорошо. Только когда она стала постарше, ее приходилось иногда наказывать за резвость. Она играла с павианами, которые были у нас, но те со страхом избегали ее.
Однажды съела она маленькую обезьяну, другой раз убила одним ударом барана, с которым часто играла. Когда уже слишком строго наказывали ее, то она неистово наступала на нас, но очень скоро снова усмирялась и делалась по-прежнему добродушна. Мы проводили много приятных часов с этим милым животным, и я убедился, что звери могут иногда вознаграждать за недостаток сношений с людьми».
С немецким купцом из Санкт-Петербурга Бауэрхорстом, который остался жить в доме Брема, того связывала крепкая дружба. Они часто сидели с ним на веранде дома за беседами. Немец закончил свой бизнес в Хартуме в начале августа и планировал возвращаться обратно в Каир. Чтобы хоть как-то помочь своему другу, он согласился взять с собой его багаж и животных, находившихся временно на лодке.
(Кто знает, о чем говорили тогда эти двое. Вполне может быть, именно в те дни Бауэрхорст заронил в душу юного Брема идею посетить далекую и не менее интересную, чем Африка, Россию?)
Отъезд Брема был невозможен без согласия генерал-губернатора, которому он был должен 5000 пиастров. Проявит ли тот великодушие? Позволит ли должнику уехать без каких-либо гарантий возвращения долга? Альфред с дрожью в ногах и с тяжестью в душе шел на последнюю аудиенцию с Бауэрхорстом в качестве переводчика, чтобы изложить свою нижайшую просьбу… Но его страхи оказались напрасны. Латиф-паша не только продлил беспроцентный кредит еще на два месяца по прибытии Брема в Каир, но и распорядился выдать еще пять тысяч пиастров из казны на транспортные расходы. У того даже не нашлось слов, чтобы выразить благодарность за проявленные по отношению к нему щедрость и доброту.
Прощание
11 августа 1851 года Брем нанес прощальный визит Латиф-паше. Они расстались как добрые друзья и остались таковыми и в дальнейшем. Потом Альфред заплатил своим помощниками, пожертвовав мелкие суммы верующим, и вместе с Бауэрхорстом взял в аренду лодку. Чтобы сократить расходы, они решили, несмотря на явную опасность, идти через пороги. Константин Рейтц и Рихард Фирталер тепло попрощались с путешественником.
После 14 месяцев жизни в Судане Брем пустился в обратный путь. Благоприятный южный ветер быстро нес лодку по течению. 23 августа прошли пирамиды Мероэ. Поскольку уровень воды в реке увеличился с началом сезона дождей, стало возможно пройти по воде участок пути до берберского Абу-Хамеда. Часть коллекции из лодки, которая готовилась для следования через пороги, была перегружена на караван верблюдов, который пошел через Нубийскую пустыню в Короско.
Местечко Абу-Хамед из каменистой пустыни постепенно превратилось в окультуренный оазис, но вокруг, насколько хватало глаз, виднелись лишь песок и щебень. Стояла сильная жара. Течение было сильным, и скоро бесплодная местность скрылась из глаз. Отдельно торчащие пальмы сменились на дурровые[18] поля, которые, впрочем, скоро снова вытеснила безжизненная пустыня.
В Эд-Деббе, отправной точке караванов в Кордофан, царила базарная суматоха. Разбросанные среди песка хижины кишели жизнью.
10 сентября был днем грустных воспоминаний, Группа достигла Дондоды, где 16 месяцев назад утонул в Ниле Оскар Брем. Навестив могилу брата, Альфред постарался как можно быстрее уехать из этих мест. Суденышко, покачиваясь на волнах, быстро продвигалось вдоль негостеприимных берегов.
20 сентября между вторым и третьим порогами в поле зрения появился остров. До турецкого завоевания в 1550 году это был центр нубийского христианства и резиденция местного епископа. Именно здесь находили убежище преследуемые Мухаммедом мамелюки. Все они полегли тут в неравной борьбе с захватчиками.
Незадолго до Вади-Хайфы произошла неприятная авария. Лодка с ужасным треском врезалась в подводную скалу. Через образовавшуюся пробоину стала поступать вода. Пытаясь удержать судно на плаву, Бауэрхорст направил тонущее судно к берегу. В мгновение ока багаж был вытащен на берег, при этом, однако, не удалось избежать порчи некоторой части коллекции.
Вот рассказ Брема.
Из дневника:
Крушение
«Вся окрестность как вчера, так и сегодня, была дика и обнесена черными скалами. Нил с шумом катит свои волны в своем узком ложе. Течение очень сильно и бурно. На одном поднимающемся среди Нила скалистом острове мы увидели одно из укреплений, Тулку; бодро, как бы орлиное гнездо, стоит оно на вершине скалы и замечательно по своему виду и положению. Перед нами самое опасное место шеллаля. Река идет зигзагом от запада к югу, и затем опять к западу, образуя букву S.
В первом ее изгибе стоят в воде утесы, которые Солиман обошел, держась правого берега. Мы также старались всеми силами держаться того же самого направления, но сила воды так велика, что мы были отброшены влево, и пенистые и бушующие волны, обрызгивая нас с ног до головы, быстро и легко пронесли мимо самого утеса. Идущая вслед за нами барка прошла также благополучно. Этим отважным путем мы перерезали большую дугу и приблизились к баркам, вышедшим раньше нас. Как вдруг мы услышали вправо от нас страшный треск. Гонимое бешеными волнами судно Солимана наехало на скалу. Ломая руки, беспомощно и недвижимо стоит экипаж судна на палубе. Он зовет на помощь, но никто не в состоянии подать ее. Ни одна барка не повинуется лоцману, поток увлекает их против воли, несмотря на все усилия матросов. Произнесши “el hamdi lillahi” за наше собственное спасение и поручая погибающее судно покровительству Бога и его пророка, переплываем мы второй поворот реки и причаливаем ниже его к берегу вместе с другими, мало-помалу прибывающими барками.
Пока мы собирались подать помощь судну, бывшему в большой опасности, оно само благополучно вышло из нее, и экипаж его работал изо всех сил, чтобы достигнуть берега. Я тотчас же заметил, что оно сидело в воде глубже обыкновенного и быстро неслось по течению. Когда же достигло берега, то оказалось, что оно более чем наполовину было наполнено водою, так что его пришлось разгрузить. Арабы работали без всякого смысла и толка и приносили гораздо более вреда, чем пользы. Мы с Бауэрхорстом взяли на себя команду и спасли то, что можно было спасти. Более пятидесяти человек работали усиленно, и нам удалось выгрузить аравийскую камедь, самый главный груз барки. Запакованные тюки были в самом жалком виде; растворившаяся масса камеди ручьем лилась из них прямо в реку. Несколько тюков еще прежде, при нагрузке, свалились в Нил. Больше всего я жалел одного бедняка, который потерпел убытку более чем на две тысячи пиастров. Весь же убыток был оценен в пять тысяч пиастров».
После того как тушки просохли, можно было продолжать путешествие. В Асуане Альфред не хотел идти на риск, предпочитая двигаться с грузом через пустыню, а Бауэрхорст решил рискнуть второй раз, как в Вади-Хальфе, и пошел водой.
Наконец пороги Нила оказались позади. Последний отрезок пути обошелся без происшествий, и группа получила заслуженный отдых на несколько дней. Брем встретился с отцом Кноблехером, спутником по первому путешествию по Нилу в Хартум.
26 октября экспедиция благополучно прибыла в Каир. Брем поселился с другом в арабском квартале. Здесь они встретились с дорогими гостями: путешественником Теодором фон Хойглином, который вскоре готовился вступить в должность консула в Хартуме, ганноверским купцом, имени которого Брем не называет, а также врачом Теодором Билларцом, получившим известность в 1851 году благодаря открытию возбудителя одной из распространенных тропических болезней.
Брем намеревался провести зимние месяцы в Египте. Он с удовольствием согласился с предложением Хойглина взять на себя руководство охотничьей экспедицией сроком на четыре недели.
Но до этого Альфред какое-то время наслаждался каирским комфортом.
Из дневника:
Снова в Каире
«Первые лучи восходящего солнца осветили шпиль стройного минарета мечети Мухаммеда-Али. Радостно приветствовали мы Махерузет. Вскоре после того мы прибыли в Фостат и рысью, на бойких ослах, добрались до Муски. День был воскресный. Колокола в монастыре “Святой земли” благовестили к заутрене. Каждый звук мелодично отдавался в душе нашей. С этим звоном восставали перед нами картины родины. Это были те же колокола, которые звонили в дни нашего детства, те же, которые возвестили нам час разлуки с родиной, а теперь встречали нас своим приветом. Месяцы, годы нужно быть вдали от всего того, что напоминает родину, чтобы понять язык их. Ясно и звучно обращали они к нам следующие слова:
Далекий благовест звучал, в пространстве тая, О днях былых, весне, цветах напоминая.И снова я был упоен движением и жизнью несравненного города. Я снова мог наслаждаться и мечтать в садах “победоносцев”. Мой ослабленный лихорадкой организм укрепился, и столь часто падавший дух мой восстановился.
В Каире я снова ожил. Еще прежде называл я этот великолепный город моим идеалом. Я повторяю это и теперь для того, чтобы описать всю полноту моего счастья. Как близок я был к отечеству! В полтора месяца получал я ответы на письма, которые писал к своим друзьям. Как дружелюбно встречали меня честные, прямодушные соотечественники! Благодаря им я снова мирился с европейцами, с христианами.
Мой верный друг Бауэрхорст поселился вместе со мной на квартире в Тарб-эль-Тиабе, “улице шакалов”, узком переулке арабского квартала близ Муски. Нам нужно было сделать лишь несколько шагов для того, чтобы под чинарами ароматического эсбёкиё с полным наслаждением выкурить шише и выпить чашку драгоценного мокко.
Как отрадно в тенистых аллеях эсбёкиэ! Под вечер раздаются издалека заносимые вечерним ветерком тихие звуки европейской роговой музыки и арабских любовных песен. Мимо проходят гуляющие европейцы и ищущие прохлады европейки, а иногда также и левантцы со своими укутанными покрывалами женами. Как блестят их темные очи из-за этих покрывал; как иногда странно, вопросительно останавливаются они на чужестранце! И над всем этим синеет роскошное небо Египта, пока заходящее солнце не окрасит его пурпуровым цветом. С приближением ночи прогуливающиеся взад и вперед дамы и кавалеры исчезают, зато духи цветов пробуждаются. Звезды блистают так роскошно на темном небосклоне, воздух так прохладен, а вместе с тем бесконечно мягок. Сидя на этих жестких пальмовых скамьях, невольно предаешься мечтам, но все мысли поглощаются созерцанием прелести ночи. Часто никого не было уже видно на гулянье, кроме нас. Мы все еще оставались, когда все другие уже разошлись. Не так ли, Бауэрхорст?»
Встреча с незнакомкой
Путники вышли из Каира 9 марта и через три дня марша по пустыне прибыли в Суэц. Парусное арабское судно доставило экспедицию в небольшой портовый городок Тор, откуда они в сопровождении каравана вновь пересекли пустыню и горы, пока к 20 ноября не оказались в библейских землях Синая. Брема очень заинтересовал весь комплекс построек монастыря Святой Екатерины, который, по его словам. «состоял из хаотического нагромождения зданий без симметрии, удобства и какого-либо проявления вкуса».
Поначалу монахи встретили их приветливо, пытаясь рассказать на свой лад библейскую историю и своеобразно трактуя разные места из Священного Писания. Когда Брем и его спутники пытались втолковать им, как на самом деле следует понимать те или иные положения Библии, те замкнулись в себе, стали недоступными и отказались помогать путникам даже за денежное вознаграждение. «В этой церкви мы видели хранящиеся там драгоценные реликвии, каждая из которых могла бы сделать ее владельца богачом», – беспристрастно зафиксировал Брем в своем дневнике.
Рано утром 25 ноября Брем и Хойглин прошли через Эль-Вади-Раракит и 30 числа уже были в Суэце. А через неделю их встречал Каир.
Тем временем успевший уже подзабыться барон Мюллер, бывший «благодетель» Брема, вновь напомнил о себе: прослышав о возвращении экспедиции из Судана, он решил завладеть богатой коллекцией Брема. Его финансовое положение несколько улучшилось в связи с оформлением наследства деда, и он направил генеральному консулу Австрии в Египте фон Хуберу прошение «об оказании содействия в деле приобретения коллекции для собственных нужд». Хубер тут же пошел с письмом к Брему. Тот в возмущении отверг притязания Мюллера на свое имущество: «Сейчас, когда я являюсь законным владельцем коллекции, собранной мной с помощью пота и крови, в голоде и лишениях, у меня пытается ее отобрать тот, кто палец о палец не ударил, чтобы помочь мне в трудную минуту. Это я вправе выдвигать условия, а не он».
В 1851 году Мюллер небольшим тиражом за свой счет анонимно издал «Записки о поездке в Северо-Восточную Африку», посвятив книжку прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, где описывает совместное с Бремом путешествие. По понятным причинам она похожа в деталях на более поздние произведения самого Брема. Сохранившийся в Штутгартском музее один ее экземпляр хранит на полях карандашные пометки, скорее всего, сделанные рукой самого великого естествоиспытателя.
Дальнейшая судьба Мюллера прослеживается весьма пунктирно. С 1852 по 1854 год он занимался делами созданного им же зоопарка в Брюсселе, затем беспокойный характер заставил его перебраться в Новый Свет – Соединенные Штаты, Канаду и Мексику. В возрасте 42 лет он умер в 1866 году в семейном имении Кокерштайнфельд. Брем с ним так не разу больше и не встречался.
На Рождество в Каире Брем повстречался с бароном фон Шезбергом и неким Леопольдом Бюври, страстными охотниками, которые упросили его за хорошие деньги устроить им сафари. Он охотно согласился, тем более что такие мероприятия позволяли лучше узнать незнакомые места и усовершенствоваться в арабском языке. В одной из своих статей он скупо признается: «Я жажду увидеть не столько новые земли Востока, сколько тамошних людей, добрых, хороших, к которым я питал самые нежные чувства». Не намекает ли он этим на один незаконченный сюжет из своей каирской жизни?
Каждый вечер, живя в этом огромном восточном городе, он поднимался на плоскую крышу своего жилища, чтобы полюбоваться открывавшимися видами. Однажды он заметил на соседней прилегающей к дому террасе одинокую девушку и не мог оторвать от нее взгляд – такой красивой и изящной она ему показалась. У нее было неприкрыто лицо, поскольку она не ожидала встретить кого-то рядом. Брем попытался заговорить с ней, она испугалась, попыталась закрыть лицо, но не нашла ничего подходящего для этой цели и быстро скрылась, видимо, ничего не поняв из того, что пытался на ломаном арабском сказать ей юный немец. Весь вечер Брем строил всевозможные планы, как проникнуть в соседний дом или перебраться через стену, которая отделяла его от вожделенной террасы.
На следующий день она вернулась. «Я наивно полагал, что уже достаточно хорошо владею языком, но сейчас убедился, что ничего не смыслю в разговорном арабском, разве что различаю отдельные слова. Я пытался выразить свои мысли, но девушка не понимала меня и только улыбалась». Так продолжалось несколько дней. Брем признается: «Шейх научил меня отдельным словам, как они стоят в книжках, а это была подлинная жизнь с совершенно другими словами и правилами…»
Чрезвычайно способный к языкам Брем наверняка хорошо выучил арабский. Все дело в том, что девушка могла оказаться представительницей какого-то племени, которое говорит на другом диалекте, – такое встречается часто в мегаполисах арабского мира.
Счастливые дни быстро прошли. Брем пытался писать ей записки, но все они остались без ответа – таковы были законы страны.
Напомним, что Брему было тогда чуть больше двадцати лет.
Весной 1852 года последовало предложение от прусского генерального консула фон Пенца сопровождать в Триест транспорт для Берлинского зоопарка. Брему предлагалось ехать с ним как эксперту-зоологу. Он охотно согласился – ведь таким образом прямиком в Европу могли попасть и его питомцы, прежде всего львица Бахида. К тому же теперь он мог покрыть все свои долги…
Всего пять дней продолжалось начавшееся 22 мая из Александрии путешествие по Средиземноморью. В Триесте Брем передал груз встречавшим его служащим Берлинского зверинца, а в Вене настал час разлуки с любимицей Бахидой. Ее временно поселили в небольшом зоопарке в парковом комплексе имперской резиденции Шенбрунн.
Через Прагу и Дрезден он поспешил домой и 16 июля после пяти (!) лет разлуки упал в объятия родителей.
Годы поисков: учеба в Йене
Путешествуя по Африке, Брем, сам того не ведая, «уклонился» от военной службы, а всех непокорных призывников, которые миновали по разным причинам тогдашний «рекрутинг», наказывали серьезными штрафами. Отца Брема спросили, почему сын не явился на призывной пункт. Назревал конфликт с властями, и старший Брем был вынужден составить письмо, которое достойно того, чтобы привести его здесь полностью: «Мой сын уехал 1 июня 1847 года по паспорту со специального разрешения государственного управления через Вену, Триест и Афины в Египет и имел цель вернуться летом 1848 года. Однако обстоятельства изменились. Жажда знаний повлекла его по просьбе барона фон Мюллера вперед до 13 градуса северной широты, где путешественники в 2000 часах езды отсюда подвергались неимоверным лишениям и страданиям. Мой сын был уже принят в химический институт и господин тайный советник доктор Вакенродер в Йене должен был зачислить его на Михайлов день 1848 года на бесплатное довольствие. Однако путешественники не вернулись.
Таким образом, мой сын целиком принес себя в жертву науке, которой он посвятил себя и ради которой он рискует жизнью.
И вот теперь этот молодой человек, мой сын, рассматривается как трусливый беглец и судим в соответствии с 9 параграфом закона о воинской обязанности. Эта вопиющая несправедливость не требует доказательств».
Отец просил власти в соответствии с параграфом 8 специальных правил, предусмотренных для студентов, отсрочить сыну службу на 12 лет. После долгих рассмотрений правительство наконец решило в декабре 1849 года отложить призыв на военную службу до 1 апреля 1851 года, но поскольку Альфред также в то время проживал в Африке, отец в начале февраля вновь представил герцогу ходатайство: «Мой сын Альфред Брем, в настоящее время находящийся на 11 градусе северной широты в Фассоре, хотел к 1 апреля вернуться и исполнить свой долг. Однако это оказалось невозможным. Вследствие трагической гибели брата 8 мая он перенес умственные и физические страдания и позже перенес лихорадку, отнявшую надолго последние силы и чуть не стоившую ему жизни. Все это привело к неспособности нести военную службу».
Герцог Георг пошел навстречу семье Бремов и, несмотря на повсеместное «закручивание гаек» в стране, позволил молодому ученому довести исследования до конца и явиться пред его очи по прибытии. Брем объявился на призывном пункте в Альтенбурге 8 июля 1852 года. В тот же день состоялось военно-медицинское освидетельствование и подтвердилась его непригодность к действительной службе, так что он, как и предполагалось, мог начать учебу.
Но архитектуру он изучать не хотел, и химию, которая упоминается в письме отца, тоже. Жизнь животных захватила все его помыслы, и существовала только одна дисциплина, которая привлекала молодого человека, – зоология!
Когда он начал учебу, университет Йены, благодаря работе в нем Эдуарда Оскара Шмидта (1823—1886), был на хорошем счету в области зоологии, а «молитвами» Матиаса Якоба Шлейдена (1809—1881) добился успехов и в ботанике. Шмидт, чьи исследования были посвящены плоским червям, принял удачное решение соединить в лекциях зоологию со сравнительной анатомией, чтобы заложить у слушателей прочный фундамент научных знаний. Многие из записавшихся к нему на семинары не выдержали непривычных нагрузок и ушли. Шмидт вспоминает: «В летний семестр 1849 года я впервые прочитал курс лекций по сравнительной анатомии. Из трех любопытных, записавшихся ко мне, один ходил только первые часы – больше я его не видел. Двое других терпели дольше, но на занятиях уже не появлялись». Эта ситуация к приходу Брема практически не изменилась. У Фридриха Зигмунда Фойгта (1781—1850), который незадолго до смерти читал на курсе лекции по зоологии, в зале был только один слушатель – Брем. После кончины Фойгта Шмидт совместно с веймарским министром Вайцдорфом начали борьбу за создание первой зоологической профессуры. Несмотря на поддержку властей, успехов было мало, но Шмидт все же был назначен директором Зоологического музея, учреждения, дотируемого 100 талерами в год! Но хотя музей был отдан теперь студентам в полное их распоряжение, самому Брему он дал немного, ведь его собственные коллекции были куда богаче музейных.
Несмотря на весьма ограниченные возможности, учеба в Йене продвигалась. Здесь преподавали такие светила европейской зоологии, как Карл Гегенбауэр (1826—1903) и даже Эрнст Геккель (1834—1919). Этот период можно было назвать эпохой расцвета зоологии в Йене.
Пока Брем учился, вышли в свет три тома его африканских дневников. Они быстро разошлись в книжных лавках, потому что разительно отличались от сухих отчетов «классических» зоологов. Его стали узнавать на улицах – зарождалась слава молодого писателя. Брем решил продолжить учебу в Вене, но просьба о переводе почему-то была отклонена…
Клубы и общества
Профессиональные ассоциации и научные общества были заинтересованы в использовании опыта молодого зоолога в их работе. Императорская академия естественных наук сделала его в 1855 году своим членом. Сразу же после возвращения из Африки Брем принял участие в работе научного общества Восточных земель[19]. В 1852 году он сделал доклад о своих странствиях и подарил обществу часть коллекций. Наконец в 1859 году в печатном органе общества появилась большая работа Альфреда Брема: «Год в Судане».
Рост объема научных данных требовал для их распространения и практического использования новых форм организации. Старые имели только местное значение. В отличие от академий в Англии и Франции, которые были не только учебными, но и научными центрами, немецким обществам в силу политических причин не хватало контактов и общения друг с другом.
По инициативе натуралиста Лоренца Окена (1779—1851) и врача Карла Густава Каруса в 1822 году в Лейпциге было основано Общество немецких ученых и врачей.
Этот союз не только способствовал обмену мыслями и опытом, он также имел некий программный характер. Но оказалось, что сугубо зоологические дисциплины тут воспринимаются как некое хобби и могут рассматриваться лишь мимоходом, как любительство. Предложенное известным ученым Александром фон Гумбольдтом подразделение на специализированные секции мало чем могло здесь помочь. Даже в разделе зоологии и сравнительной анатомии орнитологи оказались чужими. Это привело к усилиям по созданию своей «птичьей» научной организации. Первым пунктом кристаллизации нового общества стал Союз друзей птиц Иоганна Наумана, к которой принадлежал также пастор Кристиан Людвиг Брем. Именно Науману научный мир обязан созданием орнитологической подсекции научного общества в городе Кётене 25 сентября 1845 года. Отец Брема был в числе выступавших на той исторической встрече. Первый печатный орган ассоциации был назван «Рея» и вышел только дважды, но зато позже, в 1849 году, при содействии барона Мюллера, который вернулся из Африки, была основана «Наумания» (в ней, как мы знаем, молодой Брем дебютировал как литератор).
Так или иначе, в 1850 году в Лейпциге после различных попыток было создано Немецкое орнитологическое общество. К сожалению, на его открытии присутствовало всего десять гостей. Старшего Брема, избранного в совет, по болезни не было. Альфред прислал приветственное письмо из Хартума. Вернувшись из Африки, он с радостью присоединился к новому обществу, впервые выступив в 1852 году в качестве приглашенного оратора с докладом о жизни африканских птиц, который присутствующие наградили аплодисментами.
Испанские девушки
В Африке юный Брем заразился не только местной лихорадкой, но и бациллой дальних странствий. Доходы от нечастых публикаций хоть и были невелики, но давали все же какую-то самостоятельность. Для поддержки дела своего отца он выбрал в качестве цели орнитологических исследований и сборов Испанию. С ним поехал его брат Рейнхольд и еще трое друзей.
Первой остановкой в поездке, дневник которой так и не был опубликован, был город Аликанте. Затем последовали Мурсия, Картахена и особенно живописные горы юго-востока, чья субтропическая растительность давала прекрасный материал для орнитологических изысканий.
В Малаге друзья провели незабываемые часы за дегустацией десертных вин, а брат Альфреда буквально потерял голову от испанских девушек. «Совсем другое дело – болтать на искрящемся мягком испанском с черноглазыми и смуглыми девушками в гранатовом саду или под сенью апельсиновых деревьев, а иногда и под пальмой, чем в “йенском раю” бросать украдкой взгляды на образованных профессорских дочек», – писал он в письме другу. Кто бы спорил?[20]
14 месяцев братья колесили по Южной Испании от Гибралтара, последнего прибежища европейских обезьян, до Мурсии, где обитали самые красивые обольстительницы Испании, и пальмы Андалузии мучительно напоминали Брему оазисы Сахары. В горах Сьерра-Невада они проводили дни и недели на высоких перевалах среди пастухов и контрабандистов. Ели их пищу, пили вино, разговаривая с местными жителями об их нелегком ремесле – точно так же, как еще недавно в Судане. А в Мадриде Альфред присутствовал на мессе в соборе, где слышал иступленные крики страстно желавших исцелиться верующих, напомнившие ему, как зоологу, вой гиен в саванне и трубные звуки, издаваемые слонами под Хартумом…
Дневник Брема этого периода представляет собой подробный обзор различных видов птиц всевозможных ландшафтов. Не забывает молодой автор рассказывать и о древностях района Малаги, подробно описывает исторические памятники и попутно говорит о глубокой нищете народа Андалузии.
К радости отца, из поездки в Испанию он привез богатую «добычу» – замечательное пополнение его коллекции.
«Вольный художник»
Настало время сделать правильный выбор в будущей жизни. Неопределенная и зачастую узкая тропинка академической жизни Альфреда не манила, он хотел быть ничем не связанным, чтобы сохранить свободу действий, а главное – передвижения. Первые успехи навели его на мысль стать «вольным художником» – фрилансером, говоря сегодняшним языком. Для того времени это было смелое решение.
Брем избрал местом жительства Лейпциг, центр немецкой книжной торговли. Здесь жил уважаемый натуралист Эмиль Адольф Росмесслер (1806—1867), чей творческий путь являлся примером для Брема. Влияние Росмесслера как отцовского друга и советчика было очень велико. Именно ему он обязан своим увлечением научно-популярным жанром[21].
Одним из первых немецких ученых Росмесслер одобрил труд Чарльза Дарвина «О происхождении видов» (1859) и подготовил его издание в Германии, что создало ему большие проблемы в дальнейшей жизни.
Влияние этого человека на молодого Брема трудно переоценить. И вообще здесь, в Лейпциге, этом «мегаполисе гражданского духа», Альфред брал лучшее у прогрессивных немецких ученых и публицистов. И именно здесь он стал постоянным автором научно-популярного журнала «Гартенлаубе» («Беседка»), готовя материалы, связанные с природой. Максимальный тираж журнала тогда составлял 400 тысяч экземпляров! Фантастика для того да и для нашего времени…
На Крайнем Севере
Журнал «Беседка» оказался неким трамплином для молодого Брема. Ее издатель Эрнст Кейль решил, что его «звездный писатель» вполне готов для поездки в Норвегию, и в редакции нашлись для этого деньги. А уж как радовался сам Альфред! Он недавно задумал глобальный труд о птицах, а вот знаний о северной фауне ему явно не хватало. Его спутником стал сын известного зоогеографа Карла Бергхауза. От современных средств передвижения пришлось по разным причинам отказаться.
Из дневника:
По Норвегии в повозке
«Кто желает путешествовать по переполненной Европе, должен ехать в Норвегию. Мы, живущие в странах, где мало моря или вовсе его нет, мы не едем, мы мчимся к нему. Часто стук колес заменяет нам последнюю радость общения с природой, и отдых наш зависит от воли других, нам его навязывающих…»
В Северной Европе и Норвегии еще путешествуют по-старому.
Здесь ты принадлежишь самому себе. Здесь ты самостоятелен. Заблудись в зелени полуострова и вновь почувствуй себя свободным…
Из Христиании (Осло) в небольшой повозке («полустул-полукибитка») они двинулись к Фокстуэну, городку близ Домбаса. Такое транспортное средство оказалось весьма пригодным для местных дорог – легким, удобным и комфортным. В качестве тягловой силы выступала лошадка местной породы – проворная и сильная.
Дружелюбие норвежцев, их готовность помочь в любую минуту произвели неизгладимое впечатление на Брема. Везде путешественники получали поддержку. Страна и народ вдохновили Альфреда: «Поездка по Норвегии укрепляет тело и душу и останется зарядкой на всю жизнь! Можно преодолеть все неурядицы, если хоть однажды прикоснешься к этой очаровательной природе».
Чтобы ближе познать природу Скандинавии, Брем со своим спутником не спеша пересек всю страну. В Фокстуэне он познакомился с охотником Эриком Свенсоном, который стал ему незаменимым другом и помощником. Он знал любой уголок окрестных гор и болот, к тому же мог понимать язык животных.
15 августа Брем вышел с друзьями на оленью охоту. Доврефьел являлся типичным горным хребтом в Южной Норвегии, который разрезается глубокими долинами рек, текущих к морю. Горы постепенно сходили на нет, крутые склоны становились редкостью. Все чаще встречались холмы, усеянные валунами. Примерно на 759 метрах над уровнем моря горы оказывались покрыты лесом – с соснами в распадках и березами по верхам. Внезапно лес кончился, остались только ива, можжевельник, мхи и лишайники. Здесь было царство оленей, в которое до сих пор удавалось проникать только опытным натуралистам и охотникам.
Свенсон шел очень быстро, так что Брему и его спутнику было трудно за ним поспевать. После почти двухчасового подъема добрались до вершины. В отдалении сверкала снежная шапка 2286 метрового Снехетта.
Преследовать животных было чрезвычайно трудно. Едва они наконец разыскали след оленей, горная вершина сразу исчезла из виду и погода сыграла с ними дурную шутку, заметя не только следы животных, но и их собственные. Пришлось укрываться за скалами, отказавшись от любых передвижений до полного прекращения снегопада.
Эрик Свенсон оказался надежным проводником в охоте на тетеревов. Она состоялась не на рассвете, как ожидал Брем, а в конце дня. Полуночное солнце было достаточно ярким и освещало окружающие болота, которые образовались там, где вода не успевает стечь в нижние слои почвы. Брем, который исходил эти области вдоль и поперек, отметил: «Вся Лапландия – это огромное болото и горные хребты, которые вздымаются как острова, и существует здесь всего несколько мест, где человек, преодолевая неблагоприятный климат, обрабатывает тяжелые почвы, – это оазисы в пустыне. Бывает песчаная пустыня, а это пустыня водяная».
Можно было целыми днями бродить здесь, не встретив жилья. Вместе со стадами они пересекали долины, добираясь до границ мхов и лишайников. Зимой коротали дни в бревенчатом домике.
Живой мир здесь не очень разнообразен, и виной тому главным образом кровососы.
Из дневника:
Облака кровососов
«Если нам приходилось ехать по тундре, мы и наши лошади неизменно были окружены полчищами насекомых – этакими живыми облаками. Тысячами они сидели на лошадях, на одежде. Каждый шаг провоцировал новую атаку мошкары. Все средства оказывались неэффективными. Ни березовый деготь, ни табак, ни покрывала на лице не могут избавить от этих вездесущих тварей».
Главный интерес для Брема представляли птицы Крайнего Севера. Поэтому он избрал основной целью посещения группу островов, лежащих в северной части западного побережья, к юго-западу от островов Вестеролен. В то время как крупные острова являются как бы продолжением континента, более мелкие, а также шхеры представляют свой неповторимый мир.
Из дневника:
Под северным сиянием
«Благодаря Гольфстриму на Лофотенах, где горы выросли примерно на 1200 метров, стояла зима и шли обильные осадки. Повсюду были разбросаны поселки, где люди жили не земледелием, а рыбалкой. В то время как летом здесь тихо и пустынно, так как нет работы, в зимний период начинается суета, особенно в те месяцы, когда долгая ночь на Севере вступает в свои права и вместо солнца светит только луна, а вместо закатов и восходов только северное сияние, и человек собирает на море обильную жатву. Из всех норвежских поселков выходят лодки на лов рыбы, вплоть до мест, находящихся за Полярным кругом».
Весной северные острова становятся птичьим раем. «Только две причины побуждают их оставаться на этих землях, – пишет Брем, – брачный инстинкт и ожидание близкой смерти. Во время зимних бурь они летят к скалам только на короткое время, чтобы смазать жиром свое оперение, а при наступлении весны независимо от расстояния собираются в колонии. При приближении лодки навстречу устремляются дружные защитники гнезд. Вскоре огромная стая кружит над лодкой, стоит невероятный гвалт».
В настоящем птичьем заказнике, как мы выразились бы сейчас, Брем побывал на Лофотенах, где нашли пристанище для птенцов кайры и гагарки. Зоолог надолго задержался на северных Лофотенах, где недалеко от берега расположены скальные образования или островки, так называемые «ники», похожие на колокола высотой до 300 метров.
Один из трех таких островков оказался как раз такой птичьей горой. Брем дождался штиля и подобрался поближе, чтобы ничего не пропустить из великого птичьего шоу.
Из дневника:
Карнавал жизни
«Куда ни бросишь взор, всюду сидят птицы. Во всех углах, концах, во всех щелях и дырах, они были справа и слева, вверху и внизу, летели сверху и снизу. Со стенок, с вершины горы вниз, в море он бросались такой плотной массой без перерыва, что даже не удавалось выделить глазом каждую конкретную птицу. Тысячи их сидели, тысячи танцевали, еще сотни летали, кувыркаясь в этом карнавале жизни, и все вокруг было наполнено хлопаньем крыльев, писком, криками… Попытка подняться на вершину горы, чтобы поиметь полное представление об окрестностях, не удалась. Наверху все тоже роилось и жужжало».
Брем не уходил со скалы 18 часов, впитывая в себя навсегда сценки из птичьей жизни. В полночь наконец все угомонилось. Птицы сидели неподвижно, образуя длинные белые линии, выставив вперед лишь грудь и клюв. На восходе шум возобновился, и спуск Брема, окруженного тысячами крачек, превратился в паническое бегство.
Аналогичное зрелище представилось ему во время визита на лежащие недалеко от мыса Нордкап островки Сверхольт, место гнездовья моевок. На скале 800 метров длиной и 200 – высотой они устроили тысячи гнезд в пещерах. Встревоженная выстрелами, гигантская стая птиц взмыла в воздух и постепенно опустилась на поверхность моря. Брем был очарован: «Как мне описать это незабываемое зрелище? Надо ли говорить, что море было как темное платье, опутанное миллионам ярких бусин? Или сравнить чаек со звездами с небес? Я знаю только одно – нигде больше я не видел такого красивого океана. И как будто бы не хватало еще красок: полуночное солнце на короткое время кутало розовым светом предгорья и самих птиц, гребни волн стали золотыми, и мы стояли, не в силах пошевелиться…»
Из дневника:
Пронзительные крики чаек
«Почти каждый камень, который поднимался над поверхностью моря, был усеян птицами. Некоторые из них проводили там по многу часов. Рядами, как солдаты на плацу, сидели они по десять, двадцать, сотне штук в странных позах, вытянув свои длинные шеи и расправив крылья, подставив таким образом все части тела благословенному солнышку и одновременно внимательным глазом осматриваясь окрест.
Когда мы отплывали, пронзительные крики чаек заглушили шум прибоя, и когда сизый остров растаял в тумане, вместе с ним растворились в стылом воздухе и последние возгласы птичьего племени Лофотен. Они остались там, где были всегда, – в своем холодном доме на севере Европы, неприветливые к чужакам и нежно заботящиеся о своем потомстве…»
Орнитологические экспедиции обычно включают в планы работы сбор коллекции птичьих тушек. Но любитель животных Альфред далеко не всегда мог выполнять эту работу. В данном случае изящные тушки, украшение любого собрания, никак не входили в его планы. «У меня рука просто не поднималась приносить несчастье этому миру пернатых, особенно в их праздничных брачных нарядах. К чему лишние страдания?»
Но и без тушек он получил здесь столько ценной информации, что хватило бы на толстую книгу. Главное, что он открыл, это то, что у различных районов северных гор имеется своя фауна, отличная от других регионов. Для Брема как орнитолога огромный интерес представляли фьорды, где птицы, горы и море составляли единое целое, одно продуктивное сообщество.
В Норвегии он также встретился со старыми друзьями: оказалось, что родная ласточка долетает до 64-й широты, а «друг воробей» даже до 65 й! Особой популярностью пользовалась в Норвегии сорока, которую здесь даже охраняли.
Но чем дальше проникал зоолог на север, тем меньше видов встречалось ему, но попадались новые, неизвестные для этих мест виды, особенно среди болотных и водоплавающих, а также куропаток и хищных, которых он мог внимательно наблюдать в их естественной среде.
Альфред Брем блестяще описал свое путешествие в журнале «Гартенлаубе» и, понятное дело, использовал этот материал в своей обширной работе, над которой в те годы трудился.
Учитель для барышень
Скромные гонорары помогали юному бакалавру кое-как сводить концы с концами. Но содержать семью на них было невозможно, а поскольку Альфред собирался жениться на своей кузине Матильде, на одиннадцать лет его моложе, нужно было искать стабильный доход. Проще говоря, работу. Она нашлась в современной гимназии Рудольфа Цилле в Лейпциге, иначе именуемой «высшей школой для девочек», где он устроился учителем географии и природоведения. Особого энтузиазма по отношению к новой должности Брем не проявлял и поэтому вечерние часы целиком отдавал литературной деятельности.
Его молодая жена (Брем все-таки женился 14 мая 1861 года) нашла компромисс между домашним уютом и постоянной тягой мужа к путешествиям в неведомое, сумела сгладить острые углы и навела порядок не только в доме, но и в голове у мужа и бакалавра, не мешая ему поглядывать на дверь и снисходительно посматривая на охотничьи увлечения.
Росмесслер, не забывавший Брема, помогал ему словом и делом в педагогической деятельности. Дело в том, что при преподавании этих предметов в те годы могла возникнуть реальная опасность: церковь на дух не переносила дарвинизм. Но Росмесслер умел найти разумный компромисс, как-то – удивительным образом – примиряя обе стороны.
В популярных книгах поддерживать такое равновесие было особенно трудно, но Брем смог подобрать такую форму подачи материала, что она устроила даже замшелых исповедников христианства в немецком захолустье: книги предназначались для домашнего времяпрепровождения в кругу семьи, а значит, были под опекой Всевышнего…
В предисловии он писал, что книга призвана не открывать новое в науке, чего так боялась церковь, а приучать детей любить тварей Божьих – птиц и защищать их. Эмоциональный подход к теме, приписывание птицам некоторых человеческих качеств – верность, гордость, стремление к общественной жизни, и т.д. – устраивали католиков. Но за это Брему приходилось рассчитываться: ученые не прощали ему таких «подачек»[22].
С герцогом Эрнстом II в Эритрее
Педагогическая работа была не по душе деятельному Брему, поэтому неожиданное предложение герцога Саксен-Кобург-Готского Эрнста II сопровождать его на охоту в область Богос в Египте оказалось как нельзя кстати.
Герцог Эрнст, чей интерес к естественным наукам проявился еще в ранней юности, сделал себе имя как страстный собиратель орнитологических коллекций. С 1853 года он был почетным членом Орнитологического общества, что в немалой степени способствовало материальной поддержке всех начинаний ученых, и прежде всего их поездок.
В начале 1862 года Эрнст, как обычно, перенес свой двор из Кобурга в Готу. Здесь, созданный усилиями Августа Петермана (1822—1879), находился и центр географических исследований. Известные ученые и географы, такие как Генрих Барт, Герман Бурмейстер и сам Август Петерман, создали специальный комитет для поисков исчезнувших в Африке экспедиций. Таковых, к сожалению, насчитывалось немало. В 1860 году Эрнст II стал его почетным председателем. Благодаря собранным средствам даже удалось отправить в Северную Африку экспедицию под руководством Теодора Хойглина.
В январе 1862 года Петерман выступил с идеей новых экспедиций, в особенности остановившись на красотах и природных богатствах области Богос, чем немало заинтересовал герцога. Присутствовавший на заседании писатель Фридрих Герштеккер (1816—1872), известный своими приключениями в Новом Свете, на Яве и в Австралии, написавший несколько десятков томов увлекательных романов, подлил масла в огонь, воспалив воображение Эрнста II своими яркими рассказами.
Быстро разработали план поездки и начальной подготовки. Из Вены намечалось заехать в Триест, оттуда прямиком в Александрию. После короткого путешествия по Нижнему Египту через Фивы намеревались прибыть в порт Массауа (сегодня это территория Эритреи) на Красном море. Оттуда экспедиция через пустынный район должна была пробираться через горы и плато Хабаб в Керен.
Большой интерес к тайнам и чудесам Египта проявила супруга Эрнста, и было принято решение взять ее с собой, хотя бы на первые этапы путешествия. Это обстоятельство требовало особого уровня подготовки. Языковые навыки и опыт путешествий по Северной Африке Альфреда Брема послужили главным критерием выбора его как консультанта, ответственного за маршрут и места проживания участников. Так как он был с недавних пор женат, молодая супруга отправлялась в путешествие в свите герцогини, а заодно и провести «медовый месяц» с мужем.
Само время, когда намечалась экспедиция, и необычайно высокий интерес, который проявляли важные персоны к Северо-Восточной Африке, позволяют предположить, что предполагалось не просто охотничье сафари. Эрнст II незадолго до этого вернулся с похорон своего брата, супруга британской королевы Виктории. В Англии шла викторианская эпоха, время расцвета промышленности и колониальных захватов. В районе Красного моря сходились интересы многих европейских стран, а также Египта и Эфиопии. Ее император (негус) Теодорос II надеялся через английского консула Уолтера Плаудена упрочить отношения с Великобританией, но того убили эфиопские повстанцы и на смену ему приехал посол Кэмерон. Словом, международное положение менялось на глазах… Британия продолжала сопротивляться антитурецким планам негуса Теодороса, потому что ей нужна была Турция как союзник против балканских амбиций России. Так началось ухудшение англо-эфиопских отношений – как раз накануне «увеселительной поездки» герцога Эрнста II при активной поддержке королевы Виктории.
Так «совпало», что в том же месте и в то же время путешествовал принц Уэльский, наследник английского трона. Само собой, они встретились в кризисном районе с герцогом Эрнстом. Тот всячески отнекивался от политических мотивов своей поездки, сваливая все на «увлечение охотой»: «Не надо навязывать мне политики, я еду на банальное сафари», – заявлял он журналистам, вившимся вокруг него в европейских городах.
В Триесте всю компанию ждал пароход Ллойда, который и доставил их светлостей в Александрию, где они стали гостями вице-короля Египта. Затем специальный поезд повез группу в Каир, где их встретил австрийский консул и личный врач верхушки османского руководства, уже известный нам ранее Теодор Билларц.
Пока герцог с окружением поплыли по Нилу на осмотр исторических памятников, Брем помчался в Массауа, чтобы подготовить там все для прибытия сиятельной группы. Времени для зоологических наблюдений не было вообще, к тому же у него начался снова сильнейший приступ лихорадки. В статье «Результаты путешествия в Абиссинию» 1863 года есть такие строчки: «Два злейших мучителя было у меня тогда – отсутствие времени и лихорадка». Он мельком осмотрел новый для себя район, потому что особенно и не ждал новых открытий: за сто лет до него Джеймс Брюс, а позже Эдуард Рюппель все здесь обследовали…
Только короткие стоянки из-за плохой погоды и приема на борт древесины позволили Брему оставить хоть на несколько часов судно. Он даже пытался поймать несколько местных птиц, но коллекцию составить так и не удалось.
Хорошо, что слабый ветер задержал плавание настолько, что ему хватило времени подготовить прием. Негостеприимный климат и полное отсутствие воды, а также разросшийся штат прислуги не позволили всем расположиться в Массауа, и палатки решили разбить в нескольких километрах от городка.
Чтобы полностью выполнить свою миссию, ему необходимо было полностью очертить границы охотничьего резервата. В одной деревне он встретил голландского патера Филиппини, который жил здесь более двадцати лет. Поскольку его миссионерская деятельность давно изжила себя, тот посвятил себя изучению животного мира, и они с Бремом, как говорится, понимали друг друга с полуслова.
26 марта Брем вернулся в Умкуллу, где на следующий день уже появилась и вся группа. До сих пор «экспедиция» проходила на чрезвычайно высоком уровне. По завершении поездки по Нилу по приказу королевы Виктории в Суэц пришел фрегат «Одина», чтобы доставить всех в Массауа, где для их защиты уже стоял на якоре другой военный корабль. Приветствовать их прибыли сам турецкий губернатор Паша-эффенди и консул капитан Кэмерон, которому было приказано сопровождать экспедицию.
После того как герцогиня и ее окружение, куда входила и Матильда Брем, переехали в Умкуллу, для отъезда во внутренние области уже не имелось препятствий. 1 апреля длинный караван, состоявший из 35 верблюдов и 17 мулов, пришел в движение. С Эрнстом II и Альфредом Бремом ехали два племянника герцога, Фридрих Герштеккер, лейб-медик Хассенштейн, английский консул Кэмерон, живщий в Эфиопии орнитолог Аркель д’Абленг, анималист Роберт Кречмер, а также слуги и егеря и около сорока местных помощников. По приказу паши к ним присоединился также некто Абд аль-Керим, местный чиновник, чтобы выступать, если понадобится, в качестве посредника между европейцами и местными аборигенами. Скорее всего, это был соглядатай турецких властей…
После пересечения пустынной местности они подошли к областям с более богатым животным миром в лесистых горных районах. Глаза, воспаленные от пыли и жара пустыни, радовались пышной зелени высокогорий. Но вот из плотных зарослей высоко вверх потянулись отвесные скалы. Преодолевать такую местность на верблюдах и мулах стало делом опасным. Компания разделилась: снедаемый охотничьим зудом герцог со своими аристократическими приближенными устремился на поиски антилоп, обезьян и птиц, а Брем, к которому присоединился и доктор, попытались понаблюдать за животными, не беспокоя их в среде обитания.
Сочетание альпийских пейзажей и тропической растительности представляло любителям природы потрясающее поле для наблюдений. Необычным был быстрый переход от дня к ночи. Как только лучи тропического солнца скрывались за горами, мгновенно, как занавес, опускалась темнота. Горные пропасти напоминали Герштеккеру штат Калифорния, и он пророчил здесь огромные прибыли от добычи намывного золота. (Кстати, его предсказания впоследствии частично сбылись.) Но времени для взятия проб почвы тогда не было.
Полной неожиданностью оказались на плоскогорье слоновьи следы. Жители дружелюбно принимали участников экспедиции в поселках, всем приготовили удобные хижины, особенно для Брема, Кэмерона и Абленга, которые страдали от приступов лихорадки и нуждались в нескольких днях отдыха.
Тем временем герцог обследовал окрестности в поисках дичи. Его любопытство вызывала легендарная охотничья область вдоль реки Айнсаба, но он напрасно пытался разведать это место: местные жители всеми правдами отговорили его провести там сафари, сославшись на «бешеных слонов».
К 20 апрелю пациенты почувствовали себя лучше, чтобы участвовать в обратном путешествии. Герцог Эрнст пожаловался в своей автобиографии: «Жизнь диких охотников подошла к концу удивительно быстро, и мы не успели насладиться тем необычным и загадочным, что окружало нас в таком изобилии».
После мягкого горного климата изнуряющая жара пустыни была поистине гнетущей. Тем не менее 23 апреля команда достигла «дамского лагеря» в Умкуллу и английский фрегат переправил всю компанию с удобствами обратно в Суэц.
Бремы и Кречмер отправились домой, а герцог и его окружение остались до конца месяца в Каире. Кэмерон по распоряжению из Лондона стал консулом при императоре Теодоросе. Чтобы переключить того на «немецкие интересы», Эрнст II вручил эфиопскому негусу орден своего герцогства.
Состояние больного Брема во время экспедиции было поистине плачевным.
Из дневника:
Богатства земли Богоса
«Я, в лихорадке, плелся позади остальной части общества, и, следовательно, не имел ни сил, ни возможности для продолжения моей научной работы. Сегодня я могу только с сожалением думать о землях Богоса. Я сохранил твердое убеждение, что там есть чем заняться исследователям. 26 числа я уехал из страны, на которую мы возлагали такие большие надежды! Одно могу сказать наверняка: в области Богос отряд естествоиспытателей, отправься он туда, собрал бы такие коллекции, которые затмили бы все, собранное в Африке».
Это подтверждает и список животных и растений, прилагаемый к отчету о путешествии, – фантастически длинный перечень всевозможной живности!
В описаниях животных он делает типичные для будущей журналистской работы выводы: «Недостаточно знать, что это существо водится в лесу, степи или море, надо узнать, из чего состоит лес, пустыня, что представляет собой море, в котором живет данное существо. Каждое животное, если хотите, представляет характер его собственной родины. Оно всегда показывает свою взаимозависимость с климатом, поверхностью земли и растительным миром. Оно, таким образом, несет отпечаток своей родины, и только когда мы сопоставим повадки и образ жизни животного с его домом, мы поймем его целиком».
Самым же главным результатом явилась идея создать большую книгу о жизни животных, которая должна была «коренным образом» отличаться от всех до сих пор существующих тем, что соединила бы в себе все старые наработки с новыми исследованиями и наблюдениями. «В современных произведениях, – сетует Брем, – не рассказывается о жизни животных как таковой. Ограничиваются только описаниями тела и его строения. Все самое главное – привычки, образ жизни, поведение – остаются за бортом повествования».
По возвращении Брем сразу взялся за работу: нужно было дополнить герцогский доклад об охоте, богато иллюстрированный Кречмером, своими живыми наблюдениями. Тут не обошлось без конфликта, поскольку Брем счел нужным «на следующих страницах передать общественности некоторые заметки, которые были сделаны во время путешествия в область Богос его светлости герцога Саксен-Кобург-Готского». Это было некое научное приложение к докладу, на выпуске которого настаивал молодой ученый, но против которого возражали издатели.
Несмотря на их протесты, книга была все же издана а Лейпциге при поддержке Герштеккера в 1864 году – внушительный, даже скорее помпезный том, формат которого скорее напоминал атлас.
Сразу же по возвращении возникла и другая приятная работа: Росмесслер предложил готовить книгу «Звери леса», которая и была выпущена в свет в 1862 году.
Хозяин зоопарка
Вернувшись в Лейпциг, Брем не переставал думать о запланированной книге. Они много говорили об этом с Росмесслером. Оба сошлись во мнении, что это должна быть «народная», научно-популярная книга. Росмесслер уже написал в этом ключе книгу о лесе, и она оказалась весьма удачной во всех отношениях. В отличие от научных трудов она рассказывала о красоте и привлекательности леса для широкой публики и призывала поставить лес под защиту государства. То есть обо всем том, что через сто лет назовут рекреацией.
Росмесслер задумал с помощью Брема дополнить и расширить свою вышедшую книгу томом «Звери леса», потому как первый охватывал в основном растительный мир, и лишь две главы касались животных. Позвоночных (звери и птицы) Брем взял на себя, а главным специалистом по беспозвоночным (насекомым, паукообразным, червям) был сам Росмесслер.
1863 год – важная веха в жизни писателя и путешественника.
Еще год назад руководство только что созданного в Гамбурге зоопарка предложило Брему стать его руководителем. То была счастливая пора для немецких зверинцев. В 1841 году в Берлине открылся первый зоосад, его примеру последовали Кёльн и Дрезден, и вот теперь собственным зверинцем захотел обзавестись старый ганзейский город Гамбург. Всего же, кроме Германии, в Европе высоко котировались лишь Лондонский и Амстердамский зоопарки[23].
Само собой, Брему были известны все трудности первых этапов становления берлинского зверинца. Знал он и предысторию Гамбургского зоопарка. У него были свои знаменитые предшественники. Так, торговец рыбой Готфрид Карл Гагенбек из Санкт-Паули приобрел у рыбаков шесть тюленей и стал выставлять их напоказ на Шпильбуденплац. Бизнес принес прибыль и позволил купить других животных, среди которых были обезьяны, белые медведи и антилопы. Сын торговца Карл расширил дело отца и стал так хорошо зарабатывать, что вместе с Лоренцом Казановой они даже смогли нанимать на службу ловцов животных, чтобы регулярно пополнять клетки зверинца. Карл Гагенбек стал главным поставщиком цирков и зоопарков Европы. Его зверинец оказался слишком мал: требовалось открывать собственный зоосад. Конечно, это предприятие было на 100 процентов коммерческим делом, однако экспедиции, им организованные, приносили и важные научные результаты[24].
Это были цели, о которых Брем в 1863 году мог только мечтать. Первым шагом к созданию зоопарка в Гамбурге было открытие временного комитета по образованию зоологического общества. Долгие переговоры с ганзейским сенатом дали положительный результат: удалось получить бесплатно на 50 лет 13 гектаров земли недалеко от старого кладбища. Эта площадь, которая впоследствии расширилась, позволила ландшафтному инженеру Юргенсу заложить основы крупнейшего и современнейшего зоопарка Европы.
По примеру Берлина для финансирования проекта было создано акционерное общество. В этом отношении общественность Гамбурга проявила себя исключительно активно. Было решено найти на должность директора такого молодого зоолога, у которого был бы опыт работы с дикими животными и наряду с этим публицистический талант.
Всем этим ожиданиям Альфред Брем соответствовал на сто процентов.
Когда к нему обратились с таким предложением, строительство зоопарка уже близилось к завершению. После осмотра зоопарка акционерами 16 мая 1863 года состоялось его открытие.
Интерес к зоопарку был исключительно велик. В первый год экспозицию увидели 273 524 посетителя – невиданное число людей для такого учреждения. С Бремом заключили договор на год, и он вступил в должность директора. Интересно, что в этом контракте помимо других обязанностей стоял такой пункт: запрещено вести какую-либо «дополнительную работу», и вся его деятельность должна служить только интересам зоопарка.
Но поскольку к моменту директорства Брем уже приступил к иллюстрированной многотомной «Жизни животных» и части ее уже были опубликованы, было принято дополнительное решение: «Те произведения, которые уже начаты и частично опубликованы, могут быть завершены».
Брем становился чиновником. В многочисленные обязанности директора входило руководство персоналом сада и имуществом «живым и неживым», а также ежемесячные отчеты.
«Зоосадовод» телом и душой
Брем приступил к работе, имея перед собой цель соединить сугубо коммерческое предприятие с научными задачами. В первую очередь это касалось расширения числа животных, для чего нужно было добывать деньги – за счет аттракционов все с теми же животными. Например, уголок с медвежатами пользовался огромной популярностью у детей, а скала с морскими птицами привлекала множество взрослых посетителей. У вольер с хищными птицами тоже постоянно толпился народ, и скоро в зоопарке уже выставлялось 1200 животных 330 видов. В один воскресный день в кассе было продано 38 285 только взрослых билетов…
О серьезных научных успехах при такой рутинной административной работе не могло быть и речи. Конечно же, Брем не был мечтателем и не витал в облаках своих творческих идей – жизнь заставляла его целиком погружаться в экономику. Но он хотел, чтобы зарабатываемые деньги тратились разумно, и прежде всего на улучшение жизни животных в неволе.
Карл Гагенбек, с которым Брем подружился, пишет в своих мемуарах «О людях и зверях», что он хотел даже на примере деятельности своего знакомого открыть зоомагазин: «Я с удовольствием вспоминаю свои беседы с доктором Альфредом Бремом в зоологическом саду и даже в нашем старом доме на Шпильбуденплац. Брем был предприимчивым по натуре и все время озабочен проблемами и делами во всех областях жизни. Ему пришла мысль, видимо, после визита в нашу лавку животных, открыть магазин птиц при зоопарке. Он проработал недолго, дело оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд».
В интересах посетителей и популяризации зоопарка Брем выпустил в свет поучительный путеводитель по парку зверей, не скрывая проблемы, стоящие перед такого рода учреждениями.
Как орнитолог он был заинтересован в первую очередь в приобретении птиц, и вольера с пернатыми хищниками была его любимым детищем. А два пруда, соединенных протокой, прекрасно подошли для водоплавающих. В 1864 году он говорил: «Мне кажется, что сегодня владельцы зоопарков не пользуются всеми теми преимуществами, которые им дают эти замечательные учреждения. До сих пор они задержались на ступени элементарных зверинцев, а должны быть на стадии научно-исследовательских институтов. Цель их – быть университетом науки, и вопросы зоологии могут решаться именно в зоопарках, так как нет лучше объекта исследования, чем живое животное, а мертвое не даст и сотой части тех сведений, которые даст живое»[25].
Много занимался Брем и вопросами разведения животных, причем особого успеха достигли здесь в оленеводстве. Росло и число новых проектов, в 1864 году построили обезьянник, а при поддержке специалиста из Лондона Альфреда Ллойда создали большой аквариум.
Тогда же при помощи художника-анималиста Теодора Циммермана и брата Брема были изданы «Зарисовки из зоопарка в Гамбурге», показавшие все многообразие звериного населения зоосада.
По крайней мере один раз в день он совершал длительный обход территории, чтобы лично убедиться в благополучии своих питомцев. В прогулке его обычно сопровождали любимцы – симпатичные маленькие медвежата: «Наши походы были весьма забавны для всех зрителей. Четыре детеныша как собачонки бежали за мной или служащим и все обследовали по дороге, обнюхивали корзины, рабочих, карабкались на стены и лавки и делали немало других нелепых и смешных вещей, являя собой этакие ожившие картинки, которые развлекали посетителей и заставляли улыбаться даже ворчунов».
Именно в этот период у Брема появились и дети – Хорст (1863), Текла (1864) и Лейла (1866). В 1864 году умер отец, и Брем посвятил ему теплые строки в «Гартенлаубе» под заголовком «Друг птиц в пасторском доме».
Все успехи в работе были далеко от идиллии. Участились конфликты с бюрократическими службами, Брему навязали государственного инспектора, который постоянно и по любому поводу вставлял палки в колеса, придираясь к работе. Началась волокита с покупкой новых животных, причем задержки в этом деле грозили им гибелью. И в 1867 году Брем решил уйти, «как ни горько ему было это делать».
Городской совет провел «секретное» заседание, на котором было решено уволить его с должности. Брем не унизился до выяснения причин. Он лишь опубликовал эссе «Моя позиция по зоологическому саду в Гамбурге и моему увольнению», в котором попросил совет директоров прислать ему «убедительные, в силу объективных причин, доводы, давшие повод для моего увольнения». Ответа не последовало.
Вероятно, всего этого возможно было избежать, если бы он своевременно следовал рекомендациям друзей и вступил в компромисс с советом. Но Брем хоть и был мягким человеком, по принципиальным вопросам никак не хотел идти на уступки. Совету нужны новые назначения – пожалуйста, только чтобы не страдали животные.
Однако выбрать преемника Брема было нелегкой задачей. В начале апреля 1867 года в Гамбург приехал на учебу Антон Дорн, работавший в Йене ученик Эрнста Геккеля. Он и взял на себя бремя директорства. Правда, перед этим он попытался переложить эту задачу на самого Геккеля, но тот категорически воспротивился.
Дорн недолго продержался на этом месте и уехал в Неаполь, где основал всемирно известную впоследствии зоостанцию.
Аквариум с мировым именем
С тяжелым сердцем вернулся Брем в родной Рентендорф. После смерти отца здесь был построен для вдовы небольшой дом, где Брем, раздав большую часть отцовской коллекции по музеям и университетам (больше всех, 1500 тушек, – в Йенский), смог отдохнуть рядом с матерью и заняться любимыми книгами. Однако время, выделенное ему судьбой в этот период жизни на творчество, оказалось весьма ограниченным. В Берлине его ожидало новое и интересное назначение – ему предложили работу в аквариуме!
Зоологический сад в Берлине в то время пока еще не стал главной достопримечательностью города. Берлинцев тянуло к чему-то совершенно новому, и аквариум как нельзя лучше подходил для этой цели. По инициативе писателя Ваххузена был создан консорциум, который учредил акционерное общество. Требовалось 200 тысяч талеров. Учитывая неудачный опыт работы зоопарка на окраине, в расчет принимались только центральные районы. Угол Унтер-ден-Линден и Шадов-штрассе подходил как нельзя лучше. Жизнь здесь била ключом, и именно тут было общеизвестное место встречи горожан.
Строительство было поручено архитектору Луэру, который уже сооружал перед этим Ганноверский зоопарк. Научные и зоотехнические указания были отданы Бремом. Он спокойно мог опираться на свой опыт организации аквариума в Гамбурге, но этим не удовлетворился и тщательно изучил опыт других аквариумов, особенно американских.
Первые попытки сделать аквариумы состоялись в Лондоне. «Фиш Хаус» сначала был просто рядом обычных бассейнов. Теория равновесия, по которой гармония растительного и животного составляющих а закрытом контейнере способствует свежести воды, когда кислород у растений находится в соответствии с кислородом и углекислотой у животных, была тогда признана ошибочной. Яркое освещение аквариумов порождало перепроизводство водорослей, которые занимали внутри все пространство, баланс нарушался. Луэру удалось отрегулировать свет в нужных пропорциях. Этот метод был применен еще в Гамбурге и с некоторыми изменениями швейцарских архитекторов введен в Берлине. Позднее в больших аквариумах использовали более сложные системы фильтров для регенерации воды.
Однако Брем не хотел довольствоваться аквариумом в строгом смысле этого слова. Его целью был многоплановый «аквавивариум», где в дополнение к рыбам обитали бы многие другие водные животные. Для этого соорудили многоуровневый грот и своды. Чтобы подобрать соответствующие породы, требовались знания по геологии и геологической истории земли, для чего нужны были дополнительные специалисты.
План Брема для сооружения, которое было дороже, чем простой аквариум, не вызвал энтузиазма у чиновников. Но он стоял на своем и не сдавался: «Мы признаем без колебания, что Берлинский аквариум должен быть большим, чем просто бассейн с водой и рыбами. Его можно назвать виварием, или зоопарком под крышей, неважно как. Важна суть».
В подготовительной работе и строительстве Брем проявил себя недюжинным организатором. Нужно сказать, что некоторые им разработанные принципы при разработке макетов больших аквариумов и даже океанариумов действуют и до настоящего времени. Приоритетным для него было единое «восприятие вещей», как он это называл: целостный взгляд на родину животного, формы и образ его жизни и разные виды в их взаимодействии. Посетители не должны только смотреть и восхищаться. Помимо этого им в ненавязчивой форме следует предоставлять элементы образования и стимуляция для дальнейшего самостоятельного изучения заинтересовавших их вопросов.
Брем учил новому в науке, п о к а з ы в а я. Аквариум с его геологическим отделом, – собственно, акватеррариум плюс клетки для млекопитающих и птиц явились частью живой природы в ограниченном пространстве и заодно популярным университетом.
11 мая 1869 года состоялось долгожданное открытие. Коридоры не могли вобрать всех посетителей. Берлинская «Тагесцайтунг» поместила огромный репортаж об открытии: «Кто мог бы подумать, что вход в подземный мир находится на Унтер-ден-Линден? Что здесь расположен Гадес, где в гротах живут нимфы в окружении океанид и речных богинь… И тем не менее это так! Всего за 10 серебряных грошей открываются ворота в подземный дворец и предстают чудеса глубин. Все сложности и особенности геологического строения земли, гигантские блоки и мелкие формации, своды и пещеры, слои и сталактиты… Стремительные струи падают со скал и исчезают, как Стикс в глубине… Лучи света, источники которых трудно определить, освещают хрустальные стены, а за этими стенами в зеленых волнах вверх и вниз плавают рыбы. Вот появляется оживленная группа местных и знакомых видов, которая непременно притягивает взгляд, иногда это странные формы морских лилий, звезды, раки-отшельники, другие морские жители, принятые было вами за цветки, все они живут, движутся и дышат.
Каждый шаг открывает новые образы. Саламандры, черепахи, крокодилы и кайманы, бобры и гигантские лягушки живут здесь повсюду. И если вы видели все чудеса днем, то не упустите возможности посмотреть на пещеры вечером. Только тогда оживают змеи, а летучие мыши затевают бесчисленные полеты. Но вот наконец в вольерах становится тихо и настоящим ревом в залах кажутся трели соловья…»
Берлинский аквариум приобрел всемирную известность. Здесь бывало за год до 200 тысяч посетителей.
Среди эффектных приемов, применяемых тогда Бремом, таились и серьезные ошибки. В те годы в связи с популярной теорией эволюции Дарвина обезьяны пробуждали большой интерес у посетителей. В 1870 году Брем купил у Гагенбека двухлетнюю шимпанзе Молли и показывал ее в Берлине как главную достопримечательность. Служитель обрядил ее в нарядные одежды, а в ее меню входили элементы «берлинской кухни», в том числе стакан красного вина или пива, на радость посетителям. Так обезьяна «очеловечивалась». Но на животное, хотя и человекообразное, все это повлияло весьма пагубно. Молли заболела и начала чахнуть, пока через полгода не погибла. Попытка великого экспериментатора стереть грань между человеком и животным не увенчалась успехом.
В поддержании нормального существования аквариума тоже оказалось множество сложностей. Главная – регенерация воздуха. Перевозка требуемых ста тысяч литров морской воды также была трудным делом. После долгих испытаний в 1869 году химику Отто Якобсену удалось искусственно произвести морскую воду. Этот сулящий успех прорыв в науке привел его в совет компании, а с 1871 года он был назначен вместе с Бремом содиректором. Но их отношения быстро расстроились, ибо они не находили общего языка по поводу аквариумистики. К тому же у Брема начались проблемы со здоровьем, и в 1874 году он решил уйти.
Пионер Орнитологического общества
Физические и душевные силы Брема были на пределе. Отдохнув несколько недель, он вернулся в Берлин осенью, намереваясь продолжить поиск средств к существованию для семьи, теперь уже из шести человек, с помощью литературного труда. Но полностью уходить из академической жизни он не собирался. С большим энтузиазмом Брем принял участие в работе Орнитологического общества, чьим активным членом был не один год.
Бушевавшие внутри этого общества с середины 1850 х годов страсти, в которых Брем всегда оказывался в роли поборника научной орнитологии, еще более усилились под влиянием идей дарвинизма. Против таких, как он, ополчились теологически настроенные антидарвинисты, пытавшиеся найти всему объяснение в божественном происхождении мира.
3 февраля 1868 года состоялось первое заседание нового Немецкого орнитологического общества. Его официальным органом стал «Журнал орнитологии», восстановленный для такого полезного дела буквально из небытия. Самое удивительное, что всего за несколько лет Брему и его сподвижникам удалось сплотить орнитологов всей Германии и констатировать создание всегерманского общества на его сессии в январе 1876 года.
Принятие Бремом теории дарвинизма не обошлось для него без последствий. Духовенство развернуло против молодого ученого целую кампанию, и надо сказать, Брем поднял перчатку. В 1868 году в предисловии к труду Т. Хойглина «Путешествие в Абиссинию, страну галла, Восточный Судан и Хартум в 1861—1862 гг.» в противовес церкви, обрушившейся на императора Теодороса, он защитил эфиопских христиан от европейской церкви, осмелившись объявить открытую борьбу «папству, которое повергает древний народ в чуму на протяжении тысячи лет».
Выпады против духовенства, естественно, не могли не касаться и проблем в своей стране: «Они препятствуют прогрессу, любому свободному передвижению людей, стараются выставлять народ в смешном виде, питаются как ленивые трутни за счет трудолюбивых».
Конечно, Брем шел здесь во многом по следам своего друга Росмесслера, боровшегося с махинаторами от религии всю жизнь. После его кончины Брем переиздал «Пресноводный аквариум», ну а его собственная литературная работа была в то время посвящена подготовке расширенного второго издания «Жизни животных».
К узкому кругу друзей Брема относился также орнитолог Отто Финш. С ним его объединял интерес к поведению животных и взаимоотношениям их в природе. Финш самоучкой нашел в молодости дорогу в науку. Его первые публикации сразу же привлекли внимание ученых, и директор Лейденского музея Герман Шлегель (1804—1884) предложил стать ему своим ассистентом. Финш знал, как лучше распорядиться таким необычным везением. С прилежанием пчелки он специализировался на изучении фауны Южных морей, особенно Новой Гвинеи. Его особой страстью были попугаи, и обширной работой о них он заявил о себе в мире орнитологии.
Еще в 1864 году Густав Гартлауб взял его куратором коллекций естественной истории Бремена. Здесь открывался путь в южные моря на судах Ганзейского союза, но, по иронии судьбы, Финшу пришлось отправляться не на юг, а на север, в Норвегию и по всем США.
А дальше родилась совсем новая и интересная тема, прочно объединившая их с Бремом.
С Алтая в страну хантов
1876 год принес Финшу новую заботу: провести экспедицию по Западной Сибири. Он выбрал компаньоном своего друга Альфреда Брема. Также к ним присоединился ботаник Карл фон Вальдбург Цайль-Траухбург (1841—1890). Официальным заказчиком мероприятия было Бременское общество немецких путешествий по Арктике. Оно было учреждено в 1870 году, когда вторая экспедиция Карла Кольдевея успешно вернулась из экспедиции в Восточную Гренландию[26]. Было решено продолжить исследования, но у ганзейского города средств для этого не нашлось. Когда же государство не проявило интереса к проекту, решили обратиться к спонсорам, способным компенсировать значительные расходы. Это общество, получившее в 1877 году название Географического, приняло решение об исследовании Обского региона и отправке экспедиции в Западную Сибирь и выделило на эти цели 5000 марок. Это было много для частной фирмы, но мало для поездки. Была надежда на пожертвования «всех, кому не безразличны интересы географии и естественных наук». Всеобщего энтузиазма брошенный клич не вызвал… Сенат дал 500 марок, правительство 300. Ожидаемые 18 000 никак не набирались.
Инициатором этих экспедиций был немецкий географ А. Петерман, автор и пропагандист гипотезы о существовании открытого моря в приполюсном пространстве. Он считал, что нужно только пробиться через ледовый барьер, лежащий к северу от Шпицбергена, а далее путь будет свободен. Освоение этого пути сулило огромные материальные выгоды, и Германия, которая долгие годы стояла в стороне от арктических проблем, решила послать экспедицию во главе с Кольдевеем. Но она оказалась неудачной.
Петерман нашел средства на организацию второй, более масштабной экспедиции. Петерман считал, что наилучшие ледовые условия должны быть между Шпицбергеном и Новой Землей, и предлагал направить туда одно из судов. Однако Кольдевей категорически воспротивился этому и, пойдя на конфликт с Петерманом, направил оба судна по прошлогоднему маршруту к восточному побережью Гренландии.
В непроницаемом тумане суда потеряли друг друга и больше уже никогда не встретились. Зажатая льдами «Ганза» была унесена дрейфом на юг и раздавлена льдом. Экипаж, высадившийся на льдину, в течение 200 дней дрейфовал вдоль восточного берега Гренландии и затем с большими трудностями на лодках добрался до ее юго-западного берега. «Германии» же удалось выйти к берегам Гренландии и пересечь широту 75º, где экспедиция остановилась на зимовку. Один из участников ее, впоследствии знаменитый Ю. Пайер, предпринял санную поездку по побережью. Поднявшись на высоту 1220 м, он увидел до горизонта море, покрытое льдом. В следующей поездке Кольдевей и Пайер достигли 77º широты и с высоты 300 м также видели только сплошной лед. Важным достижением второй экспедиции Кольдевея явилось уточнение конфигурации северного побережья Гренландии.
В 1871 году Кольдевей стал ассистентом в Гамбургской морской обсерватории, где обработал метеорологические и гидрографические результаты экспедиций. При основании имперской морской обсерватории в Германии был назначен начальником отделения.
Проведение экспедиции в Россию было уже поставлено под вопрос, как пришел ответ из Иркутска. Местный предприниматель Александр Михайлович Сибиряков был готов предоставить собранные у местных купцов 20 300 марок!
Конечно, сама экспедиция не ставила перед собой задач открытия новых земель и народов Сибири. Просто ученым было необходимо проехать по уже открытым, но малоизвестным территориям, взглянуть на них просвещенным европейским взглядом и рассказать дома, что происходит далеко на востоке за Уралом. Поскольку Россия активно входила в капиталистический мир, отменив былые ограничения и препоны для западных купцов, нужно было в первую очередь изучить возможности для расширения рынка сбыта товаров и создания новых промышленных объектов. А последний участок пути вообще был посвящен вопросам, представлявшим интерес также и для ганзейского торгового судоходства в Западной Сибири.
Недавние успешные путешествия торгового парохода под началом капитана Дж. Уиггинса из Шотландии через Карское море до устья реки Обь (1874) и экспедиции Эрика Норденшельда (1832—1901) к устью реки Енисей (1875) заставили общество говорить о постоянной линии судоходства через Карское море. Бременские купцы не хотели отставать от остальной Европы, и потому изучение устья Оби и Карского залива было в ближайших планах экспедиции.
Финш и Брем же видели свою главную цель как ученые в области изучения сибирской фауны. Альфред особенно интересовался птицами в указанных районах. В рамках подготовки экспедиции Отто Финш досконально познакомился с современным состоянием географических и научных исследований Сибири. Написанный им позднее отчет содержит интересные сравнения рассказов старых путешественников с современными данными о жизни и быте населения и о природе тех мест.
Через «каменные ворота»
5 марта 1876 года, на следующий день после аудиенции у императора Вильгельма I, стартовала поездка в Санкт-Петербург. Здесь был предусмотрен обмен мнениями с представителями Русского географического общества. Кроме того, поездке оказало поддержку Императорское общество для содействия русскому торговому флоту. Чуть позже, после короткого пребывания в Москве, 18 марта экспедиция ночным экспрессом отбыла в Нижний Новгород, где уже заранее были предприняты все необходимые приготовления для путешествия на санях. Альфред Брем с интересом осматривал древний русский город, который к тому времени был уже одним из важнейших культурных и промышленных центров России.
Уже в Нижнем Новгороде наметилась первая проблема в поездке. Весна 1876 года начиналась неожиданно рано. Вместе с ней пришла оттепель, которая расстроила планы передвижения на санях. Нужно было все делать быстро. Три тройки и багажные сани по крепкому еще насту помчались к Казани. Но уже на следующий день пришлось оставить удобные зимние трассы. Большие полыньи заставили использовать обычный тракт. Проект ехать «сибирским способом» – день и ночь – был оставлен как нереальный. Правда, температуры позволяли иногда возвращаться на лед и снег, но постоянно это делать было небезопасно. Снег таял все больше, земля чаще виднелась сквозь наст, это был настоящий кошмар для «самоходных зимних путешественников», как они себя называли. Быстрой езды никак не получалось. Разбитые дороги заставляли надолго застревать на оттаявших участках. Пригодились взятые с собой мягкие матрацы. Кстати, сани были сделаны добротно – они уже сослужили хорошую службу Норденшельду.
Редкие почтовые станции напоминали Брему оазисы в суданской пустыне – настолько желанными они становились в ледовом безмолвии… Только там можно было узнать названия ближайших населенных пунктов и увеличивавшееся расстояние от Санкт-Петербурга…
Около 5 дней понадобилось на 420 километров до Казани. Сани то проваливались в глубокий снег, то заезжали в полыньи, и приходилось их тащить по проложенным доскам.
Приток переселенцев в главном губернском городе в XVII веке составил 20 тысяч человек и на этом не остановился. Университет здесь был основан в 1804 году и стал крупным научным и культурным центром. Вильгельм Радлов, которому Финш нанес визит, жил тут с 1871 года и работал инспектором мусульманских школ. Его советы путешественникам оказались весьма ценными в ближайшие недели. Радлов ввел их в дом местного муллы, и беглый арабский Брема привел того в изумление. Профессоры университета ознакомили их с лабораториями. Не обошли вниманием и библиотеку, которой руководил немецкий востоковед Готвальд. Отчет о поездке упоминает и «большой пивоваренный завод, который обеспечивает отличным пивом пол-Сибири».
Но главным являлось не только делать визиты и посещать достопримечательности. Стоило подумать и о переоснащении экспедиции. Слишком тяжелые сани следовало заменить на более легкие. Вопрос о том, на чем продолжать движение – на повозках или санях, решился в пользу последних. Багаж был существенно уменьшен. Тяжелая повозка отправлена по рельсам в Барнаул.
Выбор мягких саней оправдал себя полностью. Пока лежал снег, можно было мчаться во весь опор. Потом началась борьба с грязью. 1 апреля между Пермью и Казанью достигли Камы. Среди густых лесов стояла гробовая тишина. Здесь волк и медведь по-прежнему оставались хозяевами тайги.
Следующей важной вехой на пути экспедиции стала станция Пермь. В этом городе, расположенном в конце караванных путей на западных склонах Урала, насчитывалось тогда всего 22 тысячи жителей.
Выпавший снег позволял путешественникам постоянно ехать в санях, а так как почтовые отделения обменивались телеграммами об их прибытии, дела пошли быстрее.
Уральский хребет приближался. Брем, конечно, ожидал невысоких гор, но при виде покрытых лесом холмов был слегка разочарован. Ворота в Сибирь мало чем отличались от родных хребтов Тюрингии. Уже тогда безмерное уничтожение лесов оставляло глубокие проплешины в лесных массивах.
Вот миновали и каменный обелиск, означавший начало Азии. В столице Урала была развита золотообрабатывающая промышленность и было много резчиков по камню. Именно в Екатеринбурге тогда изготавливали массивные произведения искусства для Эрмитажа.
Хлебосольная Сибирь
Дальнейший путь до Тюмени оказался сущей пыткой. Обледенелый снег то и дело перекрывал дорогу, и приходилось подолгу ехать в повозках по обочинам. Колеса вязли в прогалинах черной земли. Оси и ободья постоянно ломались. Вскоре после поломки багажной повозки та же участь постигла и пассажирскую.
Финш и Брем вынуждены были пешком добираться до ближней деревни, откуда местный староста на перекладных доставил их в Тюмень, предварительно показав свои владения.
Местная сибирская кухня оказалась тяжелым испытанием для не привыкших к таким разносолам и обилию еды немцев. То, что они представляли себе на родине, дома, стало жалким подобием реальности в доме их хлебосольного хозяина. Не успели они насладиться утренним чаем и кофе, как был накрыт основной завтрак. Он состоял из горячих блюд: дичи, мяса и рыбы. «Но прежде чем мы отправились в путь, нас уже ждал этакий шведский стол, накрытый всевозможными пирогами, ветчиной, колбасой, икрой, сардинами, сыром и различными алкогольными напитками. Каждому путешественнику по Сибири рекомендуется иметь мощный желудок».
Источник такого замечательного гостеприимства был вскоре обнаружен. У хозяина была не только должность старосты, которая не давала ему ничего, кроме престижа. Он являлся также совладельцем большой судоходной компании, которая владела большинством пароходов, ходящих по Оби и ее притокам. Они не только занимались перевозками пассажиров и товаров, но и транспортировали ссыльных и каторжников – до 15 тысяч за сезон. В Тюмени, основанной в 1586 году, жило тогда 18 тысяч человек, большинство которых работали на заводах и Игнатовской верфи. Кроме того, здесь обрабатывались шерсть и шкуры. Здесь же сходилось множество торговых путей.
Путешествие было продолжено в юго-восточном направлении. Вскоре снова сломалась ось повозки, что показалось плохим предзнаменованием. Похолодало, и оказалось, что «немецкие меха» легко пробиваются сибирскими морозами. Брем мерз отчаянно! Переправа через Пижму всей компанией всем показалась головокружительным делом. Пересечение Тобола также было опасным. Повозки спустили на лед по доскам, но одно колесо все же угодило в полынью и провалилось по ось. Едва успели вытащить повозку, как лед повсеместно начал трескаться…
На следующий день река проявила себя более гостеприимно, и путешествие можно было продолжить. Но все же весна давала о себе знать. Птицы стали строить гнезда для потомства, появились первые бабочки.
За Тюменью появились возделанные поля и песчаные сосновые перелески, напоминавшие родные земли под Магдебургом.
Хотя снег везде почти полностью сошел, дорога представляла собой месиво из грязи и ледяного крошева, что задерживало продвижение. Во второй половине дня 17 апреля достигли Ишима, одного из старейших городов Сибири, основанного в 1630 году. В тот же день переправились и через саму реку Ишим. Постепенно местность стала приобретать степной характер.
Вдали от торговых центров и больших дорог движение заметно сократилось. Время от времени встречались лишь пешеходы. Это были главным образом солдаты, отслужившие свой срок в армии, которые возвращались в родные деревни. Брем встречал мужчин, проведших в пути по одиннадцать месяцев! За это время они получали лишь небольшие пособия и жили попрошайничеством.
20 апреля пересекли еще покрытый льдом Иртыш. Омск, столица Западной Сибири, ни в чем не мог перещеголять Екатеринбург. То был убогий городок, состоявший из деревянных домов и бараков, разместившихся между Омью и Иртышом. В целях обеспечения управления удаленными от Москвы районами царское правительство давно наметило план создания центров в самой Сибири, чья первая задача заключалась в эксплуатации территорий и сборе торговых и таможенных пошлин. Коррупция и злоупотребления стали здесь корнем всех зол. Назначаемые сюда градоначальники старались как можно быстрее разбогатеть и как можно скорее уехать. М.М. Сперанский, который был назначен генерал-губернатором в 1819 году, пытался обуздать произвол местных воевод. Сибирь была разделена на два генерал-губернаторства. Реформы Сперанского немного улучшили положение дел, но основные социальные проблемы Сибири не решили.
Незадолго до приезда Брема генерал-губернатором Западной Сибири назначили генерала Казнакова. Ему подчинялись начальники Тобольской, Томской, Семипалатинской и Акмолинской областей. В продолжение реформ он развивал промышленность и торговлю, расширял транспортную сеть, совершенствовал систему образования. Его любимой идеей было создание сибирского университета на территории бывшей омской крепости – тем самым «бог войны должен был уступить музам».
Омск встретил путешественников пасхальными праздниками. Все магазины и лавки были закрыты, и с трудом удалось купить что-то для дальнейшей дороги.
Здесь, в Тюмени, кончалась сеть почтовых станций, и странники сами должны были заботиться о своих средствах передвижения для дальнейшего путешествия.
Предстоящий отрезок пути до Семипалатинска составлял около 800 километров и являлся самым длинным этапом по сравнению с пройденными. Расположенные вдоль реки деревни оказались заселены казаками, которые первоначально были размещены тут для обеспечения безопасности приобретенных Россией территорий. Затем они приобрели земли и стали разводить скот. Но при этом казаки всегда были военнообязанными и умели обращаться с оружием.
Несмотря на раннюю весну, растительности в степи еще не было. Но зато живности предостаточно. На свободных ото льда озерах и прудах вовсю гомонили гуси и утки. Из птиц в деревнях обычно приживались сороки, вороны, скворцы и, конечно, домашние и полевые воробьи. Вскоре за Омском можно было увидеть первые конусообразные, покрытые войлоком юрты скотоводов. Количество юрт увеличивалось с удалением от города. Но они не объединялись в селения, чтобы меньше платить налогов.
От тающего снега заметно повысился уровень воды в реках, и то и дело приходилось искать объездные пути. Сильный ветер гулял по округе, и порой трудно было удержать повозки в вертикальном положении. Того и гляди они могли опрокинуться.
Степь изменила свое лицо. Недалеко от стоянки она вдруг приобрела вид соленых дюн, с которых уже были видны дома города. На улицах Семипалатинска лежал толстый слой песка, и жена губернатора приветствовала гостей словами: «Добро пожаловать в нашу пустыню!»
К «желтой» земле
После скудных пайков во время пятидневной дорожной тряски рацион путников неожиданно поменялся. Губернатор Полторацкий, брат знаменитого исследователя Азии Н.А. Северцова, отнесся со всем вниманием к приему своих гостей. О путешествиях он знал не понаслышке и сам ездил в 1867 году с бароном фон Остен-Сакеном по Тянь-Шаню до Кашгара в Китае. Еще в Москве Финш и Брем обсуждали с пионером азиатских исследований Семеновым-Тян-Шанским свои планы, и тот известил Полторацкого об этом проекте. Губернатор планировал встретиться с гостями в рамках своей ежегодной проверочной поездки по Алтаю, чтобы проехать вместе с ними по этой горной системе.
Прежде чем расстаться с путниками, он пригласил Брема и Финша на охоту в Аркатские горы, которые лежали на их пути. Лагерь был уже разбит: семь богато украшенных коврами, со всеми удобствами, в том числе и мебелью, юрт. Место для пикника было расположено на плато, окаймленном горами. К полудню при очень плохой погоде добрались до района Аргали. Верблюды везли юрты и посуду. Непогода заставила отсиживаться в укрытиях. На следующий день дождь сменился на снег, и охоту пришлось заменить на этнический праздник.
Вечером 6 мая от юрт вернулись на главную дорогу, по которой быстро двинулись вперед при полной луне. Вскоре показались пики Тарбатайских гор. По дороге путешественникам встречались караваны, которые везли товары из Ташкента в Семипалатинск – расстояние почти в 2000 километров!
По прибытии в Сергиополь их встречали казаки в парадной форме. Во время привала Брем написал жене письмо: «Мой дорогой вайберль![27] Поскольку здесь имеется почта, пишу эти строки из нашего гнездышка, где мы остановились. Мы проехали всю ночь, и я очень устал, так что проспал большую часть дня для того, чтобы укрепить себя на предстоящий вечер. Мы пускаемся в путешествие сегодня, так как у нас мало времени, чтобы добраться до южных гор и Китая. На самом деле поездка будет все больше похожей на охоту на ведьм из-за огромного расстояния, на которое у нас слишком мало времени. Жаль, что мы проскакиваем через интересные места без остановки, нет возможности даже заносить их в дневник. Степи захватывают меня все больше и больше: какой роскошный материал для лекций! Я собираю жуков и черепа для Хорста, но собрал немного. С другими коллекциями работаю мало. Дневник для меня важнее всего. Каждый день и час думаю о тебе и детях и жду часа, который принес бы вести о вас. Со многими тысячами наилучших пожеланий снова и снова. Ваш верный старик».
Упомянутый в письме дневник – это не дневник в привычном смысле слова, а отрывочные зарисовки Брема, вошедшие потом в его работы, эссе о ландшафтах и животном мире, но особенно об обычаях и образе жизни коренных народов. Особо привлекательны с этой точки зрения личные наблюдения автора, его фиксация увиденного. Ведь здесь не было ни временного, ни эмоционального разрыва между событием и записью.
Эти записки пронизаны горечью, а порой и гневом из-за вечной спешки.
Несколько часов, отводимых на отдых, приходилось отдавать записям, а о систематической работе и говорить было нечего. На каждой почтовой станции Брем заполнял листки из блокнотов, которые постепенно собирались у его жены, – всего 19 блокнотов. Она расшифровывала каракули мужа и переписывала их аккуратным почерком[28].
Казацкий кортеж сопровождал путников из Сергиополя в юго-западном направлении. Дорога на первом этапе шла нормально. Волнистая степь была вся испещрена белыми пятнами соли. Повсюду виднелись голые каменистые холмы, но вскоре показались цепи гор и снежная вершина Алатау, южная точка в их путешествии.
Следующий день принес знакомство с Ала-Колем (Пестрым озером). Лагерь был разбит примерно на 10 метровой высоте над уровнем озера. Место было выбрано удачно. На переднем плане раскинулось озеро, чей противоположный берег едва угадывался. На западе и востоке выступали острова, а горы замыкали живописную панораму. По берегам рос тростник – настоящий птичий рай, в котором тем не менее находили себе пищу немало хищников – как рыб, так и зверей.
Из дневника:
Птичий рай
«Кто только не живет в этих зарослях – волк, кабан, следы которого мы нередко встречали, малый подорлик, ворон, певчие птицы, воробей, овсянка, хищники, чибисы, перепела, трясогузки, лебеди… Заросли тростника служат надежным убежищем для выведения птенцов».
Жизнь в лагере была приятной и разнообразной. Юрты оказались наиболее удобным жилищем и для научной работы, и для комфортного размещения.
Позади раскинулась степь, которая в то время выглядела как настоящий цветник. Между юртами паслись лошади и верблюды. Сопровождавшие группу казаки и казахи были в живописных мундирах. Все было бы полной идиллией, если бы не тучи комаров, роившихся вокруг юрт.
Дальнейшее путешествие продолжилось через каньоны засушливых предгорий Алатау. Несмотря на плохую погоду и снег, общий вид местности был непередаваем: цветущие пионы образовывали на склонах бескрайний красный ковер.
12 мая отряд достиг казацкой станицы в долине Лепса. Обилие воды вдохновило на земледельческие работы даже не проявлявших симпатии к этому занятию казахов. Брем назвал это местечко раем, впрочем, отметив при этом: «Вряд ли нужно утверждать, что здесь могло бы быть в сто раз больше полей и садов, чем в настоящее время находится под плугом и бороной, только если бы они захотели на этой земле по-настоящему работать».
В дополнение к сельскому хозяйству здесь разводили пчел: для бортничества богатая флора была прекрасным подспорьем.
Деревня лежала у подножия горы, в 900 метрах над уровнем моря. Окружающие горные цепи Джунгарского Алатау смягчали дневную жару. В зимний же период здесь случались сильные бураны.
15 мая совершили вылазку в предгорья. Тысячи цветов и пышная трава покрывали голые, безлесные склоны, на которых еще местами лежал снег. Вдали виднелись отроги гор на китайской границе. Хребет переходил в широкое плато, на котором в летнее время паслись стада.
Дальнейшая дорога привела путешественников к русско-китайской границе. Местный владыка Аир Даиров решил по-своему поприветствовать группу. В Удж-Арале царило оживление. Это был первый случай, когда иностранцы появлялись здесь в таком числе. Обрядившись в лучшие одежды, жители преподнесли на белой скатерти хлеб и соль.
20 мая они прибыли в русский пограничный пункт Багти. Контингент, служащий здесь, менялся раз в год, но офицеры жили подолгу, так что визит внес хоть какое-то разнообразие в их жизнь. Климат тут был нездоровым. Летом обычно стояла жара, зимой преобладали снежные бураны, которые бушевали по многу дней, так что люди, бывало, не выходили из дома неделями. Погода резко менялась. Всего за несколько минут полный штиль мог стать бурей и проливным дождем.
Для запланированного визита китайский губернатор по ту сторону границы подготовил целый ритуал встречи. По крайней мере сорок всадников в черных, синих, красных и желтых шелковых кафтанах организовали джигитовку. Около тридцати казаков на лошадях выстроились вдоль маршрута. Недалеко от Чукучака, резиденции губернатора, путешественников уже ожидал говоривший по-киргизски офицер, который имел приказ доложить вышестоящему командиру о прибытии гостей.
Город Чукучак в это время был почти полностью разрушен. Под влиянием мощного антифеодального восстания тайпинов (1851—1864) угнетенные национальные меньшинства мусульман-дунган на северо-западе Китая восстали против династии Цин. Поскольку правительственные войска были заняты подавлением тайпинского восстания в Восточном Китае, выступления поначалу были успешными. Это позволило дунганам в провинции Ганьсу осадить в 1867 году Чукучак. Однако разногласия, внутренняя борьба за власть и отсутствие централизованного руководства у восставших – все эти факторы позволили властям подавить выступления.
Во время ожесточенных боев город Чукучак, где в настоящее время располагалась резиденция губернатора, был опустошен.
Гостей пригласили на банкет. На столе стояли небольшие чаши со всевозможными фруктами, овощами и сладостями. Мяса явно не хватало. Была подана рисовая водка в маленьких чашечках. Брем лишь пригубил глоточек из интереса. После «обеда» пытались завязать разговор, который не клеился из-за того, что вопросы и ответы произносились на четырех языках – русском, немецком, китайском и киргизском – и возникало непонимание. Хозяева и гости ограничились лишь отдельными репликами. Все поспешили разойтись по своим юртам, к тому же захворал Финш, и ему понадобилось несколько дней покоя. Именно это время Брем с пользой потратил на охоту, наблюдения и приведение в порядок своих записей.
Рядом с лагерем находился аул калмыков. Брем посетил его несколько раз и раздобыл для дневника ценные этнографические сведения. Их главное богатство, как и у всех кочевых народов, состояло в крупном рогатом скоте.
Хотя здоровье Финша не улучшилось, решили двигаться дальше. Путь лежал через долину реки Эмель. Везде виднелись следы разрушений. Можно было ехать в течение нескольких дней, не увидев ни единого человека.
Чем дальше проникали на территорию России, тем больше ситуация менялась. До сих пор пустынная степь оживала. Появлялись селение за селением. Начались дома. Наконец показался Бургусутай, казачий форпост в этих местах. 25 мая местный доктор осмотрел Финша и нашел, что тот уже поправился и все могут двигаться вперед.
Алтай и его жители
Поскольку путь в Зайсан все время шел под гору, добрались до него быстро. Каньоны почти неуловимо менялись на безлесные конусообразные горы, которым, казалось, не было видно конца. После прохождения последних горных ворот наконец спустились в долину Черного Иртыша, откуда уже видны были покрытые снегом горы Алтая – следующая цель путников.
Зайсан был основан в 1867 году, но быстро стал вполне развитым центром торговли с Китаем. Отсюда гости совершили поездку в горы Маурак понаблюдать редких уларов – горных индеек из отряда куриных. Они по поведению и внешнему виду напоминают домашнюю курицу, но по размерам намного ее превышают.
Проводником вызвался местный охотник, который знал, где можно найти осторожных птиц. Путь оказался дольше, чем предполагалось. Гора следовала за горой, долина за долиной, а дорога все не кончалась, пока наконец проводник не велел остановиться. Теперь пришло время подняться по склону горы. Примерно через час услышали первого улара. Но впереди еще был долгий путь, чтобы увидеть птиц хотя бы в бинокль.
Зайсанцы, а особенно доктор Пандер, сын знаменитого анатома из Галле, уже долгое время живший и работавший здесь врачом, приняли их с распростертыми объятиями. Они даже устроили праздничный вечер, который закончился танцами и фейерверком. Парк был освящен фонариками, а казачий хор исполнил свои лучшие песни.
31 мая продолжился поход к горам Алтая. Долина Черного Иртыша вовсе не была бесплодной. Степные земли требовали только орошения и обработки, чтобы стать житницей всего края. «Тысячи людей могли бы жить здесь припеваючи, даже богатеть, только бы найти хозяев, которые могли бы выжать из этой земли ее силы», – отметил Брем в дневнике.
Иртыш распадался перед впадением в Зайсанское озеро на множество рукавов. 1 июня состоялась первое плавание на лодке, в которую поместилась сразу вся группа. Двигаясь на веслах и с помощью течения, путники любовались новыми берегами в обрамлении высоких гор. Около устья Иртыша расположились лагерем. Обилие рыбы в озере Зайсан просто поражало, но ее практически не использовали, добыча икры не велась. Люди брали только лакомые куски добычи и выбрасывали большую часть улова.
Чрезвычайно мелкое озеро, чьи размеры в три раза превышают размеры Женевского, имело бесчисленные места для обитания водных птиц. Для его исследования нужна была отдельная экспедиция. Но, конечно, нехватка времени не позволила ученым задержаться здесь.
Следующий отрезок пути пролегал через участки речного русла, покрытые валунами и галькой. Не было видно ни реки, ни озера, ни даже самого маленького пруда. Пересохшая глиняная почва была вся в трещинах. Очевидно, вода собирается здесь весной в небольших застойных болотцах, которые летом пересыхают. По рассказам местных жителей, здесь должны были водиться куланы. Надежда увидеть их неожиданно осуществилась.
Однажды утром удалось заприметить стадо из 15 куланов. Плотно сомкнув ряды, великолепные животные, поднимая облака пыли, вихрем промчались мимо. Очевидно, куланы выбрали для проживания эту безводную, бедную растительностью местность из-за того, что она менее всего населена человеком.
Опасались, что ночью в лагере появятся гадюки. Местное средство против змеиного яда обычно не помогало. «Обычно читают что-то из Корана, одновременно вскрывая рану и отсасывая яд, кладут опиум, укушенную конечность погружают в воду и затем намазывают змеиным жиром. Укушенные страдают, несмотря на все эти меры, по несколько месяцев, иногда – лет», – писал Брем. К счастью, Альфреду и его спутникам удалось избежать укусов и на себе не испытывать действенность местных средств.
После скучного степного пейзажа 4 июня путешественники попали в цветущий сад. Широко раскинулись зеленые лужайки и красочные поля.
Наконец были достигнуты живописные предгорья Алтая, где намечалась встреча с губернатором Полторацким.
Около полудня облако пыли и стук копыт возвестили о его приезде. В авангарде шествия шли 60 кобыл – живых носительниц свежего молока для кумыса. Затем следовали казахские сановники, в том числе несколько баев с многочисленной челядью. В сравнении с ними небольшая группа экспедиции с сопровождающими ее восемью казаками и десятью слугами выглядела более чем скромно…
Встреча с губернатором и его семьей прошла очень тепло. На встречу прибыли 50 казаков. Городок из юрт приобрел облик одновременно и полувосточного поселения. Поскольку Полторацкого ждали, дальнейшие события выстраивались весьма успешно, и красочно одетые всадники дополняли волшебные пейзажи. Правда, менее дружественно вела себя погода. Сильная гроза никак не хотела кончаться. Постоянно в небе висели все новые и новые темные тучи. До дня отъезда ничего практически не изменилось. Ледяной дождь намочил и без того плохие дороги.
Из дневника:
По краю пропасти
«При настоящем презрении к смерти мы ехали то в гору, то под гору, по самому краю пропасти, пересекая потоки и болота, в которых наши лошади увязали по брюхо. Помимо наших сопровождающих и их служащих, их вьючных животных, которые несли багаж, части юрт и кухни, нас сопровождало по крайней мере 20 авторитетных лиц из числа сановных киргизов, и почти все из них имели при себе слуг. В свите генерала и его семьи состояли переводчики и писцы, которых губернатор провинции обязан был иметь всегда при себе, а также повар и дворецкий и около 20 казаков и несколько приглашенных гостей – где-то от десяти до пятнадцати».
Там, где это было возможно, лошади бежали рысью, но в основном ехали шагом. Через каждые 50 километров устраивали привал. Как только ставились юрты, команда возводила палатки. К ночи красочный городок уже стоял, но сам ночной сон нередко прерывался сильным дождем: он капал с потолка и лил через дверной проем, сопровождаемый сильным ледяным ветром. Не редкостью утром был слой снега в несколько сантиметров высотой. Это был один из самых влажных высокогорных районов, и зима здесь долго вела битву за первенство с весной. Пока участники поездки тряслись от холода в одеялах и мехах, казаки спокойно коротали ночи в палатках, иногда даже полностью на открытом воздухе. Животные вообще, казалось, не испытывали холода: они равнодушно паслись на заснеженных склонах…
Чем ближе подъезжали к высокогорному озеру Мараколь, тем гуще становились леса, в которые, как писал Брем, еще не ступала нога человека.
Из дневника:
Первозданные леса
«Безуспешно пытаться проникнуть внутрь такого леса. На склонах гор мешают заросли, в низинах – болота и распадки. Всюду огромные массы щебня, чередуясь или вернее соревнуясь в размерах с комьями земли, где лишайники опутывают все вокруг, а мхи затыкают любые отверстия между камнями и даже между скалами. В глубине этой заброшенной земли каждое дерево или куст стоят на небольшом островке, которые они себе создают сами, и везде течет вода, покрывая грязным одеялом все вокруг. Могучие деревья лежат поваленные необузданными ураганами, бушующими постоянно. Некоторые из деревьев давно сгнили, другие нашли в себе силы приподняться и выпустили молодые побеги, которые сами уже дали корни рядом с поваленными гигантами. Все вокруг в дикости и первозданном виде…»
Окаймленное высокими горами озеро оказалось великолепным образчиком альпийского водоема. Тихо и величаво оно демонстрировало зрителям все новые и новые красоты. Только летом пастухи расставляют здесь свои палатки на несколько недель. Лишь изредка рыбаки забрасывают сети. Первозданная природа сохранилась вокруг, и особенно это касалось птичьего мира.
В мгновение ока казаки своими примитивными орудиями лова поймали столько рыбы, что большая компания была не в состоянии всю ее съесть.
Еще более трудным, чем восхождение, оказался спуск. Опасными были прежде всего горные потоки. Небо все еще держало свои хляби разверзнутыми, и красивые горы являлись холодными декорациями. Было удивительно, что неподкованные лошади спотыкаются на скользкой поверхности не чаще, чем подкованные.
Облака и туман сделали почти невидимой величественную вершину Белухи (4506 м) с ее сверкающими ледниками. После головокружительного спуска подножие горы было наконец достигнуто.
Ясным солнечным днем долина вокруг села Алтайское казалась истинным природным парком. Путешественникам готовили тут теплый прием. Казаки играли на балалайках и лихо плясали. Но вот все благодарственные речи, в которых Брем оттачивал свой риторический талант, тосты и пожелания окончились. Утром солнце, как бы прощаясь, осветило сразу весь пейзаж вокруг. Постепенно леса исчезли, уступив место лугам, снежные годы отступили и в конце концов полностью исчезли из поля зрения.
Узкая долина раздвинулась, освобождая место равнине, на которой обнаружилось несколько красивых и ухоженных деревень.
Алтайская деревня Медведка считалась уже около десяти лет поселением старообрядцев. Здесь обитали верующие, не принявшие реформу патриарха Никона и продолжившие отправлять старые обряды. Подвергшись преследованиям, многие бежали в Польшу. Поскольку их убежища там вновь оказались в районах, перешедших к Российской империи, они снова подверглись гонениям. Но бескрайние просторы Сибири требовали освоения, и для колонизации нужны были смелые люди и особенно трудолюбивые крестьяне. И Екатерина Великая издала манифест, который позволял всем вероотступникам и сектантам вернуться и поселиться в Сибири и других отдаленных регионах, получив привилегии. Так началось массовое переселение старообрядцев в Сибирь. Здесь они жили в строгом соответствии со своими религиозными законами и обычаями, которые передавались из поколения в поколение. Староверы одевались в нетрадиционное платье. Мужчины носили шелковые шаровары, их окладистые бороды отращивались до пояса. Дома содержались в чистоте и порядке. Гостеприимство, также по отношению к инаковерующим, имело первостепенное значение. Всюду царило строгое воздержание: употребление алкоголя здесь запрещалось.
Особо было запланировано для гостей посещение шахты в Зыряновске, где добывалась руда нетрадиционным способом. «Все приспособления вели родословную из старых времен, ни одна паровая машина не была задействована, многие насосы по-прежнему приводились в движение человеком, подъемники движимы лошадьми. Порох до сих не вытеснен другими взрывчатыми веществами», – отмечал Брем в дневнике после визита. Около 600 рабочих трудились здесь в ужасных условиях под землей. В основном это были нищие казахи, которые искали на зимние месяцы работу в качестве сезонных рабочих за мизерную плату.
В этом же месте побывали за много лет до Брема немецкие исследователи Александр фон Гумбольдт и Генрих Котта.
Путь к Иртышу пролегал через плодородные земли. Через пять часов езды стали видны горы левобережья. На Верхней пристани, где руда из шахт отправлялась на плавильные заводы, начался водный этап передвижения экспедиции. Иртыш здесь был намного уже, чем до впадения в озеро Зайсан. Он зажат между вертикальными скальными стенками, перемежаемыми лугами. Эта частая смена гор и долин делала путешествие особенно интересным.
Из Усть-Каменогорска семья губернатора Полторацкого отправилась в обратный путь. Ну а для участников экспедиции следующей остановкой стали шахты Змеиногорска, правда, на то время закрытые, где проводил исследования еще сам Гумбольдт. Рядом находился камнерезный завод в Колывани, куда и нанес визит Брем. Впервые производство здесь было создано в 1727 году, но потом прикрыто из-за малой производительности. В то время на заводе уже несколько месяцев делали какую-то огромную вазу для Эрмитажа. На транспортировке цельного куска яшмы из карьера в дробильное отделение было задействовано около 400 человек в течение 8 дней! Шлифовальные работы длились три года.
Караваны с рудой по 100—150 телег безнадежно испортили дорогу на Барнаул, так что у путешественников неожиданно появились несколько дней передышки в центре Западно-Сибирской равнины. Время целиком ушло на записи и переупаковку коллекций. Брем писал жене: «Ты получишь дневник со следующей почтой, но там будет так много записей, что его придется переписывать несколько недель. В продолжении я пришлю тебе описание киргизского народа, о котором, вероятно, придется писать не раз и много»
Начатое Бремом 22 июня этнографическое исследование не было таковым в строгом смысле слова. Но в каждой строке этого блестящего эссе ощущается любовь к казахскому народу. Брем начинает его словами: «Теперь, после почти полуторамесячного знакомства с киргизами, настало время рассказать об их обычаях и привычках…»
Друг природы, натуралист, конечно, уделяет много места отношению казахов к животным: «Несравненно более ценным богатством, чем юрты, ковры и одежда и уж тем более чем совсем бесполезная здесь серебряная посуда, являются их стада. Даже самые бедные киргизы, чтобы выжить, должны обладать по крайней мере несколькими лошадями. Стада же богатых насчитывают тысячи и тысячи голов. Я убедился, что отдельные богачи обладают поголовьем до 12 тысяч лошадей, в два раза большим числом коз и овец и 300—400 верблюдами. Лошадь всегда была мерилом ценностей, именно ею измеряется приданое жениха, а цена верблюда рассчитывается по стоимости коня. Киргиз без лошади – это то же, что у нас бездомный человек. Без нее он считается беднейшим существом под солнцем. Лошадь самое главное, наиблагороднейшее из домашних животных.
С лошадью связана значительная часть народной поэзии. Потребности стада определяют весь ритм жизни пастухов».
Стада не только определяли ритм кочевой жизни. От них зависело и распределение ежедневной работы. Брем отмечает: «Казах производит на непредвзятого наблюдателя весьма благоприятное впечатление, и оно усиливается с более длительным знакомством: живой ум, здравые суждения, разумность, при условии, что он занимается хорошо известными вещами, миролюбие и готовность прийти на помощь… Все это представляет его как доброго и отзывчивого человека».
Барнаульский музей оказался для Брема кладезем полезной информации. Здесь хранилась коллекция насекомых врача и естествоиспытателя Фридриха Геблера (1782—1850), который неустанно трудился здесь с 1808 года как доктор, заботящийся об улучшении условий жизни сибирских шахтеров. Он составил коллекцию во время своих геологических и биологических экскурсов по Алтаю. Его преемник фон Думберг также прилежно изучал местную природу. Он собрал большой гербарий, который позже был представлен в королевской коллекции в Берлине.
Основой музея было минералогическое собрание и комната с паровым двигателем, который создал великий русский изобретатель Иван Ползунов (1728—1766). В отличие от других типов паровых двигателей эта модель была предназначена не только для перекачки воды, но и для управления мельничной техникой.
Менее благоприятным было состояние птичьей коллекции. Причиной тому – недостаточная квалификация местных коллекционеров. Что и говорить, даже лучшие собрания европейских музеев страдали тогда от плохой подготовки препараторов. Что взять с бедного краеведческого музея далекого Барнаула?
Любопытный по натуре Брем посетил также сталелитейный и другие заводы. Вообще, надо сказать, что Барнаул, в котором в то время жило 30 тысяч человек, произвел на него самое благоприятное впечатление.
Чтобы не обременять себя в пути уже значительно выросшей коллекцией, 13 больших деревянных ящиков были направлены почтой в Санкт-Петербург.
Здесь придется прервать плавный рассказ о путешествии в силу особых обстоятельств. Дело в том, что ранее считалось, что на русском языке о жизни Брема не сохранилось никаких свидетельств, тем более воспоминаний кого-либо, кто встречался с ним во время его поездки по России. Но, оказывается, такие воспоминания имеются. И отдельные отрывки из них мы здесь приводим по тексту журнала «Алтай». Примечательно, что в них содержатся детали, которые помогают лучше понять характер и поступки замечательного натуралиста.
«Этот милейший человек…» (Из воспоминаний о Бреме барнаульца) А.А. Черкасова
Весною 1876 года мы с радостью узнали, что Брем уже путешествует по южной окраине Алтая и в скором времени будет в Барнауле. Я тогда еще служил в Сузунском медеплавильном заводе и соболезновал о том, что лично не увижу такого популярного человека. Какова же была моя радость, когда меня, как управляющего заводом, потребовали по делам службы в Барнаул. Я ожил надеждой повидаться с Бремом, а с этим чувством явилось упование провести с ним несколько дней и побывать на охоте, так как о таком предположении я слышал ранее, когда еще только ожидали приезда любимого натуралиста.
Прибытие немцев в Барнаул
…Кажется, в конце мая или начале июня, хорошенько не упомню, ожидаемая экспедиция прибыла в Барнаул и поместилась в особо приготовленной квартире, хотя и невзрачной, но на главной, Иркутской улице…
Во время этого посещения на Алтае был горным начальником Юлий Иванович Эйхвальд, крайне любезная и симпатичная личность, которая умела радушно принять и угостить дорогих гостей. Нечего и говорить, что г. Эйхвальд виделся с Бремом каждый день то у себя, то у него на квартире. Когда же начальник делал более дружеский, нежели официальный обед, чествуя ученых путешественников, то и мы, собравшиеся в Барнаул управляющие со всех концов обширного Алтая, участвовали за этим столом и лично покороче познакомились с достойными представителями науки. Нельзя не заметить однако того, что многих из нас, за исключением Эйхвальда, кровного немца, стесняло незнание немецкого языка настолько, чтоб можно было говорить на нем. По этому случаю нам приходилось почти только слушать нескончаемые рассказы красноречивого Брема и не раз пожалеть о том, что не можем лично делиться своими впечатлениями с гостями, а затруднять постоянно хозяина, как переводчика, было не совсем удобно. Впрочем, когда мы порядочно подвыпили, то уже не стеснялись и говорили где одними главными словами, где пантомимой, где руками, и хохоту не было конца.
Все три путешественника были очень простые, веселые и симпатичные люди, а в особенности Брем. Он всех присутствующих смешил до слез, в особенности когда на столе оказывалось порядочное количество пустых бутылок со всевозможными русскими и заграничными этикетками. Все-таки надо сказать, что господа Финш и граф Вальдбург-Цейль несравненно серьезнее и как бы черствее весельчака Брема, к тому же они не обладали даром красноречия, что было в избытке у последнего. Вообще эти личности как-то не так располагали к себе, как Брем, которого и они слушали с видимым удовольствием и как бы гордились своим разговорчивым собратом. Финш и граф как-то держали себя не так, – что вытекало из их натуры, – что с ними и на «втором взводе» приходилось быть на приличной дистанции, тогда как Брем сразу так сердечно, братски располагал к себе, что невольно представлялось, будто ты давным-давно знаком с этим милейшим человеком. Общее между ними было то, что они все трое не стеснялись выпивкой и могли перепить всех нас, взятых вместе, нисколько не выходя из границ дружеской беседы, а будучи, что называется, только «веселы». Но и тут Брем отличался от своих товарищей: он пил гораздо больше и был все-таки не слабее их.
Сибирское хлебосольство
Нельзя забыть того завтрака, 13 июня, в день святого Антония Падуанского, у аптекаря г. Сандзера, на котором гости кушали, не стесняясь, и удивлялись изобилию сибирского угощения в том смысле, что на громадном, прилично сервированном столе, кроме иноземных закусок, стояли на блюдах большие части телятины, ростбифа, ветчины, целые поросята, индейки, галантированная нельма и прочие принадлежности сибирского жирноядения. Недоставало только пельменей, но этим туземным кушаньем угостили дорогих путешественников впоследствии, и пельмени им очень понравились, но не совсем удобно отразились на непривычных немецких желудках, так что Финш и граф оба порядочно прихворнули, только один Брем благополучно вынес и эту пробу сибирского хлебосольства.
На завтраке Брем был крайне весел, пил и ел за троих и в это же время рассказал в юмористическом духе целую историю о «пище святого Антония», что и подобало при таком удобном случае.
Однако же, несмотря на эти дружеские и почти ежедневные угощения, Брем вставал довольно рано и находил время вести свои путевые заметки прямо набело и тотчас посылать их своей супруге в Берлин для печати.
Он писал эти записки или письма всегда стенографическим способом чрезвычайно скоро, что, конечно, крайне сокращало и время, и труд. Письма такого сорта я видел своими глазами и, конечно, не мог не удивляться талантливости и изумительной способности этой замечательной личности.
Что Брем умел читать по-русски, то и в этом мне пришлось убедиться лично.
Подарок
Когда мы познакомились с ним поближе, мне захотелось презентовать ему свой мизерный труд, и я, по совету г. Эйхвальда, поднес ему свою книгу в хорошем переплете. Брем дружески поблагодарил меня за подарок, крепко-крепко потряс мою руку и, взяв книгу, громко и четко, с расстановкой, прочитал по-русски заглавие – «За-пис-ки охо-тни-ка Во-сточ-ной Си-би-ри»; а когда увидал на первом пробельном листке разборчиво и четко написанную мною приличную надпись и четверостишие, то обратил внимание на последнее и начал было читать, но не мог, а потому обратился ко мне с вопросом: «Вас ист дас?» Я сначала прочитал ему по-русски.
Брем! Муж познаний и науки, Когда заснуть не можешь ты — Возьми, брат, эту книгу в руки И сон прервет твои мечты…Он, видимо, не понял и потряс головой, а когда я тут же передал ему немецкий перевод, сделанный мне стихами же доктором Гопфенгаузом, то Брем расхохотался, замахнулся на меня книгой, обнял по-братски и поцеловал три раза. Затем подали кофе, он бросил свои занятия и показал мне свои ружья – два превосходной работы двухствольных дробовика и такой же штуцер. К сожалению, у одного дробовика была переломлена в шейке ложа, так что Брем ужасно кипятился, ругая наши сибирские пути на перекладных экипажах. Он спросил меня, можно ли в Барнауле поправить эту поломку, и когда получил отрицательный ответ, то с грустью покачал головой, посмотрел на ружье, потом запел какую-то веселую песенку и аккуратно уложил ружье в приспособленный ящик.
Семейное торжество
…В день рождения нашего сослуживца и собрата по оружию, 14 июня, собралась большая компания у виновника торжества Владимира Александровича Карпинского. Конечно, любезный хозяин пригласил и дорогих заграничных гостей, но на семейный праздник явился только один Брем, потому что его спутники прихварывали после понравившихся им пельменей. Вечер прошел крайне оживленно и весело; Брем, по обыкновению, много рассказывал, смешил и любезничал с хорошенькими дамочками. Тут мы пригласили его на дупелиную охоту, с тем, чтоб ехать на лодке завтра утром. Брем крайне любезно принял наше предложение и пожелал тут же узнать, кто именно из нас поедет охотиться, чтобы сейчас же ближе познакомиться с ними. Желающих ехать нашлось более 10 человек, так что дорогой наш гость даже удивился такому числу присутствующих охотников и весело спрашивал, кто и как из нас стреляет.
Получив сдержанные ответы, он несколько прихвастнул, посмеялся над нашей стрельбой и сказал, что он, конечно, всех нас обстреляет, потому что бьет дупелей без промаха.
Уговорившись окончательно между собою, мы решили ехать на трех лодках, с тем чтобы на одной путешествовала за нами приличная закуска с необходимой на этот раз прислугой. Окончив совещание, мы попросили Брема быть готовым к пяти часам утра и ждать лошадей, на которых он должен будет приехать к сборному пункту. Брем, поблагодарив еще раз за любезность, сказал, что он не проспит и аккуратно прибудет к назначенному месту.
Охота на дупелей
В утро 15 июня тихо и матово выкатилось солнце из темной дали обширного Заобья. В воздухе царила тишина, и только с реки потягивало приятным влажным холодком. Серые чайки плавно носились над Обью, как бы бесцельно кружились или тряслись над одним местом и бойко бросались в воду на намеченную добычу. Приготовленные лодки давно стояли на месте у берега, ожидая отъезда, но было еще рано, а потому удалые гребцы сидели беззаботно на берегу, толкуя между собою, да покуривая коротенькие «носогрейки». Город пока спал; только заботливые дворники то подметали улицу, то гремели пустыми бочками, отправляясь за обской водой, потому что вода Барнаулки нечиста и жестка. Растрепанные стряпки выгоняли в калитки коров, то благословляя, то прогоняя их увесистым прутом на поле; молочные буренушки, то, тихо помыкивая, выходили на улицу, то, задрав хвосты, опрометью выскакивали из дворов и, делая разные неграциозные «антраша», бежали в переулок… Кое-где на кухнях топились уже русские печи, и дым ровными столбиками поднимался над пробуждающимся городом. Некоторые обитые металлом кресты на церквах горели ясными звездочками от лучей тихо показывающегося солнышка. По скотским проулкам поднималась легкая пыль и слышалось мычанье коровушек, оставляющих за собой характерный запах на свежем утреннем воздухе…
…Было уже около пяти часов, когда я подъехал с разными принадлежностями к сборному пункту. Хозяин дома, уважаемый старичок Козлов, вышел навстречу, совсем уже готовый к отъезду, и, приветливо поздоровавшись, радостно сказал:
– Ну и день будет богатый!
– А кто сказал вам об этом?
– Как кто сказал? Да разве вы не заметили, как плавно и без блеска выплыло солнышко, а это, батенька, у нас, стариков, первая примета. А вот как вынырнет вдруг да заблестит сразу, ну то и говори, что толку не будет.
– Савелий Максимович, все ли у нас готово?
– Мое все в исправности, лодки на месте, люди готовы, а что касается до других, то не знаю.
Показалась телега, и наш штатный официант Афанасий Панкратьевич появился со всеми принадлежностями полевой обстановки, с приличным количеством разной закуски и немалым числом разнообразных бутылок, из которых некоторые стояли в ведрах, наполненных льдом и только выказывали свои залитые особым сургучом горлышки. Поговорив с нами, он проехал на берег и стал укладываться в приготовленную для этой цели особую лодку.
– Интересно, много ли охотников соберется? А желающих было немало, – сказал я.
– А вот посмотрите, что и половины не будет.
– Ну? Не может этого быть.
– Всегда так бывает, я уж, откровенно говоря, привык, – сказал Козлов.
В это время к нам подъехали трое. Пошли приветствия, толки, и все мы с нетерпением поглядывали вдаль по Иркутской улице, где у квартиры Брема стоял наш первый извозчик Федор Воронин.
На колокольне пробило пять часов.
Мы уселись на скамеечку у ворот и все еще поджидали других товарищей, но, увы, более не было никого, а вместо охотников, верхом и пешком, прилетели посланцы с разнокалиберными записочками. В этих цидулах мы прочитали различные мотивы вежливого отказа. Кто проспал и не подготовился, у кого заболела головушка, кого уговорила жена, а кого и «мама не пустила».
– Ну что? Правду я вам говорил? – сказал Козлов, лукаво посмеиваясь.
Мы только пожали плечами, подтрунили над многими собратами и заметили, что к Воронину из подъезда вышла здоровенная фигура Брема. Он положил на длинные сибирские дроги охотничьи принадлежности и покатил в нашу сторону.
Когда подъехал к нам экипаж, мы все встали и дружески приветствовали Брема, но он окинул нас опытным взглядом и весело заметил, что еще вчера на вечере составил себе понятие о тех личностях, которые действительно собрались ехать, и тех, кои давали свое согласие из одного приличия.
– А это отчасти и лучше, – заметил он шутя, – потому что большое количество охотников не везде возможно и удобно, особенно на дупелиной охоте.
Мы покурили, немного побеседовали, затем весело отправились к лодкам.
Оказалось, что нас собралось всего шесть человек: Брем, Савелий Максимович Козлов, аптекарь Мориц Адольфович Сандзер, инженер Владимир Алексеевич Таскин, лесничий Антон Викентьевич Турчанович и я. Тут надо заметить, что г. Сандзер, в сущности, не охотник, а поехал с нами из желания чествовать дорогого гостя и как переводчик, а г. Таскин – приятно провести время в дружной компании и побывать в обществе Брема, этой мировой известности.
Так как погода стояла тихая, а приготовленная лодка была настолько солидных размеров, что могла свободно принять и еще, пожалуй, такое же количество охотников, то мы все очень удобно разместились по лавочкам судна, комфортабельно уселись на ковры и подушки так, что Брем оказался у нас в середине, как раз на первом месте от рулевого. Отсюда ему было удобно наблюдать широко видимые окрестности берегов Оби и говорить со всеми нами.
Превосходное июньское утро, радостно отражаясь на всех нас, как-то располагало говорить без умолку и замечать в окрестностях те частности, которых мы как бы не видали прежде, точно их тут никогда и не было. Все это мы заметили сами, тут же посмеялись друг над другом и приписали такое состояние особому настроению души, которая в известный момент восторженнее относится ко всему тому, что прежде, при других условиях, казалось обыденной вещью. Брем восхищался грандиозностью разлива воды на широкой сибирской реке и пытливо окидывал взором эту массу вод, клубящуюся до пены, вертящуюся местами воронками и все это, вместе взятое, плавно несущееся к далеким берегам холодного моря.
… В тихое утро плавно и бойко плыли наши лодки вниз по широкому раздолью коренного разлива реки. Было чем полюбоваться на этом просторе; все это рельефно отражалось на состоянии духа Брема, и он все восхищался многоводной рекой, сравнивая ее с другими, а, цепляясь за эту нить, много рассказывал о своих путешествиях. Скоро мы наискось пересекли все водное лоно и пристали на незатопленные гривы (возвышенности) противоположного берега, около речки Чебачевки. Тут мы вылезли из лодки, поправились и любезно указали Брему лучшие места, где можно встретить дупелей.
Собак с нами не было, и мы попросту, разместясь рядом на позволяющих по месту дистанциях, пошли около мочажин. Скоро начали срываться дупеля и пошла пальба. Я шел рядом с Бремом и, по счастию, нисколько не торопясь, убил уже трех птиц, между тем, как чествуемый нами гость начал сначала не выдерживать и пуделять при удобных выстрелах.
– Хе! Доннер веттер![29] – то и дело восклицал Брем, провожая глазами улетающего долгоносика (утку) и на ходу заряжая свою централку.
Но вот он, сделав удачный дуплет, громко закричал: «Ура! ура!» и тут же, как нарочно, из-под самых его ног вылетел дупель; Брем приложился и спуделял снова.
– Хе! Швайнерай! Швайнерай![30] – кричал он уже тише и хохотал над своей неловкостью, видя, что мы по первому крику остановились и обратили на него внимание.
Мы нарочно не трогались с места, закурили папиросы и как бы дали возможность поправиться дорогому гостю. Он воспользовался этой паузой, утер с лица пот и закурил сам. Затем мы отправились далее, но скоро прошли незатопленные гривы и должны были воротиться, чтоб уехать на другое место, где, по нашему предположению, можно было встретить более обширное поле с наилучшим запасом дичи.
«Заморить червячка»
Подойдя к лодкам, мы любезно предложили выпить «шнапсу» и «заморить червяка». Брем тотчас обратил внимание на это последнее выражение и попросил нашего переводчика г. Сандзера объяснить ему, что оно значит; затем просил дословного перевода и, получив таковой на немецком языке, записал в свою памятную книжку.
На Чебачевке нам удалось убить только несколько дупелей, так что собственно охота не интересовала, а потому Брем рассказывал свои похождения, пил, не стесняясь, преимущественно красное вино и изрядно закусывал сибирскими пирожками. Он говорил, что в Германии таких вещей не приготовляют и что их «фрауен» (женщины) пробавляются более на картофеле и колбасе.
Но вот все уселись в лодку, гребцы дружно налегли на весла, и мы снова покатили вниз по воде.
Охотничьи байки
…Между прочими рассказами Брем предложил нам, уже как охотникам, такой вопрос:
– Если за зайцем гонятся две собаки – одна черная, другая белая, то почему он более боится последней и удирает преимущественно от белой?
Мы делали разные предположения и никак не могли догадаться, в чем дело. Тогда Брем, смеясь от души, объяснил нам, что испуганный заяц все-таки соображает и боится белой собаки потому, что он воображает, что черная бежит за ним в одежде, а белая наоборот – сбросила с себя «фрак» и дует в одной сорочке, что, конечно, облегчает ее бег.
На это Сандзер тотчас нашелся и задал ему вопрос такого сорта:
– Ну вот вы, герр Брем, натуралист, так скажите, пожалуйста, под какой куст преимущественно прячется заяц во время дождя?
Брем в свою очередь, как ни ворочал мозгами, не смог, как и мы, отгадать соли вопроса; он делал различные предположения, но не попадал на суть и наконец гомерически расхохотался, когда Сандзер шутливо сказал ему, что так как идет дождь, то несчастный заяц прячется преимущественно под мокрый куст, а не под какой-либо особого вида…
«Синий воробей»
Когда мы подъезжали к так называемому «Токаревскому лугу», то нам попался на ветке кустарникового побережья Оби «синий воробей» – вид зимородка. Брем тотчас заметил эту довольно редкую в Сибири птичку и убил ее для своей коллекции.
Он просил нас достать замечательное гнездо этой пичужки, но никто из нас не дал такого обещания, потому что синий воробей делает свое гнездо в крутых берегах, в земле, и собирает его чрезвычайно искусно из самых мельчайших костей добываемых им рыбок, за которыми он, как пуля, бросается в воду.
На Токаревском лугу
…Часов около десяти утра мы уже причалили к Токаревскому лугу или, лучше сказать, большому Обскому острову, который тянется на несколько верст, занимая большую поверхность по квадратному измерению. На нем пропасть сенокосных дач, лесных колков, всевозможной формы озер, береговых кустарных зарослей и таких грив, какие не заливаются и коренной водой. Тут бывает иногда множество дупелей, которые гнездятся и выводят молодое поколение, не обращая внимания на то, что бьют их с самой весны охотники и переводят промышленники, несмотря на запрещение ловить силками и сетями на токовищах. Промышленность эта ужасна в смысле истребления дичи, а исполнители закона слишком слабы для того, чтобы преследовать этот варварский способ добычи.
…Выйдя на Токаревский берег, мы разместились тем же порядком и, по указанию старого охотника Козлова, превосходно знающего местность, отправились по тем незатопленным лугам и гривам, где преимущественно водились дупеля.
Брем ходил по-прежнему рядом со мной, и в то время, когда начали чаще срываться с мочагов дупели, он тотчас убавлял шаг и постоянно покрикивал мне и другим: «Лангзам! Лангзам (помедленнее, тише)!»
Хитрый коростель
Тут он стрелял очень порядочно и пуделял редко. Никогда не забуду я того случая, как из-под моих ног тихо вылетел коростель и, с отвислым задом и неуклюже болтаясь, потянул прямо передо мной и Бремом. Мы оба выстрелили по два раза по очереди и все-таки не убили этого негодного каналью, будто нарочно подразнившего нас. Брем остановился, снял шляпу и, кланяясь отлетающей и напуганной нашими салютами птице, шутливо послал вдогонку массу всевозможных немецких проклятий, наконец, заключил чистейшей русской бранью, – затем расхохотался, плюнул и попросил остановиться, чтоб покурить. Между тем он свернул комочки газетной бумаги, запихал их в стволы и моим шомполом продавил эти пыжи сквозь свою централку, чтоб очистить ее от накопившейся грязи. Я все время стоял около него, заряжал свое «Дау» и не мог удержаться, чтоб не хохотать, вспоминая наши пуделя по какому-то паршивому коростелишке и всю штуку, проделанную веселым натуралистом. Брем, отлично понимая, над чем я смеюсь, сказал, что он, приехав в Россию, прежде всего, научился ругаться.
Пройдя изрядное пространство и порядочно поколотив дупелей, мы заметили, что они не в малом количестве перелетели на особую гриву, отделенную от нас целым лиманом заливной воды. Мы позвали людей и помогли им перетащить с берега лодку по сухому лугу через несколько десятков сажен, чтоб спустить ее на этот лиман; затем любезно предложили гостю переплыть на ней к той гриве, куда перекочевали разогнанные нами утки.
Брем охотно принял предложение и отправился туда один, а мы нарочно остались, чтобы дать ему возможность вдоволь натешиться и отвести охотничью душу. Лишь только он попал на эту гриву, как загремели частые выстрелы, и только некоторые дупелишки, срываясь от Брема, перелетали опять на нашу сторону и, конечно, тут же погибали то от одного, то от другого члена нашей компании. Наконец, перестреляв и разогнав всех, Брем, усталый и мокрый от пота, переехал к нам, крайне довольный своей охотой.
Мы предложили ему пока покончить и отправиться завтракать, но тут снова пришлось тащить посуху лодку, и Брем лично принял участие в этой работе, так что наше судно полетело по траве, как по воде, и скоро очутилось на прежнем месте.
Веселье на привале
Придя к удобно устроенному привалу под сенью густых кустов, мы прежде всего смыли с себя пот и кровь, сбросили лишнюю одежду и, с особым удовольствием пропустив шнапсу, развалились на коврах и подушках.
Но вот поспел чай и яйца всмятку, «в мешочке» – кому как любо, а из откупоренных корзин и ящиков появилась всевозможного сорта закуска. Так как было уже более 12 часов, то все, проголодавшись, ели на славу и пили, кому чего хотелось. Наконец, вылезли изо льда заветные бутылочки, тихо шипя, откупорились головчатые пробки, запенились бокалы холодненьким редерером, и мы дружно провозгласили тост за здоровье нашего дорогого гостя; раздалось громкое «ура», которое подхватила вся наша прислуга, и этот душевный возглас далеко полетел по всему Токаревскому лугу. Брем, соскочив с ковра, начал всех нас обнимать, целовать и благодарить самым сердечным тоном, высказывая свое братское спасибо.
Понятное дело, что обоюдные тосты следовали один за другим, шампанское лилось, закуска уничтожалась, и все были в самом веселом расположении духа. Рассказам не было конца, но вся беда заключалась в том, что мы плохо объяснялись по-немецки, а Брем очень мало понимал по-русски, – зато всевозможная мимика была в самом обширном приложении и хорошо дополняла недосказанное или что-либо непонятное.
Между прочим, я проговорил Брему русскую непечатную скороговорку, напоминающую о том, как щебечет ласточка. Сандзер перевел ему содержание слов и, вероятно, довольно удачно, так как знаменитый натуралист пришел в восторг от самого подражания и в свою очередь сказал на этот же мотив речитативный стих из сочинений какого-то неизвестного мне немецкого поэта. Словом, нашему общему веселью на охотничьем привале не было конца, но все это вышло так прилично и чинно, что не проявлялось ни одной черты, которая напомнила бы о какой-либо невоздержанности пьяного разгула, – напротив, все были в своей тарелке и только дружески чествовали своего дорогого собрата.
Брем все это хорошо понимал и потому еще более ценил приятельскую овацию, где не было ни одной фальшивой ноты. Он с особенным удовольствием пил, как природный сибиряк, хороший чай и не забывал с бокалом в руке благодарить не только всех нас, но предложил тост за расторопного официанта Афанасия Панкратьевича и Федота Спиридоновича, так ловко управлявшего кормовым веслом на нашей лодке.
Скабрезные шансонетки
На привале мы пробыли, вероятно, не менее трех часов, отдохнули как следует и, наконец, собравшись с новыми силами, сев в лодку, отправились на другое место. Так как переезд был не маленький, то развеселившийся Брем всю дорогу то рассказывал нам немецкие анекдоты, то напевал скабрезные шансонетки. Одну из последних, крайне игривую по содержанию и мотиву, он, по просьбе лесничего Турчановича, записал ему в книжку на память о себе и этом дне, проведенном им в нашей дружеской компании.
Молодой или старый
Но вот кто-то вытащил из лодки дупеля и начал разглядывать. Брем тотчас взял его и, перебирая в руках, сказал с немецким акцентом:
– Эта молода.
Мои товарищи тоже повертели в руках утку, повыдергивали с разных концов перья и, пробуя отмякшие зорьки, как бы неохотно или сомневаясь, но в угоду Брему, подтвердили слова натуралиста.
Я же, вспомнив приемы моего отца, известного охотника, заметил, что все господа сотоварищи, кажется, ошибаются в определении, а потому взял этого же дупеля за одну нижнюю половинку носа (или клюва), потряс в руке и, видя, что половинка нисколько не поддается от тяжести птицы, а крепко держит тушку, сказал:
– Нет, господа, это старый дупель! Не судите по перьям, хотя и они не говорят о его молодости; а вот это лучшее доказательство – потому, что у молодого дупеля, особенно в такое раннее время, никогда нижняя часть клюва не выдержит всей тяжести птички и всегда изогнется, вот так. Я помню, как это делывал мой отец и никогда не ошибался.
Тут Брем, хорошо следивший за моим выступлением, встал в лодке на ноги, ударил меня дружески по плечу и громко сказал.
– Рихтиг! Рихтиг![31] Это старый.
За ним согласились остальные охотники и приняли к сведению такой практический прием; а мне стало как-то неловко не только перед знаменитым натуралистом, но и перед товарищами, так что я покраснел до ушей. Это тотчас заметил Брем и, снова похлопав меня по плечу, что-то сказал по-немецки, чего я недослышал от неуместного волнения и конфузливости.
…Но вот лодка наша поворотилась по указанию Козлова направо, и мы въехали в устье крохотной речки Змейки. Летом она почти совсем пересыхает, так что водяной путь возможен по ней только в водополье. Берега ее поросли в некоторых пунктах редким лесом, кустами ольховника, черемушника и другими побережными растениями нашего края. Местами эта поросль так сплелась между собою ветвями, что всякому проезжающему приходится воевать с этим препятствием. Но это еще не так надоедает, как наносы из разного лесного хлама, которые набивает в речку большой водой. Тут одному или двум охотникам ничего не поделать и необходимо иногда работать нескольким, общими силами. Так случилось и с нами: два или три заноса мы едва проехали, особенно с устья речки; когда же пробрались далее, то, не встретив уже никаких препятствий, весело поплыли между кустами, как по зеленой аллее.
Водяная крыса
Вдруг в одном месте сорвалась с берега большая водяная крыса, плюхнула в речку и бойко поплыла позади нашей лодки. Брем, увидав это интересное животное, затормошился в лодке, но никак не мог скоро поправиться, так как сидел к корме спиной. Тогда Турчанович быстро схватил свое ружье, бросил с накидки и успел убить крысу еще на воде, не дав ей ускользнуть на берег. Брем был крайне доволен, горячо благодарил лесничего и взял животное для определения вида и пополнения путевой коллекции.
Дымокуры от комаров
Пробравшись на дупелиные места, мы снова отправились на охоту; но дупелей тут оказалось немного, и мы, походив по гривам, должны были переехать опять на другие луга, залегающие по речке Песчанке.
С трудом выбравшись обратно по Змейке, мы скоро попали на Песчанку и приказали разложить огонь, чтобы вскипятить медные чайники, а сами пошли по дупелиным мочагам. Тут хоть и удалось нам попасть на хорошие гривы, но зато под вечер встретили такую массу комаров, целыми мириадами атаковавших охотников, что пришлось волей-неволей бросить охоту и поскорее без оглядки бежать к готовому уже табору, где, разложив кругом дымокуры, мы только этим путем спаслись от кровожадных комаров.
Укрывшись от них, мы еще раз с удовольствием напились чаю, весело побеседовали, прошлись по бутылочкам, закусили и решили ехать домой.
Последний дупель
Проходя все вместе к подготовленной лодке и уже садясь в нее, мы вдруг совершенно неожиданно заметили дупеля, сорвавшегося из-под самых ног пробирающегося на свое место Федота Спиридоновича. Эта долгоносая каналья все время таилась около нашего привала и, вероятно, выслушивала занимательные рассказы красноречивого натуралиста. Дупель, отлетев несколько сажен вбок, тут же спустился в траву неподалеку от нас.
Брему тотчас подали ружье, он вылез из лодки, пошел по направлению полета зигзагами, скоро поднял его из травы, выдержал и на глазах всех мастерски срезал, так что дупелишка упал, как подкошенная былинка, на берег громадной Оби. Он был последним, 26 м, трофеем охоты Брема, а по общему счету всей добычи, 72 м дупелем, попавшим в нашу лодку.
Для такого времени летнего сезона, как половина июня, этого было весьма достаточно, тем более если учесть, что двое из нашей компании совсем почти не стреляли; г. Сандзеру дал одного дупеля Турчанович, чтоб нашему любезному переводчику не зазорно было ходить между охотниками и таскать на плече ружье только ради приличия. Этот несчастный дупель болтался в единственном числе у аптекаря на самом видном месте, вызывая Брема на очень меткие остроты.
Это возможно только в Сибири
Что касается натралиста и охотника лично, то он остался крайне доволен и упоминал, что ему в первый раз в жизни довелось убить в один день, да еще с такими промежутками, 26 дупелей. «Да, это возможно только в Сибири!» – говорил Брем и нисколько не удивлялся тому, что в прежнее время, когда дичи было несравненно больше, многие наши охотники убивали в день более ста дупелей, и это всем известные факты в нашей обширной и богатой дичью палестине.
Весело выехав на большую воду и держа курс к Барнаулу, мы почти все время слушали нескончаемые повествования Брема. Тут он, между прочим, рассказал нам забавный эпизод из своих путешествий. Дело, видите, в том, что когда известный натуралист приехал на границу Испании, то его не пропускали и спрашивали о том, грамотный он или нет. Брем ответил просвещенной страже, что он мало-мало грамотен, и только тогда его пропустили внутрь страны.
Комичная проповедь
Но вот весельчак Брем вынул из кармана белый платок, сложил его бантиком или, вернее сказать, пастырской манишкой, прилепил под шею на грудь, поверх дорожного пальто, принял позу пастора-проповедника и громко начал говорить речь как бы своим прихожанам. Вся суть его проповеди вертелась на буквах немецкой азбуки А, В, С, Д и т.д. – и только! Но надо было видеть, с каким умением, азартом, остроумием делал он это подражание и копировал знаменитостей. Проповедь выходила так натуральна, так естественно внушительна, что даже люди, не знающие ни полбуквы по-немецки, с благоговением слушали комичного проповедника, поднимали глаза к небу и восторгались, особенно когда увлекшийся Брем все более и более входил в пафос; наконец он встал на ноги, потрясающе произнес заключительные слова и в конце концов при слове «Амен» (Аминь), крепко ударил по плечу заливающегося смехом аптекаря, потом захохотал сам, уселся на место и, выдернув из-за борта пальто платок, закурил папиросу. Мы все громко аплодировали проповеднику; он сочувственно принял нашу овацию, как пастор, сложил на груди руки и комично благодарил увлекшихся слушателей.
Соревнование в стрельбе
Далее зашла речь о ружьях. Брем крайне хвалил свою централку и стрелял далеко по воде. Действительно, все выстрелы из его «Лейе» заслуживали внимания, потому что дробь несло «бичом» на громадное расстояние, так что ни одно из наших с дула заряжающихся ружей не могло соперничать в этом соревновании.
Но вот мы подъехали по Балдинской протоке к заимке госпожи Порецкой и хотели вылезти на берег, где невдалеке ожидали нас экипажи. Оказалось, что лодка не могла подойти к пологому и грязному берегу. Пришлось соображать, что делать, всем мараться в грязи не хотелось. Выручил нас один из гребцов. Он сбросил с себя сапоги, панталоны и предложил перенести всех нас до крепкого берега на своей спине.
Романс на спине сибиряка
Брем захохотал и сначала не соглашался; он говорил, что малорослому сибиряку не унести на себе его здоровенную фигуру, что носильщик завязнет под тяжестью и только вымарает его в грязи. Но крепкий сибиряк в свою очередь посмеялся над Бремом, сказав, что он унесет двух таких немцев, потому что они хоть и «вздушисты, да не хлебны».
Тогда Брем, балагуря, встал на сиденье лодки, затем уселся гребцу на «кукорки», как говорят сибиряки, комично попрощался с нами и, плавно «поехав» на человеке по грязи, запел известную строфу из немецкого романса – «Майн Либхен, вас вильст ду нох меер!»
Все хохотали и желали успеха при такой забавной переправе. Но вот наконец и мы благополучно очутились на берегу по тому же способу передвижения; Брем, встречая нас, смеялся до слез и говорил, что он объездил полсвета всевозможными способами, но на людях пришлось ему путешествовать только в Сибири, первый раз в жизни. Он братски потрепал по плечу переносчика, наговорил ему по-немецки всевозможных любезностей и пожелал большого здоровья.
Отправившись к лошадям пешком всей компанией, Брем запел немецкую песню, которую мы выучили во время путешествия на лодке. Несколько голосов подхватили веселый мотив, и окрестности заимки огласились таким бравурным аккордом, что хозяйка усадьбы выскочила со своими гостями на террасу и приветствовала нашу компанию.
Тут мы сели в экипажи, и Брем, в сопровождении двух товарищей, полетел на воронинском рысаке к Барнаулу, так что остальные на паре Федота едва держались за ним, мчась во весь мах.
Вспоминая это время, г. Сандзер и теперь со слезами на глазах говорит об этой поездке и симпатичной личности доктора Брема.
Через несколько дней после нашей охоты ученая экспедиция, покончив свои дела в Барнауле, простилась с нами и отправилась в дальнейшее путешествие к северу.
«Образец для современного человечества»
Да, трудно забыть те дни, которые пришлось провести в сообществе с этим милейшим человеком. Брем сразу приковывал к себе всякого как своими познаниями, бывалостью в мире и на житейском поприще, так и своей неподдельной любезностью и дружеской простотой в обращении. Невольно, глядя на него, составлялось понятие, что вот человек, который может быть образцом для современного человечества; поэтому незаметно вкрадывалась точно какая-то зависть и несбыточное желание быть ему подобным.
Когда он проездом был в Салаирском крае, то познакомился с доктором Зассом, который, будучи хорошим охотником, любил еще заниматься естественными науками, собирал различные коллекции как по части сибирской флоры, фауны, минералогии и геологии, так занимался и метеорологическими исследованиями и наблюдениями, состоя членом обсервационного бюро.
Г. Засс рассказал мне один комичный случай из посещения Салаира Бремом.
«Слушаюсь, ваше превосходительство!»
Дело в том, что перед самым отъездом Брема из Салаирского рудника он завтракал у доктора и, совсем уже простившись с хозяевами, выйдя садиться в дорожный тарантас, заметил особой породы ласточек, которых сибиряки называют «воронками» или «соколками». (Эти ласточки почти черного оперения, несколько более обыкновенных и с длинными черными крыльями.) Брем пожалел, что его ружье уложено и не готово к выстрелу; тогда любезный хозяин в ту же минуту вынес свою двухстволку, зарядил дробью и подал Брему.
Здесь надо заметить, что квартира доктора находилась на краю большой площади рудничного селения, где прежде стояла церковь, но потом за ветхостью была снесена, вследствие чего и образовалось большое пустое поле, на противоположном конце которого помещалась казенная кладовая, где занимал пост военный караул.
Брем, получив ружье, подождал реющих ласточек и, воспользовавшись их удобным полетом, сделал замечательный дуплет – одним выстрелом убил наповал резвую птичку, а другим подстрелил вторую, она, пролетев несколько сажен, упала на площадь. Подобрав интересный для коллекции экземпляр, натуралист стоял у экипажа и рассматривал со вниманием птичку.
В это время к нему бойко подходит солдатик и говорит, что Брем задел его выстрелом: одна из дробинок попала в шинель.
Засс перевел жалобу солдатика.
Тогда натуралист, пресерьезно встав перед защитником отечества, сказал ему целую речь на немецком, конечно, языке. Это воззвание было так остроумно и вместе с тем комично, что все слушающие и понимающие язык умирали от хохота, а служака все время стоял, уже вытянувшись, перед оратором и только говорил:
– Слушаюсь, слушаюсь, ваше превосходительство!
Наконец Брем снял шляпу, поклонился солдатику и, снова простившись с Зассом и провожавшей семьей доктора, сел в тарантас.
Колокольчики зазвенели, пыль взвилась клубом и милейший человек, известный всему образованному миру Брем, покатил по дороге к Томску. Все провожавшие только увидели, как он махал из тарантаса платком и снимал шляпу, выражая свое последнее «прости», а солдатик все еще стоял на месте и долго глядел на уносящийся экипаж…
3 апреля 1886 г.
г. Барнаул
(Источник текста: журнал «Алтай». Оригинал здесь: )
После Барнаула, по совету новых друзей, немецкая экспедиция двинулась дальше, в Томск, другой дорогой – в объезд через живописную местность. С небольших холмов открывался прекрасный вид на бесконечную тайгу, таившую бесконечные запасы древесины. К сожалению, обширные вырубки уже тогда «украшали» лес и практически не восстанавливались.
Новость о том, что 2 июля утром из Томска отходит пароход, заставляла спешить. Город был торговым центром столичного уровня. Был уже подписан указ, что здесь будет учрежден Сибирский университет (основан в 1888 году). Он стал старейшим университетом в Сибири.
Плавание по Оби
Пароход отошел точно по расписанию. Обь в этом месте была такая широкая, что противоположного берега не видно. Затем снова потянулся лабиринт узких протоков. Пароход был не роскошным, но вполне комфортабельным, топливом служила исключительно древесина, которую в достаточном количестве загрузили на берегу. Движения на реке практически не ощущалось. Во время четырехдневной поездки встретилось только два парохода, шедшие вверх по течению. Жизнь на берегу была такой же скучной, как и сама река. Пустынный пейзаж по обе стороны навевал тоску. Все снова стало разнообразным, когда подошли к месту впадения Иртыша.
Около устья, где его коричневые воды сливаются с темными водами Оби, раскинулось селение Самарово. Здесь когда-то жил вождь хантов Самар и защищал эти земли от вторжения татаро-монголов. В тридцатые годы XIX века возник Ханты-Мансийск (сегодня столица автономного округа). Из-за сходства хантов и манси, этих народов Крайнего Севера, их часто упоминают вместе и вместе описывают. Но раньше ханты жили на Оби и ее притоках, а манси, которых чаще называли остяками, обитали в основном на Урале и в Прикамье. С XIII века, когда коми оттеснили манси на восток, те под бременем непосильной царской дани ушли за Урал и смешались с хантами. С тех пор нередко сами жители не могли определить, кто они – ханты или манси.
Поскольку в Самарове движение судов по расписанию заканчивалось, следующий этап пути оказывался под вопросом. Тем более было приятно участие районного начальника, который взял на себя заботы об экспедиции. А крестьянин Василий Земцов предоставил лодку. Он писал зоологу и участнику русской обской экспедиции И.С. Полякову: «В апреле прошлого года я узнал, что через деревню Самарово должна пройти в Обдорск экспедиция Брема. Я решил предоставить им лодку, так как только водным путем можно добраться отсюда в Обдорск».
Короче говоря, были предоставлены не одна, а три лодки с укрытиями, полностью подходящие для целей поездки.
К северу от Самарова никакого сельского хозяйства по-настоящему тогда еще не велось. Скотоводство было полностью вытеснено рыболовством, как главным источником существования местного населения.
Ниже поселения Чемачевская река разветвляется на множество рукавов. Сами того не ведая, участники экспедиции по ним как-то добрались до Сосьвы и 9 июля оказались в Березове.
Основанный еще в 1594 году городок в XVII—XVIII веках стал оплотом русской администрации. В маленьких домиках ютились местные жители числом 2 тысячи, при них был врач Кривицкий – единственный доктор на всем пространстве между Тобольском и Обдорском (с 1933 года Салехард). Это был интересный собеседник для Брема, много знавший о местной природе и особенно о диких животных. По его словам, это была северная граница распространения воробья, однако к этим местам он прекрасно приспособился.
Поскольку население ханты-мансийских земель, а дальше на север жили ненцы (самоеды), не понимало по-русски, Финш в Березове договорился с местным жителем, чтобы тот взял на себя функции переводчика, и его знания местных языков и обычаев аборигенов оказались полезными для экспедиции.
…На медленно текущей реке стояла тишина. Лишь кое-где на берегу попадались отдельные селения, жители которых существовали благодаря рыбалке, охоте, оленеводству. У поселка Поровацкие Юрты можно уже было видеть вдали горы Северного Урала. Река становилась все шире. Совсем рядом находился Северный Полярный круг. Закат и восход солнца были совсем близко, однако наслаждаться прекрасными световыми эффектами можно было только ночью, когда заморозки изгоняли комаров. Эта беда становилась тем ощутимее, чем дальше группа забиралась на север. Только на середине широкой реки можно было вздохнуть с облегчением, но стоило приблизиться к берегу, как тучи кровожадных тварей обволакивали все живое.
Наконец достигли Обдорска.
Брем в чуме у остяков
Обратимся к записям Финша: «В план нашего путешествия входила поездка в Обскую губу… И еще в Тюмени я получил телеграмму, в которой Александр Сибиряков, великодушный покровитель нашей экспедиции, выразил желание, чтобы мы посетили эти места…
15 июля, в 4 часа утра, шхуна отправилась вперед, и мы поспешили последовать за нею… С русским капитаном было условлено, что Брем останется в юрте Лангальки, но никто из нас не знал, где она находится… Прошло несколько дней, но от него не было никаких вестей. Я начинал уже беспокоиться.
По сообщению казачьего урядника, юрта Лангалька – это должно быть урочище, лежащее в 40 верстах от Янбурри. Удалось отправить туда двух остяков с письмами и съестными припасами. Мы выехали из Набалги. Я было вздремнул. Вдруг в первом часу 18 июля один остяк принес нам известие, что в ближнем чуме находится какой-то чужестранец.
Это мог быть только Брем. Я отправился туда пешком, опережая лодку. И нашел там действительно Брема, который уже более полутора суток находился в дымном чуме среди остяцких женщин, детей и собак. Он успел заручиться (у аборигенов) сеbрым гусем, несколькими плавунчиками, трясогузками и щеврицами Густава».
В следующем издании «Жизни животных» Брем так описывает этих птиц:
«Плавунчики характеризуются средней длины прямым и слабым клювом, низкими ногами, длинными и острыми крыльями, коротким закругленным хвостом… Название присваивается им потому, что они превосходят в умении плавать всех прочих птиц. Родина их – Крайний Север».
Альфред Брем написал жене 13 июля 1876 года: «Когда это письмо попадет в твои руки, можно только догадываться, потому как здесь мы действительно находимся на краю земли. Регулярной почты здесь нет. Мы в 12 днях пути от Томска и прошли за это время расстояние в несколько сотен немецких миль, и за все время я не имел возможности написать тебе кроме как из Самарова. Гораздо меньше времени будет в будущем, потому что мы идем отсюда вниз по течению до устья Чучи и Карского залива, а таким образом еще никто не ходил…»
Обдорск лежал на высоком берегу между Обью и ее притоком Полуем. Здесь помимо бремовской группы останавливались и другие экспедиции. В свое время Общество для содействия торговли и промышленности намеревалось поручить Брему выяснить «целесообразность налаживания канальной связи между Обью и Карским заливом», а именно измерить глубины в реке и заливе. Как выяснилось на месте, предполагаемое задание являлось большой ошибкой, поскольку цели у экспедиций были совсем иные.
Тундра: призрак пустыни
К сожалению, не удалось раздобыть подходящий водный транспорт для продвижения в Обскую губу. Поэтому решили дойти только до Карского залива. Это соответствовало и пожеланиям главного спонсора экспедиции Александра Сибирякова. При отсутствии необходимых помощников возможным оказалось лишь путешествие на небольшой лодке. Это означало, что надо ограничиться минимумом вещей и уменьшить команду.
16 июля покинули Обдорск и последние постоянные поселения вдоль Оби. Началась самая трудная часть пути. По пути в устье Чучи, северного притока Оби, добрались до Княжьих Юрт, летней резиденции мансийского князя Тайшина, но увидели лишь небольшие рыбацкие хибары. Брем смог съездить с русскими в глубь страны и посмотреть, как живут люди в своих чумах в этом богом забытом месте.
К сожалению, никто не мог дать точную информацию о дальнейшем течении реки, будут ли дальше еще встречаться населенные пункты и останется ли река судоходной. 19 июля была достигнута последняя деревушка, состоящая из нескольких чумов. Монотонность пейзажа действовала угнетающе. Река стала заметно мелеть, а 27 июля путешествие наконец закончилось.
Трудности и проблемы летней экспедиции по тундре были теперь известны. Финш замечает: «Тундра является пустыней, хотя не из песка, а из болот, мхов и ягельников, и здесь витает если не призрак засухи, то голода. Даже учитывая то, что доктор Брем, граф Вальдбург и я уже давно очень хорошо знали, что такое тундра, мы сделали глупость, начав путешествие по ней пешком, потому что сразу натолкнулись на вспышки чумы крупного рогатого скота, которая прочно поселилась в этих местах».
На бумаге маршрут к Карскому заливу был проложен быстро. Но без оленей двигаться по тундре было невозможно. Надо было искать проводников. Продовольствие из мешков нужно было разделить на ежедневные порции. Двенадцать фунтов мясных консервов, два фунта мясного экстракта, четыре фунта сахара, три фунта чая, два фунта кофе, 60 пакетиков супа, немного риса и мешок печенья образовывали неприкосновенный запас. Это, конечно, не так много, но пока еще была какая-то надежда на мясо оленей и диких птиц. Для скромных помощников припасли черствый хлеб и чай. В общем, готовились на девять дней.
Во второй половине дня 29 июля одиннадцать человек отправились в путь по неизвестной местности.
Из дневника:
«Нога здесь не ступит на твердую почву»
«Надо самому видеть тундру, чтобы получить реальное представление о ней. Насколько хватает глаз, нет ничего, кроме бесконечной охристо-коричневой поверхности, бедных мхов или бесцветных зеленоватых полей, заросших карликовой березой, которая принимает здесь такие уродливые формы, что их можно с натяжкой назвать даже кустарником. Нигде нога человека здесь не ступит на твердую почву, везде утопает, иногда по лодыжку, и бывает трудно вырвать ее из хитросплетений березовых веток. Ноги приходится высоко поднимать при каждом шаге, и передвигаться так крайне утомительно. Часто приходится пересекать обширные болота, в которые погружаемся выше колен, или прыгать с одной кочки на другую».
Первый же день принес все то, чего ожидали путешественники: за семь часов напряженного марша пройдено всего 17 километров. Конечная цель не была достигнута: не обнаружено не то чтобы чума, но даже какой-либо норы, мало-мальски пригодной для жилья. Усталые и измученные путники вынуждены были возводить временные укрытия от дождя. Понадобилось много времени, чтобы поджечь мокрый кустарник и сварить чай. Мех не защищал от ночного холода.
К счастью, на следующий день перестал идти дождь. Радостное удивление вызвали следы оленей и главное – полозьев, приведшие к двум чумам. Владелец упряжки выехал к ним навстречу на тройке. Но радость оказалась преждевременной. Стадо было буквально уничтожено сибирской язвой. По дороге в лагерь насчитали около 80 трупов, а по прибытии вообще ужаснулись: среди чумов тут и там валялись мертвые или умирающие олени. Опасная болезнь распространялась с огромной скоростью. Здоровые на вид животные вдруг начинали задыхаться, дрожать, падать на передние ноги и умирали в страшных судорогах. От падших животных можно было взять только шкуру. Люди, которые изначально ели мясо больных животных, были заражены и тоже умерли.
Владелец поредевшего стада не был в состоянии предоставить экспедиции здоровых животных. Чтобы не заразиться самим, они срочно покинули опасную местность. Но уже вечером на обратном пути потеряли одного оленя, и пришлось нести на руках багаж. Брем оставил об этом марше такие строки: «Передвигались с трудом, задыхаясь от веса навьюченных на наши спины вещей, и днем и ночью, не видя ничего вокруг от туч комаров. Останавливались на привал сначала после каждых полутора часов, потом после часа и затем каждую тысячу шагов. Бесчисленные холмы преодолены, столько же долин пройдено, чуть меньше болот, распадков и ям перейдено в брод. Сотни безымянных озер остались позади, столько переправ, что и не сосчитать».
Натуралист Брем был разочарован: фауна тундры оказалась крайне бедной. Даже хуже, чем с птицами, обстояло дело с млекопитающими. Только лемминги были здесь обычным явлением. Недостаток живности в полной мере восполнялся комарами
Из дневника:
Стражи тундры
«Стоило нам остановиться хоть на мгновение, чтобы прикинуть, куда идти дальше, как тысячи и тысячи кровожадных созданий набрасывались на нас, и нужно было двигаться, чтобы не оказаться съеденными заживо. Неудивительно поэтому, что после нескольких часов такой ходьбы устаешь смертельно. И 20—24 версты в таких условиях – это предел марш-броска даже для молодых и здоровых путешественников, не отягощенных грузами. Если бы летом в тундре не было кровососов, можно было бы смириться с ее однообразием и совершать более продолжительные походы. Комары же не дают этого делать. И, если подумать, надолго станут главными стражами этих мест от освоения человеком».
Они нашли способ хоть как-то выйти из положения – двигались светлыми ночами, когда комаров становилось меньше. Но нужно было и учитывать физиологию северного оленя, которому необходимо питаться только ночью, когда ему не досаждают насекомые. А тут его заставляли бежать именно во время кормежки…
Наконец после того как миновали реку Енсор-Яха, расположились на красивом озере и стали готовиться к следующему переходу, в ходе которого должна была быть достигнута Подората, первая крупная цель в тундре. Здесь в 1771 году от Санкт-Петербургской академии наук побывал Василий Федорович Зуев.
Какой же радостью было обнаружить в этих местах два чума. Их жители были рады предоставить оленей и сани, но нужно было следовать в колонне из около 200 животных. Однако далеко жители не хотели уезжать, так что приятному путешествию на санях скоро пришел конец.
И вот на северном горизонте туманной линией появилась узкая полоска Карской губы – долгожданная цель путешествия. Но чтобы попасть туда, нужно было пересечь бездонные болота, что можно было сделать только в зимний период. И хотя путешественники находились всего в пяти днях пути от побережья, они вынуждены были повернуть назад. Финш онемевшими пальцами сделал набросок этой северной точки их маршрута, и группа развернулась в сторону юга.
Из дневника:
Предсказание
«Остяки-язычники. Мы добрались до нашей лодки и после двух недель лишений разрешили себе полное изобилие… Один шаман… предсказал, что мы уже в будущем году опять вернемся в негостеприимную землю; что два императора вознаградят нас и наши “старшины” останутся довольны нашими сочинениями… Но в тундру я уже не возвращусь никогда».
Эти предсказания полностью сбылись.
Возвращение – трудное и радостное
5 августа вновь добрались до чумов местного начальства, и марш по бескрайним просторам тундры, монотонность которой прерывалась лишь цветущими кое-где растениями, возобновился. Четыре дня спустя они добрались до границ лесов. Чуча в течение короткого времени превратилась в мощный поток, над которым кружили стаи чаек, выискивая рыбу. Ненец Санда раздобыл лодку, без которой вряд ли возможно было переправиться. На ужин доели последнее мясо диких животных, а в мешках оставалось несколько заплесневелых сухарей. Самое время добраться до какого-нибудь поселка! К счастью, так оно и получилось. 14 дневный трудный поход закончился.
Результатами можно было гордиться: изучена практически неизвестная река и обследована малоисследованная область. Для навигации местность явно не подходила. Здесь Брем дал такое определение реки: «Красивая, ясная, свежая и чистая эта Подората, но для судоходства не пригодна». То же самое можно было сказать и о Чуче, подверженной сильным колебаниям уровня воды. Таким образом, вопрос о целесообразности строительства канала между ней и Карским заливом отпадал вообще, не говоря уже о его рентабельности. Интересно, что русская экспедиция, пройдя тем же маршрутом после Брема, высказалась точно так же!
Финш и Брем обратили внимание мировой научной общественности на устье Оби и залив как потенциальный узел транспортной связи между Европой и Сибирью, дали в своих отчетах о командировке подробное описание Оби и ее водной системы в целях продолжения дальнейших исследований.
На обратном пути ветер был благоприятным и к 15 августа под всеми парусами достигли Оби. Надо было прощаться с добрыми и отзывчивыми жителями Западной Сибири – хантами, манси и ненцами. Так же как казахи, они были жизненно ограничены в их поистине безбрежной среде обитания. Только негостеприимные области обеспечивали им на Крайнем Севере область пока что относительно спокойного существования. Миссионеры добрались туда не намного дальше Обдорска. Но некоторые эмиссары, как сообщал А.Ф. Миддендорф, прошли довольно далеко на север и уже оказывали давление на их жизнь. Нередко местное население вынуждено было покидать насиженные места из-за уничтожения их святынь, так как строгие правила православной церкви резко контрастировали с образом жизни кочевых народов, живших в язычестве. Их главной пищей было мясо. Как могли они соблюдать заповеди поста 200 дней в году? И «обращенные» часто вновь возвращались к вере их отцов…
Конечно, за столь короткое пребывание Брему и его спутникам не удалось подробно изучить образ жизни и культуру коренных народов. И все же строки, посвященные им, проникнуты теплом и участием в их судьбах.
Из дневника:
В центре жизни аборигенов – олени
«Честность, миролюбие и гостеприимство стоят для них превыше всего. Когда они поняли, что мы не купцы, не миссионеры и не чиновники, когда поняли, что нам не нужны их подарки и взятки, они расположились к нам всей душой, проявив полное доверие. Их народные песни и сказки свидетельствуют о глубокой мысли и поэтичности. Несколько попыток “привнести” им высшее образование оказались бессмысленными, так как не были связаны с условиями их жизни.
Олени в центре их жизни. Они обеспечивают главный источник пищи и одежды. Тем более разрушительными были спонтанно возникающие болезни животных, и люди оказывались без средств к существованию. Учитывая неблагоприятный климат и антисанитарные условия, уровень детской смертности был очень высоким, не говоря уже о том, что к северу от Обдорска практически нет врачей».
(Кстати, экспедиция собрала на языческих захоронениях несколько черепов и предоставила находки известному антропологу Рудольфу Вирхову, который обследовал их и выступил с докладом в Берлине в Обществе антропологии, этнологии и древней истории 21 июля 1877 года.)
Вечером 19 августа Брем и его спутники вернулись в Обдорск. Этот городок, показавшийся при выезде в тундру пустынным и тихим, сейчас, после монотонной пустыни, предстал шумным мегаполисом. Во время ярмарки здесь шел активный обмен: оленьи меха и рыба – на муку и промышленные товары, причем рыбаки, пастухи и охотники проявляли завидную смекалку. После напряжения всех сил в тундре требовалось несколько дней для восстановления сил. Но вскоре суровое «надо» позвало в обратный путь. Правда, успели все же обследовать берега Обской губы и познакомиться с ее животным миром. Но птицы были заняты брачными делами и большей частью попрятались в густые заросли.
Между тем уровень воды существенно снизился: предыдущие места остановки оказались теперь широким «пляжем»… В Березове их ждала обильная и долгожданная почта из дома. Обеспечив себя продовольствием и починив лодки, 13 сентября тронулись дальше. Листва на деревьях и кустарниках на их пути уже явно носила следы осени. Чумы менялись на срубы, которые были ничуть не хуже русских изб. Даже число комаров уменьшилось.
Жизнь на лодке не баловала разнообразием. Только в обеденное время – то есть два раза в день – наступало оживление, чтобы приготовить и затем сразу съесть часть запасов. Это занимало два-три часа, поскольку все было под рукой.
В Самарове опоздали на пароход, ушедший за семь часов до их прибытия. Теперь нужно было ждать следующего, который должен был прибыть через неделю. Время провели в коротких вылазках и упаковке вещей, а также за приведением в порядок дневниковых записей.
На Иртыше населенные пункты стали встречаться все чаще. Деревня «сидела» буквально на деревне. Рыболовство все сильнее вытеснялось сельским хозяйством и скотоводством.
6 октября оглушительный гудок судовой сирены возвестил о том, что достигнут Тобольск. В мрачноватый холодный день поездку продолжили на тарантасах, внушительных колясках, рассчитанных на двух человек. Частый снег придавал ландшафту совершенно северный вид. Остаток коллекции был упакован в ящики и отправлен почтой. Граф Вальдбург распрощался с друзьями, чтобы в районе Омска принять участие в нескольких охотничьих вылазках. Вскоре появились Уральские горы. 19 октября отправлялся последний в навигацию пароход из Нижнего Новгорода в Пермь, оставалось слишком мало времени на остановку в Екатеринбурге по приглашению уральского Общества естественных наук, и приходилось ехать и днем и ночью.
Пароход был забит под завязку. Столь большое число пассажиров объяснялось последним рейсом. После трехдневного путешествия они прибыли в Казань. И оттуда путь продолжили на «Миссисипи», удобном волжском пароходе, правда, приходилось все время сидеть в каютах из-за ледяного ветра.
В ночь на 28 октября они сошли в Нижнем Новгороде и пересели на поезд до Москвы. Затем Брем ненадолго задержался в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с друзьями и послушать лекции, а Финш сразу уехал в Бремен.
Участники этой экспедиции привезли в Германию более 550 экземпляров птиц, 150 – земноводных, 400 – рыб, около тысячи насекомых, многочисленные образцы горных пород, а также орудия земледелия и лесоводства. Финш собрал в Сибири неплохую этнографическую коллекцию. На основе полученных материалов были открыты выставки в Бремене, Гамбурге, Ганновере, Касселе. Позднее сибирские коллекции пополнили фонды Берлинского зоологического музея, а также музеев в Мюнхене, Штутгарте и Лондоне.
«Отец животных»
В тот же день, когда Альфред Брем отправился в экспедицию и выехал в Санкт-Петербург, вышел в свет первый том исправленного и расширенного второго издания «Жизни животных», которое начало свое победное шествие по миру в 1864 году.
Он начал обдумывать данный грандиозный план еще во время поездки в Эфиопию с Эрнстом II. Сразу же после возвращения из Африки Брем посетил издателя Германа Мейера в Готе и посвятил его в свои планы. Тот был в восторге от проекта и позже внес значительный вклад в реализацию этого труда. Герман после смерти отца Йозефа Мейера взял на себя все дела компании и считал наиважнейшим фактором прежде всего соответствие современным научным и общественным требованиям, и в этом ключе построил всю дальнейшую издательскую деятельность. Прежде всего, для него был важен пересмотр концепции всех энциклопедических изданий. Основными критериями являлись современные научные представления и практическая польза от этой работы. И то и другое блестяще воплотилось в выпуске знаменитых Мейеровских словарей («лексиконов»), не потерявших актуальности и в наши дни.
Из всех видов издательской деятельности Мейер отдавал предпочтение выпуску научно-популярной литературы. Несомненно, «Жизни животных» в этой области суждено было стать бестселлером. Брем в предисловии сразу же указывает, что Мейер и его иллюстратор являются его полноправными соавторами и вдохновителями, что они не пожалели сил для создания этой книги. Основную цель работы он охарактеризовал так: «Наша литература может гордиться многими талантливыми работами, но немногие из них посвящены животным. Авторы их чрезмерно увлекаются, особенно в научных кругах, подробными описаниями внешнего вида и внутреннего строения, как бы опасаясь, что их обвинят в недостаточной научности и серьезности, если они не дай бог обратятся к их образу жизни и поведению».
Брем видел причину такого отношения в том, что «хозяева науки о животных главным образом работают в университетах и при музейных коллекциях, где в их распоряжении огромное количество материалов, которые надо должным образом систематизировать, и нет времени, чтобы наблюдать за животными. А наблюдения в природе, которые порой пограничны с промыслом охотника и работой егеря, – это не каждому по вкусу…»
Брем поставил перед собой задачу написать такую книгу, какой еще не было, – о поведении животных, причем основанную на собственном опыте. При этом он вовсе не недооценивал фундаментальных зоологических исследований, нет, наоборот, он видел в аналитико-сравнительной работе научную основу своего проекта. Но он считал неприемлемым, когда маститые ученые называли охотников и путешественников этакими «агентами и марионетками», которые только знакомились со зверем как с целым животным. Брем выступал за равное разделение труда между двумя направлениями зоологических исследований. Конечно, первый опыт такой работы – шеститомная «Иллюстрированная жизнь животных», завершенная в 1869 году под влиянием Росмесслера в Лейпциге, во времена директорства в Гамбурге, – была в основном завершена. Это был первый луч света, который пронзил темный небосклон сухой систематизации.
Ранее зоология считалась мертвой наукой. Ее труды не были знакомы широкой общественности, так как печатались без ярких иллюстраций в закрытых бюллетенях и вестниках. Брем покончил с этой замшелой традицией и вернулся к живым описаниям, восходящим еще к выразительным запискам таких столпов зоологии, как Кювье и Бюффон[32].
Брем же в отличие от Бюффона основывался на собственном опыте и впечатлениях. Даже там, где он из-за масштабности данного вопроса полагался на других исследователей, его практический опыт являлся для него важнейшим советчиком. Все это придавало его работе в равной степени и живость, и глубокий научный характер.
В каждой его строке сквозило собственное отношение к животным, чем Брем и пленил читателей: не только знаниями, но и любовью к природе. Напомним: некоторые сегодняшние исследователи считают, что его очеловечивание зверей граничит с антропоморфизмом, этаким приданием психике животных человеческих свойств, но даже если это так, давайте простим Брему такую слабость!
Ближе всего он узнал животных во время поездок по Африке. Дальнейшая работа в зоопарке была использована им для продолжения исследования их психологии, причем то были животные других регионов планеты, с которыми он не имел возможности встречаться в природе. В поле его наблюдений – в основном субъективные отношения животных и человека, так сказать, личные связи и контакты. Выдающийся швейцарский зоолог Хейни Хедигер так прокомментировал это в своих «Замечаниях по психологии животных в зоопарке и цирке» (Берлин, 1979): «Как непросто исследовать близкие отношения между людьми и зверями на уровне науки! В этом отношении мы стоим сегодня перед научным вакуумом. Нас в этой области еще ждут большие сюрпризы».
Конечно же, Брем в этом отношении значительно продвинулся вперед. Он накапливал свой опыт, особенно часто общаясь с человекообразными обезьянами, а именно с шимпанзе, с которыми много лет занимался лично. Их поведению было посвящено несколько статей и лекций Брема. Он показал, как они демонстрировали различные типы настроения и поведения, как вели себя с разными людьми по-разному, пытаясь заняться всевозможными делами. «Особенно популярными были гимнастические снаряды. Их действия оказывались достаточно осмысленными, и они являли различные гимнастические навыки, не имея “за душой” никакого прежнего обучения», – пишет зоолог.
Брем пришел к осознанию того, что животные в зоопарке требуют интенсивной «заменительной» работы, поскольку в неволе нет многого из того, что имеется в природе, – например добыча пропитания и оборона от врагов. Бремовский шимпанзе сразу отличал, кто к нему пришел – друг или недруг. «Он являлся удобным животным в кругу семьи, особенно если ему было поручено открывать двери в комнаты и вести беседы в любой форме. Можно было видеть, как отлично он себя чувствует, если ему разрешено свободно перемещаться по жилищу и сидеть за одним столом с доброжелательными людьми. Он также участвовал в тщательном обследовании всех возможных объектов, открывал дверцу духовки, чтобы рассмотреть огонь, доставал коробки, делал все играючи, вместе с тем, при условии, что это не подозрительно и не опасно. Особое предпочтение он отдавал детям, особенно самым маленьким. По отношению к своим братьям и другим животным он вел себя не так дружелюбно. Среди его любимых занятий было наведение порядка, хотя, конечно, он не мог мыть и вытирать все, как человек».
Брем утверждал, что его шимпанзе понимает слова, обращенные к нему, потому что повиновался без колебаний различным командам.
Вероятно, самые дружелюбные отношения, которые только связывали Брема с животными, соединяли его с львицей Бахидой. Она была фаворитом его маленького зверинца в Хартуме. Кроме того, на большой лодке, плывшей в Каир по Нилу и напоминавшей Ноев ковчег, она была любимицей всех пассажиров. Поскольку на борту она отказывалась ходить в туалет, несмотря на жесткий график плавания, экипаж приставал к берегу и Бахида получала «увольнение на берег». Она радостно прыгала, делала свои дела, и поездка возобновлялась. О поездке Брема знало все окрестное население, и к месту стоянки обычно сбегалось все местное население, чтобы посмотреть невиданное представление. Бахида устраивала разные розыгрыши, прячась в кустарнике и неожиданно выскакивая оттуда, как бы пугая людей, но делала это играя, ни разу не напав по-настоящему и не ранив ни одного человека.
Число любопытствующих в Египте возросло настолько, что Брему нередко приходилось использовать Бахиду как средство устрашения для самых назойливых зевак. В Каире он любил гулять с львицей на поводке. Сразу же образовывалась толпа, которая заставляла их возвращаться домой. А на корабле Бахида, к ее неудовольствию, вынуждена была проводить какое-то время в трюме, и когда Брем выводил ее на палубу, она вела себя послушно, как никогда.
По прибытии в Триест он оказался на некоторое время в разлуке с ней, и когда они вновь увиделись через четыре дня, не было предела взаимной радости. Бахида ни за что не хотела вновь отпускать хозяина. Она рычала так душераздирающе, что он вынужден был по нескольку раз возвращаться, чтобы успокоить ее. Но расставание все равно было неизбежным. Бахида прибыла в Берлинский зоопарк, и только спустя два года Брем получил возможность навестить ее. Она выросла и окрепла. При звуке его голоса она сразу узнала хозяина, прыгнула на решетку, протянула лапы сквозь прутья и положила их, как в старые времена, ему на плечи.
В Африке различные виды обезьян стали лучшими друзьями Брема. Имея большой запас шалостей, они представляли множество возможностей для наблюдения. Часть мелких видов он мог даже забрать домой, к большому огорчению старой собаки его отца, которой мартышки сильно досаждали и постоянно вызывали ее яростный лай.
Зачинщицей всех каверз была обезьянка Атиль. Зимой она проводила время в стойле, но научилась выбираться оттуда сама и выпускала коз и свиней. К Брему она относилась с большой любовью и уважением и послушно сопровождала его на прогулках. Горе тому, кто подходил к нему с недобрым видом: Атиль была бдительна и вела себя как обученная собака. Особую слабость она питала к молодняку любого рода и племени, воровала, где только возможно, котят и щенят и таскала их с собой.
Подобное поведение проявлял и другой спутник и любимец Брема на Голубом Ниле – самец мартышки по кличке Коко, который на лодке в присутствии других животных и людей избрал своим близким другом… птицу. Та спокойно сносила все проявления обезьяньей любви. Коко нисколько не беспокоило то, что у его друга были перья вместо меха. Они подвергались тщательному осмотру несколько раз в день, и во время чистки головы, шеи, хвоста и ног птица с готовностью вертелась взад-вперед, так что, казалось, была вполне довольна процедурой. Она добровольно подходила к своему дружку и заранее расправляла перья в ожидании очередной процедуры.
Брем наблюдал за поведением животных и в окружении дикой природы, и в неволе. Эти наблюдения были самыми важными источниками информации для готовящейся «Жизни животных». Подобно тому, как он старался избежать одностороннего описания анатомического строения, области распространения и внешнего вида животных, он старался быть подальше и от досужих анекдотов, и от охотничьих баек. Его заботило научное наблюдение «о жизни целого животного», как он писал, «его тела и души». При этом зоолог старался собрать материал о пользе его для человека. Основное внимание уделял млекопитающим и птицам. Вообще орнитология для Брема была любимой наукой. Однако в систематике он не признавал последних научных данных, считая, что ученые спешат с выводами о видовой принадлежности того или иного животного. На практике ему нужны были быстрое выявление и определение названия птицы. Так он выбрал для пернатых такие формальные категории, как бегуны, пловцы, ловцы, разведчики…
Для представления животных, которые не были близки к его области исследований, он привлекал известных экспертов. Так, его бывший йенский учитель Оскар Шмидт описывал беспозвоночных, а Эрнст Ташенберг – насекомых и паукообразных.
В общих и специальных статьях Брем в основном описывал млекопитающих. Они, его по мнению, «обладают памятью, разумом и душой и зачастую имеют индивидуальный, решительный характер. Умное животное рассчитывает, прежде чем действует, способно оценить обстановку, чтобы удовлетворить свой внутренний порыв. У животного высокие понятие об общих интересах других зверей, и оно жертвует собой ради блага других и всех. Оно поддерживает больного, слабого, делится едой с голодным. Преодолевает желания и страсти, учится контролировать себя, демонстрируя также порой и силу воли. Оно помнит о прошлом и думает о будущем. Запасает и экономит пищу, заглядывая как бы вперед». Брем приписывает зверям такие черты, как смелость и робость, вороватость и честность, открытость и скрытность, злорадство, гордость и смиренность, доверчивость и подозрительность, послушание и упрямство, ну и, конечно, дружбу и вражду.
Книга «Жизнь животных» имела огромный резонанс. Последовали новые издания и допечатки тиража. Но успех не давал повода для успокоения. Уже после выхода в свет первых томов стало ясно, что нужно не только переиздавать и слегка исправлять текст, но и пересматривать все содержание. На протяжении многих лет он работал над этой задачей.
Второе издание было опубликовано в 1876 году. Оно увеличилось до десяти томов, то есть по объему было удвоено. Брем писал: «Жизнь животных предстает здесь в совершенно иной форме – исправленной, улучшенной, обогащенной и завершенной во всех направлениях в новой книге под новым названием».
После кончины Брема появились еще два полных издания. Третье, куда также вошли карты и цветные вкладки, вышло в 1890 году под редакцией зоолога Эдварда Пехуэля-Леше (1840—1913). Тот поставил перед собой задачу быть верным первоначальным целям автора и при редактировании сохранять особенности бремовского стиля. Необходимые добавления и корректура были внесены, лишь «чтобы сохранить легкий характер книги, оставив ее в духе автора». Вмешательство было осуществлено только в одном направлении: «Я удалил спорные моменты, которые не были так уж важны читателю. Зоолог-Брем остался полностью. Брем-спорщик, скрещивающий клинки с противниками, – удален», – писал Э. Пехуэль-Леше.
Полностью пересмотренное четвертое издание было осуществлено Отто фон Штрассеном в 1912 году. Редактор взял на себя трудную задачу доведения всего текста до нового научного уровня. Основная проблема состояла в том, что повествование везде шло от первого лица и оказывалось неприемлемым на нынешнем уровне развития зоологии. Это был уже не тот Альфред Брем, который когда-то собирал сотни и тысячи читателей своими рассказами от первого лица и представлял прототип классической книги о животных. Но это был и не классический научный труд, в котором надо было соблюдать определенные авторские права. По постановлению суда в 1925 году были учтены интересы наследников Брема независимо от степени воздействия на текст редакторов.
Следующие сокращенные выпуски четвертого издания «Жизни животных», как правило. выходили по старому, второму изданию 1876 года. Примечательно, что изданная в 1941 году зоологом Вальтером Раммнером в Лейпциге книга не продавалась в период фашизма в самой Германии, а шла только на зарубежные рынки. Интересно, что же не устраивало в бремовских рассказах нацистов?
Четыре тома отредактированного издания вышли уже в ГДР, в 1952 году в Библиографическом институте Лейпцига. Издание 1959 года ограничилось одним томом о зверях, с которыми он встречался лишь в путешествиях или зоопарках.
«Застенчивый материалист»
«Жизнь животных» Брема была намного большим, чем просто «зоологический ликбез». В то время когда наука объявила себя замкнутым цехом, он попытался сделать ее доступной и популярной. Ее выход совпал по времени с распространением теории эволюции Дарвина. Труд Ч. Дарвина «О происхождении видов» на немецком языке вышел сразу после английского издания, в 1859 году, и стал поворотным пунктом в истории биологии, имел далеко идущие последствия не только для естественных наук. Идея эволюции была уже высказана до Дарвина, и теория изменчивости видов также была знакома общественности. Дарвин же выявил механизм, который вызывает данное развитие событий, он нашел веские аргументы, чтобы ответить на нерешенный вопрос о силах, которые приводят к таким изменениям.
Альфред Брем был сторонником эволюционной мысли и тоже выступал за победу нового мышления. В предисловии к своей «Иллюстрированной жизни животных» он написал в 1864 году: «Естественные науки не должны опасливо оглядываться, когда дело доходит до провозглашения истины, и дорогого стоит развенчать заблуждения тысячелетий, царившие в мире».
Защитникам библейского мифа о сотворении мира он отвечал: «Человек рассматривается настоящим завершением природы, на самом деле он не больше и не меньше, чем млекопитающее… И мы, натуралисты, считающие так, вовсе не принижаем его этим». Поскольку такое утверждение было довольно легковесно, позднее, в 1876 году, он в эссе о человекообразных обезьянах выразился более четко: «Еще два десятилетия назад было легко писать об обезьянах, а сейчас весьма трудно. Можно обидеть и верующих, и горячих поклонников Дарвина, которые пошли дальше, чем их учитель. Они готовы увидеть в шимпанзе своих прадедов». Брем относил себя к поклонникам дарвинизма, и поэтому нет ничего необычного в том, что он подвергался нападкам и нередко получал анонимные письма, в которых его называли «нетерпимым, как шимпанзе».
Однако на самом деле он не был убежденным материалистом. Конечно, определенные взгляды заставили его дистанцироваться от ортодоксальных церковных догм и привели к умеренным материалистическим взглядам на мир. В одном выступлении он так и представился – как «застенчивый материалист», и выдвинул некий компромисс: «Меня называют материалистом, однажды обругали атеистом и даже злейшим врагом священников. Честно говоря, я воздаю должное здоровому материализму, заступаюсь за него, борюсь за него. Правда такова, что я смотрю на божество как на некую форму в моем понимании, исходя из своих знаний и усмотрения. Правда, что я даже бросил перчатку тем, кто называет себя священниками. Никогда, однако, я не делаю из них карикатуру, никогда не свожу все к одному знаменателю, не причесываю под одну гребенку».
Бремовское знаменитое очеловечивание животных происходило по различным причинам. Оно восходило к самой теории эволюции и зависело скорее не от физических и анатомических особенностей животных и человека, а от области психики и психологии, которые доказывали, что между двумя этими группами нет глубокой пропасти. Оно восходило и к его знаниям. И еще Брем находился под влиянием книги «Попытка изучения психологии животных» профессора П. Шейтлина (1840) из Галле, который уже напрямую очеловечивал животных[33].
Язык иллюстраций
Огромный успех «Жизни животных» зависел в немалой степени от улучшавшихся от издания к изданию иллюстраций. В то время картинки в зоологических публикациях подтверждали правдивость рассказов путешественников и ученых, повышали достоверность и значимость текста.
Весте с изменением содержания менялось и его художественное оформление. В то время как в XVIII веке доминирующей была документальная передача мельчайших деталей, чтобы поточнее охарактеризовать описываемый объект, в следующем столетии появилась мода на «развернутые» иллюстрации условий, в которых живут те или иные зверь или птица. Лучшими работами оказывались те, где сочетались и решались научные и художественные задачи.
С появлением гравюры на дереве, разработанной в Англии, как относительно дешевом способе репродукции, возникла возможность в середине XIX века иллюстрировать книги о животных в больших тиражах – то есть выпускать недорогие и массовые издания.
Прогресс анималистики особенно проявился в орнитологических работах. Мрачным рисункам, сделанным с тушек препарированных, подчас много лет назад, птиц пришли на смену яркие, «живые» рисунки с натуры. Особый вклад в иллюстрации, сделанные в Германии, внес Йоганн Фридрих Науман, который сначала для своего отца, а потом и для собственной работы «Естественная история птиц Германии» нарисовал отличные картинки, удачно сочетая в них талант художника и знания орнитолога.
Особенный интерес у читателей вызывала изумительная окраска экзотических птиц. Поскольку в большинстве своем немецкие орнитологи вынуждены были обращаться к отечественным пернатым, окрашенным скромно, внимание читателей привлекли английские издания. Британцы больше путешествовали в то время, видели дальние страны и их обитателей. Среди английских художников того времени были хорошо известны имена анималистов Джона Гульда (1804—1881) и Джозефа Вулфа (1820—1899). Они проиллюстрировали многие труды, написанные по результатам экспедиций в Австралию, на острова Микронезии и к другим землям южных морей.
Немецкая же анималистика добилась успехов именно с выходом «Жизни животных» А. Брема. И важно, что тиражи книг пошли вверх именно с увеличением числа иллюстраций.
Брем уже в своей совместной книге с Росмесслером в лице Теодора Франца Циммермана нашел отличного рисовальщика. А в поездке с герцогом Эрнстом познакомился с художником Робертом Кречмером, сочетавшим художественные способности с познаниями в зоологии. В последующих изданиях зазвучали новые имена художников – Людвиг Бекман (1822—1902), Пауль Мейерхейм (1842—1915), Кристиан Кронер (1838—1911) и особенно Густав Мюнцель (1839—1893), а рисунки животных Вильгельма Кунерта (1865—1926), знаменитого немецкого анималиста, сделанные не в зоопарках, а в экспедициях и других поездках на природе, украсили третье издание «Жизни животных», где, кстати, впервые появились и фотографии[34].
1876 год принес Альфреду Брему в добавление к первому тому второго издания «Жизни животных» еще один успех: был окончен его трехтомный труд, начатый в 1872 году, – «Птицы в неволе». В этом «Справочнике для любителей и содержателей отечественных и зарубежных птиц в клетке» он впервые обобщил собственный и мировой опыт содержания птиц.
Дружба с кронпринцем
В 1878 году возникла крепкая дружба, узы которой связали Альфреда Брема с австрийским наследным принцем Рудольфом (1858—1889). С детства Рудольф интересовался орнитологией, и «Жизнь животных» была его настольной книгой. Он испытывал большое желание познакомиться с автором этого труда. Случай представился в Вене на Всемирной выставке 1873 года благодаря содействию его учителя, известного геолога Фердинанда фон Хохштеккера (1829—1884).
В 1876 году, 18 лет от роду, Рудольф взял на себя патронаж над орнитологическим обществом Австрии и наладил контакты с известными зоологами. Когда Брем посвятил оба «птичьих» тома 2 го издания своему юному читателю, тот был вне себя от радости: «Я горжусь, что мое имя стоит на этом выдающемся труде». В благодарственном письме он говорит: «Я надеюсь скоро Вас увидеть и связать нашу дружбу на научном поприще». Скоро это пожелание осуществилось. На Пасху 1878 года Брем получил приглашение к путешествиию по Дунаю, которое ставило целью выяснить в первую очередь вопрос об орлах. Среди участников были орнитолог Евгений фон Хомейер, таксидермист Эдвард Ходек, а из придворных кругов – брат наследного принца Леопольд Баварский и старший гувернер Бомбеллес.
На пароходе из Будапешта они отправились вниз по течению. Всего в нескольких километрах от столицы берега разошлись на большие расстояния. Наконец река стала разветвляться на множество еще не исследованных рукавов. Пышные заросли покрывали острова. Кое-где леса были совсем девственные, и там водились дятлы, дрозды, цапли, вороны, ястребы и орлы, которым и было уделено основное внимание на экскурсии. У каждого орлиного семейства существовала собственная территория. У одних на острове Адони, у других – на Апатине, где участники побывали в лесу Кескендер, познакомившись с идеальными условиями обитания хищных пернатых.
Брем отметил в своем дневнике: «Как житель восточной страны, он (Рудольф. – Авт.) знает венгерский язык, но не помешан на охоте и не нацелен лишь на убийства животных, в результате которых так сильно сокращено поголовье во всей Западной Европе». Но в отличие от Брема и Рудольфа, основной деятельностью которых были наблюдения за орлиными гнездами, их спутники были не прочь поохотиться. На палубе парохода стоял разделочный стол, на котором препарировались тушки птиц и затем сушились на солнце.
Далее пароход пошел к болотам Драуэк и Хуло. В деревне Черевиц сошли на берег. Охотники направились к Фрушка-Горе, поросшей лесом горной гряде, месту обитания стервятников, крупнейших в Европе хищных птиц. А потом вскоре достигли Ковила, конечной цели путешествия. Впечатления от поездки принц подробно описал в докладе.
Год спустя теперь уже Брем пригласил Рудольфа в совместное путешествие. Через Триест, Венецию, Милан и Геную они отправились в Мадрид, а оттуда в Андалузию, Танжер и наконец в Лиссабон. Попутчиками их на этот раз стали все тот же Леопольд Баварский и покровитель науки и искусства филантроп граф Ханс Вильчек.
К этой поездке они подготовились основательно, что отражено в беседах и письмах, которые сохранились в архивах. Первый визит Брема в пражские Градчаны, резиденцию Рудольфа, в ноябре 1878 года был омрачен кончиной его жены, умершей 17 сентября сразу после рождения Альфреда, пятого ребенка. Дочь Текла вспоминает: «Отношения между ними были так же близки, как и в начале брака. Они работали всегда вместе. Мы, дети, могли себе представить маму только вместе с папой».
«“Как же так?” – спросишь ты. Как такое могло случиться? – пишет Брем пять дней спустя после кончины Матильды в Айзенберг своему двоюродному брату Отто Корну, преемнику его отца в приходе Рентендорфа. – Все было так прекрасно, счастливая мать лежала перед нами с великолепным младенцем, которому уже никогда не суждено ее увидеть. Ни облачка не было на этом небосклоне, ни ветерка. И тут она зовет сиделку: “Мне плохо!” Я бросаюсь в соседнюю комнату и до конца держу в руках ее пальцы. Как мне передать страдания старших детей? А что сказать о себе самом? Теперь мне остается только жить ради своих детей, а ведь 2 февраля мне исполнится пятьдесят». «Если я выдержу и этот удар, то никакой другой уже не сможет меня сокрушить», – записал он в те дни. Но удары продолжали сыпаться. Из Пражского Града он писал другу Корну в мрачном настроении, ибо узнал о смерти умственно отсталого сводного брата Рудольфа: «Гробокопатели опять при деле: скоро очередь дойдет и до меня. Но если я продержусь еще хоть несколько лет, мои дети голодать не будут. Еще поработать – вот цель моей оставшейся жизни. Остальное все иллюзия».
Длившаяся с 28 апреля по 25 июня поездка проходила главным образом не по лесам и долам, а по гостям – от замка к замку, от торжества к празднованию. Говорили, что принц ищет невесту. Эта атмосфера была для Брема, который не выносил подобных вещей, очень утомительной. Впервые в жизни он вернулся домой из поездки усталым. Принц Рудольф пытался приободрить его: «Дорогой друг, говорят, что Вы чувствуете себя старым и Вам необходим отдых, и это пугает меня. Существует только один Брем, который должен быть сохранен для науки и друзей, – молодой, здоровый и свежий. Вы все еще в полной силе – энергичный боец науки. Вы не имеете пока что права делать первые шаги к старости, и даже не упоминайте об этом, мы должны бороться с годами, держать себя в тонусе. Простите мне эти строки нотаций от верного друга, который беспокоится о Вас ради нашей общей науки».
Напряженную работу по подготовке второго издания «Жизни животных» Брем вынужден был делать уже без жены, буквально прикованный к письменному столу, и не имел возможности принимать предложения друзей, в том числе и принца Рудольфа, о путешествиях. Даже известие о награждении его орденом Железной короны не дало оснований для особого энтузиазма. Он никогда не использовал для личных нужд своих связей и наград.
В течение летних месяцев Брем старался укрыться от городской суеты в своем деревенском доме в Рентендорфе. Здесь, в жилище своей матери, который он унаследовал с братом, зоолог оборудовал себе рабочий кабинет с видом на лес. Рабочий день обычно начинался в четыре утра, а несколько часов дневного отдыха он обычно использовал для разведения роз в саду. Принц Рудольф постоянно направлял сюда подробные отчеты о своих экскурсах в дикую природу и просил советов.
Средств на жизнь большой семьи постоянно не хватало. Литературная деятельность, какой напряженной она ни оказывалась бы (наряду с «Жизнью животных» он опубликовал еще пять книг и сотни статей), не могла прокормить всех детей. И Брем все чаще стал выступать с лекциями по результатам своих поездок.
За иные выступления платили по 150 марок, и такого заработка не чурались даже всемирно известные докладчики. То был признанный способ зарабатывания денег весьма почтенными господами, в том числе и Бремом. Темы были любыми. Дарвинизм – пожалуйста! Антидарвинизм? Еще лучше! Публика воспринимала все эти темы с энтузиазмом.
Церковная реакция вовсю пыталась помешать его выступлениям в Австрии и Германии. Рудольф же, который считался приверженцем и покровителем либерального, прогрессивного крыла интеллигенции, больше не должен был находиться под влиянием вольнодумного ученого, да еще к тому же дарвиниста, не делавшего секрета из своих антиклерикальных взглядов и даже считавшегося масоном.
Пражский архиепископ кардинал Фридрих фон Шварценберг показал «Жизнь животных» с соответствующими комментариями самому императору Францу Иосифу. Под давлением окружения Рудольф был вынужден 10 октября 1879 года написать своему другу: «Я действительно с нетерпением жду встречи с Вами снова после столь долгой разлуки. Просил бы Вас нанести мне визит в ноябре, но не читать здесь лекции. Я устно изложу Вам причины, которые побуждают меня к этой просьбе, пока лишь скажу, что этим Вы избавили бы меня от многих неприятностей. Я уже много получил косых взглядов от представителей разных партий за мое отношение к науке». Свое общее отношение он выразил в несколько странном новогоднем приветствии конца 1879 года: «Пусть наступающий год развеет и обезвредит все заблуждения наших оппонентов».
Протесты реакции по поводу «опасного» поведения наследника трона выросли в настоящую антибремовскую оппозицию, поэтому император решил отправить сына в поездку в Египет. На этот раз «правильным» компаньоном для него выбрали священнослужителя Лоренца Мейера. Никто не мог предвидеть, что на древней земле пирамид Рудольф найдет свободомыслящего и прогрессивного друга и советчика в лице Генриха Бругша, видного немецкого египтолога, в чем-то заменившего ему Брема! На самом же деле Рудольф при своем мировозрении и в том числе и дружбе с Бремом был обречен на катастрофу. Такой монарх в Европе тогда был просто невозможен. Вплоть до смерти императора имя мятежного принца при дворце было под запретом…
Еретические выступления
С завершением работы над «Жизнью животных» в 1879 году окончился важный период в литературной деятельности Брема и, следовательно, большой период всей его жизни. Отныне он зарабатывал на жизнь лекционными турне на родине и за рубежом. Все его заботы были о детях: он хотел обеспечить их будущее. «Мои лекции приносят какие-то деньги, и если я проживу еще несколько лет, мои дети не умрут с голоду. Поэтому работа по-прежнему является целью будущей жизни», – написал он своему двоюродному брату Отто Керну в Айзенберг.
«Репертуар» Брема включал в себя 16 тем, которые он предлагал на выбор: птичьи базары на севере, тундра и ее природа, дикая жизнь степей Азии, саванны Центральной Африки и ее дикая природа, перелетные птицы на родине и на чужбине, джунгли Африки, миграции млекопитающих, любовь и брак у птиц, картинки жизни обезьян, исследования по Дунаю, караваны идут по пустыне, земля и люди между порогами Нила, путешествие в Сибирь, язычники-остяки, кочевники и странствующие стада азиатских степей, семейная жизнь киргизов, поселенцы и ссыльные в Сибири.
Обо всем этом он был в состоянии долго и увлекательно рассказывать. В пресс-релизах, оставшихся с тех времен, видно, как Брем умел увлечь свою аудиторию: «Брем развернул такую картину жизни птиц на севере, что она больше походила на полотно художника по поэтичности и яркости красок… Трудно, даже невозможно даже приблизительно передать впечатление от этой очень своеобразной по красоте картины…»
Были и совершенно иные отзывы. Реакция призывала выступать против «еретических выступлений» и пыталась не допустить встреч Брема со слушателями. Ультракатолическая газета «Бамбергер фольксблат» выступила 15 января 1880 года с резким протестом против лекций натуралиста.
«Отвечая на вопрос: “Кем является доктор Брем?”, мы установили, что он не просто дарвиновский материалист и последователь Геккеля и Фогта, но и поистине ожесточенный враг католической церкви и любой религии вообще». Мнение бремовских противников было однозначно: врагу веры доктору Брему лучше отправляться в Сибирь, а не в Бамберг!
В 1882 году Альфред Брем подписал контракт с одной американской компанией на выступление с осени 1883 по весну следующего года в городах восточного побережья США.
Там послушать Брема собирались целые залы. В Нью-Йорке несколько раз заполнялся полностью Стейнвей-холл на 2500 мест.
Незадолго до поездки заболели дифтерией все пятеро его детей – Хорст, Текла, Лейла, Фрида и маленький Альфред, родившийся в 1878 году.
Брем не мог не ехать, иначе его разорили бы огромные неустойки. Но он дождался, пока не минет кризис у детей, и тогда отправился в турне. Однако случилось так, что 8 января 1884 года от последствий болезни умер маленький Альфред. Отец узнал об этом только 29 го. Он получил ужасную новость в Нью-Йорке. Сохранились три открытки из США, и все они посвящены детям.
Потеря любимого ребенка, который был для него последней ниточкой, связывающей с умершей от родов супругой, сильно повлияла на его психику. Хорст Брем так описывает состояние своего отца: «Чем осторожнее и медленнее готовили мы его к этому известию, тем тяжелее оно для него оказалось. С той поры он стал как бы не в себе. Механически выполнил тяжелую работу – 50 лекций, а затем в долине Миссисипи его свалила малярия, которая только усилила психическое потрясение, пока он лежал в постели… Приходил он в себя крайне медленно. Домой вернулся старик, сломленный телом и духом. Мы были потрясены его седыми волосами, потухшим взором… Иным мы его уже не видели».
Ушел человек всей Земли
Вернувшись домой в Фридрихсханнек под Айзенбергом, Брем решил как следует отдохнуть. В апреле 1884 года он переехал из Берлина в Рентендорф. Дочь Текла вспоминала в 1948 году: «В конце жизни он устроил в саду роскошный розарий. Гости получали по розе, которую обычно клали на столе рядом с тарелкой. Гостье-блондинке – красную, шатенке – белую.
Если была подходящая погода, все мы находились на улице. Папе не нужно было много спать. До поздней ночи он сидел у сарая и наблюдал Луну, поднимающуюся над деревьями. Он полностью сливался с природой».
Тяжелое заболевание почек и проблемы со зрением завершили «букет болячек» этого уже совершенно психически сломленного человека, так что смерть от инсульта 11 ноября 1884 года не оказалась для близких неожиданной. Альфред Брем отправился в свое последнее бесконечное путешествие.
Для науки кончина Брема явилась большой утратой. Орнитолог Герман Шалов почтил память коллеги теплыми словами:
«Все, кто был с Бремом, буквально потрясены вестью о его смерти. Мы видим его и сейчас – 56 летнего нестарого человека с седой гривой волос и выступающим носом, с энергичным и пронзительным взглядом. Сколько же нерастраченной силы хранилось еще в его жилах, какую большую работу мог он еще совершить и как трудно в связи с этим принять идею быстротечности жизни! Когда он вернулся домой из своей первой африканской поездки, он с мужеством, свойственным молодежи, и с оружием в виде обязательного образования вошел в круг людей, которые встали под знамена популяризации науки. С ясной мыслью и острым умом, он великолепно владел словом, смело заявлял о себе в различных кругах и обществах.
Часто его охватывали приступы безрассудства, когда он видел, как трудно добиться справедливости. В его психике почти не осталось места для сентиментальных чувств, которые можно было бы расточать направо и налево. Когда его вынуждали, он мог показаться даже жестким. Но эта строгость была на самом деле здоровым благоразумием, не мешавшим проявляться внутреннему богатству – в нужном месте и в нужное время.
Человек, полный оригинальных мыслей и идей, сочетающий обширные знания со способностью их популяризировать, он добился полного равновесия в работе, породив уникальное произведение, не знающее аналогов, – “Жизнь животных”. Человек, превративший науку о природе в увлекательное шоу, не потерявшее своей научной значимости с годами и десятилетиями».
Брем не расчленял скальпелем тела животных, не изучал их под микроскопом, он всего лишь видел и слышал в поле и лесу их жизнь, изучал ее проявления и тем самым определял характеристики каждого конкретного вида и наглядно изображал их. Он проложил мост между эмпирикой и наукой. Отошел от одностороннего препарирования тушек, призывая к совмещению разных направлений в природоведении, опирался на результаты полевых работ и породил собственные воззрения в разных областях зоологии.
Свои знания он начал приобретать в долгих и изнурительных экспедициях, которые вели его не только через пустыни и тропики Африки, но и по полярным областям и горным районам Центральной Азии и Сибири, сделав его поистине человеком всей земли. Редко когда всемирно известный ученый становился одновременно и любимцем всех, кому посчастливилось с ним встретиться.
Послесловие
Отто Кляйншмидта – священника, биолога и орнитолога – можно считать первым биографом Брема. В 1896 году, через 12 лет после кончины писателя и путешественника, он приехал в Рентендорф и забрал себе коллекцию птиц Людвига Брема, которой угрожала гибель. Он сумел продать ее в Англию банкиру и зоологу Уолтеру Ротшильду. Часть этой коллекции сегодня находится в музее Кенига в Бонне. О. Кляйншмидт много лет изучал наследие Брема в научно-издательском отделе кирхи города Лютертадт-Виттенберг. После смерти Брема многие его тексты исчезли из изданий «Жизни животных», но благодаря усилиям энтузиастов были разысканы и в 1940—1950 е годы и стали вновь выходить в собранном виде. Причем некоторые из них были отредактированы еще 80 лет назад сыном Хорстом Бремом.
Из биографов Брема можно назвать Ганса Дитриха Хеммерляйна, выпустившего книгу «Сын птичьего пастора», куда вошли некоторые письма и семейные бумаги. Он же составил библиографию трудов Брема.
Бремов сегодня помнят в Германии, особенно в Тюрингии, где много лет работал его отец. Память об Отце животных хранится в мемориале и небольшом музее в долине Роды в Рентендорфе – местечке, ставшем ему домом только в самом начале и самом конце его беспокойной жизни.
Ну а лично для автора данной книги Брем начался с серии невзрачных внешне тоненьких книжечек под названием «Die neue Brehm-Bucherei» (ГДР), которые в 1960—1980 е годы продавались в двух магазинах международной книги – в Ленинграде и Москве, каждая их них была посвящена тому или иному отдельному животному – вымершему дронту ли, или вполне живой горилле, пчеле или носорогу. Я собирал эти книги, их у меня за десятилетия накопились десятки, если не сотни. Благодаря им я узнал очень многое о странах Африки, куда стремился и наконец попал, и именно они, эти книжечки, помогли мне выучить немецкий язык. Эти книжки выпускало виттенбергское издательство, то самое, которое когда-то начало собирать все материалы, связанные с жизнью Брема. Ну а первого своего Брема я получил в подарок от друзей моей мамы в 1970 е годы – то были три тома «Жизни животных» 1896 года выпуска с «теми самыми» рисунками Кунерта, некоторые из которых мы приводим в нашей книге.
Основные даты жизни и деятельности Альфреда Брема
Альфред Брем родился 2 февраля 1829 года в Рентендорфе, Тюрингия, в Германской империи, в семье деревенского пастора Людвига Брема, известного европейского орнитолога. С раннего возраста под руководством отца принимал участие в естественно-научных и особенно зоологических наблюдениях и работах. Сначала Брем поступил в университет Альтенбурга на факультет архитектуры (1843), о чем К. Краузе в своем биографическом очерке о Бреме пишет: «Однако он не избрал себе этой карьеры. Не стал даже врачом или ученым-зоологом, как следовало бы ожидать…»
Путешествия Альфреда Брема начались в 17 летнем возрасте с предложения барона В. Мюллера в 1847 году отправиться в путешествие по Африке в верховья Нила. После пятилетних странствований по Египту, Нубии и Восточному Судану он вернулся в Германию и изучал в Йене и Вене естественные науки. Печатал орнитологические очерки в журналах и был одним из основателей Немецкого орнитологического общества.
Второе путешествие привело его в Испанию (1857) третье – в Норвегию и Лапландию (1861) и в 1862 году четвертое – в Северную Абиссинию. В последнем он сопровождал герцога Эрнста Саксен-Кобург-Готского.
В 1863 году он принял приглашение стать директором Зоологического сада в Гамбурге, а в 1867 году переселился в Берлин, где в 1869 году основал знаменитый Берлинский аквариум.
В 1877 году он объехал с доктором Финшем и графом Вальдбургом Западную Сибирь и северо-западный Туркестан; год спустя сопровождал кронпринца Рудольфа Австрийского в путешествии в область Среднего Дуная, в 1879 году в более продолжительном путешествии по Испании.
Незадолго до смерти Брем совершил в 1883—1884 годах турне по городам восточного побережья США, выступая перед публикой с лекциями о животных.
Умер Альфред Брем 11 ноября 1884 года в своем доме в Рентендорфе.
Помимо «Путевых очерков из северо-восточной Африки» (нем. «Reiseskizzen aus Nordostafrika») (3 части, Йена, 1855) и многочисленных статей в специальных изданиях Брем создал ряд превосходных популярно-научных работ, отличающихся увлекательным изложением. Прежде всего это «Das Leben der Vögel» («Жизнь птиц», Глогау, 1860—1861), «Ergebnisse einer Reise nach Habesch» («Отчет о поездке в Хабеш», Гамбург, 1863), «Иллюстрированная жизнь животных» (нем. «Illustriertes Thierleben») (6 томов, Гильдбург, 1863—1869; 2 издание, 10 томов, Лейпциг, 1868—1878; новое издание с раскрашенными рисунками, Лейпциг, 1881), «Die Thiere des Waldes» («Лесные звери», в соавторстве с Россмеслером, Лейпциг, 1863) и в соавторстве с Бальдамусом, Бодинусом и друг. «Птицы в неволе» (нем. «Gefangene Vцgel») (тома 1 и 2, Лейпциг, 1870—1875). Кроме того, Брем написал много статей для популярных изданий, таких как «Gartenlaube» («Беседка»).
Использованная литература
Жизнь животных (двухтомник, СПб, 1866).
Жизнь животных, 4 изд., т. 4—10. – СПб, 1911—1915.
Жизнь животных по А.Э. Брему, под ред. А.Н. Северцова, т. 1—5. – М.,1937—1948.
Путешествие по северо-восточной Африке или по странам, подвластным Египту: Судану, Нубии, Сеннару, Россересут и Кордофану Д-ра Альфреда Эдмунда Брема, члена Леопольдино-Каролинской Академии и других ученых обществ. Государственное издательство географической литературы. – М., 1958.
Брем А. Жизнь животных. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, ОАО «Красный пролетарий», 2004.
Joachim Heimannsberg. Brehms Reiseleben. Mannheim 2010.
Wolfgang Geschorek. Fremde Laender – Wilde Tiere. Leipzig 1984.
Schriften von Alfred Edmund Brehm (Auswahl in chronologischer Folge)
Reiseskizzen aus Nordafrika, oder den unter ägyptischer Herrschaft stehenden Ländern Ägypten, Nubien, Sennahr, Roseeres und Kordofahn. Band 1—3. Jena 1854—1855.
Das Leben der Vögel dargestellt für Haus und Familie. Glogau 1860—1861.
Ergebnisse einer Reise nacfi Habesch im Gefolge seiner Hoheit des regierenden
Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, Ernst II. Hamburg 1863.
Die Thiere des Waldes (mit E. A. Roßmäßler). Band 1—2. Heidelberg, Leipzig 1864—1867.
Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs. Band 1—6. Hildburghausen 1863—1869.
Bilder und Skizzen aus der Thierwelt im Zoologischen Garten zu Hamburg. Hamburg 1865.
Meine Stellung zum Zoologischen Garten in Hamburg und meine Entlassung. Hamburg 1866.
Gefangene Vögel. Ein Hand– und Lehrbuch für Liebhaber und Pfleger einheimischer und fremdländischer Käfigvögel. I.Theil. 2 Bände. Leipzig, Heidelberg 1870—1876. Thierleben. Allgemeinkunde des Thierreiches. 2. Auflage. Band 1—10. Leipzig 1876—1879.
Reise zu den Kirgisen. (Aus dem Nachlaß) hrsgg. von H.-P. Gensichen. Leipzig 1982. Schriften über Alfred Edmund Brehm
Baege, Ludwig: Verzeichnis der Schriften über die Naturforscherfamilie Brehm. 225 Titelnachweise zur Brehm-Biographie. In: Blätter aus dem Naumann-Museum. 3.Stück, Kothen 1980. Nachtrag: 4.Stück, Kothen 1981.
Das Brehmbuch. Zum hundertsten Geburtstag von Alfred Brehm.Berlin 1929. Buchda, Gerhard: Brehmstudien I—IX. (Einzelausgaben s. bei Baege, Ludwig).
Floericke, Kurt: Tiervater Brehm. Seine Forschungsreisen. Stuttgart 1929.
Jahn, Ilse und Edgar Wolf: Alfred Edmund Brehm – ein genialer Tiermaler mit Worten. In: Wissenschaft und Fortschritt.29. 1979. S. 8—13. Kleinschmidt, Otto: Aus A. E. Brehms Tagebücher. Leipzig, Wittenberg.
Kleinschmidt, Otto: Der Zauber von Brehms Tierleben. Leipzig, Wittenberg 1950.
Krause, Ernst: Alfred Edmund Brehm. In: Brehms Tierleben. 4. Auflage. Leipzig, Wien 1918. Band 1.
Фотографии
Альфред Брем
Дом Бремов в Рентендорфе
«Птичий пастор» Людвиг Брем, отец Альфреда, за работой
Брем-студент в Йенском университете
Барон Вильгельм фон Мюллер
Письмо родителям
Торговец из Кордофана
Нил у Хартума
Девственный лес в Судане
Хартумские судья и шейх
На порогах Нила
Верблюдовожатый
Каирская цитадель
Вид городка Массауа
Каирские арабы
Первое издание «Путешествия в северо-восточную Африку»
Эмиль Росмесслер
Отдых в пути, Эритрея
Дамский лагерь в Умкулли
В тундре Лапландии
Берлинский аквариум
Матильда, супруга А. Брема
В Гамбургском зоопарке
Львица. Возможно, именно так выглядела любимица Брема Багира
Гвереца, или колобус, часто встречавшаяся Брему в странствиях по Африке
На почтовой станции в Зауралье
Лагерь в Аркатских горах
Пастухи-казахи
Брем во время путешествия по Сибири
Городок Березов
Издатель Герман Мейер
А. Брем в 1880 году
Дом в Рентендорфе: и кабинет, и спальня
Открытка домой из Нью-Йорка
Примечания
1
Строки из путевых дневников А. Брема по Африке приводятся в переводе В. Ковалевского.
(обратно)2
Мамлюки, или мамелюки (араб. – белые рабы, невольники), воины-рабы (преимущественно из тюрок, а также грузин, армян, черкесов и других кавказских народов), проданные Египту монголами после завоевания ими Средней Азии и Кавказа и составлявшие гвардию последних египетских правителей из династии Айюбидов (1171—1250). Численность мамлюков колебалась от 9 до 24 тыс. человек. Их отряды периодически пополнялись новыми невольниками. В 1250 г. командная верхушка мамлюков свергла Туран-шаха (последнего султана из династии Айюбидов) и захватила власть в Египте. В руки мамлюкских военачальников перешли лучшие земли, основные ремесленные предприятия и должности. Мамлюки сохранили сложившуюся до них военно-ленную систему, при которой за несение военной службы вассалы наделялись султаном земельными владениями. Была создана сильная армия, основу которой составляли отряды конницы, под командованием 24 беев из среды крупных феодалов.
Высокие боевые качества мамлюкского войска сделали его грозной силой, которая использовалась как для борьбы с внешними врагами, так и для подавления волнений и восстаний населения. В 1798 г. их конница была разбита войсками Наполеона Бонапарта в сражении у пирамид. Однако, потеряв военную силу, мамлюки сохранили еще политическое влияние в стране. После эвакуации французов из Египта (1801) часть рядовых мамлюков последовала за ними. Наполеон I принял их в свою конницу, а позднее сформировал из них конно-гвардейский эскадрон (250 человек), который участвовал во всех войнах империи. Остатки мамлюков были почти полностью уничтожены при отступлении армии Наполеона I из России во время Отечественной войны 1812 года. После победы народного восстания в Каире в 1805 г. к власти в Египте при поддержке каирского духовенства пришёл турецкий военачальник Мухаммед Али, который командовал отрядом албанцев-добровольцев в турецкой армии. Сразу же после прихода к власти Мухаммед Али расправился с руководителями восстания; в 1808 м он конфисковал все земли у мамлюкских беев, а в 1811 м уничтожил многих из них, заманив в каирскую Цитадель.
(обратно)3
Вахабиты – мусульманская религиозная секта в восточной Аравии, основанная в середине XVIII в. Мохамедом ибн Абдель-Ваггабом с целью восстановления первоначальной чистоты учения Корана. Шейх Сауд основал свою «вахабитскую» династию от границ Геджаса до Персидского залива. Сын его, Абдель-Азис, со 100 тысячной армией завладел Меккой, областью Оман и другими землями, но был убит в 1803 г. Племянник его, Абдалла II, вторгся в Персию, разрушил город Мешхед, но был разбит и взят в плен Ибрагимом-пашой египетским, после чего казнен в 1818 г. в Константинополе. Потомки Абдаллы при помощи народных восстаний смещали египетских губернаторов и сами изгонялись турецко-египетскими войсками; с середины 1870 х гг. государство вахабитов лишилось части своих владений вследствие династических междоусобий, и власть перешла к новой династии эмиров. В 1820 г. учение вахабитов было перенесено индусом Ахмедом в Индию, где центром секты сделалась Патна, но с гибелью Ахмеда в 1831 г. движение угасло.
Основными задачами были расширение земель и контроль за торговыми караванами, что шли во множестве из стран Западной и Центральной Африки. Мухаммед Али надеялся найти на юге ценные полезные ископаемые, в частности золото, чтобы пополнить стремительно скудеющую государственную казну.
(обратно)4
Брем имеет в виду берберов, древнейшее население Северной Африки.
(обратно)5
Довольно смелое для тех времен замечание Брема. На самом деле родство эфиопов и берберов было установлено и доказано лет через сорок итальянским антропологом С. Серджи.
(обратно)6
Шеллалями нубийцы обычно называют речные быстрины.
(обратно)7
Омдурман – город на реке Белый Нил в Судане, входит в городскую агломерацию с Хартумом и Северным Хартумом. Население Омдурмана составляет свыше 1,2 миллиона человек (1993).
Город имеет свою собственную историю, восходящую к периоду восстания махдистов в Судане. Здесь похоронен предводитель восстания, Махди Мухаммед ибн Абдалла, а в сражении при Омдурмане английские войска под командованием Горацио Герберта Китченера разбили наголову повстанческие силы и обеспечили восстановление британского контроля над Суданом.
(обратно)8
Гадюку.
(обратно)9
Арабы и суданцы очень страдают от вшей и не могут от них избавиться. У суданцев вши черные, как самая кожа головы, служащая им местопребыванием. В жилищах, кроме того, много клопов, но замечательно отсутствие блох. Как только переходишь через тропики, так тотчас же исчезают эти неприятные, весьма многочисленные в Египте, создания.
(обратно)10
Врач и археолог из Шотландии Джеймс Брюс обнаружил их при возвращении из Эфиопии в 1772 г. и был первым европейцем, увидевшим их. Более детально изучил и зарисовал развалины француз Фредерик Кайян (1787—1869), находившийся в составе экспедиционных сил Наполеона. Первые научные исследования в районе Мероэ были сделаны в 1844 г. немецким археологом Рихардом Лепсиусом. Однако бывшая столица царства Куш (III в. до н.э. —IV в.) являла лишь печальные остатки былого величия…
(обратно)11
Пик расцвета этого города приходился на эпоху Нового царства (1580 г. до н.э. – 1090 г. до н.э.), когда здесь правил египетский царь, а с IX в. до н.э. это была резиденция независимого нубийского правителя и именно тогда она достигла наивысшего расцвета. С 320 г. до н.э., с упадком Напаты, угасла и ее столица…
(обратно)12
«Муклэ» на берберском языке означает «чудак» или «шут». Муклэ им действительно был.
(обратно)13
«Джамус» (множественное число от «джамамис-эль-баар»), есть одно, а «аёзинт» (множественное число от «аёзинат») – другое арабское название бегемота.
(обратно)14
Бог премудрый и прославляемый.
(обратно)15
Множественное число от «саахр».
(обратно)16
Муклэ был родом из Волед-Медине на Голубой реке.
(обратно)17
Ибн-эль-Харахми – сын проклятого или безбожного, означает также «распутный человек», и иногда употребляется в значении «веселый малый».
(обратно)18
Дурра, дурро, сорго – подвид однолетних растений рода сорго семейства злаковых, или мятликовых. Отличается плотным соцветием – метелкой с короткими веточками, направленной вверх или немного изогнутой, как у джугары (белая дурра). Возделывается в Средней Азии, Афганистане, Аравии, Африке, Японии, странах Средиземноморья, США. Имеет большое пищевое значение. Зерно дурры перерабатывают на крупу, муку, зелёные растения используют на корм, сухие стебли – на топливо.
(обратно)19
Естественно-научное общество Восточных земель, в котором активно работал еще отец Брема, было основано в 1817 году по предложению альтенбургского врача Винклера. Оно поставило перед собой задачу популяризации естественно-научных знаний, особенно родной природы. Этой цели должны были служить лекции его участников, природные коллекции и «Записки», издаваемые с 1837 года. К тому же общество, несмотря на скудость средств, позволяло себе иногда даже субсидировать научные командировки своих наиболее активных членов. Альфред Брем в 1849 году передал отцу свой литературный дебют «Зима в Египте. Вылазки орнитолога», чтобы тот отнес их в общество, членом которого он хотел бы стать. Орнитологи Иоганн Фридрих Науман и Эдуард Бальдамус очень заинтересовались работой молодого ученого, и скоро она вышла в журнале «Наумания».
(обратно)20
Рейнхольд впоследствии стал врачом, работал в Мурсии, потом в Мадриде и женился на испанской девушке Марии де лас Аугустинас Игинии Матильде Антонии де Морентин. До такой жены, да еще с таким именем, любой немецкой профессорской дочке было как до Луны!
(обратно)21
Молодой профессор Росмесслер вошел в историю науки благодаря удивительной способности популярно рассказывать о сложнейших вещах. Взять, казалось бы, такую сложную и скучную тему, как пресноводные моллюски Европы. Но даже здесь профессор нашел возможность сделать из проблемы интересное чтение. Его книги стали поистине народными, а «Пресноводный аквариум» (1858) позволил ему получить титул «отца аквариумистики». Не говоря уже о книгах «Вода» (1858) и «Лес» (1862) и статей в немецких журналах «Природа» и «Вести с родины».
(обратно)22
Кстати, элементы антропоцентризма засели в более позднем творчестве Брема, и его не раз за них «секли». Но, повторяем, все объяснялось просто – он слишком сильно любил животных, чтобы удержаться от приписывания им некоторых человеческих свойств…
(обратно)23
Демонстрация животных напоказ не была изобретением XIX века, зверинцы были известны еще в глубокой древности, как на Востоке, так и в Римской империи. Но там демонстрировались прежде всего бойцовские качества животных и их кровожадность. Новым делом здесь были культурно-познавательная составляющая плюс научный интерес.
(обратно)24
Профессиональный охотник Ганс Шомбургк, отправившись в Западную Африку «проверить слухи» о неизвестном крупном животном в лесах Либерии, открыл карликового бегемота, оказавшегося совершенно новым видом непарнокопытных.
Много он сделал и для поисков мифического динозавра в лесах Камеруна и Конго, в начале XX века профинансировав несколько экспедиций в дебри Африки.
(обратно)25
Совпадение или нет, но именно в 1864 году в Москве был создан зоопарк, благополучно существующий и поныне.
(обратно)26
Первое плавание К. Кольдевей совершил в 1853 г. В 1868—1870 гг. Кольдевей совершил два плавания с целью достижения Северного полюса между Шпицбергеном и Гренландией.
(обратно)27
Ласкательное обращение к близкой женщине.
(обратно)28
Большая заслуга доктора Гензихена из Виттенберга, опубликовавшего часть этого дневника к столетию со дня смерти Брема в 1984 г. под названием «Путешествие к киргизам». Следует отметить, что жители областей, пересекаемых экспедицией, были не киргизами, а казахами, которых ошибочно именовали до 1925 г. «киргизами». Они в XVII в. были отделены от Киргизстана и делились на четыре племени. Брем еще в 1876 г. выразил сомнения в правильности такого названия: «Коренных жителей степей Западной и Центральной Азии называют не киргизами, но Kaisaken. Это имя было им присвоено русскими переселенцами». Чтобы не противоречить официальным документам, Брем оставил в записях слово «киргизы».
(обратно)29
Черт возьми! (нем.)
(обратно)30
Свинство
(обратно)31
Правильно! (нем.)
(обратно)32
Кстати, именно Жорж Луи Бюффон был одним из родоначальников научной популяризации зоологии. В его книгах «Всеобщая естественная история» (1749) и «Естественная история четвероногих» описание их жизни уже имеет первостепенное значение. При отсутствии собственных наблюдений, однако, он вынужден был полагаться на сведения, предоставленные зоогеографами и путешественниками. Его источниками явились работы Георга Стеллера, Рейнгольда Форстера и П.С. Палласа, а также его сына Георга, которого Дж. Кук брал с собой во второе кругосветное путешествие. Примечательно, что его художественный талант, а также умение ценить природу (которые также повлияли и на А. фон Гумбольдта) во многом сделали из Бюффона того, кого мы имеем сегодня.
(обратно)33
Изучение психологии животных проводились еще в Античности. Но с той далекой поры взгляды ученых от натурфилософии круто поменялись и обратились к практическим исследованиям природы и превратили психологию животных в этологию – науку об их поведении. Много шума своими работами наделал Ч. Дарвин, который писал, что между душами людей и животных нет большой пропасти. Он вплотную подошел к изучению животных инстинктов и заложил фундамент сравнительных исследований поведения. Сюда же внес вклад и сам А. Брем.
(обратно)34
Вильгельм Кунерт, имя которого совершенно неизвестно у нас в стране, родился в 1865 г. в Оппеле (Силезия). С 1883 до 1887 г. обучался в Академии искусств, затем обратился к изучению природы. В своих многочисленных путешествиях по Европе, Азии и Африке (в т.ч. Египту и Индии) Кунерт получил глубокие знания о мире животных. В поездках художник делал бесчисленные эскизы, наброски, зарисовки с натуры; по памяти создавал великолепные картины. У нас о нем рассказал лишь Иван Ефремов, упомянув в романе «Лезвие бритвы» как несчастного любовника, застрелившегося из «слоновьего» ружья.
(обратно)
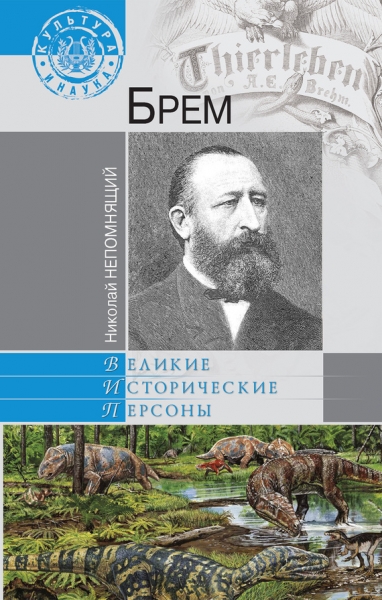

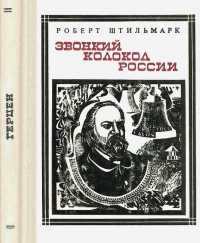


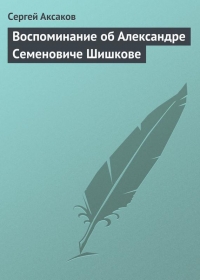
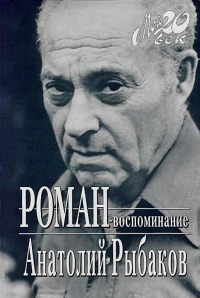
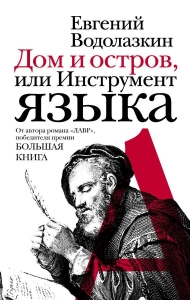
Комментарии к книге «Брем», Николай Николаевич Непомнящий
Всего 0 комментариев