Владимир Битов Все наизусть
От имени собственного
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Ты выглядишь настолько старым?
Лермонтов в редакции НабоковаНе хочу писать, не могу молчать…
Никакого производства! Демонстративный, даже воинствующий непрофессионализм. Вот, чем мне так дорога русская литература, особенно ее Золотой век.
Пять-шесть молодых людей, стишки, а там и стихотворения… не заботясь о публике и лишь иногда о мнении друг друга, справившись с французским языком, как с Наполеоном, вдруг породят за пять-шесть пятилетий, по пять-шесть впервые написанных именно русских произведений в пяти-шести новорожденных жанрах, шедевров на все времена… ничего лишнего. А потом дуэль, убийство, безумие – кому что. Призвание как приговор.
Чего нет, того нет. Никакого таланта, кроме любви к маме и скрытой самостоятельности. Читать я, конечно, любил, но писать и не помышлял. Так случилось. Я так не хотел кому бы то ни было подчиняться и где-нибудь служить, что самостоятельно поставить себе задачу и попытаться решить ее по мере своих сил, позволяло только писательство. Материал (жизнь) указывал путь.
И вот уже более полувека… 2013–1956=57, «полупочтенный патриарх уже почтенного возраста». А если совершить небольшое «путешествие во времени»: 1956–57=1899, – то как начинающий автор я топчусь у дверей и робею постучаться то ли к Толстому, то ли к Чехову, не ведая о том, что русская литература ХХ века уже забеременела Платоновым и Набоковым.
«В России писатель должен жить долго», – высказывание пережило своего автора, прожившего достаточно.
Я уже несколько раз написал всё: в 1963, 1970 и 1975-м, – и уже давно не пишу, а до-писываю. До-живая. Жизнь в жанре постскриптума. Зато теперь мне понятно, почему так растягивались во времени мои тексты. На десятилетия. Не только из-за невостребованности или лени. Новые тексты вызревали внутри недописанных старых. Чтобы писать, как спринтер, жить надо по-пластунски: Ахиллес никогда не догонит черепаху… залог долго-летия обоих.
Я так подолгу комкал тексты в воображении, что черновиков у меня не было. Говорю я тем более набело. Слово не вырубаю топором и вылетевшего воробья не ловлю.
У Пушкина в словаре нет слова профессионал. Разве мог быть профессионалом Поэт? Помню, при Сталине «профессионалов» тоже не было. Были специалисты, ученые, «деятели» искусства. Лишь журналистика была второй (после проституции) профессией (и то на пресловутом Западе). Только при нашей демократии профессионалами стали все (впрочем, сначала разведчики и киллеры, потом воры и экономисты, следом – политики).
Я же по-прежнему делал, что хотел, а не что мог. Исписанность – единственное доказательство моего профессионализма. Впрочем, страх перед чистым листом бумаги – тоже признак: так трудно начинать, еще не зная первого слова!
Не хочу или не могу – вот в чем вопрос?
Все это, видите ль, слова, слова, слова. Иные, лучшие, мне дороги права; Иная, лучшая, потребна мне свобода: Зависеть от царя, зависеть от народа - Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать, для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи… 1Однако, завишу. Зависаю. Моя независимость пала вместе с противостоянием Системе. Как только я с нею сов-пал (Горбачев), сов-власть «сгорбилась» и у-пала.
Я полагал, что главное написать следующее. А оно оказалось – будущим.
Нельзя сказать, что я этого не знал. Еще в 1960 году, не ведая, что начал уже свою «Империю в четырех измерениях», я записал: «Вот сейчас хожу и думаю, об этом ли написать или вон об том? А потом, страшно сказать, буду ходить и думать: почему же именно об этом? или о том… тоже ни к чему…».
А сейчас… и век другой, и тысячелетие, и реальность. Советская власть, конечно, сохранилась, но обнаглела до неузнаваемости. Я устарел для нового времени, и мне стало нечем жевать его поджаристую корочку. Пришлось изобрести на время полуписьменные сочинения.
Толстовское «Не могу молчать!» всегда мне претило. Я зарекался публицистики под маской художественности. Однако зарок – слабейшее звено. Не стерпел.
Вот и стал говорить, а не писать.
Значит, правильнее будет назвать этот жанр изустные сочинения.
Впрочем, нельзя сказать, что я не пытался продолжать и письменно: вот, чем закончился «Преподаватель симметрии» (перевод с иностранного) в 2007:
После перевода 2
Переводчик очнулся на полу в луже крови. Попытался встать, резкая боль в бедре заставила его вновь усесться на пол. Где я? И я ли это?
Огляделся. Крошечная деревянная избушка со скошенным потолком. Именно такие паучьи уголки любил он обживать для плетения своей паутины в Токсово, Рыбачьем, Переделкино, Голузино, Тамыше, Сиверской… только здесь (чем там) все было как-то опрятней и чище. Кроме его собственной лужи на ковре под головой. Картинка дурацкая перед глазами – полевой букет, как раз в ногах, как в гробу.
Хитрец! – самодовольно подумал про себя оживающий Переводчик. – Хороший подыскал себе диагноз: блэк-аут, пти-маль, отключка… – и нет тебя. Хорошо, если так. А если прорастешь овощем? Кто скажет, сколько я здесь провалялся, минуту, пять, час?.. Нет, час быть не может – пошли бы необратимые изменения, я бы не пришел в себя. Придти в себя… как хорошо! В кого же еще?
Кое-как придя в себя, Переводчик стал выбираться из своей щели между шкафом и кроватью. Стол, окно… На столе – телевизор, телефон, компьютер – нет, такого набора еще не видало его гнездо! Окно – «Мороз и солнце, день чудесный!» – все, как у АС. И дальше все, как по писаному: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,//На мутном небе мгла носилась,//Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела»… «Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка…» «А знаешь, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь?» Раздался звон бубенцов… Не может быть! такая точность во всем… Кроме красавицы, однако. Красавица уже не проснется, потому что ее нету. Как таковой. А направо как раз «пустое поле», а прямо – глаз упирается… Неужели за окном всегда Святые Горы?
Переводчик попытался выглянуть в окно: точно! внизу катила лошадка, но не в санях, а на шинах. Какие уж сани, когда компьютер… Тут стала слышна гортанная и лающая немецкая речь, и все встало на свое место: Переводчик обнаружил себя в гостиничке «Альпенгут» на границе с Австрией, куда уединился заканчивать свой многострадальный перевод. Вокруг были настоящие высоченные скалистые горы и только у него в окне невысокий отрог, и впрямь не выше, чем в Михайловском.
Идентифицировав себя в окне, Переводчик продолжил поиск себя в зеркале. Лучше бы он этого не делал!
Картина была под стать букетику: старик в неопрятной седой щетине, весь в крови, с заплывшим глазом.
Такого бы в России и на порог забегаловки не пустили, не то, что в отель для иностранцев. Здесь он, выходит, иностранец.
Кровь уже запеклась в волосах… значит, провалялся он достаточно долго. Это настораживало. Наверно он стукнулся о спинку кровати, когда падал. Бровь была рассечена слева, и спинка находилась слева.
Значит, удар приходится всегда слева. Если бьют справа…
Возвращение в сознание после припадка всегда напоминает пресловутый «хлопок одной ладони». Крошечный взрыв времени в мозгу. Опять, слава Богу, не окончательный. Возвращаешься, как бумеранг, в ту же точку сознания и текста.
Может, это такой краткий сон? Отличие-таки есть. У всякого сна есть начало (неуловимое) и пробуждение, затрудненное видениями или нежеланием просыпаться.
Здесь же нет начала – только пробуждение, причем в той же точке – не понимаешь, почему вокруг суетятся люди или почему ты один лежишь на полу. Отряхиваешься, будто ничего не было. Слава Богу!
А – было.
Кое-как отмывшись, залепив рану туалетной бумагой, аккуратненько общипав ее по краям, вроде как пластырь, Переводчик, хромая, вцепившись в перила, кое-как спустился по лесенке к ужину. И правильно сделал; здесь настолько все было на своих местах: и английская пара с одной сломанной ногой, и берлинская – с одним моноклем, и французская без каких либо признаков, кроме речи, и добрейшая собака с грозной хозяйкой… что никто и не заметил одинокого русского. Живи, как все, сядь подбитым глазом к стенке, и все у тебя будет в порядке. Не то, что у этого надутого, только что прибывшего немца, который, в ожидании ужина, с особо независимым видом развернул газету как раз над только что предупредительно зажженной перед ним свечой…
Даже в этом тишайшем отеле, оформленном под охотничий домик имени Людвига Баварского, под рогами давно убитых косуль и оленей, случаются иной раз горящие новости! Немец вспыхнул, как факел, и вся наша интернациональная бригада не без любопытства за ним наблюдала.
Значит, не только страх перед чистым листом бумаги, а возможно, и более серьезная мания. И пока я не пишу свою «Автогеографию», начатую в первый час ХХI века, я уже не знаю, не догнал ли я черепаху. Однако, пока я ничего не пишу, тут же образовалась еще одна книжка: все впервые опубликованное, а так же наговоренное за последний, 2012 год, Год Огненного Дракона, с января по январь.
19 января 2013Полет шмеля
В честь Пасхи на кареллионе в храме напротив сыграли не только бой часов, но и большую музыку, и моя комната наполнилась жужжанием большого животного: шмель влетел в распахнутое окно. Это был первый шмель для меня в году, и он был огромен. Как он успел так сразу вырасти? Зимует он, что ли? Он стукался о потолок и стены, ища выхода. Даже залетел в туалетную комнату, но там были те же стены и потолок. Не подлетал он лишь к моему столу, опасаясь то ли меня, то ли моей пепельницы. Его усилия выбраться напомнили мне мои усилия за компьютером: я тоже пытался выбраться из задачи, в которую случайно попал. И я с радостью отвлекся. Никакого сочувствия! Его могучее жужжание удовлетворяло меня. Дурак летал перед открытым окном и, вплотную подлетев к нему, шарахался, как испуганный конь, и в поисках спасения снова бился о потолок. Потолок был для него небом, внезапно захлопнувшимся. Отчаявшись, он уселся на контуре под потолком, на желтенький квадратик, возможно отдаленно напомнивший ему ромашку, и застыл отчаявшись. Я долго смотрел на него – он впал в кому. Я вернулся к компьютеру, но судьба шмеля уже больше заботила меня, чем мой, столь же неподвижный, текст. Просидев тупо еще с четверть часа перед уснувшим экраном, я почувствовал себя так одиноко, как шмель. «Надо спасать животное!» – решительно подумал я и стал искать, чем бы его подцепить. «Вот еще одно правильное употребление рукописи!» – усмехнулся я, выбирая лист. Но стоило мне с опаской приблизиться, как шмель вышел из комы и стал кружжать по комнате с еще большим неистовством. Повидимому он отдохнул, набрался сил, но и… до чего-то додумался, включив свой компьютер: стал чаще, хотя и осторожно, подлетать к окну. Он будто не хотел воспользоваться открытым широким путем, каким сюда попал. Он нашел себе узкую, куда менее удобную щель в соседней створке. Не могу знать, с чем было связано его решение, приведшее его наконец к свободе.. Я был рад за него!
Это был подлинный мастер-класс.
Журнал «Октябрь», 2012P.S. Серьезный физик в телевизоре сказал, что по законам аэродинамики шмель летать не может.
14 июля 2012Последний из оглашенных
Но строк постыдных не смываю!
Пушкин в редакции Л. Н. ТолстогоРоман-странствие «Оглашенные» заканчивался сценой у нашего Белого дома 19 августа 1991 года. Уже выпав из времени, в Германии в 1992-м, в Год Обезьяны, я как раз доползал до конца своей «Империи…» в «Ожидании обезьян».
Я был прав в своих предчувствиях…
Под дверь по утрам нам подсовывали свежую газету. По-немецки я не читаю, но, развернув газету, все понял по картинке: Украина была заштрихована. Детская память вернула меня назад на полвека, в Отечественную войну – карты военных действий в советских газетах. Какое-то скрытое торжество узрел я в немецкой карте: такая же штриховка – не наша Украина, но и не ваша!
Значит, нет больше Союза, не только Прибалтики… неожиданную боль испытал я: Советская власть должна была рухнуть, но не империя. Никому это не было нужно: ни республикам, потерявшим себя, ни России, потерявшей провинции, ни Западу, выигравшему холодную войну, ни т. н. третьему миру. Мир утратил баланс.
Роман «Оглашенные» мало кто прочитал и почти никто не понял. Впрочем, кто-то из критиков приблизился к формулировке «экологический роман».
Все люди несчастны по-своему и склонны винить в этом обстоятельства, а не собственную природу. Авторская откровенная неприязнь к человеку как биологическому виду оказалась все еще не своевременна.
Можно сказать и так: слишком легко и ловко мне всю жизнь жизнь давалась! Поэтому никогда не стану я хвастаться своей «борьбой», своей альтернативной позицией в Советском Союзе. Никогда не воспринимал я советской власти над собой, но Союз любил. «О памяти и забывании»3… какая падла зачитала у меня эту книгу, ведь она ей не нужна, а я бы ее теперь почитал и, может быть, что-нибудь понял про свой психологический феномен. Я проходил трудности в буквальном и школьном смысле: прошел – и они в прошлом, забылись, как уроки. Исподволь всегда искал себе место вне коллектива, не умел ничего делать исподтишка (из-под какого Тишка?.. странное выражение, не правда ли), про интригу и конкуренцию никогда не понимал – ничего командного, даже в футбол не играл. Я был одиночка, хотя и старался не противопоставить себя другим. Даже друг у меня всегда был один, но я мог и без него обойтись: так, уроки и лекции (а я много прогуливал) всегда прогуливал один. Чем я был занят в эти долгие часы и дни, до сих пор ума не приложу. По-видимому, своя голова на плечах у меня тогда уже была, правда, неизвестно, кому дадена. Иногда она мешала мне, иногда другим, но чаще все-таки мне. Нравились мне лишь индивидуальные виды спорта, скажем, прыжки в высоту. Но талантов никаких не было, поэтому «писательство», достаточно случайное, мне как ничто другое подошло. Дальше стало проще: я мог сам ставить себе задачу и сам же решать ее. Были, конечно, испытания по человеческой части: изменяли, обманывали, продавали, предавали, подставляли, да и сам нарывался… только я не обижался, а забывал: вспылю и забуду, и все это через время как бы успехом оборачивалось, т. е. тоже «на пользу». Всего два раза обида была раной и долго не заживала, и то… роман написал. Немец! Все переделал в колбасу (под старость награжден запором).
Вот и память сохранил, несмотря на дырку в черепе: вспомню всё в любой точке, только не все точки, может быть, хочу вспомнить.
И потянуло меня вспомнить одну точку в Грузии, где меня покрестили наконец в мои сорок пять как старинного князя, вместе с моим первенцем, дочерью Анной (как я и собирался поступить с ней уже за двадцать лет до того).
Свобода и свобода… то ли ее больше или меньше в одной жизни не бывает? Несвобода та обернулась несвободой этой: в Грузию просто так теперь сам не съездишь.
Поэтому я с радостью согласился туда поехать хотя бы и в составе делегации, зато по приглашению патриарха Грузии. Поставил условие, прикинувшись старым и больным, что нуждаюсь в сопровождении, что дочь будет осуществлять за мной медицинский уход. Думал, доеду, а там как-нибудь оторвусь и достигну заветной точки нашего крещения.
Много воды утекло в реке по имени Вода!
Много воды… прежде, чем я снова мог попасть в Грузию.
1985–2008… Советская власть стопталась и сползла с ноги. Надо было идти одной босой ногой вперед, искать новый вид воровства…
Горбачов, сухой закон, перестройка, гласность, Чернобыль… Грузия, Литва, Чечня, путч… Ельцин, отделение Украины, распад Союза, штурм Белого дома, опять Чечня… Путин, «Курск», террор олигархии…
Пожинаем урожаи. И пожираем. Хронический наш август!
Не мой Кавказ… Гамсахурдия, Абхазия, Саакашвили… Чечня, Абхазия, Южная Осетия.
Империя отражалась в каждом осколке своего великого кривого зеркала: чем меньше осколок, тем кривее отражение.
Тем временем прошла и моя безальтернативная история.
Третья женитьба, рождение последнего сына, смерть мамы… бесконечная (разрешенная и уже лишенная вкуса) заграница! ПЕН-клуб, Пушкин-бэнд, книги и книги…
Рак-1994 и рак-2003… Выжил в двух веках!
(Как раз в Каширке-2003, в год Зоолетия 4 Петербурга, лежа в «Отделении головы от шеи», в одиночной камере с видом на Коломенское, под химией, как под кайфом, я и стал снова беседовать со своим любимым персонажем.)
2003–2011… Нет не только моего конца, но и конца света тоже нет. Однако…
Сначала стали помирать мои герои, мои «солдаты империи», мои «оглашенные»: Виктория Иванова, Даур Зантариа, Геннадий Снегирев, Андрей Эльдаров, Сергей Салтыков, мой брат Олег…
Не выдержали не иначе как новой экологии. Доктор Д., великий этолог и мученик, слава богу, еще держится.
Потом вдруг, за последние пять лет, удары пошли погрознее: смерть Гранта, смерть жены, смерть Саши-соратника, смерть великой подруги…
«Давно, друзья мои, замыслил я побег…» – бежать стало некуда, кроме как в пустую заграницу, не осталось обители на нашей необъятной (ни тебе Аптекарского острова, ни Токсово, ни Куршской косы, ни Армении, ни Грузии, ни Абхазии), все описано и списано… лишь в «пятое измерение»: «Оглашенные», «Преподаватель симметрии», «Моление о чаше»…
Стали помирать и старцы: Надежда Мандельштам, Лидия Гинзбург, Олег Волков, Алексей Кедров…
Памятник Мандельштаму (Владивосток) – 1998-й, памятник Зайцу (Михайловское) – 2000-й, памятник Хаджи-Мурату – 2010-й… «нерукотворный». Памятник всем им и всем нам.
Итак, август 2008-го: война в Южной Осетии, смерть Солженицына.
В Грузию пришлось лететь через Киев: грузинское небо после Осетии для России было заперто. И грузинский компьютер реагировал на российский паспорт дольше, чем на прочие.
Старший офицер совершал более ответственную работу: прохаживался по желтой полосе, строго отодвигая очередь за ее границу, и я спросил встречавших нас священнослужителей, как поживает архимандрит Торнике.
Недавно скончался…
Так я узнал, что не стало отца Торнике, черного монаха, настоятеля монастыря Моцамета, крестившего нас, изъявившего волю стать и крестным отцом. Выходит, он долго ждал, чтобы я его навестил… Сначала передавал приветы, потом перестал. Я боялся подумать, что он умер, и все же подумал: ведь под девяносто! Однако скончался он лишь в прошлом году. Выходит, это я не дождался, а опоздал, достигая заветной точки: ее не стало для нас с Анной без Торнике.
А дождался я лишь смерти моего последнего героя.
Вот был красивый грузин! Чабуа, хорошо, еще жив. Но он герой собственного романа.5
К счастью, прибавился еще один – сам патриарх Илия Второй.
Вот кем может гордиться нация, кто может годиться ей в отцы! Это он сумел вывезти из Осетии сквозь наши танки тела грузинских юных солдат для захоронения в родной земле.
Подставили меня тогда с Абхазией, теперь подставляли с Осетией… испытывали то ли на прочность, то ли на вшивость. С Абхазией я был вынужден занять свою привычную позицию, меж двух стульев, – большой не должен подавлять маленького: Россия – Грузию, Грузия – Абхазию. Про абхазскую ситуацию я знал с 1984-го, до которого Союз все-таки «дожил». Это же надо было так умело обустроить административное деление СССР, чтобы отрезать Карабах и Абхазию, разрезать Осетию! Отец народов знал, что делал, заминировав уже тогда все будущие «горячие точки». Вот и отвечай теперь «за наше счастливое детство» (и за свое тоже)… С Абхазией подставил меня, даже знаю, кто – мой собственный живой, даже процветающий персонаж, хотя и грозится, что ждет «маслину в живот». А вот с Осетией, даже не знаю, кто, видимо, моя собственная репутация «кавказца».
На прощание патриарх подарил мне браслет, а на дочь надел крест. Отца Торнике теперь нет, сказал я тогда ему, можно я теперь за вас буду молиться? Можно, согласился патриарх.
Браслет не снимал – не снимал и… потерял.
Чтобы уснуть, вместо того чтобы считать слонов, поминаю всех, кого могу вспомнить, и лишь потом во здравие. Список помина втрое длинней, и я часто засыпаю, не дойдя до живых.
Поэтому и за Илию молюсь через раз. Поменять, что ли, списки местами?
В этом году, 2011-м, выпал и еще повод посетить — теперь Абхазию. Вспомнили Даура (которого тоже нет) как классика абхазской литературы, достали даже денег, чтобы провести «чтения» его имени… пригласили и меня. Поезжай, там хорошо: май, весна!
Что ж, не увидел крестного, не увижу и крестника…
Воспользуюсь билетом, туда и поеду.
Сухум не произвел на меня прежнего впечатления. Новейшие инвестиции никак не срастались с прежним его образом. На уцелевших зданиях замазанные отметины автоматных очередей выглядели как оспа, новоделы торчали как надгробия истраченным миллионам. Гостиницу «Абхазия», правда как могли, так и восстановили – как «Апсны». Кофе на набережной тоже варили, без этого никак.
Потягивая «крепкий с низким сахаром», я живо представлял себе пьяных солдат, весело разъезжавших на танках по набережной в обнимку со сбежавшими из разоренного питомника обезьянками.
Тянуло же меня в Тамыш, в разбомбленный дом Бадза, отца Даура, где писался в 83-м в одну счастливую ночь «Человек в пейзаже».
Цыплят тех, надеюсь, не разбомбили, а давным-давно уже съели.
Так оно и было. Старушка поинтересовалась, чего это я брожу тут. Бадза Зантариа она хорошо помнила, а Даура уже нет. «Приходил тут до тебя еще один, тоже спрашивал». – «Кто такой?» – «Известный в наших краях человек, целитель». – «Где он?» – «В горах спасается, в пещере».
Поразведав еще, я узнал, что и впрямь есть такой. Лет десять, а то и все двадцать назад появился. Пошлялся вокруг Сухума денек, странно себя вел, все звал какого-то Семиона, не понравилось ему, стреляли, времена нехорошие были, да и подался в горы. Куда? Да в те края, где Иоанна Златоуста убили, там себе пещеру нашел. Мудрый человек отец Павел! Люди к нему ходить стали, лечил он хорошо, особенно от пьянства. Даже из города стали ездить. Ну, не с пустыми руками. Тем и питается. Молится за всех, только, слух прошел, помирать собрался.
Так повторилось мое паломничество к обезьянам.
Мимо колонии для малолетних (теперь уже следующего поколения), мимо храма, чем-то напомнившего мне Сухум, который было начали восстанавливать, да бросили, от источника, где казнили одного из трех Иоаннов, и от кровавого камня, который я и не подумал бы теперь приподнять, я направился вглубь ущелья уже наугад. Чувство меня не подвело: странный человек попался мне, спускался к дороге по почти отвесной тропе… шел, шел, а потом как крутанется на пятке вокруг собственной оси и снова идет. Пьяный? Сумасшедший?.. Поравнялся, еще раз крутанулся, а лицо прозрачное, веселое!
– Что с тобой?
– Не мешай! Я развиваюсь.
Хотел было я спросить, в каком смысле, но решил: не стоит.
– Скажи хоть, как к пещере отца Павла пройти?
– А я оттуда иду. Не мешай! – И он еще раз крутанулся, миновав меня.
1983–2011… нелегко дался мне этот подъем! «Угнездился, однако! – цеплялся я за камешки и корешки, прислушиваясь, как шуршит вниз осыпь из-под ног. – Как к нему больные ходят?»
Вспомнил веселое лицо вращающегося человека и долез.
Пещера была дырка, в дырке помещался строгий дэв, лица от бороды не отличишь. Не ожидал я столь мощного старца!
Он пристально меня разглядывал, не признавая.
– К кому? – наконец неприветливо прохрипел он.
– Вы отец Павел?
– Так, так. Значит, вы его не знаете, а он вас. И что вас сюда привело?
(Так страшный старец оказался стражным человеком.)
– Ноги! – отважно ответил я.
– Ах, ноги!.. – от души расхохотался страж, и что-то в его хохоте показалось мне родное. – Ты хоть знаешь, что он отходит?
– Куда отходит? Зачем?
– Совсем отходит.
– Помирает?!
– Это мы с вами помираем, а старцы – отходят.
– Я из Москвы.
– Это я понял. Что – от самой Москвы ногами?
– Нет, от Сухума.
– Ну, раз ногами, то проходите. Еще успеете. Только обувь снимите. Осторожней, веточку не сломайте!
Надо было пригнуться, чтобы не потревожить ветку, надо было согнуться, чтобы не расшибить лоб о скалу (как в гробницу Наполеона – некстати припомнил я), надо было привыкнуть к тесному полумраку после солнца, чтобы хоть что-то различить.
В углу теплилась лампадка перед Божьей Матерью.
Я перекрестился, как положено, все-таки к старцу вхожу…
– Это не Божья Матерь, а Бомжья Матерь, икона, я тебе скажу, редкая: то ли Ксения Петербуржская, то ли Матрена Московская – всем помогает!
До чего же родной голос!
Он принадлежал самому старцу. Старец возлежал на топчане напротив иконы. В руках у него, скрещенных на прекрасной бороде, куда ярче лампады горела оплывающая свеча, освещая его достойный лик. Веки были прикрыты.
Все было благостно, кабы не приглядывал он за свечкой, держа палец как на спусковом крючке: не капнет ли на бороду? Так и поглядывал то на бороду, то на меня: не сбежал ли? Я же поглядывал на неожиданную здесь кованую дверь с амбарным замком в уголку пещеры.
– Это чтобы я не сбежал. Он поставил. – Старец кивнул в сторону входа. – Пещера-то насквозь. Оттуда путь в город даже короче. – Старец был чем-то доволен. – Как же это ты не узнал меня?
– Не может быть! Ты, Петрович!?
– Как видишь, пока еще я. Тебя вот ждал, как чувствовал. Теперь все, нет повода не отойти.
– Как же ты мог меня ждать?
– Нормально. Знал, что должен прийти доктор.
– Ну, доктор-то теперь, положим, ты! Ты всех лечишь.
– Всех – не всех, – скромно согласился Павел Петрович, – а тех, кто здоров, могу и подлечить. Тебя, например.
– Не твоего ли пациента я встретил? Он все крутился, не мог остановиться?
– Кстати, похожий случай, коллега. Он, Заур этот, так запутался по жизни, решил, что смертельно болен. Потому что чем больше пытался выпутаться, тем больше запутывался. А ему всего лишь развиться надо было в обратном направлении. Как кокон, как шпулька, понимаешь? Вот я и придал ему обратное вращение! Главное теперь, чтоб не сбился. Ты его не сбил?
– Вроде нет. Это он меня к тебе направил.
– Главное, чтоб его по дороге никто не сбил. Если до дому дойдет… там жена, дети, может, и завяжет.
– Так ты что, его от пьянства таким способом лечил?
– А то. У меня это лучше всего получается. Тут у меня ясная методика.
– Какая?
– Во-первых, надо найти правильное место и правильно лечь.
– Например?
– Например, это правильная пещера и я правильно тут лежу.
– Как волк, что ли? Читал, что они умеют правильно улечься.
– Куда мне до волка! Они умеют даже вращаться во сне правильно. Я же только лечь и только в этом логове.
– Другая пещера не подошла бы?
– Что ты! Только эта.
– Как же ты ее отыскал?
– А я не искал. Это была первая, что мне досталась.
– Ладно. А лежишь ты почему правильно?
– Потому что я лежу не вдоль, а поперек.
– А это как?
– Просто. Мысли какие бывают?
– Как это?
– Ну, ты разучился, доктор! Уже и вопросов не понимаешь. Я тебе что, а ты мне как! Совсем запутался. Пора и тобой, наконец, заняться. Надо бы тебя тоже раскрутить…
– Всегда готов! – И я взялся за рюкзачок, где у меня с собой было.
– Торопишься, доктор! А я не тороплюсь, я отхожу. И я же не пью, сам понимаешь. Я же пещерный человек, лечу собственным примером.
– Мой друг бросил пить… – усмехнулся я.
– Что за неуместная ирония?!
– Да анекдот вспомнил.
– Расскажи.
– Ну, два друга заходили всегда в один и тот же бар выпить по рюмочке. Однажды приходит только один и просит две рюмки. Бармен озабоченно его спрашивает: «Что-нибудь случилось с вашим другом?» «Нет, – отвечает завсегдатай, – просто мой друг бросил пить».
– Старый анекдот. У тебя посвежее нет?
– Всплывет – расскажу.
– Значит, хочешь сам с собой? Ты же знаешь, что пить одному вредно… Ты даже не понял, о чем я, а уже отдыхать собрался. Не-хо-ро-шо. – Он со смаком произнес все три «о».
– Так о чем ты? – И я стыдливо подпихнул рюкзачок под табурет и уселся как школьник, руки на коленях.
– Так-то. – И он солидно погладил бороду. – Так о чем мы?
– Про вдоль и поперек.
Как быстро, однако, восстановил он свою власть надо мной!
Без всякой бутылки.
– Правильно. Так вот мысли бывают тоже вдоль и поперек. – И Павел Петрович надежно замолчал, будто задумался.
– Можно спросить? – Я поднял руку.
– Можно. Только не какай больше.
– Что?
– Лучше уж почемукай.
– Почему?
– Хорошее, детское слово. Почему – оно как-то протяжнее, дает по-ду-у-мать. В нем мычание есть.
– Почему-у-у? – готовно промычал я.
– Мычание – первое слово после молчания. В нем есть мы.
– А после мы какое будет следующее слово?
– М-да…
– М-м-м-мы-ы… – промычал я растерявшись.
– Правильно, двоечник. Мы снова вдвоем. А мы – это Мысль!
– СЛЬ тогда что? – Я уже был счастлив.
– Сль… сл-о-жн-о. – И Павел Петрович опять огладил бороду. – Тут уже рядом сл-о-в-о. Но и мы-если или мы-с-иль… с иль или без?
– Запутал ты меня, Пепе. Голова трещит.
– Еще бы не трещит… умнеешь! У тебя без меня все мысли на одну шпульку намотались. Да еще и не в ту сторону.
– Постой… вдоль и поперек… обмотка… раскрутка… уж не магнитные ли поля ты имеешь в виду? Неужто в геофизическом с-мы-сле?
– Во! Растешь на глазах… уже догадываешься. Догадаешься – голову-то и отпустит.
– Так я уже…
– Рано. Ты еще саму мысль-то не додумал. Доразвей ее – совсем легко станет. Пусто. А то набил свой котелок требухой разной, все в нем слежалось и в комки свалялось. Это опасно.
– Что опасно?
– Тут уже теория, а не методика. Главное – это развиться, а не размотаться. Зависит от правильности вращения. Смотри, что с тобой? Да я же тебя не в ту сторону закрутил! Ох, старый дурак! Я так и навредить могу! – И он быстро пробежался свечой по моему кадыку и вниз. – Здесь у тебя узел старый… что, тут у тебя рак был? – Я был поражен: место он указал точно. – Хорошая работа! Повезло тебе с лепилами…
– Что, рецидива не будет?
– Со мной и здесь тебе бояться нечего. Я тебя до конца вылечу.
– Вылечишь? Прости, но как?
– А как всех лечу.
– Так ты что, впрямь лечишь?
– А то. Народ разве ходил бы? Народ, он внутри-то трезвый. Зря не пойдет.
– И что же ты лечишь?
– Запои и раки.
– Всего-то? – хмыкнул я.
– Так болезней всего две и бывает.
– Всего две?
– У нормальных – запой, а кто не пьет, то – рак. Я только от них и лечу. Других болезнев у нас нету. Но не каждый рак мне под силу…
– Ну и как ты тогда?.. А инфаркт? А инсульт?
– Это все к хирургу! Коновалы, они нормальные люди. Делают, что могут.
– Значит, по-твоему, все люди только пьянством и больны.
– Нет, еще слабоумием. Здесь я бессилен. Это неизлечимо. И за женский алкоголизм не берусь… Это все у них от равенства. А оно излечимо только счастьем. Например, если я ее мужика из пьяни вытяну… Нет, женщин я не лечу.
– Как же ты с раком справляешься?
– В общем, почти так же, как с пьянством. Врачи стыдливо его заболеванием называют, чтобы больного не пугать. А рак слово твердое, он ест мертвых, а живых не ест. И я, как тотхороший доктор из грузинского анекдота… некоторым объясняю, что у них все в порядке, другим все разрешаю из того, что им было запрещено, чтобы успели пожить.
– То есть ничего не делаешь?
– Почему это? Некоторым подаю стакан «Надежды». Это моя особая настойка, по сути чача, над которой пробормочу имя пациента и какую-нибудь молитву. И пинком под зад, чтобы не смел возвращаться.
– Ну и как?
– Если проблюются на спуске, желчь выгонят, совсем хорошо, – произнес Павел Петрович не без важности. – Да и в целом положительная наблюдается динамика.
– Ну и б… дь же ты, доктор!
– Это ты точно подметил. Вот ко мне мужики и прут. Куда же еще ходить, как не к б… ди? Зачем, например, тебе вот диагноз, если ты слишком давно ходишь одним боком, все по параллелям, а про меридианы забыл? Спился ты, братец, не от водки, а от пространства нашего. У нас-то меридионального в России мало чего, разве что Камчатка…
– Я там был.
– Я только на Сахалине был, тогда меня эта мысль о продольности и захватила. Недаром туда Чехов ездил…
– Я и там был.
– Был, а что толку? – рассердился Павел Петрович. – Ты тоже, я тебе доложу, бэ, только пространственная. Всем даешь, а сам не выбираешь. По всему миру вдоль шастаешь, а надо бы почаще поперек – в меридиональные страны, где север и юг хорошо различаются. В Норвегию и Швецию, хоть она и широковата… Португалию, Чили, Японию или Англию, даже в Израиль. На худой конец, в Италию или Новую Зеландию – два сапога пара.
– Действительно, пара… Как же их так разбросало? Веришь ты в полюса, Пепе! Тоже магнитное поле?
– А как же! Север и юг, плюс и минус – с этим не поспоришь.
– Интересная география… Почему так много у тебя островов?
– А они от материка отселились.
– Отделились?
– Нет, именно отселились.
– А полуострова что же?
– Им силы не хватило.
– А остальные?
– Пытались их спихнуть в океан, но тоже сил не хватило.
– Я только в Чили и Новой Зеландии не был…
– Я и говорю, спился ты совсем! Хоть две страны, как бутылки про запас, оставил… Бутылка ведь тоже вертикальна!
С вертикали само собой перешли на женщин. Почему же это он их не лечит?
– Опоздал. Как мужчина я им больше не интересен, никакого виталина не излучаю. А чтобы лечить, их завлечь надо, чтобы поверили: они так устроены. А мы другие… зачем же иначе Создатель такую стену между нами построил, как целомудрие? Потому что женщина создана на один раз, чтобы зачать. И это в ней навсегда: она застенчива, за стеной, за стенкой, понимаешь? Она – изначальна.
– Ты про Лилит, что ли?
– Про какую еще Лилит?
– Прародительницу рода человеческого…
– Что, еще одна гипотеза? Нет, я про мудрость целости, или про целость мудрости говорю. Все зачатия непорочны! Нет, ты не врубаешься… А я-то тебя ждал, чтобы вроде как завещать тебе нечто.
В растерянности огляделся я по сторонам, увидел полочку с посудой.
– Это ты прав, добра я не нажил… А помнишь, я тебе все истину собирался выдать?
– Конечно, помню. Много раз!
– Много раз обещал или не выдал?
– Какая разница, наверно, поровну.
– Ну и дурак! Совсем ты стал, доктор, дурак! – Павел Петрович счастливо засмеялся. – Врастяжку бы тебя, да пороть как русского.
– Почему как русского?
– Тот же, как ты сказал, геофизический смысл: врастяжку, потому что страна у нас такая, растянутая по параллелям, а пороть поперек, дабы придать тебе хоть некоторую меридиональность.
– Значит, русские, по-твоему, параллельный народ?
– Соображаешь уже. Конечно, параллельный – по линии наименьшего сопротивления. Все лежим, ждем-с. Разлечься и разложиться разве не синонимы? А время свое пропиваем: меридиан – он ведь время измеряет! Хотя отдельные вертикальные герои встречаются… вверх тянутся. Петр, ты думаешь, с чего такой длинный? Вот он меридиональный. И упомянутый Чехов. Тоже ростом вышел…
– Это уже география, а не геофизика.
– Не умничай. География тоже наука вовсе не школьная. Тут уже история с географией… Почему-то в наше время это выражение имело иронический оттенок. Ничего смешного! Параллельные империи все вширь от дома по суше растекались, метрополия растворялась в империи, а меридиональные – все вплавь, дом свой нетронутым оставляя. Но как ни расширяйся, а соединить время с пространством воедино никому не удавалось – ни Александру Македонскому, ни Чингисхану с Наполеоном, ни Гитлеру со Сталиным. Вот чемпионы параллели! Что им Галлилей… для них всегда Земля плоской оставалась, вот они и доходили до ее край-ности.
– Мне во всей географии больше всего нравилась средневековая картинка, как монах за край Земли заглядывает…
– Мне тоже она нравилась. Он ведь не только с любопытством, а с трепетом, на коленях заглядывает, вцепившись в край Земли как за спасательный круг. А эти исторические монстры безоглядными всегда были. По ним уже разрывы времени начинаются, эпохами потом называются. Потому что география не только историческая, но и политическая наука. Слыхал я, что власть наша уже и на само время посягнула. Большевики – те с календаря начали да с алфавита, так что до сих пор непонятно, почему Рождество после Нового года, а слово письменное потеряло свою твердость и окончательность. А эти попробовали было с языком – не по силам, тогда сокращать меридианы начали, чтобы народ время вообще перестал замечать и не проснулся. Боятся они его, что ли?
– Как не бояться… Про время ты хорошо отметил. Нету его у них. Мешает оно им.
– Им все мешает! Я почему еще в пещеру закопался? Заметил, что всем мешаю. Пробовал лечиться и заметил, что все всем стали мешать: больные – нянечкам, врачи – медсестрам… В чем дело, думаю? Вот и пошел сам лечить. А власть у нас как была народная, так ею и осталась: состояние народа всегда в ней первой отразится! Стало ей все мешать, не только урожаи и пожары, а больше всего народ этот, который она собой выражает. Не любят они в зеркале отражаться, вот что! – а ведь каждый день приходится бриться по протоколу. Отразятся, порежутся ненароком и думают, глядя на себя, что все такие, что и народ такой – хоть бы его вообще не было! – вот и давят как на больной зуб, а вырвать боятся. А народ что? Не дай бог как зевнет да встанет! Примет меридиональное положение… Кровищей собственной, конечно, умоется, шило на мыло поменяет, но добьется такой власти, чтобы ей покориться.
– Так ты тоже придерживаешься точки зрения, что каждый народ заслуживает той власти, которую имеет?
– Как, по-моему, и ты. Не ты ли заявлял, что власть, слава и благо (деньги) – это то, что копится всем миром, а потом распределяется верхушкой, и те, кому ничего не достается, называются народ?
– Возможно. Это триединство еще в Библии сформулировано как слава мира. Власть и слава – такая же перестановка трех букв, как Россия и СССР.
– Надо же! «Народ-языкотворец»… И звук не врет. Только я бы прибавил к этому триединству еще и зло. Оно тоже копится всем миром. И тоже неизбежно узурпируется властью, чтобы быть потом распределенным в той же пропорции. Так что те, кто получают по минимуму, тоже народ, зато менее грешны. И это единственное оправдание власти – быть ответственной за общее зло. Потому, быть может, и «от Бога», что в наказание.
– Не чересчур ли нам его уже досталось?
– Чересчур. Для этого и требуется покаяние. А то все вокруг виноваты, кроме нас самих. Оттого мы всегда параллельны собственной истории, что в собственных глазах невиновны. Муки на месте совести. Оттого и власть на месте закона. Она-то хоть самопожирает себя, как и положено злу. Это она, когда приходит ее время, себя свергает, а не народ.
– Так какие же народы все-таки меридиональные?
– Японцы да англичане. Впрочем, про других не знаю, не слышал.
– А пересеченных народов, что ли, нет?
– То есть как это?
– Вот и ты, Пепе, какаешь! – торжествовал я. – Таких, чтобы параллель с меридианом пересеклись?
– Не думаю. Разве что всех русских выпороть…
– По-моему, это уже не раз было… не помогло.
– Убедил, – вздохнул Павел Петрович. – Значит, и не будет таких народов со знаком плюс.
– А евреи что?
– Что евреи! Рассеянный народ. Солью земли себя полагают. А ведь соль – что? – самое растворимое вещество. Про евреев ничего не известно, кроме того, что они есть. Только они эту тайну никогда никому не выдадут.
– А почему? Может, их тайна, что именно они этим плюсом, а не полюсом владеют?
– Интересная идея… надо подумать. Значит, так много у нас плюсиков? А что это тебя, доктор, так евреи заинтересовали? Ты сам-то часом не еврей? Впрочем, нет: ты – дурак.
– Просто меня часто за еврея принимали…
– А ты и обижался. Я тебе скажу, что мне один старый мудрый еврей сказал: все – евреи, только не все об этом знают.
– Они, значит, про себя знают, а мы про себя нет?
– Может быть, и так. Только никакой другой тайны у них нет. Они есть, и нет их. Это и есть их главный секрет. Поэтому они его никогда и не выдадут.
– Хитро говоришь.
– А иначе про них нельзя.
– Почему?
– Опасно. Того и гляди засосет, и в тайну провалишься. Или сам в тайну превратишься.
– Это уже не геофизика и не география, а метафизика.
– Опять умничаешь. Тоже мне Эйнштейн… Сколько, говоришь, у тебя дипломов?
– Ну, пять-шесть…
– Шестой-то зачем?
– Как раз диплом нарколога, причем американский.
– Так и повесь его в сортире!
– Там и висит.
– Вот это по-нашему! А я и без дипломов не пью. А почему?
– Действительно, почему?
– Потому что про-трез-вел. Это трудно вынести. Народ-то ведь у нас трезвый и неглупый, а пьет лишь потому, что трезвому ему тяжело, не спрячешься. Не всем же в пещеру…
– Так ты мне пещеру завещать собрался?
– Да нет же, мы об истине, которую я тебе обещал…
– Да, неоднократно.
– В том и дело, что истину можно выдать лишь однократно. Я-то уже, как видишь, готов, отхожу. А вот готов ли ты, сомневаюсь. Только я рот открою, как ты перебиваешь. К пещере ты не готов.
– Почему?.. – Я решил обидеться.
– Мало еще безнадежности накопил.
Я еще больше надулся: я давно полагал, что дошел до предела.
– А не одичал ли ты здесь, Пепе?
– Как тут не одичаешь? Зато развалины целы… ведь если разваливается что-то великое, то и обломки циклопические?
– Да, от одиночества и до мании величия один шаг.
– Ах, ты так повернул… А знаешь, какая самая большая мания величия? Это как раз вера в Бога и есть. Подумай только: человечишко-червячишко, а в Самого Бога верит? Разъясняю. Отшельник, он ведь от чего, от кого отошел? От мира! А почему? Вовсе не потому, что он такой святой, а потому, что не справился. С жизнью не справился, а не с дьяволом. В миру остаться добрым человеком, да еще верующим, куда сложнее. Вот и приходится бежать от мира, чтобы веру сохранить. Ты хоть молишься иногда? Ты молитвы когда-нибудь читал? Они же все от депрессии! Они все как с похмелья. Потому что жизнь в миру и есть запой, даже без пьянства. Все в той или иной наркотической зависимости: от сластолюбия, от денег, власти, славы, от игры, коллектива, от карьеры, даже от церкви. Отсюда и все грехи смертные… Поэтому-то я и могу запои лечить, что по себе сужу и мерю. Я ведь не проснусь без того, чтобы не прочитать Молитву последних оптинских старцев… Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня… чтобы никого не огорчить и всем содействовать ко благу. Вот где отчаяние, там и вера. Ни в старцы, ни в отшельники я не гожусь, я отсельник, а не отшельник. Протрезвел и отселился, чтобы не запить. Как твой Лев Толстой. Как раньше сыновей от родителей в деревне отселяли. Взрослый стал, что мне со шпаной делать? Кстати, почему это ты нас «оглашенными» прозвал, разве кто из нас некрещеный был? Ты, например?
– Как раз перед нашей «одиссеей» меня и покрестили. Отец Торнике и стал моим крестным.
– Грузин? Впрочем, хорошо. Я остальных имею в виду.
– Не знаю, как Миллион Помидоров, а остальные, кажется, все. Доктор Д. и то говорит, что его бабка втайне от родителей покрестила, хоть сам и верует только в эволюцию.
– Это распространенный миф. Значит, у него родители были партейные. Им же нельзя было, вот они эту неграмотную деревенскую бабку и придумали. Было много атеистов только на словах, а сами порядочнее иных записных были! А когда стало все можно… Ты написал хоть что после «Оглашенных»?
– Ничего путного. Что писать, когда читатель вымирает, как класс! А я ведь и к Богу лишь через нашу литературу пришел… Гласности у нас не было, зато оглашенность была. Сначала, правда, заглушенность… А ты какой пейзаж написал?
– Да не хнычь ты! Я всегда был к одной точке приговорен… Точка ведь – это перекрестье, координата пространства и времени! Пейзаж – это ведь не природа, а осознание себя в ней. Поэтому я в одной точке пейзажа и сидел, что из нее видно! Всегда в перекрестье, как на мушке у снайпера, всегда в плюсе. Как и теперь… – И он махнул рукой в проем, где сразу же заколебалась ветка. – И я не обижаюсь, а горжусь, что я «как оглашенный»! Снова школьником себя чувствую, юным читателем. Книги другие впервые читаю… Сейчас вот всех в купель макают, а мы в наше время – хоть крещеные, хоть некрещеные, а сами в Бога поверили! Кстати, как мы? Как там наши? Как Виктория?
– Умерла.
– Скорбно. Великая была певица. Щастливо пела. Сейчас таких уже не будет. А Даур?
– Из-за него я сюда и приехал. Торжество в его память.
– Значит, и он? Зря это он, ведь моложе всех был. Талантлив же был, как черт. Господи прости! – Павел Петрович быстровато перекрестил рот. – Поспешил наш Даур, недоделал. Грех это!
– Он мой крестник был…
– Не знал. Как его покрестили-то?
– Сергеем.
– Плохо ты молился за РБ Сергея… А наш кривой? Глазом мы его звали… все роман свой под мышкой тискал?
– Сгинул как-то. Роман напечатал, прославился и пропал.
– Да, слава – она даром не проходит… А Андрюшатик?
– Умер.
– Как? Он моложе тебя был!
– Ногу отрезали и умер.
– Добрейшая, непутевая душа! Мне бы его сюда – жил бы… А Салтык, дружок его?
– Умер!
– Ох, жаль! Настоящей души был поэт… Неужели и Зябликов?
– Да.
– Горе! Великий путешественник был и тварь живую всякую любил, даже роман «Лужа» написать хотел… вот умнее меня был человек! Теперь только ты один у меня в дураках остался… – И старец заплакал со всхлипом. – Ладно! Хватит празднословить! – собравшись, решительно заявил Павел Петрович. – Помянуть надо. Развязывай. – И он указал мне под ноги.
– Развязывай… ты же не пьешь совсем!
– Мало ли. Лет двадцать, мало ли?.. Это я без тебя не пью, а с тобой… Все равно не отойду, пока не помяну наших героев! Давай на троих.
– С этим, что ли… у входа?
– Не. Ему нельзя. Он на работе. – Что-то мне это напомнило… – А третьим у нас будет, кого поминать будем. По-боевому. Достань стаканы… Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия… – бормотал старец, пока я «трудничал», откупоривая, разливая и обтирая рукавом редиску, – … рабы Божия Викторию, Сергея, Андрея, Сергея, Геннадия… Новопреставленных нет? – деловито спросил Павел Петрович, с достоинством принимая из моих рук стакан.
– Нет.
– Тогда можно и чокнуться.
– Только я не всех еще перечислил…
– Кого еще причислил?
– Отца Торнике…
– Слыхал я о нем. Это не его ли посадили за то, что он целый пионерский лагерь покрестил, пока они в речке купались? Добрый был старец! Не мне чета… – Стаканы дрожали в наших руках, пока мы торопливо бормотали: я – имена родных, а он – … и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец.
– Аминь! – Мы чокнулись.
И как же она прошла! Как молитва.
– Да! – вздохнул Павел Петрович. – Стоило сушить двадцать лет! Как там у вашего Маяковского: и стоило пить, и работать не стоило? Наливай вторую, чтобы не хромать… За Викторию, за Сергея-Даура, за Андрюшатика, за Салтыка…
Не успели мы всех помянуть, как нам и не хватило.
– Видишь как… человек предполагает, а Бог располагает! Хотел я последнюю во здравие оставшихся выпить, ан и нет на нас благословения! Какой сегодня день?
– Кажется, суббота.
– Не люблю субботу!
– Это еще почему?
– Люди не работают.
– И что, плохо, что ли?
– Людей много. А мне всегда только субботники выпадали.
– За что ты людей так не любишь?
– Разве? Я сказал, что субботу.
– Ну, тогда за что все-таки субботу?
– За то, что Творец в субботу сотворил человека.
– Чем тебе человек так не нравится?
– А ты думаешь, Творцу он нравится?
– Что же ты любишь?
– Творца. А еще понедельники. Это для меня праздник.
– Почему?
– Люди на работе, а я нет.
– А теперь ты хнычешь, Пепе! Благословение, не благословение… – И я снова потянулся за рюкзачком.
– Так ты и вторую принес? Не знаю, радоваться или огорчаться: я уже было точку поставил…
– Принес, а как же. Твоя наука.
– У меня наука теперь другая.
– Ладно, географию мы прошли… теперь какая наука?
– Как НЕ пить!
– Так, что ли? За здравие живых! – И я хлопнул. И он, помедлив. Закусили мануфактурой, то есть занюхали рукавом.
– Прошла! – выдохнул Павел Петрович. – Зря Бога гневил…
– Хорошая наука – непить… – согласился я. – Как нечисть. Доктора Д. помнишь?
– Как не помнить! Птица – вот героическое существо! Она-то меридиан от параллели всегда отличит… Что, и он умер??
– Упаси Господи! Он тоже ногу потерял.
– И ему! Ну и как он?
– Ничего еще. Курит, выпивает, мыслит.
– Мыслит? Это хорошо. Боец! Значит, в бою потерял… Так выпьем за вторую, чтоб ходила!
Выпили за вторую.
– А ты это, браток, того, завязывай давай, пока обе целы. Это я тебе как врач прописываю… Стоп! У нас же один хромой уже был в отряде, барабанщик, как его?
– Владимир Петрович. Знаменитейший стал человек, теперь стучит по всему миру.
– А этот твой друган в Америке, ты все его цитировал, как выпьешь? Навсегда запомнил: «Дело в том, что дьявол хочет погубить всех, а Господь хочет спасти каждого» – живые слова!
– Юз? Этот живее всех живых! Учит Новый Свет, как стать старосветским помещиком.
– Значит, и доктор Д., и ВП, и он, и нас двое… не так мало нас и осталось! И еще один на атасе стоит… – Павел Петрович кивнул в сторону входа. Я обернулся: в дыре уже смеркалось. – Ты что, не узнал его, что ли? Это же Миллион Помидоров!
– Не может быть! Я его сначала за старца принял…
– Скажешь… Он теперь покруче любого старца будет!
– То есть?
– Кличка, как и имя, недаром дается! Смеялись все над ним, смеялись, а он теперь над всеми надсмехается, превратил-таки свою нищету в богатство: натренировался на помидорах, да и продал их по доллару. Теперь он миллионер взаправдашний.
– Зачем же ему тогда твою нищету охранять?!
– Кому же еще. Не любит он «маслин», вот и сбежал.
– Каких «маслин»?
– Ну, «оливок». Говорят, у вас в Москве теперь на каждого олигарха по «маслине» положено, иначе он как бы и бедняк.
– Откуда у тебя такие познания… это ты про киллеров, что ли? У тебя же в пещере и телевизора нет.
– Зачем он мне? Слава Богу, хоть этого беса здесь не водится. Я же, как дерево, на одном месте. Но знаешь, какую я математику скажу… сколько раз ты видел дерево, столько раз и оно тебя видело, сколько людей его видело, стольких и оно видело – великое тождество! Дерево – вот божественное существо, нелетающая птица! В двух средах живет: и укоренено, и к небу тянется. Я на том же Сахалине одно дерево в прибое подобрал – голое, белое, отмытое волной, как кость… так не мог понять, где корень, а где крона: полная симметрия! Вот и я одеревенел, отсюда и знаю все, не вылезая из пещеры. На рассвете с веточкой моей беседую. Веришь ли, она не только от ветра, она и в штиль отвечает, когда я к ней обращаюсь. Солнце ко мне заходит, когда восходит… Луна заглядывает. Опять же пациент со своими бедами. Вот тебе и телевизор! – Он протянул руку к дыре. – Впрочем, это не телевизор. Это мой единственный и последний пейзаж! Света только иногда не хватает. А без света как цвет возьмешь? Без красок, впрочем, тоже… Да ты взгляни! – Павел Петрович махнул рукой в угол. – Там папка.
Я стал листать. Все это было беспомощно, как когда-то. В черном проеме пещеры, который использовался как рамка, плавала какая-то муть.
– Это что, луна? – спросил я, чтобы спросить.
– Это не просто луна! – рассердился Павел Петрович. – Это Луна, зашедшая за облако.
– А это… по-видимому, солнце? – Абсолютно черный проем был заполнен ярко-золотым кругом.
– Угадал. Эта получше. Пациент мне охры как гонорар принес. Ну, я весь тюбик и извел.
– Прямо Малевич. Только круглый.
– Да не лучше, чем у Малевича, – вздохнул Павел Петрович. – Вот жулик был! Не чета нашему Миллиону Помидоров. Только он мне больше красок не выдает, чтобы не измазался. Теперь всех шмонает. Хотя что мне здесь писать? Портрет пациента? Я не Ван Гог, на портрет никогда не решусь. А мне мно-о-го-о краски надо! Я хотел бы музыкальной живописью заняться.
– Не понял. Скрябин, кажется, что-то экспериментировал с цветомузыкой…
– Это не то. Я хочу, чтобы сама живопись воспроизводила свою музыку. О-о-очень много краски…
Я не стал вникать, небрежно перебирая листы… И вдруг!
Это был портрет ветки в проеме… Именно портрет! Не пейзаж… Твердый карандаш, как резец гравера; рисунок очень выписанный, очень реалистический, но совершенно неправдоподобный, как бы вывернутый наизнанку и непонятно в чем отраженный. Вход в пещеру был вырисован снаружи, каждая трещинка, каждый камушек, как раковина… а ветка была нарисована внутри, и свет из тьмы пещеры как бы от ветки исходил на нас. И каждый листик ее был тоже вывернут и прозрачно светился всеми своими жилочками. И шевелился, шелестел, звучал… и это был взгляд любви! На кого она смотрела? И кто смотрел на нее?..
– Нравится? – обрадовался Павел Петрович.
– Очень! Рука Леонардо!
– Да, больше так не получится. Возьми себе! На память…
– Что ты! Это же великая вещь!
– Зачем она мне… я с живой еще поговорю.
– Вот спасибо! А Миллион Помидоров, значит, сторожит тебя как спонсор?
– Почему как спонсор? Я хоть и не богач, но самодостаточен. А он – нет. Богач, он ведь почему богач? Потому что он всегда нищ, поэтому всегда должен быть еще богаче, у него из всего… до катастрофы это называлось дело, после нее пост, а теперь бизнес (в смысле «без нас»), т. е. узаконенное воровство. В отличие от вора в законе, где все-таки соблюдаются так называемые понятия. Но бизнесмен, как всякий вор, всегда обратит ценность в стоимость – это всего лишь форма сбычи краденого, – ему прикрытие нужно. Вот Миллион Помидоров тут у меня и подрабатывает… Царь, но еще немножко богаче, чем царь, помнишь? Надо еще немножко шить. Господи, какие бородатые у меня анекдоты! Как я сам. Расскажи, ты же обещал, свеженький! Под него и выпьем, вместо огурчика…
– Свеженького ничего теперь нет. Все такие, как ты сейчас вспомнил, только хуже. Плебейский, низкий пошел анекдот – только про новых русских. Без чувства юмора, без гуманности. Ни тебе Чапаева, ни чукчи, ни армянского радио. Ушло вместе с империей.
– А еврейские куда тогда делись?
– Не знаю. Может, уехали на историческую родину.
– Значит, ни литературы, говоришь, ни анекдотов? Это все от свободы слова, – всерьез сказал Павел Петрович. – Но ты не нуди. Уныние есть самый грех. Язык-то наш куда денется? Вспомнил я последний хороший, какой слышал. По твоей части, филологический… про двойное утверждение, знаешь?
– Не помню.
– С удовольствием повторю. Профессор читает лекцию: во всех языках, говорит, двойное отрицание означает утверждение, но нет такого языка, в котором двойное утверждение было бы отрицанием… И голос из аудитории: «Да ладно!»
И вдруг весело нам стало! Легко.
– Да ладно!
Вот это уже тост.
Выпили за родной язык как за последнего нашего живого героя.
– Хорошо прошло!
– Это хорошо, что анекдотов больше нет, – снова стал рассуждать Павел Петрович. – По крайней мере, это не страх, а все еще ожидание. Тут главное – историю не торопить.
– Матушка моя любила повторять к месту и не к месту, – вспомнил тут я, – потребуются три поколения, три поколения! Я думал это у нее от склероза, теперь понемногу стало доходить, что она имела в виду.
– Старческий склероз, между прочим, не такая бесполезная вещь, как все думают. К уходу надо подготовиться, это я тебе как врач говорю.
– Возможно. Она меня уже и за брата своего принимала, и за мужа, которого давно похоронила, и за отца своего, который умер еще за двадцать лет до моего рождения…
– Это она уже по туннелю взад-вперед бегала. Сунется, призрака увидит, испугается – и назад к тебе. А про три поколения она сущую правду говорила: три поколения наша историйка как корова языком слизнула. Преемственности никакой не осталось. Сегодня она наблюдается только у «новых бывших», коммунистов да чекистов, но и у них связь поколений, слава Богу, рвется. Выпустить хотя бы безвременье на свободу! Если использовать прежние партийные формулировки, «неотложные меры по дальнейшему ускоренному развитию первобытного общества» у нас уже предпринимаются… А вот когда все уляжется по параллели и застоится как следует, тогда, не дай Бог, и анекдот возродится, и твоя литература.
– Знаешь, кто бы тебя в кино мог сыграть?! – вдохновился я.
– Зачем в кино? – заважничал Павел Петрович. – Неужто Миллион Помидоров?
– Нет, не твой типаж.
– Тогда кто же?
– Джек Николсон!
– Не знаю такого. На кого он похож?
– На тебя.
– Хороший хоть американец? Я себя не знаю. Ты мне назови, кого я знаю!
Пожалуй, мы были уже пьяны.
– Никого не припомню. Стоп! Увидел… на Фазиля! Есть у него сходная гримаса…
– А Фазиль кто? Где он, кстати?
– Что, ты не знаешь Фазиля!?
– Ну знаю. Его Миллион Помидоров когда-то охранял… а Миллиона Помидоров ты зря недооценил! Не бездельник, как ты. Неленивый человек, а теперь уже и серьезный пацан стал. У него и здесь, у меня, свой небольшой бизнес. Знаешь, мне сколько всего несут! Особенно чачи, чтобы никогда больше не пить… Так у него здесь целый склад образовался.
– Зачем ему? Он же миллионер! Помнишь, Даур удивлялся, зачем Пеле бегать по полю, когда у него уже миллионы? «Был бы у меня миллион, – говаривал он, – так миллион бы бегал, а не я».
– Это только шутка была. Помнишь, он же утверждал обратное: хочу много золота! А на вопрос, зачем так уж много, отвечал: чтобы начать искать золото.
– Это Даур. Поэт и бизнес – вещи несовместимые.
– Как гений и злодейство, говоришь? У бизнеса, быть может, тоже своя муза есть. Кстати, ты, образованщина, у греков разве музы золота не было?
– Не припомню такой.
– А разве мы тогда, по наущению Даура, не за золотым руном направились?
– Может быть. Только оказались на родине Берии.
– Берий – это что, император такой? Или это он бог торговли?
– Работорговли.
– А Меркурий с крылышками на пятках? Крылышки у него всегда золотые…
– Он мужского полу. Вот он, кажется, божок торговли.
– Ну, значит, муза торговли должна быть! Иначе почему это одним прет, а другие никакого таланту к везухе не имеют? Кстати, талант – это что?
– Тайна. У каждого свой.
– Вот видишь, у каждого… А талант, насколько помню из Писания, это деньга такая. Которую нельзя зарывать. А теперь что? Теперь у нас общество потребления! Никто не работает, а каждый зарывает свой талант поглубже и живет как бы на проценты. А тем временем уже и не золота, а воздуха и воды не хватает, Солнце жжется, земля иссыхает… потом вдруг все головкой своей больной удивляются, с чего это кризис? А это похмелье такое вселенское – похмелье потребления!
– Ну ты, Пепе, отрастил бородищу и прямо Марксом стал!
– Только что был похож на Никельса и вот уже Маркс! А мне они оба по …! Только все равно зарытый талант не прорастает и всходов не даст. Пусто! Что, и не осталось ничего? – Павел Петрович потряс пустую бутылку. – Ты больше не принес?
– Только две.
– Опрометчиво. Впрочем, ты не думал меня здесь встретить.
– Я сбегаю!
– Куда? Здесь пустыня. Говорю тебе: чачи у меня залейся! Но она вся на складе у Миллиона Помидоров. – И Павел Петрович указал на таинственную дверь. – Я же не пью! А они мне все несут и несут, чтобы не искушаться больше. Ну, я их кодирую. Бабы и остатки в благодарность принесут, соблазну чтобы не было. У Миллиона Помидоров уже тонны! А как мужик раскодируется, то ничего вокруг нет. Они тогда лезут к Миллиону Помидоров за помощью, а он родственникам и особо близким по особому доверию втридорога назад продает. А тут все родня… Ну, потом они, естественно, назад ко мне на четвереньках ползут кодироваться.
– И все это у тебя на глазах?
– Нет, что ты! Это его от меня секрет. Я как бы и не подозреваю… У него лавочка с того конца пещеры.
Так мне стала понятна тайна столь массивной двери.
– Так это что же, совместный бизнес получается?
– Скорее, симбиоз, как сказал бы Доктор Д.
– Доктор Д. был о симбиозе невысокого мнения. Никакого симбиоза нет, утверждал он, лишь взаимное паразитирование.
– Что ж, помню эту его мысль и целиком ее разделяю. Тут я не без греха. Но я беспомощен и без Миллиона Помидоров не могу обойтись. А он окупает свой труд как умеет. Кстати, Доктор Д. еще не занялся этологией бизнеса? Подскажи ему эту идею о бизнесе как симбиозе. Звучит мягче, чем воровство, а, может быть, и точнее. Миллион Помидоров ведь еще какой бизнес учудил: у местных охотников дичь на чачу выменивает и перепродает за немалые деньги в элитный ресторан, а что уж они там своим олигархам за это накручивают, ты представляешь.
– Доходное дело, выходит, лечение от алкоголизма?
– И не говори! И мне стыдно, да и бабы на Миллиона Помидоров сильно злы – решили скинуться на киллера. Так что никуда он от своей «маслины» не денется. Разве что обратно в Москву, может, там его забыли…
– Мы-то его не забыли! Пускай отстегивает нам бутылочку чачи из твоих подвалов!
– Тут мы с тобой прокололись. Во-первых, я не пью и он должен в это свято верить…
– Но ты уже пьешь! А во-вторых?
– А во-вторых, я ему дал увольнительную и он уже спустился в город, к нему баба приехала, а он темноты и собак боится. Так что его давно уже нет.
– Так сами возьмем, твоя же собственность!
– А это уже в-третьих… У него на этой двери замок с кодом, а кода я не знаю.
– Тогда я все-таки сбегаю…
– Шею сломаешь. Ладно, что уж там… доставай из-за божницы! Там она, там, моя заветная, заговоренная, последняя…
Я полез, поковырялся в пылище… И что же? Она там была!
Лежала под свечами. Я и свечу прихватил для Павла Петровича – а то предыдущая уже совсем в его бороде растворилась.
Тут огромная луна поместилась ровно в отверстие входа, залив все. Стало лучше видно бутылку… Это был легендарный «коленвал» андроповского розлива.
– Слушай! Где ты такую достал? Я таких уже лет сто не видел…
– Сто, говоришь… а я думал, двадцать. Вернее, четыре-двадцать! Я ведь с той цены не пью! Тебя, выходит, ждала.
– И дождалась! – Рассмешила меня бутылка: как можно было ей не поверить… но я не поверил. – Мы же пили с тобой на баррикадах… Тогда уже не могло быть такой бутылки!
– И не говори. Я ее в горбачевскую кампанию так заныкал, что и сам не нашел. А когда нашел, то уже не пил. Тогда и дал себе зарок, что она будет последняя в моей жизни. Не откупоривай, дай мне, я сам. Засвети мне новую свечку.
Под луной красиво серебрилась его борода.
– Не узнал тебя под бородой… – в ожидании глотка сказал я.
– Теперь уже не сбрею. – И он ласково погладил и ее, и бутылку. – Двадцать лет растил. Помнишь своего друга-армянина, который так «хохотовался» над нашим словом «подбородок», когда понял, что «подбородок» – «под бородой», понял, что слово образовалось, когда бород вообще не брили?
– Он умер.
– Жаль. Догадливый был человек. Сколько ему было?
– До семидесяти немного не дотянул…
– Ну это еще ничего. А вот почему тогда у баб тоже подбородок, он не успел спросить?
– У них отношение к женщинам уважительное. Знаешь, что ему внучка на кладбище сказала?
– Не могу знать.
– Ты, Грантик, веди себя там хорошо, чтобы я могла тебя там встретить!
– А ей сколько?
– Да только говорить тогда научилась.
– Устами младенца…
– Извини, Петрович… а тебе сколько?
– Чего сколько? Грамм? Мы же поровну выпили.
– Нет, лет.
– Ах, лет… Ты какой возраст имеешь в виду, биологический или метрический?
– Давай метрический.
– Метрика еще в войну утеряна, а паспорт я пропил. Теперь полноправный бомж, пещерный житель! А биологически я помладше тебя буду! Удивлен? Когда мы с тобой в последний раз выпивали? Да, во время путча, на баррикадах… как же-с, помню, помню… Значит, двадцать лет как!.. – Павла Петровича развезло, и он протянул руку со стаканом. – А ну налей! Ах, не нальешь!? – И он взглянул на меня свирепым пугачевским взглядом. – Так вот биологически я даже младше тебя! На те же двадцать лет… – И он еще крепче прижал к груди свою заветную бутылку. – Истина, говоришь? До истины еще далеко, доктор ты мой. Я тут одной книгой увлекся… Я ведь, кроме Писания, ничего не читаю, суета это. А тут книга несуетная, «Почему животные дают себя снимать?» называется. Написали ее эти ребята из Би-би-си, что про живность всякие фильмы снимают… я бы им давно Нобелевскую премию мира дал, кабы моя воля. Великие ребята, делом заняты. Им что бабочка, что рыба, что лев, что гусь – все едино!
– Где, когда издана? – залюбопытствовал я, ибо фильмы эти всегда любил, а про книгу такую никогда не слышал.
– Не знаю, я имен не помню. Да такая книга, без обложки, из журнала какого, может, выдрана. И куда засунул, найти не могу. А может, она мне и приснилась даже… только я потрясен ею был. Про-све-щен!
– Чем же?
– Это странная книга, понимаешь ли… даже не поймешь, о чем она. Вроде ни о чем. Как бы и содержания нет, и мысли. Обо всем сразу! Она обволакивает тебя, как облако. Это как вера, что ли… Там все живое тебя любит. Да и неживое тоже. Что цветок любит пчелу, а пчела цветок, это как бы всем ясно. Но там даже ягненок любит волка не меньше, чем волк любит его. Там всё любит всё. А уж как любят друг друга самец и самка одного вида, ты и не представляешь: не просто любят – о-бо-жают! Обожать – ведь это обожествлять, не правда ли? И все готовы умереть друг за друга! Мог бы ты умереть от одной лишь любви, как лосось? А он умирает, кончая от одного вида икры! Он от образа возлюбленной умирает, ни разу не разглядев ее… Вот рыцарь бедный!.. Почва любит дерево, а дерево любит почву и небо, которым оно живет, ни разу не взглянув на него. И ветер, и луна, и волны… Все Творение – акт любви, и авторы ни разу не упоминают это слово – как и имя Бога – всуе. Просто вдруг становится прозрачно, что все связует только любовь и поэтому до сих пор и мы еще есть. Все еще цело, потому что целиком, ни одно звенышко не выпадает. Кроме человека. А дают все твари и тварюшки себя снимать, преодолевая страх, даже ужас, лишь потому, что пытаются передать нам это послание, или, как вы теперь говорите, ме-ме…
– Месседж?
– Во-во! В книге тоже встречалось это слово. Пытаются передать нам эту весть о связи всего, о целом.
– Как инопланетяне, что ли?
– Это мы инопланетяне, будто Земля нам не родина, мы варвары и захватчики, а они как раз земляне и есть! Они пытаются передать нам память об утерянном рае, а мы не слышим.
– Дай почитать!
– Да я сам не могу ее найти…
– Да была ли она?
– Вот еще! Я ее осязал как вещь, она у меня перед глазами…
– Может, это истина твоя и была?
– Не, не моя.
– Тогда давай за этих твоих ребят выпьем!
– За них всегда! Наливай!
– Так у тебя же бутылка! – Я давно стоял перед ним с протянутой рукой, со стаканом наготове.
А он все гладил и гладил бутылку. Взгляд его прояснился и стал ярче луны.
– И знаешь еще что, – сказал он твердо. – Ты не жди. Не буду я пить с тобой Эту Бутылку. Хотел я и ее тебе завещать, но Она – все-таки моя. Моя цикута! Не отдам. Тебе уже хватит. Ты ступай домой. Тебя там ждут.
– Ночь же… – жалобно сказал я и полез за божницу, прекрасно понимая Павла Петровича.
– Зачем тебе открывать истину, если ты сразу ее забываешь! – сказал Павел Петрович, прекрасно зная меня. – Разве я тебя уже не учил, что, как древние говорили, что нельзя ступить в одну и ту же реку дважды, так и уже выпитая бутылка не может оказаться второй, сколько её не ищи! Недаром же заначка в нашем языке существует только в единственном числе!
– Так ночь же! – заскулил я. – Где её еще достать?
– В городе. Иди туда. Ничего. Луна сейчас полная, небо чистое, дорогу хорошо видно. Я буду за тебя молиться, и ничего с тобой не случится.
– А Истина! – вскричал я в негодовании. – Ты же обещал мне выдать, наконец, истину!
– А истина пока вот какая: это последняя бутылка, которую ты не выпил, и последняя, которую видел.
– Ты что, кодируешь меня?
– Считай, как хочешь. Ты теперь последний. Понимай главное.
– Что главное?
– А вот все это! И небо, и луна, и звезды, и муравей, которого ты раздавишь по дороге – все это главное. И все это любит тебя. А ты люби его.
– Кого?
– Всё! О чем мы говорим… – И он отмахнулся от меня, как от мошки. – Ступай же, наконец! А я и за твоего Гранта помолюсь, и за здравие его умной внучки. Да и за твое тоже. И главное! Береги свою вторую ногу!
Я застыл в проеме перед неправдоподобной луной. Было действительно светло как днем.
– Когда вернешься-то? Впрочем, что это я. Я же тебя не дождусь. А то возвращайся в эту пещерку. Так и быть, я тебе ее завещаю. Глядишь, еще чего напишешь. Тогда и покалякаем.
– А ты не уйдешь тут без меня?
– Куда я уйду? Я же вечен.
– Вечность я и имею в виду.
– И я то же самое. Ну, ступай. Будь осторожен. – И он перекрестил меня.
– Храни тебя Бог, Платоша! И помни, – услышал я спиной. – Богу не все равно!
И я, не оборачиваясь, вышел в дыру, как в Луну, меня охватил холодный воздух, будто я парашютист, и дальше ничего не помню… Казалось, я слышал выстрелы.
Пьяного Бог бережет. Или молитва Павла Петровича? Тогда тоже Бог.
Во всяком случае, куртку в милиции у меня отобрали «на экспертизу на следы пороха». А на мне лишь две царапины, и обе ноги целы.
Дознаватель допрашивал меня, сколько все-таки было выстрелов, показывая, чтобы я наконец понял, на пальцах: один, два или все пять?
Мое чудесное спасение должно было как-то объясниться, и оно объяснилось лишь еще более чудесным образом…
К отделению подкатил черный эскорт: «мерседес-600» и джип с затененными стеклами. Из джипа выскочили два охранника в таких же затененных очках и черных похоронных костюмах и, приняв очень важный вид, распахнули дверцу «мерседеса», откуда и вышел Миллион Помидоров, весь в белом, как плантатор. Он, на фоне своей важной охраны, излучал высокомерную скромность и обаяние.
Так он и вошел в мою клетку; дознаватель вскочил и принял стойку смирно, а Миллион Помидоров обнял меня по-братски.
– Что, не узнал? А я тебя сразу узнал, еще в пещере! Как ты?
– Как видишь.
– Тебе надо торопиться. Твой самолет через два часа. Ты только подпиши ему бумагу, что слышал два выстрела… Или больше? – спросил он дознавателя.
– Больше не надо, – сказал оперативник.
– Значит, два. Подпиши – и ты свободен.
– Не буду. В жизни ничего не подписывал. А если что за меня подписывали, сам знаешь, всегда какая-нибудь лажа оказывалась.
– Слово даю, тут все чисто!
– Знаю я вас! Потом получится, что это я и стрелял…
– Ну за что ты меня так не любишь? Я все то добро, что ты мне сделал, хорошо помню! А что я тебе такого плохого сделал? Если бы это не был вопрос жизни, я бы тебя попросил? Я простой честный предприниматель, у меня все чисто. А на меня покушение готовилось этой ночью…
– Так, значит, ты раньше от Павла Петровича ушел, чтобы меня подставить?
– Ах, ничего ты по-прежнему не понимаешь! Ну, не хочешь – не подписывай… Исполнитель все равно уже взят и во всем сознается. Мне важно было на заказчика выйти… Я-то его знаю, а исполнитель – назовет, никуда не денется. Уезжай!
– Да почему такая спешка?
– Звонил твой Ваня, там у него кое-что… Не пугайся, все целы, живы и здоровы. Просто… сам узнаешь.
– А Павел Петрович?
Тень пробежала по его лицу.
– Догоню тебя в аэропорту, мне надо срочно на объект.
– Какой еще объект?
– Да так. Завод один строю. Артур, – он кивнул на одного из охранников, – тебя проводит и посадит.
Я пропадал в догадках. Что с Ваней? Что с Павлом Петровичем? Каким образом Миллион Помидоров связан с Ваней?
Миллион Помидоров сумел не ответить мне ни на один вопрос.
– Ты, главное, больше ни о чем не беспокойся.
«Главное»… – меня передернуло.
– Хорошо, что ты вернулся. Он тебя ждал всегда. Я ушел, чтобы вам не мешать.
Артур тоже не был чересчур разговорчив, как бы не всегда понимая по-русски. Про Ивана он ничего не знал.
– А Павел Петрович?
– Отошел отец Павел, – вздохнул Артур.
– Как? От чего?
– Он – выпал.
– Как выпал?! Он что, за мной пошел?
– Да нет же! Выпал – и умер.
– Да нет же! Да ладно!.. – Я рассмеялся, вспомнив про «двойное утверждение».
– Он по-настоящему, как мужчина умер… Выпал вина и умер.
Тут до меня дошло, и я заплакал, бормоча про себя оптинскую молитву.
Это был и впрямь наступающий день, и наступал он как враг.
– На, хлебни! – Артур протянул мне фляжку через плечо.
– Не могу! Не буду…
– Почему? Отец Павел закодировал?
Я промолчал.
– Это он умел! – с гордостью согласился Артур. – Меня он раза три кодировал!
– И как?
– Как видишь, прав не лишили.
Миллион Помидоров, конечно, не появился. Я уже заподозрил его в сложной цепи подстав: выходит, это он поджидал меня на склоне, он же стрелял в воздух, он же забрал куртку, чтобы прострелить ее, как улику, он же определил меня в вытрезвитель, он же натравил на меня дознавателя… но, выходит, это он же спас меня на склоне, чтобы я не сломал себе шею, он же освободил меня из клетки, он же достал билет на самолет, на который не было билетов… однако при чем здесь Ваня? Или это тоже только повод выпроводить меня поскорее?
Пассажиры уже пристегнулись, но самолет задерживался со взлетом. Все томились и выглядывали в иллюминатор. Я тоже выглянул…
К борту снова подъезжал трап. За ним ехал «мерседес-600». Стюардесса попросила меня спуститься, внизу меня ждал Миллион Помидоров уже в строгом дорогом костюме, а его охранник стал подниматься по трапу с тяжелой даже для него корзиной.
«Как обмен шпионов…» – усмехнулся я.
Миллион Помидоров снова обнял меня как брата:
– Еле успел! Рынок, сам понимаешь…
Охранник спускался по трапу уже без корзины.
– Там твоим внукам – зелень-шмелень, витамины, чурчхела-мурчхела, сам понимаешь.
– Я тебе еще за билет должен…
– Обижаешь. Ты же ГОСТ!
– ОТК ты прошел, ладно. Что ж ты мне про Павла Петровичасразу не сказал?!
– Чтобы не задерживать. Улететь тебе надо срочно, понимаешь?
– Но почему так срочно?
– Прав был наш общий друг, что в жизни не встречал человека одновременно столь доверчивого и подозрительного, как ты! В двух словах тебе ничего не объяснишь. Мы самолет задерживаем. Впрочем, подождут, – небрежно сказал он. – Секрета тут никакого нет… Ну, не успел. Надо же к похоронам готовиться, сам понимаешь. Что там Павел Петрович про меня наговорил, ты не верь. – Миллион Помидоров тяжело вздохнул. – Отошел он нынче ночью. Уснул сном праведника и не проснулся. Он уже там! – И Миллион Помидоров ткнул пальцем в небо.
Через четверть часа и я был в небе.
Что у Миллиона Помидоров всегда есть тайна, даже если ее нет, это я хорошо помнил. Это и называется интрига… Но на один вопрос он мне все же уклончиво ответил: у Павла Петровича было заболевание, он сам лучше всех это знал, но скрывал. Он уже не мог вставать, и Миллион Помидоров его обихаживал. Но когда Миллион Помидоров обнаружил его поутру, тот был уже умыт и одет в свежую рубашку. Он так же ровно лежал на спине на своем топчане, скрестив руки на бороде. Рядом лежал молитвенник, заляпанный воском, со слегка обгоревшей молитвой на исход души. Страница была заложена погасшей свечой.
Как свечу, он зажал в руках пустую бутылку «коленвала».
Странным мне это не показалось, но все же…
Богу не все равно!
Журнал «Октябрь», 2012 г.(Памяти моего крестника РБ Сергея (Даура Зантариа) посвящаю. Можно считать это эпилогом «Оглашенных», а также всей четырехтомной «Империи в четырех измерениях». 1960 –2011… я довел ее до сегодняшнего дня и больше в нее не вернусь… А. Б.)
Андрей Битов и Даур Зантария
Утрата
Наталья
Утрата. Слово это становится смыслом, и, за шесть уже лет, смысл этот не только не сглаживается, но лишь углубляется. Не могу написать о чувстве, которое все еще не стало формой, то есть, никак не миновало. Я лучше вам словами скажу, а вы запишите.
Наталья была от природы талантлива и красива, что оставляло мало места амбициям, необходимым для карьеры. Она легко, как взгляды, рождала идеи и проекты, не замечая, как их раздает. Когда ее не стало, тут же всем стало понятно, кого они потеряли.
Так мой московский сын Иван Андреевич (со столичными представлениями о пиаре), приехав проститься с нею, был поражен количеством людей, пришедшей к ней в храм на отпевание. И это не была академическая элита, а сплошь молодежь, студенты и аспиранты. Никто их не сгонял, сами пришли. Плакали. Расхожее выражение «она отдала себя людям» обретало свой неподдельный смысл.
И когда бы я ни оказался на ее могиле в Сиверской, всегда находил свежие цветы, которые она так любила и так умела с ними обращаться: они у нее не увядали, не увядают и сейчас. Всегда кто-то только что был до меня на могиле. Ученики. Те, кто что-то понял в филологии именно благодаря ей. А я-то четверть века ругал ее, что она никак не возьмется за свою главную книгу – о сказке.
Со сказки началось и наше знакомство. 1979 год, моя дочь Анна собиралась поступать на филфак ЛГУ им. Жданова, я находился в опале после выхода «Пушкинского дома» в Америке и опасался, что моя фамилия помешает дочери при поступлении, не пройдет «куратора». Приятель-филолог решил познакомить меня с молодой преподавательницей-читательницей, которая попытается помочь гонимому автору. Одновременно ко мне заходят два молодых сотрудника Пушкинского Дома с настойчивым предложением поспешить сдать рукопись романа в архив, потому что, когда меня выгонят из Союза писателей, то «архивную единицу» на меня уже будет невозможно завести.
Совмещая оба дела, я принес первый экземпляр «Пушкинского дома» в Пушкинский Дом. Мне продемонстрировали рукопись басни Крылова, утонувшую на дне глубокой голубой коробки: мол, с этого мгновения моя рукопись упокоится столь же навечно. Я согласился разделить судьбу Ивана Андреевича и поспешил через Неву в Универ. Успел.
Девушку, с которой меня познакомили на лестнице Филфака, я точно никогда раньше не встречал, однако припоминал как сон. Лишь договорившись о свидании ее с дочерью и расставшись, я понял, где она мне приснилась… а именно только что в дверях Пушкинского Дома: я входил с романом подмышкой, а она выходила. Я был целеустремлен, но боковым зрением отметил это длинноногое, кудрявое, зеленоглазое существо, чтобы через час оно материализовалось.
Позднее я от Наташи узнал, что она торопилась в Универ на встречу со мной. Мой Аптекарский оказался рядышком с ее Петропавловской, ее необыкновенная квартирка напомнила мне аппартамент, сочиненный мною для дяди Диккенса в «Пушкинском доме», Наталья подружилась с моей дочерью и мамой раньше, чем признала меня, а я, чтобы произвести впечатление взялся после долгого перерыва за перо.
Времена и возраста смещались, жизнь рассветала. Дежа вю это вернуло меня к заброшенному «Преподавателю симметрии», и рассказ «Вид неба Трои», вдохновленный Натальей, когда ее не стало, напугал меня. А он ей больше всех нравился…
Я так хотел, чтобы она сочинила свою «Сказку», она так хотела, чтобы я дописал «Преподавателя»! Так мы и прожили четверть века, не исполняя желаний друг друга.
И лишь когда ее не стало, ей вдогонку, в ее память, я нашел в себе силы завершить этот свой последний роман. Она была Читатель, у нее был слух, она любила Ивлина Во. «Незабвенная». Ты младше меня уже на двадцать два года… Перебор. Ты не имела права меня опередить.
12.10.2012коллаж Андрея Битова
Колина страничка
Настоящий поэт вербует в свои ряды поштучно, поименно. Мандельштам – особо ревниво и тщательно: приверженность к его поэзии факт биографии каждого из его читателей. Не только Мандельштамовское общество, но и сообщество всех его читателей – не случайные люди, хотя в ряды этого братства их приводило случайное стихотворение, как правило, первое попавшееся. Любовь к поэту Осипу Мандельштаму начинается с первого поразившего сознание стихотворения, после чего с неотвратимостью распространяется на все его творчество. Поэтому мандельштамовское сообщество состоит из очень разных людей (путей).
С Николаем Поболем мы познакомились в бане, в компании «архивных юношей», уже прошедших этот путь, и нам незачем было обсуждать место Мандельштама в русской поэзии. Коля сразу показался мне отдельным персонажем, приглашенным за компанию, как и я. В своей бороде был он похож на лесовичка, на путешественника, на друга моего (Гену Снегирева), а не на архивиста или филолога. Путешественником он и оказался, что и выяснилось, когда мы вдвоем, не бросившие дурной привычки, завернутые в простыни как в тоги, выходили в предбанник покурить, где и обменивались экспедиционным опытом: а вот у меня был случай… Случаи перебивали друг друга, и я запомнил только некоторую ревность: его истории для меня были свежее и богаче. Так мы парились, потом выпивали. Мандельштам был с нами.
Коля ушел безвременно, и мне уже не полюбопытствовать, с какого именно стихотворения начался его мандельштамовский путь. Могу лишь намекнуть, ссылаясь на опыт других (в том числе и свой). Надо учесть, что Мандельштам на несколько десятилетий был запрещенным поэтом, само имя его, как и жизнь, были подвергнуты забвению. Так многие пришли к его стихам через книги Надежды Мандельщтам, вокруг которой сформировался свой избранный отряд их взаимных почитателей. Некоторые пришли к поэту через его лагерную историю, через общество «Мемориал», но и не только… Так во Владивостоке, где погиб поэт, я встретил бывшего секретаря комсомола по идеологии, ушедшего в свое личное мандельштамоведение как в монашество, измерявшего в часах и метрах последний «крестный путь поэта» и с энтузиазмом проводившего по нему экскурсии для избранных. В том же Владивостоке скульптор Валерий Ненаживин впал во всю поэзию Мандельштама по одной лишь строчке, процитированной в случайной книжке (она была закавычена в тексте без указания имени автора, и цензура, по безграмотности, ее пропустила), и скульптор настолько вжился в его поэзию и судьбу, что создал первый в Союзе памятник поэту и зэку.
Кстати, в том же 1998 году, когда я наведывался во Владивосток, Николай Поболь совершил свое главное открытие – «эшелонного списка Мандельштама». Я читал его еще в машинописном виде, как в свое время «Четвертую прозу» и «Воронежские тетради». «Список» потряс меня не меньше. Против фамилии заключенного (кажется, в алфавитном порядке), стояли год рождения и профессия. Мое либеральное представление, что в 1937-м сажали «политических», оказалось опрокинутым: поэт Мандельштам поместился между кладовщиком и колхозником. Сидела вся страна, независимо от поколения, профессии, сословия или пятого пункта. Этим откровением я обязан «списку», полученному в бане из колиных рук. Вскоре мне не хватило здоровья на баню, и я несколько лет не видел Колю.
Не помню, кто мне так пояснил замыленный смысл любви: «Если ты внезапно встречаешь человека и тут же чувствуешь необсуждаемую радость, то это любовь и есть». Я проверял это правило… оно подтвердилось: мышцы лица не врут. Так раскрывалось мое лицо при встрече с Колей – легко! Сейчас, когда вокруг стало так много смертей, я расширяю это правило: «Если при известии о смерти, ты испытываешь не печаль, а досаду и даже злость: как это он посмел помереть до тебя! – то это была любовь. УТРАТА. Один и тот же механизм – неподготовленности, внезапности.
Не успел, недодружили. Чем же он так запал в душу? «Господи! – сказал я по ошибке, сам того не думая сказать»… (такова была моя первая строчка неведомого мне поэта, запавшая в душу, первая молитва сталинского школьника, не ведавшего Писания). Теперь я могу ее вычитать и так: боль утраты близкого человека есть укол воскресения боли по утрате Сына Человеческого.
Март 2013После Беллы
(Речь на годовщине)
Трудно говорить после Беллиных стихов, даже, когда они звучали из чужого горла6…
Невозможно вернуть человеку то, чем ты ему обязан, когда его уже нет. Это называется скорбь, по-видимому… А скорбь обозначает любовь. Вот, а любовь обозначает маму…
Как можно сказать «мама» про Беллу?..
Мы сверстники.
Но для меня она всегда была загадкой.
Ее стихи не сразу доходили до сознания, не сразу были понятны, хотя сразу завораживали, даже в домашнем кругу. Мне было непонятно, каким образом они доходят до людей. Вот и сейчас, когда слушал, как ее стихи исполняет Чулпан… Я восхищен тем, как это делалось только что, я отдаю должное… <НРЗБ> И я понял, что она умела разделить себя надвое, всегда. Разделить – и отдать свою половинку. <НРЗБ> То, что с ней творилось за письменным столом нам неизвестно, да и ей-то, наверно, не было известно, пока шло вдохновение. <НРЗБ> Когда она первый раз это читала мужу, друзьям, то это была новость!.. Это не было известно ни друзьям, ни мужу, ни ей самой. Потом <НРЗБ> понятно, потом становилось как бы тем, что уже было и прошло, тем, что написано. То, что написано – это прошлое, <НРЗБ>но как расстается поэт с собственным текстом, совершенно непонятно. Но текст начинает жить своей жизнью, живет, иногда переживает поэта. И это считается счастливой судьбой…
С Беллой вот все как-то не так, поскольку Бог одарил ее. Не знаю, в какую очередь каким талантом, но в том числе он одарил ее и голосом, и жестом, и великолепными актерскими данными… хотя она иронизировала, что «назовут меня актрисой»…
Высоцкий… Окуджава… Белла… Была эпоха безгласности полной, когда, по-видимому, еще вот эта вынужденность родила нам такие замечательные образцы, когда не было никакой техники, а была только цензура и идеология… И вот тогда воедино сошлись и изображение, и слово, и звук, и сцена. <НРЗБ> У нас всегда существовала как бы снобистская, цеховая оценка: вот это – настоящая поэзия, а это – плохая, а это – туда-сюда. И вот вдруг сошлось, как волны сходятся, совершенно непонятно как: люди воплотились в образе, тексте и исполнении, и вы понимаете, что это друзья Беллы… Они не просто дружили, как дружит слава со славой. Белла понимала их… Не было навязчивого телевидения. Не было попсы. Не было ничего, кроме случайного зала и, кстати, магнитофон… Магнитофон подорвал половину советской системы, я уверен… Вот появились Булат, Высоцкий и Белла, на три голоса, без ущерба для каждого из голосов. Жест, слово, голос тоже сошлись воедино.
Но Белла… только она – просто поэт.
Про Высоцкого только сейчас становится понятно, что он был (то есть, как бы заодно) и великий поэт, настолько слава его перекрывала его собственные стихи, я помню, как он сам страдал оттого, что его считали исполнителем, а не поэтом. Булат, он хорошо находил баланс и как-то разговаривал душа с душою, его душа говорила с твоей душой. А Высоцкий своротил такие глыбы народного сознания, что его впору сравнивать с Сахаровым, Солженицыным, он сдвинул горы.
Белла, она осталась поэтом, даже ворочая залом, который не должен был ее так уж хорошо понимать. Вот это я не очень знаю, как она умудрялась…
Или, может, она впервые понимала себя, когда выходила на сцену? Может, она не понимала себя до того, когда она выходила к вам? И каждый раз текст должен был ожить в сознании? Да, он ни разу не лежал спокойно на бумаге. Вот в этом секрет голоса Беллы. Он – собственный, как эти ожившие в ознобе знаки препинания. Так он лежит. Он – шевелящийся текст. И поэтому, наверно, лучше ее никто не исполнит, хотя сегодня я принял исполнение всей душой, потому что услышал его, как будто сам читаю с листа.
Вот, я думаю, что это невероятное облако под названием Белла: с ее красотою, с ее голосом, с ее позой, с ее невероятными, совершенно, подвигами в языке, в рифме, в ритме, в образной системе, то есть, как будто бы мы забываем, что она поэт, а в какой-то момент начинаем только догадываться, еще не догадались… Что же она делала с русским словом и как она им владела…? Вот, владеть языком – это очень странное выражение. Русский язык очень забавен в своих ухищрениях. Владеть языком… Нет, язык владел ею настолько, что только настоящая женщина могла так ему отдаться… и поэтому все споры на тему женщина – поэт или поэт – женщина, тут отсутствуют. <НРЗБ> У Беллы необыкновенно героичны все образы поэтов ХХ века. О Пушкине и Лермонтове я не говорю, там – другое, там исток… Но все, что было за ХХ век, ею воспето по-братски, от Блока, включая Цветаеву, Ахматову, естественно, Мандельштама <НРЗБ>.
Поэт – это гений, гений вовсе не как назначение, а как маленькое божество, которое посещает отдельно взятую личность.
Спасибо ему.
29 ноября 2011 г. Текст опубликован в книге «БАГАЖЪ», 2012Андрей Битов с «амбарной книгой», Токсово, август 2013
Странноприимный двор
(Удвоение текста)
Мемуар памяти И. П.Не хочу писать, не могу молчать!
К моему 75-летию милые дачники, снимающие у нас в Токсово на лето тот самый верх, на котором в 1963-м была написана «Дачная местность», подарили мне прекрасную амбарную книгу, выполненную еще в дореволюционном дизайне, хотя и в сталинскую эпоху, – в коленкоре, с муаровым обрезом; и я не мог не попытаться хоть что-нибудь в нее записать. В окошечке с рамочкой, наклеенном на обложку, я решительно вписал название своего последнего проекта «К столетию 1913 года» и надолго задумался, с чего же его начать на такой красивой и чистой первой странице.
Побродив по участку, я в результате написал следующее:
Сквозь эту щелочку в сортире Гляжу, как в мушку на прицеле, Но мушка ползает по ней. Затерян в мире, словно в тире, Стрелять я не имею цели, И сам я цели не видней.Слишком много у меня было связано с Токсово: мы там жили и переселялись на мой Аптекарский остров лишь с первым снегом.
В 1967 году нам с Ингой Петкевич и пятилетней Аней стало тесно на Аптекарском в четырнадцатиметровой комнате. Инге, пожалуй, было теснее, чем мне: свекровь и свекор за стенкой были все-таки моими папой и мамой. Зато нас иногда отпускали вечером вдвоем в гости. Мы, как теперь принято говорить, отрывались.
В тот день – у Глеба Горбовского. Он жил тогда на Пушкинской улице, между чудесным первым памятником Александру Сергеевичу и Невским проспектом. Я набрался, Инга еле тащила меня.
Перейдя пустой ночной Невский напрямую, чтобы поймать несуществующее такси, я стал окончательно неуправляем, залез в телефонную будку, где и пытался прилечь, решительно заявив, что здесь и буду жить! По-видимому, мы уже не в первый раз обсуждали квартирный вопрос. Наши друзья Виктор Голявкин и Валерий Попов уже получили квартиры от Союза писателей в новостройках Купчино. Для меня это была больная тема: и просить у начальства что бы то ни было, и покидать дом, связанный с моими первыми, блокадными, воспоминаниями, родную Петроградскую сторону; и вообще – переезжать от родителей из Петербурга в Ленинград… Поэтому я и куражился в телефонной будке на жилой площади в пол квадратного метра. Потом я куражился, подлец, и перед мамой на Аптекарском, разместившись меж входных дверей так же ловко, как в телефонной будке: мол, вот как мне тесно! Мама плакала: если вы уедете от нас, то разведетесь.
будка была тут
Мне было плохо и стыдно на следующий день, и я все-таки пошел в Союз писателей под предлогом подать заявление на квартиру. Подкрепившись в писательском буфете, я решительно поднялся на второй этаж и толкнулся в дверь секретаря по оргвопросам. По протоколу это была не писательская, а гэбистская должность. Я был уже известный молодой писатель и с интересом разглядывал его, а он про меня знал.
Из окна этого кабинета был хорошо виден Большой дом.
Как я теперь понимаю, этот чиновник, как всякий чекист, более известный по незапоминаемому имени-отчеству, чем по фамилии, был здравым и не смущенным идеологией человеком.
«Я тебя понял, – сказал он мне, – но и ты меня пойми: предоставить тебе сейчас квартиру я не смогу. Заявление я, конечно, приму, но тебе придется ждать очереди. Да и дом когда еще достроят… а тут прямо завтра. Квартира хоть и коммунальная, зато на Невском проспекте – и две очень красивых комнаты в старинном доме, высокие потолки. Тебе может так понравиться, что ты и не захочешь ни в какое Купчино, куда наш старый комсомольский поэт Семен Бытовой как раз и переселяется».
Надувшись на предпочтение Бытового Битову, я все же решил взглянуть на дом – Невский проспект как-никак! Гоголь, Пушкин… Подойдя к дому 110, я расхохотался: прямо около арки двора стояла та телефонная будка, в которой ночью я пытался поселиться! «Навеселе, на дивном веселе, я находился в ночь под понедельник…» – опять же напротив Горбовского. Погляжу и к нему загляну: как он там? Опять же повод.
Флигель мой стоял в глубине двора, поперек, и был он построен за век до меня, чуть ли не при жизни Пушкина.
В квартире жило четыре семьи. В конце коридора помещался гнилой сортир, а из барской комнаты Семена Бытового были видны старые вязы плюс тополь и прилепившийся гнездышком к брандмауэру очаровательный домик с деревянной галереей, нечто тифлисское или даже голландское. Под галереей, как скульптура, ржавело авто двадцатых годов. «Последний частный дом на Невском проспекте», – с гордостью пояснил мне Бытовой. «Частный? – удивился я. – Значит, его можно перекупить…» – «Что вы! – возмутился Бытовой. – Борода никогда его не продаст». Борода оказался не меньшей достопримечательностью двора, чем его дом и авто.
Что ж, и чекист и мама оказались правы. Комнаты мне понравились, мы переехали и через год разошлись.
Даже Семен Бытовой оказался прав: Борода не продал мне домик.
Нет, бывает все-таки польза от текста, пусть даже смехотворного… память! Когда все было не так и все еще были живы.
фото Льва Полякова, 1967
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
(27 мая 1972, Невский проспект, 110)
Оставим этот разговор Нетелефонный. Трубку бросим. В стекле остыл пустынный двор: Вроде весна. И будто осень. Стоп-кадр: холодное окно, Ко лбу прижатое в обиде… Кто смотрит на мое кино? А впрочем, поживем – увидим. Вот радость моего окна: Закрыв помойку и сараи, Глухая видится стена, И тополь мой не умирает. Печальней дела не сыскать: Весну простаивая голым, Лист календарный выпускать, Вчерашний утоляя голод. У молодых – старее лист. И чуждый образ я усвою: Что дряхлый тополь шелестит Совсем младенческой листвою; Что сколько весен, столько зим… Я мысль Природы понимаю: Что коль не умер – невредим. Я и не знал, что это знаю. Вот стая вшивых голубей, Тюремно в ряд ссутулив плечи, Ждет ежедневных отрубей (Сужается пространство речи!) — И крошки из окна летят! Воспалены на ветке птицы: Трехцветный выводок котят В законных крошках их резвится. Вот – проморгали утопить — И в них кошачьей жизни вдвое: Проблема «быть или не быть» Разрешена самой собою. Их бесполезность – нам простят. Им можно жить, про них забыли… И неутопленных котят Подобье есть в автомобиле: Прямоугольно и учтиво, Как господин в глухом пальто, Среди дворовой перспективы Стоит старинное авто. Ему задуман капремонт: Хозяин в ясную погоду Не прочь надеть комбинезон… В решимости – проходят годы! Устроился в родном аду! Ловлю прекрасные мгновенья… В какую ж ж… попаду Я со своим проникновеньем?! Котятам сразу жизнь известна, Авто не едет никуда, Соседу столь же интересно Не пожинать плодов труда… И мне – скорей простят небрежность, Чем добросовестность письма; Максимализм (души прилежность) Есть ограниченность ума И – помраченье. Почернели На листьях ветви. Лопнул свет. Погасла тьма. И по панели Пронесся мусор. И – привет! В безветрии – молчанья свист, Вот распахнулась клетка в клетке, И птицы вырвались, как хлыст, Оставив пустоту на ветке. Двор воронен, как пистолет, Лоб холодит прикосновенье… И тридцать пять прожитых лет Короче этого мгновенья. И в укрощенном моем взоре — Бесчинство ситцевых котят, И голуби в таком просторе С огромной скоростью летят.Отнесемся к этому не как к стихам, а как к зарисовке. Сквозь нее мне сейчас видно, что наш узкий двор-коридор на протяжении своих ста метров мало изменился внешне, но изменился внутренне, как вся моя неописуемая Империя за последние четверть века. Я как раз смотрю в то же окно из того же окна. Перспектива очистилась. Вижу насквозь. Там, в тубусе подворотни, по Невскому идут одни ноги, без голов. Все геометрически и исторически точно.
Пока все были еще живы… Деревья долго сопротивлялись, но и они погибли от пыли строившегося между нами «Стокманна», а после них и сама Инга, за роскошным письменнным столом которой, за которым она никогда не писала (но не могла дать пропасть ему на помойке), я сейчас сижу, пытаясь записать этот давно выношенный, перезревший текст. Сижу и вижу.
Мне казалось, что тридцать пять лет – это так много! Подтекст стихотворения означал уход от первой жены ко второй. Это давалось не сразу. Теперь моему сыну от второй жены – тридцать пять. Не сразу и не вдруг. Я эмигрировал в Москву постепенно, последовательно и неизбежно, но так и не покинул Питер. Вот как это шло.
13 декабря 1963 года я прилетел с Камчатки, где мы с Глебом Горбовским пытались наблюдать извержение Авачинского вулкана, но извержение и даже землетрясение произошло у меня на Аптекарском острове: в нашей любви с Ингой случилась вполне геологическая катастрофа. Мы истово старались сохранить семью, но эта тектоническая трещина так и не срасталась. Первое измерение «Аптекарского острова» кончилось, и я, сам того не ведая, уже заполнял трещину вторым измерением – «Пушкинским домом», одновременно пытаясь податься в кинематограф. Я уже разменивал свой Питер на Москву, непрерывно шастая то туда, то сюда.
Там, в тубусе подворотни по Невскому идут одни ноги, без голов…
Снова влюбиться мне удалось лишь в 1968-м, уже в Москве. И я наполовину жил там, но не разводился и прописан был по-прежнему на Невском, до Московского вокзала рукой подать. В Москве у меня все еще не было дома, а здесь как-никак был. Меня терпели, и я терпел. Так и болтался между двумя столицами. (Вошло сначала в привычку, а потом и в образ жизни: так и болтаюсь до сих пор.) С годами все разошлось наконец. Я пошастал по мастерским друзей, пустующим дачам и съемным хатам, пока обрел собственное жилище. Первое жилье осталось за первой женой, второе – за второй. «Некоторые разводы свершаются на небесах», – заключила вторая. Обе были умны: я не бросал детей.
Нарочно не придумаешь! Да я и не придумывал ничего в своей жизни, ничего не добивался. Безволие оборачивалось победой. Течение текста прибивало меня к следующему измерению, и я запутался в меридианах «третьего измерения»: непрерывного странствия по Империи. Как только началась ее очевидная агония, стал и я переходить в окончательное, «четвертое», измерение. Впрочем, тогда мне это не было яcно… Заведя третью семью и очередную квартиру для того, чтобы закончить жизнь в родном городе, я еще ближе, вплотную приблизился к Московскому вокзалу – улицу перейти. Улицу перейти в другую сторону – и я опять на Невском, 110. И то и другое в двух шагах, и я посередине. Моя первая внучка и последний сын от третьего брака (племянница старше дяди) росли вместе, как брат и сестра. Мы ходили друг к другу задворками, как в деревне, с супами и пирогами. По пути, правда, была непроходимая яма, около школы, где учились поначалу и моя дочка и моя внучка. «Мама, а когда война кончится, эту яму зароют?» Устами младенца… «Блокада затянулась, даже слишком…» – как спел однажды Высоцкий. Блокада для меня прошла на Аптекарском, а здесь уже в наше время нашли неразорвавшуюся бомбу, раскопали, разминировали, а обратно не закопали. Вот и яма, в которую я провалился в этом описании. Но и от предыдущей, взорвавшейся в блокаду бомбы наш флигелек лишь поколебался, лишь треснул – хорош был пушкинский кирпич! – однако стал нежилым. И первым жильцом нежилого дома оказался наш новый сосед Александр Никонович, только что вернувшийся с войны. Он и начал восстанавливать флигель – со своей комнаты. Высокий осанистый старик, прапорщик в Первую мировую и капитан во Вторую, теперь он подрабатывал в эпизодах на «Ленфильме», соглашаясь лишь на роли царских генералов и лишь иногда полковников (а один раз даже роль великого князя).
Он хорошо молчал, поскольку горла у него не было и сипел он во что-то типа специального микрофона. Когда он уставал сипеть, то писал нам записки.
Другая семья, которую он презрительно называл «торгашами», главой которой был тоже участник последней войны, представленный даже к званию Героя Советского Союза, но так звезды и не получивший, запивавший после каждого своего похода в военкомат за справедливостью.
Наверное, взамен звезды он был удостоен другой жилплощади, нежели бывшая барская ванная комната, которую мне чудом удалось захватить после него как раз перед разводом. «Первый случай раздела коммуналки на Невском проспекте!» – с гордостью повторяла Инга слова, сказанные ей в ЖЭКе при оформлении отдельной квартиры.
Что и дает мне повод меньше сожалеть о домике моей мечты, который мне не продал Борода, а его ниоткуда взявшиеся наследники продали его какому-то не мне уже в нынешние предприимчивые времена, и теперь, по общему мнению, там бордель. Во всяком случае, красный фонарь на нем висит не хуже, чем в Амстердаме. Зато напротив борделя, прямо под нашими окнами, теперь часовня Знамения Божьей Матери, неведомо как образовавшаяся на месте парикмахерской, которая, в свою очередь, образовалась на месте турагентства, которое как-то первым вселилось в однокомнатную квартирку не менее, чем Борода, примечательного обитателя нашего двора по кличке Шпион (потому что одноногий фотограф). Каждый уголок нашего двора отразил стремительную историю всей страны. Я ведь помню, как взрывали настоящую Знаменскую церковь, чтобы построить на ее месте станцию метро «Площадь Восстания»!
Станция сохранила круглую форму, объем и купол церкви (Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина, так назывался новый храм). Позже я узнал, что в центре площади Восстания (быв. Знаменской) против Московского вокзала стоял прекрасный памятник Александру Третьему работы Паоло Трубецкого, свергнутый в год моего рождения. Клумба из-под него пустовала, но в конце пятидесятых на ней появился закладной камень: «ЗДЕСЬ БУДЕТ СООРУЖЕН ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ».
Из окна мне, как нашему коту, достаются все-таки лишь взгляд и пейзажик, сижу и вижу…
Памятник не был воздвигнут, но камень продолжал угрожающе торчать, как на распутье: «Налево пойдешь – направо пойдешь…» Наконец к юбилею Победы виртуальный Ленин был заменен четырехгранным обелиском с золотой звездой, намекая Московскому вокзалу, что это Ленинград на самом деле город-герой, а не Москва (как оно и было после войны). Народ тут же прозвал монумент «крестовиной» (симметричная ей «стамеска» на въезде в Питер по шоссе уже возвышалась ранее).
И новая моя квартира на ул. Восстания (быв. Знаменской) оказалась в прошлом, по непроверенным слухам, чуть ли не меньше Патриаршего подворья храма Знамения (подворье было построено непосредственно за храмом в год рождения моего отца).
Правее «парикмахерской-часовни», наспех подменившей Знаменский храм, под нашими окнами – копировальный центр, где до того был фитнес, а до того фотография, а до того (во времена Бороды и Шпиона) жили две сестры-старушки, два божьих одуванчика, куда более святых, чем наша часовня (они все пытались создать клумбу под тогда еще живым тополем). Ни часовни, ни копи-центра я из окна не вижу, просто знаю, что они подо мной есть. Значит, раньше я мог выйти из дома и поздороваться то со старушками, то со Шпионом, то с Бородой… Теперь я уже не успевал одновременно постричься и подкачаться или что-нибудь скопировать и помолиться не отходя от дома. Но по-прежнему слева у нас брандмауэр, трудно его к чему-либо приспособить. Одно окно в нем, однако, было. Из него иногда высовывался, как кукушка из часов, по пояс обнаженный пироман и с криком метал подожженные тряпки в голубей на дереве. Голуби снимались с ветки, а тряпки на ней навсегда повисали. Теперь на месте окна кованая дверь и ведущая к ней винтовая лесенка, выкрашенная ценным изумрудным цветом. Не поленился списать, как называется учреждение за зеленой дверью (хорошо, что вывеска под лестницей):
ФСПИ СЗР
ФОНД СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕВЕРО-ЗАП. РЕГИОНА
Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в заветную дверцу (или оттуда никто уже не выходил?). Никаких пришельцев.
Правда, чуть впереди внизу пробита дверь в «СТОМАТОЛОГИЮ КРИС–МАС ДЕНТАЛ», туда можно попасть. Там хлопотливая армянка уступает нам место для парковки, а могла бы и зуб вырвать к Рождеству.
Со школы ненавидел изложения – и вот возмездие! – вязну в описании, три месяца не могу дописать этот натюрморт! Напоминаю себе одного гида-доброхота, вызвавшегося показать мне настоящий Нью-Йорк: он привел меня в совершенно неприглядный квартал и стал подробно рассказывать историю каждого дома, где какой профсоюз или фирмочка и когда помещались. Я унывал от его памяти, вспоминая Горького, призывавшего советских писателей писать истории фабрик и заводов. Тогда пусть Кремль или Смольный будут фабриками, а мой двор лишь лабораторией или кунсткамерой новой истории типа вышепоименованного учреждения вроде ФСПИ СЗР. Из окна мне, как нашему коту, достаются все-таки лишь взгляд и пейзажик, сижу и вижу… однако пришлось уже два раза мысленно выскочить из подъезда, чтобы и снаружи на флигель взглянуть. Придется все-таки решиться и на самом деле выйти и пройтись по двору до Невского проспекта и обратно, чтобы описать более или менее все, чем нафарширован наш двор.
И вот что любопытно: в одну сторону одно, в другую другое, – будто они быстроватенько меняются местами. Кишка, в которой переварилась наша История. Двор выдвигается и вдвигается, как пенал, обнажая то пустующее, то переполненное содержимое. Иду к Невскому, тяга к прекрасному… прошел бордель Бороды, мне подмигивает (это не метафора) автопортрет Рембрандта, подпись почему-то по-английски: «Это его мастерпис, но это вы его создали».7 И это лавка художественных принадлежностей почему-то под названием «ЧЕРНАЯ РЕЧКА». И это более кстати, чем стоматология: у моей внучки вдруг прорезался ген ее отца-художника, и ей не надо с ее пузом (это именно я жду правнука) далеко ходить за красками. Рядом СВАДЕБНЫЙ САЛОН «AGNES» (для потенциальной Натальи Николаевны), за ним сразу ТУРФИРМА «ЭВРИКА» (для свадебного путешествия).
Дальше лучше и не выходить: на Невском к ногам, которые я видел из окна, приставили головы. На месте, где стояла телефонная будка, избравшая меня в 1967-м, теперь, наследственно, лавка сотовой связи (а были «Цветы»). Зато левее подворотни, рядом с рекламой мощей нашей часовни, реклама «Мадам Тюссо» – «Катастрофы человеческого тела».
Я обошел по Невскому бессмысленный «Стокманн», чтобы вернуться домой со стороны Знаменской (теперь ул. Восстания), уже не читая вывесок на пути, давая отдохнуть взгляду (лишь бы не посмотреть на окна последней своей квартиры, которую вынужден сдавать)… но, стоило мне свернуть во дворы, мимо лишней Ахматовой в сквере недействующего Лицея, как в глаза бросилась вывеска «ПСИХОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР» (простите, ЦЕНТР), потом «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА „НЕВА СОЛЮШН“» (оба недействующие).
50–100 м… ни одного живого человека. Я вхожу во двор с другого конца и вижу «МЕДИКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НИИ ПСИХОТРАВМ ЛИЧНОСТИ» напротив школы и СВАДЕБНОГО САЛОНА «ELIT». Образ родного двора как Амфисбены 8 напугал меня. И вдруг вижу живого человека!
Rembrandt… c натуры, его освещение. Бомжиха-«бутерброд», освободившись от плаката «Скупка ногтей. Наращивание золота» (или наоборот), притулилась к нему с пивком и ест бутерброд настоящий. И это не столь уходящая, сколь приходящая натура.
Взгляд отдыхает. Кадр его ломает. Жаль, нет фотоаппарата. И это мое хобби умерло. А ведь проще было бы сделать фотосессию, чем все это словами… вот еще почему изустная речь стала предпочтительней: «Как червь, разрезанный на части», – сказал поэт. История – живая Амфисбена моего двора. «Амфисбена» – сложное слово, но не аббревиатура.
Вот еще один рифмующийся текст, 1980 год «Рассеянный свет»
… мне подмигивает (это не метафора) автопортрет Рембрандта…
«… ЭНЕРГОТЯЖКОМРЕМСНАБСБЫТИЗДАТ» – пишет мне Александр Никонович на очередном клочке непонятное мне в его произнесении слово. Это оно нас купило, это оно нас схавало, членистоногое. Так, значит, все это – что мы жили и умирали – есть ПРЫГСКОКБРЯКБРЫКСКОПЫТ. Нас уже нет, а он, поглотивший уже половину Аптекарского острова, он – есть БРЯКРЫГРАК-КОМИСТДАС… Сожрала нас эта аббревиатура.
Комната у меня уже покачивается перед глазами; плывет, фокусничает пространство, как и положено в аквариуме, превращая, под определенным углом, толщу – в линзу, то сплющивая собеседника, как камбалу, то растягивая, как рыбу-иглу… Я жалуюсь Никоновичу на головокружение и низкое давление, и лучше бы я этого не делал… Во-первых, по его примеру я должен пить перед обедом сухое вино (на десять минут удаляемся от темы, погружаясь в свойства витаминов и глюкозы…), но немного (это намек), а – всегда (и это тоже намек), результат, как вы видите, налицо (он почетный пациент Института геронтологии)… а во-вторых, курага (еще пять минут о свойствах и ценах на курагу); в-седьмых, бульон (но это уже шутка – Никоныч булькает). Шутка вот какая: Декарт советовал страдавшему анемией Паскалю пить крепчайший бульон (а как же холестерин и склероз?.. лучше бы я не уточнял)… так вот, бульон, а во-вторых, по утрам как можно дольше не вставать с постели, до чувства полной усталости от лежания… Ха-ха-ха! Правда? Декарт?.. Я сейчас принесу вам книгу… Что вы, я вам верю. Спокойной ночи, Александр Никонович.
Утром я долго не хочу проснуться. Неслышная, с шорохом ночной бабочки, летает из кухни в комнату мать. Я не хочу проснуться, потом я не хочу просыпаться. Я не помню, я хочу не вспомнить, почему я этого не хочу. Я должен был проснуться от телефонного звонка. Если я свешу вниз руку, она упадет на телефонную трубку. Может, мать унесла? Не открывая глаз, опускаю руку – трубка хорошо покоится на рычаге, не соскочила, не съехала… Не позвонила! Я отворачиваюсь от жизни к стенке. Но сон уже нейдет. Я храню в себе эту последнюю утреннюю возможность ни о чем не подумать – странное напряжение! О чем же именно я не думаю? Как бы не могу вспомнить… Часы бьют раз. Сколько это? Половина чего? Если бы вспомнить хоть какую деталь последнего сновидения, можно было бы попытаться вжиться в него, вернуть. Но оно ушло, как видно, навсегда. Жалкие попытки самому смоделировать сновидение напоминают тошнотворные усилия письма… Часы бьют и опять – один раз. Значит, полчаса я просопротивлялся в стенку… С облегчением переворачиваюсь на спину. Что с часами? Либо час, либо полвторого. Эта воскресшая логическая способность восхищает меня. Если бы позвонила, то не позже двенадцати – уже не дозвонилась… И это уже что-то, что уже… Голова моя абсолютно пуста. И тут – солнце.
Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался перележать. Все тем временем продолжалось. Надо было открыть глаза на это.
Я открыл. То, что я увидел, стоило того. Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен – пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видывал? Десять? двадцать? все тридцать? Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанный высоким плечом моего роскошного письменного стола, за которым еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по заказу и собственному проекту… Срезанная столом призма света оперлась на паркет и гранью врезалась мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась, восходя и оседая, скручиваясь в галактические спирали, и даже сверкала, ловко находя в себе грани, любуясь тайной материи в себе. Она восставала из праха, демонстрируя некую космическую солидарность материи. Прах, пыль, пылинка, частица, тело… Непостижимое чудо. Да, будь сейчас XVII век, совет Декарта пришелся бы кстати и я вылежал бы сейчас, в позе интеграла на своем боку, два-три классических закона, будь я Паскаль, конечно… Что-нибудь о воздушных потоках, или дисперсии частиц, или непрозрачном теле… Интегральное исчисление, само собой, висело в воздухе, если оно еще не было открыто… Некий победный вихрь – торжество закономерностей – творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по поводу собственной непостижимости: законы не таились, а демонстрировались беспомощному уму практически без риска, что я могу проникнуть хоть в какой завиток Творения. И как было ясно, что не стоило его, бедного (ум), напрягать, что не только в пыли той находилось все то, что составило славу классической там механике и математике, но и вообше все, и то, что было потом, и все, что еще будет открыто, и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что происходило в этом луче. Этот демонстративный танец, потому что и ритм и музыку я уже как бы и слышал, имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предназначался и даже – не лежавшему в моей позе три века назад, по совету Декарта, Паскалю… «Торжествующая закономерность», – повторил я про себя, и мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне недоступных, что меня как бы и радовало. И торжество это было не по отношению ко мне и нищему моему сознанию, кончившему страстным желанием никогда не поднимать головы хотя бы и с этой подушки, и даже не по отношению к человеческому сознанию вообще, от которого я в данный момент, как только мог, неполномочно представительствовал… торжество это было в постоянстве и нескончаемости своего дления: – ующее, – ующая, – ующий – что-то и кто-то. Так что можно было и не напрягаться: будто любой уловленный нами закон не только был ничтожной частью той мировой, все время обнимающей, все поглощающей в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован, законишко этот; будто, вслед за нашим сознанием, исчезал наш закон и из мироздания как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем – ующем длении обходиться так, как будто его и не было, а мы все перли с ним назад, примеряя к улетевшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевшему на расстояние, не соизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли… Вдохновенная радость охватила меня от зрения этого мечущегося перед взглядом праха – вдохновенная радость собственного перед ним ничтожества: на какой из этих пылинок проносился я мимо мириада остальных?.. И если бы надо было назвать мне мою вновь обретенную землю, назвал бы ее Гекубой… куда я, писарь, войду без цитаты?.. Рассеянный свет! Свет рассеялся на мерцающих пылинках – расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? или сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стряхивая пыль колен? Я ли увидел свет, меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, проносясь навсегда? Господи, как не страшно на самом деле, что Ты есть. Ну и будь себе на здоровье. Мне-то что. Экое ликование, что дано мне было прокатиться на Твоей карусели! Рассеянный свет… куда он рассеялся, когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой… И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый бы ни был, – о! Свет – всегда весь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет – он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает…
Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем… осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшебной пыли и все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она – всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело: как бы луч наткнулся на луч… интерференция, что ли?.. родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. Мама!..
– Проснулся! Что хочешь на завтрак?..
– Я бы выпил бульону.
Ах, при чем тут Паскаль! Неизвестно, пробовал ли он советы Декарта… Бульон обжег мне нёбо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету и все с таким трудом належанное одухотворение…
Я так хотел продолжить – и так не мог…
Срок миновал. Выжил… Рассеянный свет! Куда рассеялось все?! От какой нашей рассеянности… И какой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужается. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то… растет впереди. Впереди или в конце? Там – свет. Оттуда свет. Тот свет.
Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу! В ней время пойдет в своем подлинном направлении – вспять! Только – никаких ретроспекций!.. Просто сначала Дом наш выживет из стен своих то жутковатое учреждение, его поглотившее; затем первым делом воскреснет отец, потом и болезнь его уйдет в далекое будущее, восстанет Дерево и прирастет к нему ветвь, а там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу в своей полотняной рубашке; помолодеет мать… Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали… Оживет бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором, вдруг я закричу от первого шлепка и – рассказчик еще не родился. Как изменится мир оттого, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня?.. Как все заплещет и заиграет счастьем!
И вот – буквально ничего не произошло. Все – унеслось в будущее.
Удвоение текста и возроста: возраст как текст…
Журнал «Звезда» № 7, 2013 годПамятник последнему тексту
Писатель дворянского класса Граф Лев Николаич Толстой Не кушал ни рыбы, ни мяса, Ходил по аллеям босой Жена его, Софья Андреевна, Обратно, любила поесть. Она не ходила босая, Спасая дворянскую честь…И т. д., до бесконечности. (Нынче, в Интернете, под текстом стоит дата 1947–1951, т. е. что ни на есть текст из зоны, но я подозреваю, что он слагался еще раньше, до 1917-го.)
В любом случае, это фольклор, т. е. наиболее народная реакция на образ его величия.
И это еще до того, как мы стали его «проходить» на уроках литературы, где он нам особенно надоел уже не только бородатыми портретами, но с помощью Горького и Ленина: «Экакий человечище!» и «… как зеркало русской революции».
А ведь не было еще и слов-то таких как диссидентство или имидж, а мы уже, не сговариваясь, не воспринимали ничего, что пованивало идеологией или пропагандой. И я не уверен, что теперь столько же свободы.
С этого начинается мой Толстой, и слава Богу, что я писал в школе сочинения на тему «Наташа и Андрей» или «Наполеон или Кутузов», ни разу не раскрывая неподъемную книгу. Это был ИХ Толстой. Я лишь завидовал своему дядюшке, который с наслаждением перечитывал СВОЕГО Толстого, только что отвоевав СВОЮ войну.
Да и мне пришлось для начала окончить школу, пройти стройбат и угодить в шахтеры, чтобы на Кольском полуострове, от первой до последней буквы добыть для себя золото войны и мира. Преодолеть этот текст было не легче работы в забое, но какой же это был восторг для тайком уже пописывающего автора!
Прошло уже полвека, а я все еще надеюсь успеть перечитать эту книгу.
И именно тогда меня восхитило не только богатство, но и необычайная художественная жадность Толстого. Например, княжна Марья, благословляя брата Андрея на войну, надевает ему на шею простенький серебряный крестик, а мародер-француз сдирает с него убитого тот же крестик, уже золотой.
И это был уже мой Толстой.
Невозможно постичь, что нам нравится и за что. Особенно в литературе. У одних прекрасна краткость, у других – наоборот. Т. е. мы не понимаем. Это – вера. Мы пытаемся объяснить ее себе, как оправдываться. Слов получается все больше, т. е. мы от нее (веры) удаляемся.
Вера – это точка. Точка, из которой мы вышли, а потом все хотим в нее вернуться, навсегда запомнив, что она таки была и есть. Бог не требует доказательств, а мы все их ищем, а не Его.
Толстого попросили сформулировать смысл романа в двух словах. Я бы на его месте ответил, что он и так в двух словах, если И не считать. Он же, если я правильно помню, ответил: Если бы я мог короче, то и написал бы короче, а мне потребовалось столько, чтобы сказать всё как можно короче.
Примечательно это ВСЁ. Эпос как раз и рассказывал всё, в еще дописьменном виде Книга – гениальное обретение цивилизации, но именно она погубила эпос, разбив его на кирпичики историй, сюжетов (книжек), из которых эпос можно сложить лишь в библиотеку, погребая в себе явленный нам цельным мир. Ужас! Однако пафос Библии, одной книги как Всего и единого целого, сохранился как подсознательная литературная амбиция. Но всюду это уже как бы, с пародийным оттенком, не говоря о «Гаргантюа» и «Дон Кихоте», даже у серьезнейшего Данте это «комедия».
Усилие собрать мир воедино становится не только непосильным, но и несерьезным: у Бальзака и Гоголя пародируется уже Данте.
Насколько же простодушной и детской должна сохраниться вера в возможность воссоздать нормальное и очевидное!
Наверно это и называется идеализм. Однажды мне пришлось наобум рассуждать о немецком менталитете и, опровергая миф (что всегда безнадежно) о пресловутой скупости и экономности, мне удалось додуматься и до счастливой формулы: только идеалист способен пожалеть материю (недавно, рассуждая с водителем о надежности немецких автомобилей, я понял что и она от жалости к металлу). Русский идеализм весь растворен в категории честности (которой так мало).
Сколько же может быть идеала и нормы в одном человеке? Представьте себе такого преувеличенного не в возможностях гения, а в возможностях нормы человека – получите Толстого. Такой невозможный раздутый младенец как реклама Мишлен. Зрелище не для слабонервных. А каково было ему самому?!
Великое недоумение человека перед Богом, верующего перед церковью, гражданина перед обществом, писателя перед литературой сопровождало его всю жизнь. Так что это не Толстой противоречив, а наши суждения о нем, никак его нормы не достигающие. Не по силам, не наша это мера. Нам остается, как в том замечательном рассказике Куприна перепутать анафему с аллилуйей.
Подайте, подайте ж, граждане, Я сын незаконный его.P. S. Набоков проиллюстрировал это для витаминных американских студентов наглядно. Войдя в аудиторию, чтобы объяснить им, что такое русская литература, он распорядился поплотнее задернуть шторы. Темно? – спросил он и, получив подтверждение, попросил включить один софит. Стало светло? – спросил он. – Это – Пушкин. Теперь включите второй. Светлее? Это – Чехов. Теперь раздерните шторы. В аудиторию ворвался солнечный свет. Это – Толстой!
(Думаю, что для Набокова, хотя и модерниста, еще не существовали слова happening или performance в современном значении).
Толстой признан как эпик и как классик-реалист. Я хочу здесь немного сказать о нем как о модернисте.
Недавно, по примеру Набокова, я решился на подобный хэппенинг. Директор Музея изобразительных искусств имени И. В. Цветаева в Москве пригласила меня поучаствовать в вечере, посвященном Прусту (в связи с экспозицией импрессионистов «в сторону Бергота»). Сначала шли артисты, интеллектуалов оставили под конец, чтобы публика не начала выходить раньше срока. Я был последним. Приготовил, как выражаются музыканты, «фишку».
Помогла мне в этом Лидия Гинзбург (1902–1990). Я вспомнил ее рассуждения о том, что Пруст со своим психологизмом может быть рассмотрен как продолжатель прозы Льва Толстого, что и пресловутый поток сознания найдем мы у него задолго до Джойса. В доказательство приводились неоспоримые «Война и мир» и «Анна Каренина», но так же была упомянута некая самая ранняя неоконченная проза. С этим смутным воспоминанием позвонил я просвещенному другу Сергею Бочарову с вопросом, что Л. Я. Гинзбург могла иметь ввиду. Бочаров уверенно назвал «Хронику вчерашнего дня», первый суперзамысел юного Толстого: просто-напросто и всего лишь взять и описать полностью один день. Это был прустовский по блистательности текст, захлебнувшийся в замахе «Улисса». Описание бала (будущий бал Наташи Ростовой?) всего лишь проба пера молодого офицера за несколько лет до «Севастопольских рассказов».
Бочаров передо мной прочитал свой уточненный и утонченный перевод из Пруста (смерть Бергота), и я подхватил эту линию: мол, и я перевел, несмотря на никакое знание французского, неизвестного русскому читателю совсем уж раннего Пруста, мол, простите и его и меня. И я прочитал им «Хронику одного дня».
Конечно, «элитная» публика, в основном, не читала ни Пруста, ни даже Толстого. Но те, кто читал, не знали этого текста и не заметили подвоха: сочли меня эрудитом по Прусту.
Зал однако продолжал ждать от меня еще чего-то. И я прибавил Прусту еще и будущие заслуги Джойса.
Но и этого было мало. Я молчал, но и пауза не помогла. Тут меня осенило.
«А вообще-то, – сказал я. – Пруст тут не при чем. Не его мы любили, а запрет на него. И знаете, за что мы вообще любили переводную литературу? За то, что нас не выпускали заграницу».
Зал начал оживляться. Это меня смутило.
– Нет, я не о том, что вы подумали… на самом-то деле, мы любили иностранную литературу за то, что в ней в советских условиях сохранился нормальный русский литературный язык; именно в нише перевода укрылась недобитая интеллигенция, еще помнившая языки. Это подозрительное знание давало ей кусок хлеба, которым она исподволь накормили нас всех.
Зал воспринял мой пафос и зааплодировал, полагая, что это конец. Но я уже не унимался.
– Власть была слишком озабочена, чтобы не упустить главного: не перепутать национализацию с наследием.
Вся национализация классики выразилась в корявых предисловиях, которых никто не читал. Зато сами тексты сохранялись как достояние. Их мог бы прочесть незамутненный ум, если бы не школьное преподавание. Так что не Пруста, а Толстого уже никто не читал. Я вам только что прочитал раннего Толстого, а не Пруста. Простите.
И я сошел со сцены. Зал больше не аплодировал.
P. P. S. Моя замечательная переводчица на немецкий Розмари Титце, корпя над повторным переводом «Анны Карениной», изучая в связи с этим все вокруг, посетила и Ясную Поляну. Она мне сообщила, что там есть беседка, в которой часто сиживал маленький Толстой. Беседка возвышалась над трактом, по которому мог проезжать Пушкин. Во всяком случае, Левушка однажды обратил внимание на одного чем-то выделявшегося курчавого пассажира. Предположение достойное мифа.
Тут припомнилось мне и собственное посещение Ясной Поляны. Правнук Толстого Владимир Ильич тогда только начинал скрытую реиституцию имения в должности директора. Гены заработали, и дело пошло. Были затеяны и первые «Яснополянские чтения», приуроченные к дню рождения Льва Николаевича. Не зная, что удастся сказать, я прихватил с собою замечательную книгу. Не знаю, как это мне в свое время свезло купить ее походя на развале за студенческую копейку. Это был том неопубликованных произведений Толстого, выпущенный сразу после его смерти. Он был объема и цвета будущего 90-томника.
Но, что меня и тогда поразило, а тем более поразило в автобусе, везших наших писателей на поклон к классику, сколько же оказалось там Всего неопубликованного! Тут и национализированный МХАТом «Живой труп», и любимое детище самого Льва Николаевича «Хаджи Мурат», и ряд небольших произведений (рассказ «Алешка-Горшок», который Александр Блок назвал лучшим рассказом русской литературы (повидимому, он читал то же издание), и опубликованное разве что за границей, примечательнейшее эссе «О патриотизме»… в общем, много всего оказалось и после смерти, как и самого Толстого – много.
Волшебные сентябрьские деньки! Толстых съехалось со всего света. Писатели подозрительно косились на них, непредставленные. Их родной мужик в посконной рубахе, с нечесаной бородой, босой, с косой в руках, казался не имеющим никакого отношения к западным родственникам.
Как-то все-таки подзабылось за советское время, что он еще и граф, между прочим, и что не все бы тут при нем по его усадьбе шастали.
Наконец, все чинно расселись, рассуждая о величии и значении простого русского графа. Основной мотив сохранялся: близость к простому и русскому народу. Мне нечего тут было добавить, и так само сложилось, что слово мне было предоставлено в последнюю очередь. Я не знал что, но в руках у меня был спасительный посмертный том, и я заявил, что пора бы предоставить слово самому Льву Николаевичу и зачитал его соображения о патриотизме как о «последнем прибежище негодяев». Фо па.
В Ясной Поляне меня занимало что-то свое.
Например, я как бы понимал, зачем в огромном доме граф работал в самой неудобной подвальной комнатке за самым крошечным столиком.
Или, например, зачем валялась в траве на боку пудовая гиря, с которой Лев Николаевич баловался до старости. Как же он над собой работал! … как над текстом.
На поле между Ясной Поляной и следующим толстовским имением баловались молодежные дружины из Тулы, любители старинных битв: сражались на своих картонных мечах, целились в кочан капусты из лука. Я не попал по мишени и пошел одиноко пешочком, насколько удавалось вдаль. Тут внезапное воспоминание привиделось мне в густой траве: будто так начинался не перечитанный мною «Хаджи Мурат». Сломанный репейник, все еще продолжавший жить!
Нет, не даром был так прижимист с публикацией «Хаджи Мурата»! Будто ему еще и еще раз необходимо было что-то в нем улучшить. Это уже когда он привык к упрекам, что перестал быть художником и слишком увлекается поучениями и проповедью, Лев Николаевич занял тут вполне пушкинскую позицию:
…Ты сам свой высший суд, Всех лучше оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит И в детской резвости…«Детская резвость» новой толпы уже мало волновала великого старца, и он свысока не захотел переубеждать ее. «Хаджи Мурат» слишком нравился ему и он охранял его как доказательство художнической состоятельности.
Идея «Памятника последнему произведению», приуроченного к столетию со дня смерти Льва Толстого восхитила меня. Исподволь я расспросил правнука можно ли установить место, где Льва Николаевича посетил замысел «Хаджи Мурата», ведь оно с такой выпуклостью описано на первых страницах повести.
Владимир Ильич согласился со мною.
Памятник, в моем представлении, должен был бы представлять стоящий на стелле кованный сломанный репейник, эскиз которого так точно выписан Толстым9. К этому можно было бы приурочить факсимильное издание посмертного тома 1911 года, он вышел, но несколько позже.
«Летят за днями дни»… и вот уже только год остался на исполнение замысла.
Хотя бы раз в жизни успеть что-либо вовремя!
7 сентября 2009 года.P. P. P. S. Успех – от слова успеть. Успели!
Вот для чего нужны бывшие офицеры в нашей культуре – для воплощения замыслов (не только для написания «Войны и мира» и «Хаджи-Мурата»). Заведующий филиалом музея «Ясная Поляна» в Пирогово бывший офицер Г. Опарин вышел на меня со встречным проектом – памятником самому Хаджи-Мурату. Он съездил на родину Хаджи-Мурата, и аварцы подарили Ясной Поляне священный для себя камень весом более тридцати тонн, находившийся в ауле Хунзах, столице древнего Аварского ханства, видевший и Шамиля, и, возможно, Толстого, и Ермолова и потом передвинутый от дороги, по которой должен был проехать император. Так неслучайно камень этот оказался исторически одушевлённой материей. Сюжет с перевозом этого камня достоин отдельного описания – как от него надо было отколоть по крайней мере 10 тонн, потому что ломались железнодорожные платформы, а потом самосвалы, но чудо: камень доехал до Ясной Поляны. И теперь он вкопан в землю на метр сорок и возвышается ещё на три. Так что никакими ядрами его не расстрелять. Перед ним выкован сломанный репейник. С тыльной стороны, где должна быть первая страница «Хаджи-Мурата», можно виртуально увидеть самого Льва Толстого, идущего на этот камень и останавливающегося в попытке отломить цветок репейника. Памятник был освящен во время ежегодного съезда семейства Толстых в Ясной Поляне в конце августа сего года. Первым согласился протестантский священник, охотно откликнулись муфтий и ребе, наконец, и наш батюшка. Жаль, ребе не смог, потому что освящение пало на субботу. Вот вам и конец анафеме. У подножия памятника положена доска, писанная по-русски и по-арабски: «Да упокоит Всевышний души всех павших в кавказских войнах». Вот вам и единственное на сегодняшний день примирение, отвоёванное лишь великими текстами Льва Толстого, столетие ухода которого и отмечается официальным открытием этого памятника 6 ноября сего года в 11 часов в Пирогово.
год 2010P. P. P. P. S. – 2011 Любят у нас порождать традицию – только недолго она держится…
Через год уже юбилей: годовщина камня Хаджи-Мурату.
Я должен присутствовать. Присутствую.
Печатается по книге Лев Толстой «Хаджи-Мурат» (изд. «Фортуна-L», иллюстрации Е.Е. Лансере, предисловие А.Г. Битов)«… ничего неточного в великой жизни не бывает… и даже его памятник расположен между рынком и храмом. Это та самая модель, в которою по-прежнему погружается наша страна…» (Из выступления на открытии памятника Ф.М. Достоевскому в Санкт-Петербурге)
Уроки словесности
– Существует ли в развитии литературы какая-то закономерность?
Легко накидывать сетки на то, что очевидно. У каждого века, как на спидометре, все сначала по нулям, и в начале, как правило, ничего не происходит, идет разгон. Первые десять лет всегда пустые. Расписываются к 20-м годам. Так было и в XJX, и в XX веках. Так что сейчас и нечего ждать, я так считаю.
В литературных проявлениях, однако, что-то есть такое, чего нельзя ограничить арифметическим законом, поскольку это живое. И совершенно очевидна формула призывов в литературу. Чтобы успокоить для себя эту тему, я нашел способ как-то описать это явление, когда по-дилетантски занимался восточными гороскопами с их 12-летними циклами. Ведь это же полная условность, что мы считаем десятками, могли бы дюжинами считать. Но тем не менее что-то там щелкает и не увидеть, что есть общий закон нельзя.
Смотрите, что меня в восточном календаре очень занимало, – как торопливо рождение, скажем, пушкинского круга. Вот потому и разные очень писатели, что вызываются они одновременно, им приходится отличаться друг от друга. По всяким математическим формулам вероятности такое невозможно. Это как в зоопарке, каждый год не рождается одинаковое животное, все 12 будут разные. И смотрите, та же самая невозможность возникает в Серебряном веке. Ну, что такое: 1889 год – Ахматова, 90 – Пастернак, 91 – Мандельштам, 92 – Цветаева, 93 – Маяковский, 94 – Георгий Иванов, 95 – Есенин. Скучно делается. И все еще успевают в какой-то степени осуществиться до 1917 года, как бы начаться и чуть-чуть побренчать в колокольчик серебряный. А потом оказаться за бортом уже скинутыми. И именно тот литературный сброс поставил русскую литературу в положение снова молодой. И в этой молодой литературе мне лично уже интересны те писатели, которых бы не было ни при каких обстоятельствах, не будь такого катаклизма, и это прежде всего Платонов, Заболоцкий и Зощенко. Это гораздо более грустные истории, когда осуществлялась попытка жить за гробом или делать вид, что живешь в современности, что стало равновеликими вещами.
(Вот все говорят о смерти. Так придумано. Кем-то. Кто-то ловко сообразил, что этим надо заняться. Но вот попробуй, возьми и умри. Ничего не получится (Смеется.) Невозможно. И от одной этой мысли можно сойти с ума гораздо больше, чем от страха смерти. То есть умереть в эту секунду невозможно. Значит, в эту секунду возможно только жить.)
– Когда чаще всего рождаются таланты? Какое время лучше и хуже для литературы?
Когда я о современной литературе думаю, то получается, годы, связанные с великими потрясениями, почему-то остро завязаны на наиболее талантливые рождения, на пачку рождений.
Допустим, частота рождений вокруг 1937 года, самого страшного года сталинской эпохи, вызваны очень занятным явлением – законом о запрещении абортов. Тогда родились Ахмадулина, Маканин, Распутин, Вампилов… (Андрей Битов тоже родился в 1937 году. – Е. В.) Столько было крови убиенных, столько высвободилось энергии, что всем нам очень хотелось родиться.
Год великого перелома – 1929-й. Кульминация сталинщины – коллективизация. Переламывается хребет старой России уже в последнем и наиболее прочном месте. Рождаются Шукшин, Алешковский, Голявкин, которые станут писателями в 60-е годы. С другой стороны, все те, кого еще можно было перечислить, какие-то остатки Серебряного века, – все лучше всего писали именно в 1929 году. Все писали свой шедевр. И Булгаков, и Платонов. (Но почему-то и Хемингуэй, и Ремарк.) Кстати, мой любимый образ – студент 2029, который изучает состояние русской литературы в 1929 году. И думает, как же все было замечательно, и как все работали! А этих людей просто никто не знал – не было никакого известия вокруг об их существовании. Поэтому все разговоры о сегодняшнем несостоянии литературы, мне смешны. Ведь мы не знаем, что будет датировано сегодняшним днем.
За литературным же процессом следят те, кто его наблюдает и организует, потому что просто нет такого явления, его не существует – литературного процесса. Но на нем кормится огромная промышленность, которая и создает видимость его течения.
Нелепо и глупо, и в этом вся беда, что литературоведы очень часто выстраивают какую-то линию преемственности. Но существует лишь преемственность разрывов, когда что-то оказывается выраженным, оно же оказывается и прерванным. Ритм, безусловно, существует. И в этот резонанс входит история, литературный метод, звезды.
Любопытно еще, что вдруг образуется какое-то поле деятельности, и туда более чем подсознательно устремляется человеческий гений. Так в разные времена осваивались месторождения, место-рождения, которые, по-видимому, носят онтологический характер. Так возникла музыка – вдруг на рубеже XVII–XVIII веков. Открыли и стали тут же музыку писать, настолько она приходила сразу в голову. Вивальди, Бах. Про Моцарта все известно – такое количество произведений человек написать неспособен. И это вовсе не трудолюбие. Значит – это место-рождение. И трудно представить, что от Вивальди и Баха до Моцарта все укладывается меньше, чем в век.
Так же произошла и русская литература – в традиционном классическом понимании от Пушкина до Блока. Это тоже едва сто лет – и все будет написано. Настолько написано, что пора было и революцию делать, чтобы открывать новые поля для описания и для освоения.
– Получается так, что именно к определенному моменту именно это поле деятельности открывается как месторождение.
Есть еще такая странная логика, существующая на уровне метафоры, очень уже устаревшая и одряхлевшая, – век молодой и век старый. По крайней мере, на нашем опыте более обозримом – XVIII, XIX, XX веков мы это можем проследить.
– Получается, что Пушкин молодой, а Достоевский – старый. Серебряный век – молодой, а кто старый в XX веке?
Подъем литературы второй половины 20 века связан с вступлением в литературу поколения, преодолевшего Вторую мировую войну. Сначала были люди, успевшие повоевать, – молодые воины той войны, потом те, кто хотя бы детской памятью зацепил войну. Легко увидеть сгущение рождений писателей в период 1926–1938 годов. И все время, что они набирали силы и писали, был пропуск в стоящей литературе, за счет рассвета соцреализма в самом убогом его проявлении. Лишь начиная с так называемой оттепели стало по капле просачиваться настоящая литература, написанная в отстое соцреализма.
То, что происходит сегодня, неизвестно никому. Сколько бы ни было гласности и всего другого, неизвестно пока, кто «сегодня» напишет и в каком виде. Между прочим, скорее всего в виде романа. А потом это окажется – вдруг. Роман пишется очень часто – потом.
То, что может называться современной литературой, это другого рода усилие, чем соответствие той или иной парадигме художественного стиля. Это усилие охватить картину мира в тот момент, когда она есть. А в тот момент, когда она есть, она не существует ни для кого, поэтому она является такой невероятной новостью. История пишется задним числом. Эта несуществующая категория – описательная в отношении к тому, что прошло и явно закончено. И в каждом человеке, и в общей тенденции социальной и политической жизни все время есть это – мы живем в прошлом, а усилие делаем в настоящем. Такой никогда не подтягиваемый хвост. Ну а будущее всегда существует только для спекуляции и пропаганды.
– Итак, литературного процесса не существует. А стили? Есть ли такой стиль – постмодерн? Или это игра, придуманная людьми, для организации литературного процесса?
Я даже не уверен, что был такой стиль – модерн. Как сказал один человек, нельзя ступить в одну и ту же реку дважды, но в одно и то же дерьмо – можно. А одно и то же дерьмо – это когда очередное коллективно-бессознательное усилие сформулировать настоящее имеет, наконец, небольшой ряд доказательств и имен. Оно себя называет. Что модерн, что постмодерн – все равно. Это лишь означает, что вы опять наступили в ту же кучу.
Искусство развивается от усилия сформулировать настоящее. И усилие это бесконечно необходимо, по-видимому, всему этому человеческому муравейнику, который думает, что искусство нужно для роскоши. Хотя это абсолютно необходимая функция общечеловеческого организма, а не только украшение. И снова, и снова возникает и осуществляется это усилие сформулировать настоящее. Не новое, а настоящее.
Специалисты по постмодерну, если уж они бывают хоть когда-нибудь честны, скажут, что это все то, что неизвестно, как назвать. (Смеется.) А все то, что неизвестно, как назвать, это как раз индивидуальное и коллективное усилие назвать то, что неизвестно. А неизвестно только одно – то, что происходит сейчас.
Творчество не двигается сменой литературных стилей. Все-таки писатель, который работает в определенном литературном стиле, – уже не писатель. Это преждевременный труп. А писатель – такой темный человек, над которым особенно сильно работали язык и время.
Вот Маяковский. Если, наконец, перестать подсчитывать, что у него советского, что несоветского, а разобраться в его поэзии, во всем его громыхании, признав это литературным методом, выраженном в тексте, то оказывается, что все это его совершенно варварское усилие совпасть со временем. Время же страшно трудно выразить потому, что во времени никто не живет.
Значит, существует какая-то невероятная метафизика текста, в которую запечатывается энергия, именно энергия времени. Потом почему-то это оказывается либо шедевром, либо непревзойденным кусочком исторической мозаики. Для того, чтобы запечатлеть энергию современного состояния в тексте, нужно действительно очень большую энергию потратить. А вот как ее набрать и почему она может быть вызвана в том или ином человеке – опять тайна сия велика есть.
– Откуда же возникает эта энергия?
Вот это и есть место-рождение, когда люди с помощью врожденного дарования, усилий окружающих в виде получаемого воспитания, образования и культуры, а потом еще исторической необходимости начинают дотягиваться до нового способа грабежа онтологии. (А онтологические слои, чтобы было понятно, хотя это тоже очень грубое уподобление, – это как вода, небо, лес, воздух). Там дальше есть, по-видимому, куда еще прорваться. Это сделать непросто, так вам пайку сверху не скинут. До нее надо как-то дотягиваться. Когда дотянулись, очень жадно и быстро набирают. Потому что скоро кончится и потом не будет.
– Что значит для вас категория успешности в литературе? О ней много говорят сегодня.
Успешность – ничего не значит. Поэтому я не верю, честно говоря, и в профессию в литературе. Русская литература до сих пор была непрофессиональной. Ей достаточно было быть гениальной. Сейчас возникает профессиональная литература, она есть уже. И есть успешные авторы. Но это другая область. Я не знаю, как сравнивать хлеб и вино, которое употребляли ученики Иисуса на Тайной Вечере, с тем хлебом и вином, которое мы покупаем в соседнем магазине. Но когда действительно настоящий литературный текст переломишь, как хлеб, из него потечет кровь. Почему-то такое бывает. И что-то делается с душой человека, который этот хлеб вкушает.
«Российская газета», 25 мая 2012. Интервью взяла Екатерина Варкан.Влюбленность и любовь
– Что изменилось и что осталось неизменным между странами, когда их отношения перестали быть отношениями метрополии и провинции?
Вот иду я с вокзала и тащу тяжелый чемодан. Мне 75 лет. Еду государственным транспортом не только из экономии, а просто чтобы в пробках не кипеть. И вдруг слышу голос: вам помочь? Чистый русский выговор, но там есть тембр. Вижу, восточный молодой человек. Вот он еще помнит, что старшего надо уважать. В этой хамской стране совершенно уже забыли и, более того, на старика смотрят так: какого черта ты не умер и почему заслоняешь нам дорогу? Будто они куда-то идут. А они никуда не идут, они просто хамы. И это уже третья волна хамства, которая оскорбляет Россию. Что же, мне за советскую власть быть, когда я ее всю жизнь терпеть не мог? Однако там получалось меньше хамства.
– Что значит «третья» волна?
Ну, четвертая, может быть.
– Тогда первая это…
Это 1917 год.
– А вторая?
Когда стали последовательно вычищать классы, наверное, вторая волна хамства пошла в 29-м. Настоящие вехи истории, они совпали с волнами хамства. Я очень за то, чтобы оружие было в свободной продаже, но все же я против него, потому что если нет закона против хамства, то мне в руки давать оружие нельзя. Я обязательно кого-нибудь пристрелю, а я совершенно не хочу идти по этому смертному греху.
В сталинской Конституции было разрешено носить кинжал – в виде этнографического украшения, если в стране есть такая традиция. Сталинская Конституция, лучшая в мире, все правильно – люди, которые стали освобождаться после репрессий, прежде всего, опирались на этот закон. Все диссидентство было основано на чтении Конституции. По этой же системе распался СССР. И зря. Советскую власть надо было скрутить, судить и подвергнуть полному покаянию. В результате все те же люди, их потомки, их внуки у власти. Сейчас очень ценятся деньги и власть в чистом виде. Это и есть хамство.
– В Грузии иначе как-то?
А в Грузии то же самое, но там есть средневековье, задержавшееся глубже и позже. Дело в том, что XIX век, в котором они застряли, был как раз временем борьбы с Россией. Но это достаточно сложная вещь. Грузия же – граница христианского мира, что по идее должно бы роднить их с Арменией. Мусульманский пояс кругом. Лермонтов был настоящим офицером, но: «Бежали робкие грузины…» Воюет же Северный Кавказ, потому что это – мусульмане. Я никогда границ по конфессиям не провожу, но и по крови все разные. Даже в Грузии есть пять разных национальностей. Был договор между Грузией и Российской империей еще со времен Ираклия, потому что либо ты присоединяешься к исламскому миру, либо остаешься под патроном. Все это длинная история соединения более ранних христианств с более поздним нашим. Для грузин Россия, конечно, была возможностью выйти в какое-то карьерное и мировое пространство. И я на нашу империю смотрю вполне доброжелательно, потому что не знаю, хотели ли мы завоевать слишком много или просто хлынули на Восток. Это обратная волна, я это понял недавно в Сербии, когда увидел границу, до которой дошло так называемое татаро-монгольское иго. Степи кончились, и они остановились, завоевав по своим представлениям весь мир.
И что это было? Кто кого поймал? Когда я побывал в Монголии, то я не понял, кто кого, потому что мы считали Монголию пародией на Советский Союз, а она, между прочим, нам дала и районное территориальное деление, и организацию армии. Я не историк, но, во всяком случае, русский язык вполне обогащен и переварил огромное количество татарских слов. Есть теперь Республика Татарстан, и наиболее разумная из всех.
Ужас России в том, что она территория, а не страна. И вот на этой территории поместилась вдруг страна Грузия. Образовалась между Кавказским хребтом и мусульманским миром.
Поскольку я был невыездным, то использовал, подсознательно, наверное, возможность объездить именно эти страны, которые потом якобы обрели объявленную сталинской Конституцией независимость, вплоть до отделения. И что случилось? С огромной страны сняли крышку.
Держалась империя, конечно, не на штыках. И в том, что случилось в дальнейшем, не надо преувеличивать одну волну репрессий перед другой, геноцид шел с 1918 года и отличался только тем, что он был в собственной стране. Вот тогда вместо дружбы народов родилось разделение народов, как это ни нелепо. А до этого было подчинение, были метрополия и провинции. А тут родились республики. И все это на почве бывшего монгольского районирования, будущих захватов. Но ведь соединение с Грузией, пусть его оспаривают как угодно, но оно было спасительным в какой-то момент для Грузии. Это бесконечно красивый и талантливый народ, красивая страна. Имперское понятие «юг», которого так не хватало России, – оно сработало на Кавказе и в Крыму. Кавказ – это тоже имперское понятие, это слово не принадлежит населяющим его народам. Существует только географическое понятие Кавказский хребет.
– А все-таки русская очарованность Кавказом связана не с пространством курорта, а с пространством героического – это гарнизон, плен, ссылка…
Я туда и веду. Последняя книга, которую пишу, – «Автогеография». И существеннейшая ее глава – это связь с Грузией. Теперь она объяснилась очень многими причинами. Так вот сами грузины-то – они вполне похожи на русских в чем-то. А в чем-то – нет. Когда они приезжали в Москву, они становились как бы иностранцами. А когда мы приезжали в Грузию, мы становились как бы гостями. Но разряды дружб там тоже были разные. Я начал с того, что помог-то мне чемодан вынести восточный человек. Так вот там были сохранены родовые традиции, которые тут обязательно обрубают. Допустим, в моей семье они были сохранены, но в других семьях они были разрушены. В Грузии сохранилась память о дворянстве. Сквозь советскую власть, секретно – они, может, становились секретарями райкома. Но фамилия! А-а, он из этих…
Вот это «из этих» было у них железно. Вот эта дворянская стать – это очень было приятно у грузин и сказывалось на всех уровнях населения. Там не было хамства, жлобства. Потому что было почтение к имени. То есть там не было деклассированности ментальной. В грузинских семьях более сознательно хранили род, память и знали кто, откуда и почему, и кровь свою уважали, между прочим, без национализма. Это тоже редкое поведение. Там есть и еврейство грузинское, но уже давно ассимилированное в обратную сторону. Еврейский грузин – это грузин, патриот Грузии.
И уважение к старшему. Уважение к поэту – это тоже такое средневековое уважение к барду. Шота Руставели, Галактион Табидзе, и уже все – можно договориться.
Пушкин единственную заграницу обрел в Грузии, кстати, в 1829 году. Его не пускали никуда. В том числе и в Полтаву не выпустили автора «Полтавы». И в Грузию он поехал в самоволку. Это был его единственный юбилей: 30 лет. Его носили на руках. Что им Пушкин? А он-то это принимал за чистую монету, и даже в России не понимали, почему его там так чествуют. Считали, что это шулера выделили ему деньги на проезд, чтобы под его имя обчистить каких-то толстосумов. Есть даже такая точка зрения, я ее поймал уже в поздней Грузии – в своей, что очень многому грузины научились у русского офицерства. И то, что мы считаем национальной повадкой, это на самом деле помесь грузин с русским дворянским офицерством – это плечо, выправка, осанка. Слушая эту гортанную речь и абсолютно ее не понимая, и слушая обратно на ломаном грузинском языке, мы становились, потом уже, заложниками перевода в обратную сторону. Мы видели то, что у нас уничтожили. Но это неважно, когда пространство становится мировым. Грузия и Россия в смысле культуры – являются мировым пространством. Как сказал мне один замечательный грузин: грузинское очарование – это ваше гусарство. Как Ленин сказал про Сталина: «У нас тут один симпатичный грузин».
– Не «волшебный»?
Он сказал «волшебный»? Нет, «симпатичный».
– Кажется, «чудесный грузин»…
Вот даже Ленин влюбился в грузина.
Грузия оказалась, как ни странно, еще в царской России в некотором привилегированном положении. Все, кто ее, так сказать, держал, – русские войска, наместник Воронцов… все влюблялись в эту страну. Они ее любили. И это было довольно взаимно. Они как-то подходили друг другу эти люди – русское дворянство и грузинство. Одно наслоилось на другое в XIX веке.
– Снова возвратное движение?
Вообще надо учесть, что внутри большой территории всегда обязательно происходят возвратные движения, отражения, волны. И история движется волнами, никакой справедливости в ней нет, сидят всегда в ней насильники, подлецы и убийцы, и до сих пор только так.
Несколько раз мы пытались прыгнуть – с Петром I, он был гениальный человек, но я не знаю, мы прыгнули вперед или назад? Нет, вперед, но век Просвещения был не пройден. Это беда нашего пространства – XVIII век мы не прошли. Следующий прыжок случился уже от победы над Наполеоном, который придал нам амбиции, породившие весь золотой век – это всего 20 лет. 20 лет для создания золотого века – это немыслимо в мировой культуре. От зрелого Пушкина до смерти Гоголя – это немыслимо. И все сделано враз. Значит, пройдено все и восполнен пропущенный век Просвещения – создана литература и культура, но дальше-то зачем? Дальше-то дыра, осталось пространство, которое было создано для просвещения. И другая попытка просвещения была маленькая и дырявая – от 1904 года до 1914-го – все! А на таком пространстве единственное, что могло побеждать, – это непрерывность, как это было в Европе. Вот эта непрерывность была 40 раз прервана. Я, например, знаю, что я до пятого колена в роду Битовых. Это черкесы. Битов – такая русская фамилия, которой нигде нет. Есть Батов, Бытов, Бутов – все время меня путали. А оказалось, в пушкинские времена еще спасли от национальной грызни и вывезли ребенка малого. Это был Яков Битов, или Якуб, сын Бита. А он уже своего сына называет Иваном и получается Иван Битов, а там уже нечего делать. И вся линия баб пропадает, поскольку у нас она не запоминается, по мужской линии дается отчество. Мои деды все перемешались с петербургскими немцами, и поди найди вот эту каплю Битову. А откуда ж я знал, почему я так люблю горы, и почему меня Кавказ так увлек, и почему мне была близка их кухня, их разговоры.
Нас с Грузией, я думаю, связывает любовь, а не дружба. И слава богу, не «дружба народов». Хоть Сталин и был «отцом народов», даже не в этом дело, Он, кстати, очень любил себя отлучить от грузинского народа. И грузинский ему был нужен для того, чтобы по-мафиозному разговаривать с Берией: знаешь, вот этого бы давай и прикончим. Даже у такого писателя, как Рыбаков, есть одна хорошая сцена. Во время съезда в Лондоне молодой Сталин шляется по городу, опытный бегун из ссылок, ну и в какой-то порт забрел, и его там бьют как чурку. Как у нас вот бьют сейчас. А Англия только еще начинает готовиться к выходу из своего имперского состояния. Одно из первых удивлений после выезда на Запад было: какие «черные» города, вот в нашем, современном, самом низком смысле слова. Когда все взваливают на бедных гастарбайтеров, которые единственные что-то делают здесь. Какие «черные» города Париж, Лондон.
– Последствия разрушения отношений метрополии и провинции?
Это последствия империи. Когда разврат социализма соединяется с экспортной кучей капитализма, получается то, что мы сейчас имеем – вонь. Стоит невероятная вонь и разложение. Хотя чего – разложение? Хорошо же не было. Я никогда не скажу, что раньше было хорошо. Было ужасно, но была какая-то сухость, что ли, общего пространства. Ну вот сейчас, как сказал один грузин, кстати, я не помню его фамилии, какой-то банкир, он теперь, в Москве, пузо налитое, в прошлом – патологоанатом, он сказал термин, который я никак не могу вспомнить, что когда разлагается труп, то это очень неприятное время до стадии подсыхания, но потом он засохнет, и можно снова жить. Вот мы находимся в состоянии, когда он превратился в жижу и никто не собирается его сушить. А как сушить? Сушить временем. Как бы величие современного правителя должно быть, по-видимому, в циничном терпении, чтобы дать родиться двум-трем поколениям. Но эти два-три поколения родились от тех же комсомольцев и коммунистов, которые теперь обучаются в Лондоне.
Некоторые, как Белоруссия или Средняя Азия, сохранили именно режимы. Это был один из способов такого консервирования жесткости. Другие попытались метнуться в свободное пространство, а как это получается, неизвестно.
– А Грузия?
А кому она себя продаст, кроме как туристическое государство, простите меня? Значит, она ищет старшего брата. Старший брат – это Америка, а Америка – это база, начинается война мировая, вот и все. Это неразрешимый замок. Начинает бодаться Путин безразлично с каким американским президентом по поводу границы, потому что там уже Турция, и этот котел. И с этим котелком не могут справиться, потому что мы как империя – пали. Всякая империя обязана однажды пасть. Но Америка как империя вовсе не пала. Это просто другой тип империи. Ее интересуют ее сферы влияния. Вот Ближний Восток, вот и Грузия. Заложник – Грузия. Моя любимая страна.
Я долго, пока была советская власть, говорил, что режим должен рухнуть. Теперь что творится, когда пала империя? Надо было распускать страну, а они были не готовы. «Берите себе свободы, сколько хотите» – это было не решение. Решением было дать больше, чем просят.
Насколько мягче и толковее при царской империи была отпущена Финляндия, и она до сих пор вполне лояльна и к Западу, и к нам. Финляндию как отпустили, так надо было отпускать и Прибалтику. Иначе надо было отпускать страны, а не вводить в них танки. Вот это все – судороги бездарной власти, бездарной политики, бездарной дипломатии. И все потом надо было закреплять. Ведь не ждали этого освобождения от режима. Миру абсолютно не нужно было падение Советского Союза. Это все западные интеллектуалы, которых я встречал, подтверждают. Потому что после этого зашатался третий мир. Это сколько стоило крови. Попробуйте, дайте людям больше, чем они просят. Что, они не возьмут? Возьмут. А потом договоритесь на правильных основаниях. Это ужасная мировая утрата, и теперь мы будем расхлебывать это всю жизнь и будем бороться с этими сталинскими минами. Потому что наш властитель может купить царька, но он не может предоставить самостоятельности, даже сжатой. Это тоже мышление: купить легче, чем дать. А ведь дать – легче. Это тоже купить, между прочим. Нет, не могут. Темные, жадные люди. И так было всегда, и они всегда правили миром, и ничего другого не будет. И я – глупый интеллигент, который рассуждает перед вами о вопросах, которые не ему подвластны, и рассуждает непрофессионально, и тем не менее в моих словах есть толк. Абсолютный. Поскольку я вижу результат. Я прожил в этой стране 75 лет, и между прочим, 70 лет – сознательно. Ну, хотя бы разделяю памятью все происходящее. Вот он всем надоел, этот Старший Брат, и, как говорили в Восточной Европе, поделим по-братски? – Нет, пополам. Так вот вам – пополам. Русские, кстати, потеряли не меньше крови во всей этой истории, чем любая другая нация. И в смысле репрессий – мы равноправны. Просто у нас огромная территория, но не такое огромное население. Никто не занимается, к счастью, пересчетом этой пропорциональности. Это было бы бессмысленно, потому что когда вырезан наполовину маленький народ, получаются абхазские события. Это мне именно в Абхазии объяснили еще при советской власти, что, когда большой притесняет маленького, – это понятно. Но вы не знаете, что это такое, когда маленький притесняет меньшего. Я не обсуждаю сейчас российскую политику, поскольку Сталин нарезал все эти мины с Осетией, с Карабахом.
Все это очень продуманно, цинично и по-настоящему глубоко исторически сделано. Мы сейчас сидим на всех этих минах, и их подрывают, между прочим, только те, кому это выгодно. Сталин был опытный император, он опирался на многовековой опыт. Кстати, единственная хорошая фраза, которую я помню из Владимира Ильича по школе, это «Германия опоздала к разделу империи». И поэтому две мировые войны.
– И три основных языка…
Английский, французский, испанский. Немецкий потерял свое значение. Потому что войну проиграл. Я бываю на конгрессах Пен-клуба – там три переводческие кабинки, и на любом кофе-брейке я сижу, окруженный как минимум десятью национальностями, которые кое-как говорят по-русски и не говорят по-английски, то есть ничего, бедные, не понимают, сидя на конгрессе. Я им все время говорю, слушайте, вы поставьте четвертую кабинку, сделайте вы русский язык общим. С грузинами-то мы на каком говорим? На русском. На грузинском заговорить невозможно. Это надо родиться грузином. Птичий язык, чудный, очень красивый звук, великие поэты, все это есть.
– В русском языке, вобравшем столько, почти и нет грузинского следа?
Никаких я не обнаружил.
– «Хинкали»?
Ну да, если блюдо какое-то. «Манты» есть рядом. Вот пусть посоревнуются. А у нас есть «пельмени». Вот еще «чебуреки».
– Или «чурек», это тюркское…
А в грузинском сколько тюркских слов, вы об этом подумали?
– Андрей Георгиевич, вы говорите «любовь», а это ее дела? Может, влюбленность? Это всетаки оптика влюбленности.
Влюбленность, правильно. И она проходит, если нет продолжительного контакта. Она может перерасти, остаться ею, а может не быть. У меня она с 12 лет. Любовь к Кавказу у меня была сначала, я еще не отделял даже Кавказ от Грузии. И она превратилась в любовь. А в 1952-м я попал уже и в Грузию. Но это тоже срок – 60 лет. Грузия, безусловно, была территорией любви. Здесь она, значит, баловалась в столице. Вынимала червонец, как 100 долларов, носила хорошо пиджак и хорошо клеила девушек, хорошо ухаживала, такая лже-галантность в духе раннего русского офицерства XIX века. У меня даже есть эссе «За что мы любили грузин», и им заканчивается «Грузинский альбом». Любили за то, что они были другие. Мы же ничего не видели, нас же не выпускали. А они этим пользовались. И я не скажу, что грузины – совершенство. Они с удовольствием русского и опоят, и опустят, и будут радоваться, что они выше. Я все это видел, все это прошел. Знаю наизусть все их коварства, корявости, незапоминания телефонов, крушение обязательств… Все это нормально. Народ.
Потом можно сказать, что ГУЛАГ многих объединял. Когда умер Юра Домбровский, с которым я дружил, я впервые на похоронах увидел Чабуа Амирэджиби. Более красивого мужчину трудно себе представить. Чабуа там сказал лучше всех. А потом уже я постепенно понял, что он сумел отсидеть бездну лет, бежать трижды, трижды быть пойманным, из чего он позже выдавил свою эпопею про абрека «Дата Туташхиа».
Союз нерушимый был нерушим только в сознании Политбюро, благодаря С. В. Михалкову, а вообще он жил своей жизнью, окопной, лагерной и просто человеческой. Все винные народы стали водку пить. Культуру, что ли, потеряли. И базары – все ругают то, что сейчас на рынке. Так Ленин еще говорил, мол, учитесь торговать. Не научились же. Были русские торговцы, купцы и все на свете. У нас в России было длинное и медленное развитие на пути пропущенного Просвещения – это были классы. Революция уничтожала классы. Последовательно, точно, пока не дошла до крестьянства. И тогда уже Сталин обрубил последний класс. И по-видимому, в Грузии тоже, когда там прошлась сильно советская власть. Все было. Я говорю, что Сталин старался себя не ассоциировать с грузинами, но Россия-то ассоциировала, хотя это не нравится грузинам. Сколько народов спорят до сих пор о том, кто Сталин? Он и сын князя, какой-то незаконный, и просто сын грузина, и сын осетина, и сын армянина… За что Мандельштам-то пострадал? За «широкую грудь осетина». Это не прощается. На самом деле не прощаются такие вещи:
Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда.Слово – это страшная вещь. Ну а что такое Грузия? Она найдет себе другого старшего брата, да? Там все построят, но никогда не будет того бессмысленного тепла, которое было в русской империи. Бессмысленного, пьяного, бестолкового, базарного, б… и совместно-армейского тепла.
– Что-то потеряно совсем, хотя бы из-за обновления поколений, молодежь в Тбилиси уже почти не говорит по-русски. Но что-то все-таки следует восстанавливать?
Надо приписать себе грех, надо найти, даже если мы недостаточно виноваты, надо суметь найти русскую вину перед Грузией и объявить ее со своего конца. И ставить на Грузию, а не на покупку Чечни. А Чечне надо предоставить большую автономную самостоятельность.
Я лежал с чеченцем в раковой больнице. С бандитом простым. Когда мы подружились и нашли общий язык, я его спрашиваю, как быть? Он говорит, надо было больше предоставить нам автономии и обязательно русского наместника. Вот что сказал бандит и абсолютный чеченец. Там всегда был русский наместник. Надо было обязательно учить язык той страны, куда ты едешь наместником. Вот этой грамотной имперской политики не стало. На Филиппинах даже трущобы будут построены так, как строили, скажем, испанцы, не говоря о распространении речи. Но я вернусь к тому, что я прервал, когда отстаивал права русской речи. Я говорил на конгрессе: поставьте четвертую переводческую кабинку, вы ведь говорите на ваших языках потому, что владели миром, а потом ваши империи пали и ваши языки остались остатками ваших владений.
И сейчас единственное, что можно не потерять, я думаю, это программу русского языка. Хотя они могут делать вид, что они антирусские. Пожалуйста, действительно терпеть нас трудно и мы противные. Но по-русски то вы говорите лучше, чем по-английски, – ничего не поделать. Мы же все радуемся друг другу, когда встречаемся в западном пространстве – все бывшие советские, как это объяснить? Потому что лучше, чем по-английски, мы говорим по-русски. Очень видная латышская поэтесса, чуть ли не кандидат Нобелевской, на одном мировом конгрессе общалась с литовской поэтессой и говорит ей: слушай, хватит выпендриваться, давай говорить по-русски. Есть фестиваль «Киношок» с программой фильмов стран СНГ и Балтии. И все туда страстно едут, потому что там они опять получают режим большой страны с распространением оттуда на Запад, а не из своей потерянной маленькой провинции.
Все это кончается тем, что по-английски не научатся, по-русски забудут, а по-грузински станут говорить хуже. Знание родного языка всегда развивается по отношению к какому-то другому внешнему языку. Обязательно. Нельзя заставить мир говорить по-грузински, не получится. А по-русски и заставлять не надо. Все равно, хуже-лучше – но уже говорят. Грузии совершенно не нужно терять русский народ как часть своей культуры. А нам совершенно не нужно терять грузинскую традицию в русской культуре, которая очень сильна, конечно. Она как началась с Грибоедова, Пушкина, Лермонтова… Хотя Грибоедов ничего про Грузию не написал, он просто женился на грузинке. Один из самых трогательных памятников, которые я видел, это памятник Нины Чавчавадзе. Там надпись удивительная: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
– Похоже, сегодня эти слова можно экстраполировать на отношения с Грузией?
Абсолютно. Я когда впервые увидел эту надпись, я был тогда в пубертате и мечтал о какой-то сверхзначительной любви, я позавидовал Грибоедову так, как Пушкин позавидовал ему и написал о нем в «Путешествии в Арзрум». Он переживал смерть Грибоедова, потому что теоретически он мог там его встретить, поскольку он в 29-м году совершил свою самоволку. Но когда его там спросили: куда вы едете, там же убивают русских поэтов, он говорил: в одном году нельзя убить двух Александров Сергеевичев. И не убили. Его носили на руках, он вообще там отвязывался как мог, говоря современным языком. Ему там любилось и нравилось. У Пушкина прекрасные грузинские стихи есть. Я думаю, что, прежде всего, наконец-то он где-то отвязался. Потому-то я и написал такое эссе маленькое, что Грузия – как заграница. Все его мечты об отвале сказались в Грузии. Так что он зародил именно любовь. Теперь, когда я подписываю свою книжку «Кавказский пленник», я пишу «Кавказский пленник № 4» от руки.
22 января 2013. Публикация журнала «Однако».Точка или тачка?
…Во дни печальные Великого поста; Всех чаще мне она приходит на уста И падшего крепит неведомою силой: Владыко дней моих! дух праздности унылой, Любоначалия, змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья… 10(Речь, не произнесенная 4 февраля 2012 года в СтБ)
Непонятное это слово любоначалие… То ли ты любишь начальство, то ли любишь, чтобы оно тебя любило.
Иногда мне снятся прямо-таки вещие сны.
В 1985-м приснился Горбачев. Познакомились. Левая рука была нормальная, а правая, которую он мне подал, в асбестовой рукавице, как у сталевара. «Чего он боится, – размышлял я, проснувшись, – обжечь или обжечься?»
В 1994-м приснился я себе сам, в открытом гробу перед топкой крематория. Я возмутился и вылез из гроба. Тут же доктора постановили мне неделю жизни максимум. Я и тут не согласился. И что же? Хирурги лишь промыли мозги, и я жив до сих пор. Вот и не верь теперь снам: богам хватает чувства юмора. Это я так, для убедительности, чтобы поведать еще один правдивый сон, уже о самой «правде».
Первый год нового столетия я встречал, как говаривали еще при советской власти, «с чувством глубокого удовлетворения»: удалось и успел! Лет двадцать мечтал я об этом, и на Рождество состоялась акция «К 175-летию перебегания зайцем Пушкину дороги, а также восстания декабристов» с установкой в честь этого стелы в селе Михайловском. Тут я, не без помощи Александра Сергеевича, слегка запутал даты (как заяц следы). Меня всегда раздражал т. н. новый стиль: именно дата, а не внезапная большевистская приверженность к астрономии, что-то значит.
Пушкин никогда для себя не рождался 6 июня и не умирал 10 февраля, так же, как и Рождество никогда не отмечалось после 1 января! Лишь две даты, благодаря тому же Пушкину, сохранились по старому стилю: 19 октября и 14 декабря. Я позволил себе легкий подлог, посчитав появление судьбоносного зайца и восстание декабристов по новому стилю, а Рождество по старому, и все три даты практически совпали 26 декабря.
Торжество по этому поводу затянулось так, что и Новый год мы отмечали в Михайловском. С пафосом победителя провозглашал я тост за уходящий год: и за Пушкина, и за декабристов, и тем более за зайца, а также за дорогу, за путь, за чувство истории, за выбор пути, так непросто нам дающийся, то есть за Россию. «Это был мой зарок, – вещал я, – если удастся заложить камень, перед которым навсегда застыл наш богатырь, выбирая из трех дорог одну, то и двадцать первый будет наш!» И это я уже хватил…
Тут и появляется на экране Ельцин, чтобы поздравить народ. Эти поздравления давно уже никто не слушает в ожидании курантов… пришлось однако прислушаться. Все давно привыкли к Новому году как к единственному самому домашнему, самому несоветскому, самому беспартийному празднику в году! А тут на тебе! Сложение полномочий, передача полномочий… опять они. Только что было наше застолье – и нет его. Однако выпили, заели, забыли.
И снится мне первый в новом тысячелетии сон… титульный лист газеты «Правда», со всеми орденами, логотипами, шрифтами – один к одному, очень реалистично. И первый указ новой власти – ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ ЦАРЕЙ, – где все князья, цари, императоры, генсеки и президенты уравнены в исторических правах c обязательным соблюдением хронологической нумерации. Рассказал я сон заспанным друзьям, посмеялись мы над собою, стали считать на пальцах, который у нас тогда Владимир получается, если Владимир Ильич уж наверняка входит? Кто-то вспомнил Мономаха, кто-то Красное Солнышко, кто-то усомнился не одно ли это и то же лицо, а если разные, то кто из них раньше и кто окрестил всех нас… Какой тогда получается у нас теперь Владимир – Третий или Четвертый? Выпили за Первое января, мол, как его и с кем проведешь, так и год пройдет. Да что там год! Раз уже 2001-й… то и столетие, и тысячелетие. Приснится же! Даже всероссийская перепись населения, столь успешно провалившаяся, не была еще объявлена… а только стали жить мы с тех пор по этому указу, как по телевизионной программе – за десять лет всех генсеков пересчитали, включая их жен, детей и внуков: как им всем было трудно сыграть свою историческую кинороль.
Всех правдивее оказался фильм Сокурова о Ленине, всех человечнее – Брежнев в превосходном исполнении Шакурова. История была если не переписана, то пересмотрена (в буквальном смысле – на телеэкране). Пока наш действующий президент заботился об укреплении вертикали власти, на всенародный трон окончательно воссел Еговея (ЕГО ВЕличество Ящик), и власть ему покорилась первой.
Мой более чем полувековой опыт непосредственного контакта с цензурой позволяет мне утверждать, что это именно она закладывает основы смены режимов. Это именно она в мое время основоположила самиздат и тамиздат, породила диссидентское движение и третью волну эмиграции. И мы научились читать между строк и писать между строк, составляя для себя относительно правдивые образы единого и целого, и поняли, что власть тем и слаба, что узурпировала правоту, а не право, что она труслива, раз ей необходимы столь мощные силы подавления, что ей под силу только уничтожить твою жизнь, но не в ее власти уничтожить саму жизнь.
Гласность, как жизнь, застала нас врасплох: попробуй вырази то, что на самом деле думаешь? Оказывается, надо стать свободными. А как? Несмотря на всю жуть исторических испытаний, разбалованный оказался у нас народ, растерялся без прямых указаний сверху: обрели свободу только жаловаться друг другу на всё, ни в чем себя не упрекая. Съездили разок за границу – унизились, не понравилось: живут себе без нас, будто так и надо, мало того что говорят, но и обманывают не по-нашему, а – по закону. Синоним гласности у них – прозрачность. Не умея открывать рот, можно раскрыть глаза. Вот тогда мы и уперлись в ящик, который говорил нам что попало. Мы разучились читать по-писаному, зато научились видеть по видимому: перестали слушать, что все те же они нам говорят. Как глухонемые, мы научились читать по губам, как домашние животные – по выражениям лиц: врет ли человек, вешает ли лапшу на уши, и что им на самом деле от нас надо, если они это делают? Быть или казаться – вот что стало видно. Видно стало то, что как раз и хотят скрыть: любая ложь, малейшая фальшь интонации. Цензура опять помогла, от запрета слова на бумаге перейдя к выражению лица, которое не скроешь.
Накопилось. И когда нам торжественно показали предвыборный съезд «партии власти» (даже большевики так себя не именовали…), когда правящий тандем на наших глазах пересаживался с седла на седло, не сходя с трассы, передавая бразды (рули) из рук в руки, тут-то и произошла окончательно точка отрыва, тут-то все и отвалились от ящика. Хватит! Хватит утираться, будто все это божья роса.
Это и был туманный (болотный) образ будущего. А уж как выборы начались…
«А если бы, – как сказал г-н Чуров, – не чудовищная метель и пурга на Сахалине, то процент единорогов был бы еще значительно выше!» Будто никто не ведает, какой процент населения России уместился на этом острове… А как объявили, что процент от не прошедших в Думу партий будет распределен пропорцианально (сохраняю очепатку компа!) между партиями, победно прошедшими… будто никто, кроме депутатов, арифметику в начальной школе не проходил! Какой же процент населения России вдруг взял и вывалился из избирательных урн на площади, не согласившись с объявленными результатами выборов в нашу Думу (не переименовать ли ее в «Ума палату», чтобы продолжать обсуждать педофилов, дресс-коды, мат, компромат и прочие промилли)?
Историческое событие – это то, чего опять не ожидаешь. История куда менее предсказуема, чем кризис. Ну никак я не ожидал, что народ вот так возьмет и вывалится на площади! Мой застарелый цинизм насчет незрелости нашего общества треснул, оказавшись позитивным стрессом: неужто наконец общество рождается? Впервые я почувствовал себя частью МЫ, а не противоположностью ОНИ. То есть народом, который не только боится власти, но и сам себя уважает: хватит выбирать из одного, хватит подчиняться объявленному «подавляющему большинству», больше – не значит лучше (мы уже не большевики), мы сами и есть большинство. И это общество и есть (не общественность). А общество – есть единственный возможный регламент власти, порождающий и двухпартийность, и выбор из двух, и парламент, состоящий и впрямь из «народных избранников», способный выработать законы, распространяющиеся на всех и хоть как-то удовлетворяющие общество; то есть, будьте добры, дайте нам самим возможность не только ненавидеть, но и уважать власть. И то сказать: людям, не помнящим советской власти без Афгана, подчинившимся новому Ящику (интернету), уже и за тридцать и под сорок.
А власть все та же, только подверглась инновации. «Инновация» лишь слово новое, а так она была всегда. Каждая смена правителя сопровождалась своим баннером (знаменем), будь то «Долой самодержавие!» или «Вся власть Советам!», а после расстрела династии (это я в преддверии 400-летия Романовых) – «построение социализма» или «разоблачение культа личности», «эпоха зрелого социализма» или «гласность и перестройка», «выход России из СССР» или «поднимем Россию с колен!». За новым баннером следовала и инновация технологии: то председатель совнаркома, то генсек, то Верховный совет, то Дума, то президент СССР, то президент России. Президент-2001 создал новую Однопартийность. Команда и банда – хоть и рифма, но слабая. Команда нужна, чтобы укрепиться, а от банды и рад бы, но не так просто отделаться. Вот и борись с коррупцией…
Обольщаться властью нечего – она всегда заинтересована лишь в самой себе. «Власть отвратительна, как руки брадобрея», и никто ее никогда не свергает, пока она сама не перережет себе горло или не повесится на новом баннере.
На таком уровне находился мой обывательский гражданский разум, когда люди вышли сами (подчеркиваю, что бы ни утверждали теперь СМИ, сами на площади, пусть их поток и сплавили в «болото» на Болотную). И хоть я человек не площадной и не митинговый, мне стало стыдно своего неверия в людей, того, что я не с ними, своего неучастия. Всю жизнь я истощал свое сознание только текстами и в результате оказался (пользуюсь советским штампом) «менее сознательным», чем неведомая мне аудитория. Поэтому когда мне позвонили из родного Питера 21 января (день смерти Ленина) и призвали к участию, я уже не смел отказаться и стал, едва проснувшись, набрасывать эту речь. Прекрасно понимая, что она слишком длинна и невразумительна, к 3 февраля я набросал от руки не менее десятка страниц и поехал.
Речь еле влезала ко мне в карман, я даже не успел просмотреть, что в ней написано, как уже подходил к Конюшенной площади.
Муниципальные власти сами не учли, на сколь знаковое место они согнали в конце концов митинг: между храмом, где отпевали Пушкина, и храмом-на-крови Александра-освободителя. Хорошая была бы фраза для начала речи, но передо мной орал отморозок, без конца скандируя: «Россия для русских!» – и никак не слезая с трибуны, народ на площади и так был уже заморожен, и мне стало не до красоты, лишь бы регламент соблюсти. «Главное, не более двух минут!» – твердил я себе.
Владимир Владимирович помог мне своей заботой. Перед выходом на лобное место успел я увидеть и услышать и прочесть его напутствие по ТВ своим сторонникам, собиравшимся на Поклонной горе. «Будет очень холодно, поэтому не надевайте тесную обувь и не употребляйте алкоголь, но те, кто придет на Поклонную, будут самые стойкие и сумеют дать достойный отпор «оранжистам».
(Болотная и Поклонная – язык всегда сам совершит свою работу, и за ним не угнаться никакой власти!)
Обувь у меня была не тесная, и алкоголь я не употреблял. Не помню, что я сказал, но вкратце приблизительно вот что:
«За всю свою историю Россия еще ни разу не выбирала из двух, только из одного. Это как входить в темную комнату, дважды щелкая выключателем, проверяя, что это: лампочка перегорела или вообще света нет? Как образованные структурами «Наши» были сразу прозваны «нашистами», так Путин только что обозвал вас «оранжистами», с чем вас и поздравляю. Власть всегда сама рыла себе яму: борясь с двухпартийностью, она ее и создает. Одной сильной партии может противостоять только другая конкурентоспособная. Одной усиленной партии только выгодна ослабленная многопартийность. Но принцип «Разделяй и властвуй» начинает оборачиваться своей противоположностью. Разделение между «своими» стало ослаблять власть. Пришла пора это учесть, и для этого мы на площади. Мы перестали бояться проиграть, перестали бояться прослыть дураками (то есть говорить то, что думаем). Как придурок со стажем, я с вами. Вы научились стряхивать лапшу с ушей, с чем я вас еще раз поздравляю!»
Ах, ничего-то я не сказал! Однако и переписывать свои черновики здесь не буду. Я произношу свою речь в третий раз, уже не письменно и не устно, а на компьютере. И чем бы мне ее завершить?
Возвращаюсь к своему «вещему» сну.
И сон оказался в руку, и его величество Ящик свою «правду» поведал: всесоюзная перепись населения России не состоялась, и по-прежнему не ясно, сколько нас и кто из нас кто, зато всесоюзная перепись царей состоялась, и кто из них кто было показано и стало зримо:
Владимир Третий (Ильич) – начал классовый геноцид народа, развязав Гражданскую войну, топя в крови какую бы то ни было возможность выбора из двух.
Император Иосиф – завершил шаткое здание Ильича, достроил «Союз нерушимый», покончив с последним и основным классом России – крестьянством, снова закрепостив его и сковав страну вечной мерзлотой ГУЛАГа.
И кто посмеет утверждать, что страна наша не сопротивлялась большевизму, если, чтобы утвердить его, потребовалась рука Сталина и 20–30 миллионов жертв? Здесь начинается моя личная память (мой отсчет «царей»), здесь поместилась и великая война, выигранная все-таки не им и не Жуковым, а советским народом. Империя достигла невиданных пределов на Западе и Востоке («После меня все разворуют», – предсмертный вздох императора).
Царь Никита – все еще веря в нерушимость Союза, начал с этого, легкомысленно переложив Крым в карман Украины и поссорившись с Китаем, за счет разоблачения «культа личности» императора Иосифа.
Царь Леонид – дал возможность социализму созреть и перезреть, положив начало смертельному урожаю вождей.
Царь Юрий – имел намерения что-то сделать, оказавшиеся агонией.
Царь Устинович-Черненко – воплотил эту агонию, дав последнюю возможность структурам под шумок истории тишком и торопливо распилить мышиные запасы на будущее своих семей.
Царь Михаил – объявил это тайное перераспределение законченным, после чего уже не стало сил удерживать Восточную Европу под эгидой СССР.
Куда привели благие намерения, известно: породили смену формы воровства.
Царь Борис – с мощным похмельем завершил этот развал не только советской власти, но и всей империи, отделив Россию от СССР. Но он первый и единственный хоть за что-то извинился («за мальчиков кровавых в глазах»), и он первый обошелся без смерти или свержения, передав годуновскую миссию междинастийной власти в руки преемнику.
Царь Владимир Четвертый – взошел на это кладбище, поправляя и укрепляя поваленные кресты. И это была тяжкая работа. Вертикалью власти опять оказались одна (пусть и не коммунистическая) правящая партия и все тот же Кремль. Чтобы передохнуть и набраться правовых сил, он создал «тандем», выбрав для промежутка свое «врио».
Царь Дмитрий – «прекрасный во всех отношениях», устроил всех, потому что ничего не менял, кроме Лужкова. Ввел в обиход необидно непонятные (как Инь и Ян) слова «инновация» и «нанотехнология».
…Помню, после войны речь ленинградца еще отличалась от речи москвича. Это у москвичей «как слышится, так и пишется» (мечта всех безграмотных реформаторов русской речи), а у питерцев до сих пор «как пишется, так и слышится». «Россия, сосредотОчивайся!» – призвал Путин. И опять только «наш великий и могучий» его поправит: пусть это будет все-таки точка отсчета, а не тачка, которую мы уже век катаем.
Написана 21 января – 19 февраля. Опубликовано «Новая Газета» 3 марта 2012 г. (Родительское Воскресенье)Тройная уха моей речи выкипает в письмо.
Дорогой Владимир Владимирович!
Как старик я просыпаюсь в пять утра. На этот раз мне приснился хороший сон, пишу в его ключе. Вчера навестил родителей и бабушку на Шуваловском кладбище. Какие сугробы, какой чистый снег! Тут Вы меня поймете… Это Ваш год, повторяющийся лишь раз в 60 лет (год Черного Водяного Дракона). Когда мне стукнуло столько же, я получил от Бориса Николаевича пугающую телеграмму: «Давно слежу за вами…», и далее – вы такой-то и такой-то и сделали то-то и то-то. Отправился на следующий день похвастаться ею перед родителями и никак не мог отыскать их место. «Я могилу милой искал, но ее найти нелегко»… Свято место было пусто.
Оказалось, накануне срубили под корень крест (он был бронзовый). С проклятьями на всю страну бросился я к кладбищенским мастерам, которые мне этот крест устанавливали, тряся депешей первого президента России. Никакого впечатления! Знать не знаем ни вас, ни креста, ни президента, сами с бодуна. Учтите мой печальный опыт: всякое может случиться. Снимите с себя камуфляж: разгоните Ваших бездарных пиарщиков и имиджмейкеров. Чтобы ни амфор, ни байкальских батискафов.
Прекратите сами антипутинскую кампанию, а ведь она продолжается: зачем же до сих пор пафосные репортажи о митингах и шествиях в защиту Путина? И никакой мало-мальски объективной информации совсем об иных митингах? Люди, вылившиеся так неожиданно для властей по своей воле и жажде справедливости на площади, – не угроза, а опора. Эти люди уже не боятся власти и не обязаны ее любить, они хотели бы ее уважать. Вы родились с характером, а характер (что у Вас, что у меня) не меняется с годами, разве что портится. А так, как я был мальчиком, запомнившим первую блокадную зиму с ее голодом и холодом, так им и остался; и Вы, как были мальчиком, мечтающим стать чемпионом по всем видам спорта, включая разведку, так им и остались: и вот уже почти трехкратный если не четырехкратный президент! И страшно, и не хочется подумать, что такая устремленность направлена лишь на личную победу, а не ради более высокой цели. И не надо стращать (сиречь бояться) людей гражданской войной. Нацизм куда большая угроза, чем либерализм. Все-таки ума, опыта и духа Вы всегда обязаны иметь чуть больше, чем власти.
Сегодняшний сон приберегу.
С ожиданием, однако…
Роль захватчика в русской истории
– 27 мая вам исполнилось 75. Радио Свобода и наши слушатели от всего сердца поздравляют вас с юбилеем, пусть несколько запоздало. Желаем вам очень долгих лет жизни и творческих успехов! Как-то в одном из интервью Радио Свобода вы, А. Г., сказали замечательные слова, я их процитирую: «Как мне подсказывает мой опыт, всякая власть всегда свергает себя сама. Не люди это делают, она сама себя поедает». Вот о том, какой вам видится Россия сегодняшняя, о том, в каком положении находится в России власть, готова ли она сама себя свергнуть, нам бы, кроме всего прочего, и хотелось с вами поговорить. Что же вы имели в виду, когда говорили, что всякая власть свергает себя сама?
Лучше сказать о том, что я думаю сейчас, поскольку мысль в России о власти непрерывна. Совершенно не будучи политизированным человеком, я вынужден, пока жив, думать об одном и том же. Сейчас я начал работать над проектом – я называю это эссе, но это проект – под названием «Роль захватчика в русской истории». И вчера проснулся со странной мыслью, что наш народ, скорей всего, ребячлив, но власть наша – инфантильна. Какие бы ужасы она ни показывала. По сути дела, она тратит все свои силы на то, чтобы добраться доверху. И потом сидит. Сидит и по-ребячески любуется собою. Собственной силой. Ну и озабочена тем, чтобы ее не подсидели. Вот это и есть диагноз. Смотрите, как довольны собой и друг другом эти ребята. Это же видно, и народ это смотрит. И возмущается. Даже сведенный к одному лишь телеэкрану как информативному полю, народ смотрит и видит. Он именно видит! До тех пор, пока не поймут, что эти волны протеста не организованы ничем кроме реального возмущения, что народу не нравится, что все, что в глаза, – Божья роса, им из этого не выкрутиться. Если власть захвачена серьезно и надолго, то надо продумать именно эту сторону вопроса. Как помириться с оппозицией. То есть до тех пор, пока не возникнет вторая сила, – до тех пор не будет первой. Она сама себя съест, это и произойдет. Власть в России всегда была слишком самодостаточна, никогда не допускала выбора из двух. И общество наше никогда не было к этому готово, поскольку не жило в пространстве выбора. В том и заключается возмущение: дайте нам выбрать. А выбирать надо хотя бы из двух. Из двух выбирать крайне затруднительно, тем более что мы еще и не обучены. 50:50 – выбор практически невозможен. Это «русская рулетка» не с одной заряженной пулей, а с половиной обоймы. Так что угрожать, по-моему, нечему. Кроме того, что грозят какие-то катастрофы глобального характера – кризисы, там, экология – и за этим тоже можно скрываться. Потому что выступать все время в роли спасителя от бедствий («что бы вы без нас делали» и т. д.) – это, конечно, тоже пиар. Но организовывать и сплачивать сопротивление против себя власти невыгодно, и она должна это понимать. К власти всегда рвутся не самые лучшие люди, и нечего компрометировать друг друга: «Ты сам такой!» Надо просто кому-то стать чуть более зрелым, чуть более свободным. В том числе – самое сложное – стать властителю более свободным и более зрелым. То есть быть достаточно сильным и уверенным в себе, чтобы допустить… Конечно, выборы в Думу были порочными, это факт. И то, что я рекомендовал в «Новой газете», во фрагменте, который был пущен вперед статьи, – первое дело, чтобы завоевать оппозицию – распустить парламент, назначить перевыборы, раз ты уже на коне, и выпустить Ходорковского. Поскольку цензура всюду, даже «Новая газета» позволила себе вырезать у меня фразу, хотя в принципе напечатала полный текст. Ходорковский для них «священная корова», для меня он – никто, просто феномен, на который заточено общественное мнение. Я написал, обращаясь прямо к Владимиру Владимировичу: ну что вам эти Чуров с Ходорковским? Действительно, почему вы думаете, что если что-то уступите, то вы проиграли? Это детскость, абсолютная детскость! Вот это я и называю – инфантилизм власти. Надо ему стать зрелым мужиком. Тем более что он там во всех видах спорта накачался и вполне доказывает – по трудолюбию хотя бы, и по целеустремленности, и по некоторой, скажем так, опытности и толковости – вполне доказывает, что он мог бы это сделать, позволить это себе. Надо себе это позволить. Я не понимаю одного: насколько вся эта структура схвачена, – поскольку, говорю, я не политизирован. Но чем себя окружишь – тем и будешь. Вот, опять же, вопрос команды. Гнать одного слабенького министра в силу какой-то глобальной неудачи – это мало. Это не то. Если ты правитель, то будь им. Будь смел, зрел и мужествен. А то получается ребячество: победили в песочнице – и рады. А песочницу-то сами нарыли.
– Вот вы говорите об инфантильности власти. Мы сейчас не касаемся политических вопросов, текущего момента, мы говорим о ее природе, да? Я приведу ваши слова: «Что бы ни говорили о вождях, но если бы не пролилась кровь и не было гражданской войны, то они справились с задачей». Вы сказали в свое время такую фразу. Где границы инфантилизма? Или, то же самое, где границы лени российского народа? Об этой линии вы сказали по-другому: «Лень – это мать качества. Ленивые русские – такие же перфекционисты, как немцы»…
Повторяться неохота. Суть в незанятости, а не в лени. Человек должен быть занять своим делом. И это проблема судьбы каждого, между прочим, а не только власти. Обвинения ее в том, что случилось с образованием, с наукой, имеют под собой основания. Мужику, например, всегда было некуда деться, кроме как, я не знаю, в чемпионы, в армию или за руль сесть – за ним хоть пить нельзя. А сейчас еще мужик подался в охрану. Ну что это такое, когда взрослое трудоспособное население охраняет и водит. Это, конечно, вовсе не занятость населения. Это касается мужиков, которые должны, между прочим, работать. Хоть я виноват, может быть, перед своими семьями, что мало занимался непосредственно ими, но я был занят их обеспечением. Это я всегда и до сих пор устаревше считаю единственным занятием. А что касается женщин, то их мало. Кроме нашей замечательной мэрши питерской…
– Бывшей уже.
Бывшей уже, да. Вот они должны быть, потому что они главнее, по сути дела. И по-моему, их боятся. Иначе их надо выпускать и выпускать вперед. У них нет этого бессмысленного страха удерживать за собой силу, право… Тогда, может быть, и закон будет работать, когда он не принадлежит только власти. Так что власть у нас не только не мужественна, но и не женственна. И это плохо. В мировом пространстве женщина как-то время от времени мелькает. И леди достаточно «железные» и, может быть, гораздо жесточе. Кстати, от инфантилизма же жестокость власти. От робости, от страха, как известно, детская жестокость очень велика. И женская жестокость – тоже серьезная вещь. И с этим что-то… Для власти необходима тетка. Кстати, я вот пересматриваю внутренним взором свой проект «Роль захватчика в русской истории» – имея в виду положительную часть этой роли, потому что каждый раз Россия начинала соображать на какое-то время, после поражения или победы; правда, после победы ее укорачивали, а после поражения слишком быстро пересматривали исторические результаты – но не в этом даже дело; так вот, все-таки лучшая власть была при Екатерине, я думаю. У меня был друг – помяну его кстати, – Камил Икрамов; он отсидел в возрасте от 14 до 29 лет за папу, который был первым секретарем Узбекистана. Обычный альянс: он потомок древнего, еще от … (нрзб.) идущего рода, узбек; она – из партийной еврейской среды. Эту отсидку я никогда не забуду. От 14 до 29 – главный возраст! С тех пор он был благодарен жизни, и почему-то возлюбил меня: иногда поил, иногда кормил, иногда возил на такси, пока я учился на высших сценарных курсах. Так вот, он выдвинул такую теорию фаворитизма: дело в том, говорит, что Екатерина Великая использовала фаворитов, а опробывала их сама, причем самым серьезным способом. Если это ей подходило, то почему-то подходило и государству. Не знаю, как из этой шутки выкрутиться, но, в общем, женская власть не повредила России. При Екатерине было все умножено, включая имперские пространства, благодаря фаворитам же – Потемкину-Таврическому и так далее. Она была, между прочим, немка, между прочим, европейка, между прочим, была сначала в ужасе от России, потом в страстной любви к этой стране. Именно в любви, по-женски. Она была «матушка». Царь у нас тоже иногда именовался «батюшкой». Как переиначил однажды русскую поговорку Юз Алешковский, «Рок-батюшка, судьба-матушка». Меньше рокового надо. От «батюшек» у нас шла такая… очень уж мучили народ. И Петр, и Грозный… Ну, Ильича я даже не знаю, куда отнести. Потому что цели все время – захват и удержание, захват и удержание. Когда власть поглощена этими двумя функциями, она не власть. Наследственная власть, которая была при монархии, несла в себе – ну, один послабей умом, другой послабей характером – но тем не менее несла в себе какие-то обязанности и ответственность. Поэтому можно было так их называть. Но и эта вера оказалась подорванной в результате.
Меня занял такой вопрос: от чего мы освободились 12 июня? Что за ерунда? Наша Дума, наша «ума палата» – с чего это она постановила 12 июня праздновать? Совершенно не понимаю, от чего мы тогда освободились. Перебираю все возможности, и не нахожу. Сейчас, кстати, только что прошла информация, что Рюрику будут ставить в Старой Ладоге памятник. Будет написано: «Основоположнику русской государственности». Я давно учился в школе, но помню, что это «приходите володеть и княжити». Это была просьба справиться… Государственность-то – надо чего-то соображать. Ну захватил, захватил власть – распорядись ей в пользу времени, а не себя. Удивительная формула, такая ясная. Недавно меня посетило еще ощущение странное (глядя на довольно омерзительный стриптизный пиар наших увядающих звезд по телевизору, где они обсуждают все что только могут, лишь бы их не забыли) – что, может быть, человек боится не смерти, или, верней, больше чем смерти боится забвения. И если он может сделать что-то, за что его запомнят… (Хотя до сих пор у нас вурдалаков, по количеству упоминаний в любых трудах, больше, чем творческих личностей и художников, – так что полезно залезть во власть, будешь упомянут. Я даже собственные индексы смотрел, без меня составленные, и вдруг увидал, что Сталина у меня почти столько же, сколько Солженицына. Обозначение эпохи, понятно.) Но человек должен бояться забвения. Я думаю, что это существенно. Поэтому он что-то приличное делает, человек. Я говорю сейчас не только про русского человека, про любого. Поэтому он делает, кстати, некоторые добрые дела. Чтобы его не забыли. Помните, с какой радостью народ откликнулся, когда наши умельцы – что это было: лень, халатность или просто разгильдяйство? – когда наши могильщики не смогли опустить ровно гроб Брежнева около Кремля? И он грохнулся, и народ сразу сказал: … (нрзб.). Ничего такого не произошло, и сейчас даже поминают Брежнева с некоторой нежностью. Добрый был человек, зла не хотел. Ну что-то такое. Зла не хотеть… Так что бойтесь забвения, господа правители. В индексы вы уже попали.
– А как вы думаете, у Владимира Путина есть такой комплекс – боязни забвения? Если подходить политически?
Я надеюсь. Надеюсь, что именно это у него есть. Он хочет остаться в истории. Но тогда он должен стать более смелым правителем. То есть разрешить себе то, чего он боится, перестать этого бояться.
– Помните, вы как-то привели фразу одного человека: «Нельзя вступить в одну реку дважды, но в одно дерьмо – можно». Вам не кажется, что сегодня мы вступаем по второму разу в одно и то же дерьмо под названием, скажем образно, «совдеп»? Смотрите, какое наступление в последнее время идет со стороны власти: закон о митингах – теперь митинговать можно только под угрозой получить огромный штраф; будет введен закон об иностранных агентах – некоммерческих организациях, он апеллирует к коллективному бессознательному; обсуждается законопроект о цензуре в Интернете, собираются создать цензуру примерно как в Китае; закон о клевете опять восстановлен в своих правах, в УК возвращена уголовная ответственность за клевету. А народ молчит, нормально воспринимает, за исключением определенной группы интеллигенции, которая выступает против. Не кажется ли вам, что все это создает основу смены режима?
Я уже говорил, что надо перестать быть трусливыми. Тогда власть окрепнет. То есть сейчас они как раз действуют против себя, абсолютная работа против власти. И ее осуществляет сама власть. Роет сама себе яму. Зачем? Превентивными мерами сдержать гражданскую войну невозможно. Поэтому, будьте любезны, откройте пошире свои объятия оппозиции и допустите существование второй партии. Без этого ничто никогда не произойдет. Не какой-нибудь фиктивной партии, которую можно выдумать с помощью не знаю кого. Наличие этих сателлитных партиек, которые сейчас даже имеют свое место в Думе, – оно ничего не решает. Как сказал Черчилль, демократия – это плохо, но лучшего не придумано; и там, где она держится – там двухпартийная система. И ничего другого вы не выдумаете. И конституция Штатов, которая была написана в 18-м веке, слава богу, умным и просвещенным человеком; и Англия, которая раньше всех отрубила голову королю и поэтому о чем-то задумалась… Серьезные все дела. Надо, чтобы было противостояние, конкуренция; власть без конкуренции – это не власть. В этом случае как бы не развиваются некоторые мозговые клетки, что ли. Человек перестает думать. Ведь надо же думать в нескольких пространствах сразу. Вот что надо. Не соображать быстро – «где упало, где пропало» (это легко: где меньше, где больше) – а соображать и вперед, и назад, и влево, и вправо. Четыре хотя бы измерения должна иметь власть. Для этого достаточно усесться в центре – в центре вы уже сидите.
– А легко ли допустить возможность, что власть в России когда-нибудь научится смотреть вперед? Я, например, полностью согласен с вашим высказыванием, что мы живем одновременно во всех эпохах: в Средневековье, до отмены крепостного права, в сталинское время… Вообще, до какой степени этот временной хаос может продолжаться?
Но так и должно быть. Что такое цивилизация? Это когда времена исторически укладываются в своей последовательности в общей культуре государства. Вы уже не требуете, чтобы у вас был Бах или Рембрандт. Потому что они уже были. Зато у вас другой дизайн. Вы не требуете, чтобы у вас был Шекспир, потому что у вас уже иначе построена устная речь. Но даже никогда не читавший человек поймет шутку, которая вышла из тех времен и дошла до этих. Прерванность, чудовищная прерывность русской власти – потому что каждая власть начинает заново – вот это, это бред. Так что от чего освобождение? Я и говорю, что это бред: нельзя столько раз прерывать непрерывность. Должны наследовать друг другу системы поколений. И пусть это прозвучит как-нибудь, но дело в том, что Великую Отечественную войну – которая для меня свята, поскольку память моя начинается с первого ее дня и с блокады – так вот, ее выиграл не русский народ, а советский. И не надо думать, что это «совок» выиграл. А почему? Потому что путем жуткого геноцида того, что было, в основном русского народа, осталось три поколения выросших так, как будто бы ничего не было. С помощью тирании Сталина, кстати, в огромной степени. Он был император. Создался этот менталитет, и этот менталитет выиграл. Правда, путем чудовищных злоупотреблений, мясорубки, об этом много сказано, но все равно – это победа народа, а не государства и не строя. Так вот, был советский народ. А сейчас ни русского, ни советского нет. Есть бедные республики, которые не нужны ни себе, ни бывшей империи, затеряны в межеумочных пространствах и теряются в том, на каком языке они говорят. Советский Союз разрушать было нельзя. <Если бы он остался,> Тогда бы и не было советской власти, которая возрождается. Сейчас советская власть зарождается на месте падшей империи. У меня всю жизнь было убеждение, что советская власть возникла потому, что сознание империи выдвинуло другой режим для сохранения – любыми путями – этой странной накопленной земли. Между прочим, для мира – огромной, невероятной, немыслимой земли. Это была бы великая экологическая держава на весь мир. Все это было пущено коту под хвост. Причем второй раз. Такое невозможно вынести. И вот на месте этих обломков – Россия все равно осталась огромной – и возрождается, трепыхается советская власть. Но нельзя подражать тому, чего ты не умеешь. Это вечная, за счет перерывов и смен режимов, подготовка к проигранным войнам. Она губительна. Готовиться и к будущей войне не надо, а к проигранной – тем более. Что есть, то есть, на этом стоим. Так надо хоть раз проявить мужество и стать правителем не с помощью давления, а с помощью власти. Власть не может быть труслива, потому что она есть отголосок твоей силы. А сила твоя должна быть обеспечена обществом. Все-таки мы никуда не придем, пока не дадим дообразоваться обществу. Пока общество не поддержит власть.
– Если в литературе мы зафиксировали достаточно четко образование неких циклов – допустим, плеяду писателей Серебряного века, родившихся в основном в конце 19-го века, – можно ли говорить, что рождение и разрушение общества в России тоже подвержено каким-то циклическим процессам?
Я не знаю. Дело в том, что от народа до общества – серьезный шаг. Чтобы они были чем-то одним. До Октябрьского переворота у нас все-таки было классовое общество, в каждом классе существовали традиции, была наработана преемственность, поколенческая наследственность. Следовательно, работали такие аппараты, как совесть, стыд, обязанности… Это все довольно медленно развивалось, потому что страна была слишком велика. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Именно для того, чтобы разрушить все это и сделать одну кашу, и произошло это. Но из каши-то сварился советский народ! Сварился Советский Союз! Да, путем жуткой кровищи, злоупотреблений. А что, разве не вся история замешана на крови, подлости и мести? Ничего тут не поделаешь. Конечно, и на корысти, чудовищной корысти власть имущих. Тем не менее это было. Какой же неквалифицированностью надо было обладать правящей структуре, какой недипломатичностью и бестолковостью, чтобы это проиграть. Что уж говорить – даже и Западу невыгодно было падение Советского Союза! А нам что, выгодно? Невыгодно никому. А вот падение советской власти – да пожалуйста! Сейчас она трепыхается, как обрубленный хвостик от действительно могучего довольно и оплаченного геноцидом, кровью, десятками миллионов жизней исторического периода. Все это без раскаяния, без покаяния растрачено впустую. И следующий выходит и говорит: я чист. Не будем сейчас копаться, насколько чист любой из правителей, который доходит до верха, не надо. И одним поправлением кладбищенских крестов кладбища не поправишь.
Должен стать смелым тот человек, который у власти. А не функцией своих да наших… Дума, кабинет министров – это не общество.
– Ну а как вы сами считаете, есть предпосылки создания общества в России?
Ну раз люди выходят на улицу, значит есть. Следовательно, надо поддержать улицу – если ты настоящий правитель и если чувствуешь себя достаточно сильным. Чтобы не зависеть от собственной камарильи, для того и надо.
– Это решительный шаг, конечно. Скажите, а что вы имеете в виду, называя Россию «преждевременной страной»?
Это надо целиком цитировать или зачитывать. Я раком болел и писал завещание. Текст маленький и очень красивый. Но боюсь, что в красоте там тонет мысль, и вырывать из него нельзя. Там о том, что Россия должна сама себя настичь, что она все время пытается нагнать саму себя, в проекте, который не осуществлен… Но я приблизительно помню и говорю не то, что я написал. Текст хорош. Это грозная … доля? (нрзб.) – быть преждевременным… Это даже в отношении человеческих судеб грозно: когда люди вырываются некоторым образом вперед в том, что они мыслят, думают, творят – судьбы у них не очень симпатичные, да? А потом их объявляют пророками, что им абсолютно не нужно. Они, в общем, не тем занимались.
Я думаю, что единственное, что Россия все еще оставляет за собой – это будущее. Надо служить этому будущему, а не барахтаться в волнах времени под давлением внешних, промежуточных обстоятельств. Потому что и наводнения, и землетрясения, и кризисы экономические – это промежуточные обстоятельства. Надо прежде всего быть, а не казаться, и отвечать за свои слова. Ну, не знаю… Не буду я писать больше, и все. Потому что я не хочу написать хуже, чем я уже написал, а теперь я стар, скажем. Это правильное решение. Не буду я выпрашивать признание у кого-то, если я его не получил. Не надо!
– Но вы же не знаете, что у вас напишется! Может быть, у вас напишется в миллион раз лучше, чем написанное ранее…
Нет, не лучше. Другое что-нибудь. Хотя бы другое, то, чего я не писал. Вот последний текст, который… он совсем мне чужд и неприятен, потому что в жанре «не могу молчать» я никогда не хотел выступать. Я никогда не становился в такие позы. Однако вдруг решил, что надо. Понадеялся, увидел искренность в людях, которые выходят, а не купленность вовсе. Эта чекистская подозрительность, которую сейчас проявляют… Они сами, сами увидели, что этого больше терпеть нельзя, что это оскорбление – такие выборы. Хватит оскорблять людей! Тогда получится уже общество.
– Вы также говорили – не в той статье, которая опубликована в «Новой газете», – о раздвоении единовластия. Еще в 2008 году обратили внимание на это историческое явление, которое требует осмысления. В каком-то смысле раздвоение единовластия произошло в сентябре прошлого года на съезде «Единой России», когда члены тандема поменялись местами…
Это рокировка, а не раздвоение.
– А что вы имели в виду под раздвоением единовластия?
Так, это скорее шутка. У нас двуглавый орел, а наверху над ним корона была одна. Вот в чем все дело. А корону держит один Владимир Владимирович, это и так всем ясно. Но вот эти танцы неприличные перед публикой надо все-таки кончать. Это правда неприлично.
– Сейчас обсуждается еще другой символ: двуглавый орел, сидящий на красной звезде. Люди пытаются понять, что происходит.
Ну сейчас уже на место короны можно звезду поставить кремлевскую. Кстати, вот что было на Спасской башне до рубиновой звезды? Я не знаю.
– Орлы.
Орлы были? Мда. Даже если вы переставите… О господи, да ладно, что в заднем кармане копаться, когда там уже вытащили все. В общем, короче говоря, желаю нашему дорогому президенту смелости, мужества – не показного, а реального. Надеюсь, что оно у него есть и найдется. Иначе будет опять черт-те что.
– Очень хотелось бы вам задать вопрос в отношении девушек из «Пусси райот». Можете сказать ваше мнение относительно происходящего, или вы не хотите?
Чушь это все большая. Девочек жалко, ничего они скверного не сделали. А вот то, что наша церковь так слиплась с государством, стала заниматься комиссарством и делает себе пиар на скандалах – это отвращает верующего от веры, а не наоборот. Не укрепляет ее. Нечего делать из веры, которая есть самое индивидуальное, самое личное, самое твое чувство, какой-то опять коллективный знак. Нельзя возбуждать в церкви ненависть. А пропаганда такого толка: да ну, господи, похлопали бы по попке и отпустили, – что за чушь?! Это неприлично опять же. И храм этот, ХХС – неприличен он! Это же хуже Кремля. Тот хотя бы имеет историю. А это (нрзб.) …Лужков, кстати, его поставил. Думал, что памятник себе воздвиг нерукотворный. А лучше бы – бассейн, чтобы люди в нем плавали, и – историю места рядом, потому что действительно была святая церковь на этом месте. (нрзб.) И это ведь не было блестящее сооружение. А какой бы был музей или памятник месту, с этими проектами Дворца Советов, со всей этой чушью, и рядом бы плавали люди… Оставили бы как есть. Не знаю, я начинаю сердиться. Это, по-видимому, лишний вопрос.
– Извините. Последний вопрос. Накануне вашего юбилея в Москве вручали Новую Пушкинскую премию. Вдохновляют вас работы молодых авторов?
Их трудно найти, как ни странно. Премия делится на две части – одна за заслуги, мы выискиваем, пока еще находили и находим людей, не получивших должной оценки, как правило, интеллигентных и не занимавшихся пиаром и всем таким прочим. Пока очень достойные были все. Неожиданные повороты: литературовед, переводчик… То, что действительно является культурой. Молодая премия возникла позже и в основном, раза три, получалась. А сейчас почему-то трудно найти. Пишут хорошо в провинции. Но надо перерыть очень много источников, потому что все запружено – опять же, известно, что все делается в Москве и отчасти в Ленинграде. А пробиться через эту толщу и открыть… Кто-то сказал, что говорить, будто талант всегда пробьется – неверно, что пробьется как раз не талант. Надо помогать именно таланту. Думаю, именно в этом смысл молодой премии. И в этом же трудность.
Радио «Свобода» 29 сентября 2012 Беседа Виктора Резункова с Андреем БитовымК столетию 1913 года (Разговор перед концом света)
Справка. Согласно данным историко-статистического справочника, расходы по Министерству народного просвещения возросли с 1900 года почти в 5 раз, составив в 1913 году 14,6 % бюджетных расходов.
В 1913 году было издано 107 млн. книг, издавалось 1263 журнала, 874 газеты на 24 языках. Книги выходили (кроме русского) на 48 языках и наречиях. Кинотеатров стационарных насчитывалось 1400. 27 августа 1913 года Нестеров выполнил первую в мире «мертвую петлю».
Вот передо мной очередной билет в Питер… Календарик железной дороги поздравляет меня с Днем пассажира. Подписано: «Удачи Вам в 2013 году!»
Такого праздничного дня я еще не знал, хотя и родился, судя по отрывному календарю, в День пограничника, совпавшего с днём рождения изобретателя русской паровой машины Ивана Ивановича Ползунова, в свою очередь совпадавшего с днём основания родного города Санкт Петербурга. Пассажиром же я прожил всю свою жизнь, особенно между Москвой и Питером. Мой проект, назовем это «проект», потому что это вряд ли еще выношенный текст, хотя он входит частично в проект, не только обозначенный, но уже и во многом проговоренный – о роли захватчика в русской истории.
Поговорим сначала о датах. Вот просыпаюсь, главное – что? Первое, что увидишь. Прежде надо, конечно, сказать «Господи, помилуй» и встать на левую ногу. И кое-как застелить постель. На левую – чтобы сопротивляться течению дня, это сказал один старец. Вот, это проделал, – выглянул в окно, раздернул шторы, при которых сплю, поскольку сплю я поздно, и там шел такой легкий, воздушный снег. Значит, уже светает, раз я вижу снег. Значит, никакого конца света так и не наступило. И вспомнил я стихотворение 40-летней давности. Кончалось оно так:
До чего ж бесповоротно Время времени не ждет: Вверх взлетает снег бесплотный, А Земля на дно идет.Пусть это будет сегодня вроде эпиграфом.
40 лет – это тоже срок. Поговорим, значит, о датах.
75 лет я прожил при Советской власти. Так как меня упрекали редактора за то, что я избегаю слова «советский», что естественно, то я и употребил его: «Мой дед родился еще при крепостном праве, а я родился, когда Советской власти еще не было 20 лет». И эта фраза слетела, (откуда?) потому что, во-первых, не могло быть так, что крепостное право было так рядом, и не могло быть так, что Советской власти всего 20 лет – она была всегда. Вот вам уже взгляд на историю из моих 60-х годов.
А этот мой «проект» родился год назад, навстречу 200-летию победы над Наполеоном, и это предложение скорее другим, чем себе – вряд ли я успею его сейчас воплотить: у меня недостаточно ни исторических, ни экономических, ни политических, ни прочих знаний. Но импульс какой-то я надеюсь подать: необходимо отметить Столетие 13-го года. Почему именно 1913-го? Потому что это последний год перед Первой мировой войной. Потому что – и эту книгу я помню и сейчас могу только скорбеть, что недооценил и утратил этот теперь уже антиквариат – роскошный фолиант к 60-летию Иосифа Виссарионовича Сталина, тоже кстати дата, 1939-й год. Это был отчет о достижениях народного хозяйства СССР. И все сравнивалось с 1913-м годом, как с потолком развития дореволюционной России.
И это были огромные достижения («на душу населения»). Например, по количеству производства паровозов мы превзошли самих себя. А паровозы уже в мире не производили. Это было как-то не учтено. Да и прочие мелочи, над которыми можно теперь либерально усмехаться. Прошла Вторая мировая, умер и Сталин. И Хрущев, и Брежнев. А сейчас, значит, у нас и 60-летие нашего президента прошло. Надо сказать, что 60 лет – это и астрологически очень серьезная дата, поскольку это полный цикл восточного календаря – не только 12-летнего, но и все 5 стихий повторяются снова. Следовательно, сейчас мы живем в лучший год Владимира Владимировича Путина, а именно в год Дракона. А когда была выпущена та книга, где все сравнивалось с 13-м годом, это было 60-летие Иосифа Виссарионовича и, соответственно, он был Кот. Это был год Кота. Во всяком случае, чеширская улыбочка у него под усами была.
И вот столетие идет за столетием. А я давно люблю играть в эту игру, поскольку все время хотел сказать, что все было сравнительно недавно. И надо сказать, что люди не очень любят так смотреть на себя. Когда было, еще недавно – в 2004-м году, столетие, как Чехова не стало, то почти промолчали об этом. На столетие ухода Толстого все-таки потрачено было больше внимания. И – я уже дважды или трижды употребил здесь слово «проект». А надо сказать, что с горбачевской вольницы «проекты, проекты, проекты» из меня звучит, как из того попугая: «пиастры, пиастры, пиастры». Действительно, возникло много как бы не литературных идей. Хотя любое отдельное книгоиздание является проектом, а не просто опубликованием текста. Но мне нравилось осуществлять проекты другого рода. В 1998 году я отмечал тоже одно 60-летие – это было 60-летие гибели Мандельштама. Я готовился к этому заранее, чтобы во Владивостоке поставить памятник Мандельштаму, где он погиб, на Второй Речке. Удалось. Я был счастлив тем, что это удалось пробить через губернскую власть.
Значит, 60-летие крутится. Что у нас было 60 лет назад? 1952-й. Еще был жив Иосиф Виссарионович. И родился Владимир Владимирович Путин. Так что на даты надо оглядываться. Я помню, как мучительно пробовал что-то сделать к 100-летию Андрея Платонова. Но он был зажат тисками юбилеев вечного Пушкина и модного Набокова и почти пропущен. Но зато мне удалось отметить 50 лет без Платонова на следующий год. Так что мой прошлый век, который до сих пор мой, а не прошлый, 20-й значит, так и разделяется: полвека с Платоновым и полвека – без Платонова. Вот его еще не прочли. Еще его прочтут, не дай Бог, потому что эти мрачные утопии, которые он видел и пред-видел, и которые во многом осуществились, еще могут показать всему миру, насколько он прав в отношении человеческого бытия и страдания.
А мы сейчас готовимся, значит, опять к какому-то юбилейному торжеству, все ждем конца света, который явно – большая экономическая пиар– и прочая бизнес-программа по миру. Но тем не менее, почему-то тоже ложится на день рождения Иосифа Виссарионовича – 21 декабря. 133 года ему будет. Если случится конец света, то он ухмыльнется из своего ада или чистилища, где ему положено быть. Но не будет конца света, потому что все-таки над нами есть Высший суд и Высшая власть, и она пока, по-моему, этого не допустит. Потому что все, что существует до сих пор, столько раз должно было погибнуть, что только наличием Божьей воли можно оправдать, что все это продолжает быть.
Разговор перед концом света. Света, действительно, неприятно мало, витамина D, кажется, поступает недостаточно, но это не метафора, а это природа, которая из всех сил продолжает не халтурить. Даже и при большевиках она не халтурила, сезоны соблюдала, а мы, как и при них, не готовы к снегопаду. Что происходит? Вот приезжаю я из Питера 28 числа – есть нечего, бегу в соседний ларек. Оказывается, их сносят. Это такая мера усовершенствования нашей жизни. Почему-то каждый новый мэр начинает укладывать плитку, по которой нельзя ходить или можно упасть – это что в Питере, что в Москве. Не понимаю, что это за параллельное производство, но мэр входит в новую жизнь всегда с новой плиткой. Сейчас у меня под окнами перекладывают рельсы и сносят ларьки.
Я вспоминаю четверостишие, такой Яша Аким был, симпатичный поэт. Он писал про свой родной городок, кажется, Галич: «Поспешно разрушались церкви и долго строились ларьки…» Сейчас явление, вроде, обратное: быстро сносят ларьки и поспешно возводятся церкви. Это хорошо, что церкви реставрируются, как-то это украшает, но не будем много говорить о церкви, потому что, к сожалению, она слишком близка с властью, что тревожно. Института комиссаров нет, а священники комиссаров не должны заменять. Как-то мы ехали с Юзом Алешковским и его женой, еще в 70-е, и видим большую растяжку-поздравление к ноябрьским праздникам, там, естественно, «Слава КПСС» висит. Ира, жена Алешковского, остроумная женщина, говорит: «Вот поедешь однажды, а вместо «Слава КПСС» будет «Слава Богу».
И вот время прошло, а прошло ли? Мы живем во времени, которое окончательно себя потеряло. Я недавно смотрел по интернету картину Мирзоева «Борис Годунов». Прежде всего, мне понравился там Пушкин. Одна из заслуг режиссера та, что он не выкинул и не изменил ни единого слова. Целиком текст «Бориса Годунова», но положен на современную действительность.
Но до чего же ничего не произошло! Это к тому, что в 2013-м будет еще 400-летие Романовых. Абсолютно ложится каждое слово на то, в чем мы живем. И я, честно говоря, всю жизнь «Бориса Годунова» любил меньше из Пушкина и понял, какой я дурак. Просто он был грамотнее меня и лучше исторически мыслил. Сказать, что он пророк или провидец – это неправильно, гений.
Все легло, легло одно на другое. Мы живем по-прежнему в той же системе, которая была.
И если мы в 13-м году не отметим этого несуществующего года, с которым все сравнивается, то в 14-м, мы наверняка будем отмечать начало Первой мировой и будем доказывать, что мы в ней победили, а не проиграли – это уже готовится.
По телевидению особенно хорошо наблюдать попытку реставрации одновременно всех времен – и Советскую власть не обидеть, и царскую не обидеть, и как-то их совместить. Та же самая работа происходит на уровне пафоса, а не понимания. Мы сейчас смешали капитализм с социализмом, значит, дореволюционное время с современным, и в этой каше уже никто не разберется. Это месиво, похожее на ту слякоть, которую не могут убрать снегоочищающие машины. Это снегопад времени какой-то. А в 1917-м мы будем отмечать столетие Великой Октябрьской революции. А я буду отмечать столетие Хитрука, который умер вчера. И мне это очень жаль. Хорошо пожил, но как будто бы с ним ушла какая-то чуть ли не последняя доброта. А у меня в голове, как у Винни-Пуха, из доброты только опилки.
Нет, то, что хорошо, – хорошо.
Вот задуматься бы о том, как враз вдруг косяком вымерла филология, которая у нас была. Вдруг они, как домино, все попадали. Почему, совершенно непонятно. И Аверинцев, и Гаспаров, и Топоров, и Мелетинский, и Чудаков. Засосало будто в нынешний водоворот «рентабельности». Так как же эти же люди сумели возникнуть при той системе, при которой они возникнуть не могли – а именно в советское время? Книга «Алхимия» Вадима Рабиновича ни при каких условиях не могла бы быть написана в нынешнее время. Она была написана именно тогда, когда ее нельзя было написать. Почему?
Вот тут надо думать о 13-м годе. Что мы к тому времени имели? В 1904 году мы проиграли Японскую войну, а Первая мировая еще не началась. Это был период значительного подъема в экономике и культуре, насколько я понимаю. Во всяком случае, серебряный век процветал.
Это был, действительно, подъем.
Я как-то задумался, откуда у меня взялись два деда в «Пушкинском доме». У меня их не было, поэтому я их и написал. А они успели вовремя помереть. Иначе вся бы судьба рода и моя личная была бы другой, или меня бы вообще не было. Дед, который старше Чехова, сказал моей бабушке в 16-м году (а он преподавал историю в гимназии): в будущем году все будут висеть на фонарях. После чего съездил с ней на рынок, купил мешок рису и кротовую шубу и помер от грудной жабы. Слово это груднаяжаба пугало меня с детства, потому что лишило меня деда. Второй дед, который Битов, был мещанин, предприниматель. Он во время НЭПа расправился, по-видимому, что-то у него было притаено, открыл магазин, потом НЭП прикрыли, и он умер в 26-м году. Если бы один дед выжил, то пришлось бы либо эмигрировать, либо идти по каторжным путям, если другой – то же самое, по каторжным путям. Повезло: деды пожертвовали собой.
И надо понимать, что Советская власть воспользовалась гораздо больше наследием, чем современная пытается воспользоваться наследием, устраивая месиво из плохо воспринятых заимствований и хорошо разворованных остатков. Нет баланса. Вот не знаю, какие эти экономисты, которые правят нами, и что они нашептывают власти. Но явно мы не в расцвете 13 года, это уж сто процентов. И почему вдруг возникло это слово – «рентабельность», под которым гибнет культура, я уж не говорю о медицине… но образование! И искусство. Все это отодвигается на второй план как «неважное» потому что «не рентабельное». А что – важное? Что чиновник или власть, это рентабельно, что ли? Маркс был «рентабельный», наверное. Его сейчас тоже начинают вспоминать, слава Богу, он был хотя бы умный человек. Он действительно разгадал какие-то законы. Другое дело, как воспользовались этим.
Расшатала нас Первая мировая война, скажем, и, конечно, Россия была снова достаточно в упадке. Но важно подумать, зачем и почему сменилась власть. Не для того, чтобы ее обвинять во всяких злодеяниях. Все-таки, поскольку все лозунги революции были, в общем, обманными («Власть – народу», «Заводы – рабочим», «Земля – крестьянам»), все это были слова, то я думаю, что это был некий спазм империи, которая погибала и которая в результате того, как шла война, могла таким же образом распасться, как Австро-Венгрия, скажем, распалась. И приход более сильного режима был необходим, то есть подсознание империи сыграло на выгоду большевиков. Но потом должен был прийти настоящий тиран-император, который и пришел. Вообще-то геноцид русского народа был начат Ильичём как геноцид классов, продолжен Сталиным как геноцид крестьянства и «верных ленинцев», и это была цена удержания империи.
И вот что мы потеряли: потеряли мы именно то, за что пролили всю кровь, за что произошел этот геноцид – империю. Потому что Горбачев как генсек все-таки слабенько, но цеплялся за сохранение Союза. Разваливать его не было нужно ни нам, ни миру. Кстати, на Западе тоже так думают. Никому не нужен был развал этой огромной страны. Сейчас мы имеем сколько-то буферных, потерянных государств, которые не нужны ни Западу, ни Востоку и играют в соседних братьев и брата, столь же большого, как Россия. А империя – это сложный был организм, и, надо сказать, в пределах России достаточно мирный. Разговоры о подавлении народов надо сравнить с подавлением самого русского народа, чтобы рассуждать об этом сколько-нибудь справедливо. Был и возник советский народ. И поскольку я прожил и жил при советской власти, я в этом плане – советский человек. Хотя никогда режима не любил. Но страну-то можно и нужно было сохранять. Не сделаны были выводы из поражения в холодной войне. Это неправильно, потому что из японского поражения в 1904-м году они были сделаны. Из Наполеоновской войны – были сделаны. Из Первой мировой выводы некогда было делать, и выводом стала революция. А из войны Великой Отечественной были сделаны, кстати, выводы, но на том уровне абсолютной тирании, на каком находилась тогда страна. А надо было удержать страну.
Вот в условиях развала такой большой страны, самых поверхностных заимствований с запада и утерь самых существенных из социализма, и попыток реставрировать прошлое во всех направлениях, мы сейчас тонем, как в системе разложения национального сознания и истории. Так что не такой уж у нас радостный юбилей 13-го года. Так я считаю. Я не понимаю, почему надо было воспользоваться таким дурным окружением и оказаться так парализованным им, как даже большевики не сделали. Ведь всё, что большевики сделали, – они воспользовались возможностями, оставшимися от дореволюционного наследия. Объявлялось это иначе, но спецы – были прежними. Сами-то вожди ничего не умели: это было безграмотное, весьма безграмотное руководство. Кроме Ильича никто и высшего образования не имел. Так что, извините, даже полиция требовалась еще с прежними навыками. Другое дело, как все было повернуто на словах, но все-таки требовалось сохранять, а не терять. Уничтожение шло, но одновременно создавалась система какого-никакого образования и какого бы то ни было сохранения. И в этих условиях (ведь есть же такое правило житейское, что не надо мешать человеку казаться хорошим, пусть кажется, на этом пути он хотя бы какого-то зла меньше сделает) получилось, что очень много даже из моего поколения родилось совершенно неожиданно просвещенных. Я не говорю – культурных, потому что мы все необразованны и некультурны, но просвещенных изнутри людей. Это возникло потому, что, как говорила Ахматова, «вегетарианские времена» и так далее. Сам я точно что закончил еще царскую гимназию. Я учился в новой гимназии – образованной по какому-то указанию сверху первой в России английской школе, учителя-то были дореволюционной школы.
Если говорить о том, что хорошо, что плохо в истории – плохой могу быть только я. У меня не было дедов, а сам я собираюсь в 2013 году стать прадедом. Это существенно, и это моя цель – дожить до этого момента. Вот мой юбилей! Вот столетие 13 года. Рак родится, рачок неизвестного мне пола. Вот как восполнилось количество вовремя умерших дедов.
Мой отец (он же все-таки мещанин, хотя его отец и был почетным гражданином Петербурга за какие-то заслуги во время Первой мировой – шинелки, наверное, хорошо шил), когда мать что-то против режима говорила, он отвечал: «Слушай, ну мы бы тогда и не встретились, не было бы у нас этих детей, вышла бы ты за своего дворянчика – и всё!»
Вот как можно рассуждать о том, как было бы лучше, как было бы хуже? Как можно рассуждать о том, что сейчас хорошо или плохо?
Сегодня смотрю левым глазом английский фильм, замечательная фраза мелькнула: «кризис перехода из бронзового века в железный продлился два века…» Понимаете, там это длинные периоды, а у нас все рядом.
Что, вы думаете, мы отделались от КГБ и советской власти? Да никогда в жизни!
Что, мы отделались от борис-годуновского безвременья? Да никогда!
У нас есть наше невероятное, вот это непонятно зачем провиденциальное, если говорить высоким патриотическим языком, приобретение земель. Вот из-за чего все произошло. Для сохранения земель, все-таки. Поэтому надо было сломать режимы, а не для того, чтобы предложить новый строй. Это моё объяснение, как бы я ни был не прав. Это было подсознание империи.
Что сейчас? Когда приезжал на Дальний Восток, я все время думал и не мог понять: ведь не Гонконг, не Тайвань, не Южная Корея – не этот невероятный расцвет всех экономик, а только бесконечные б/у автомобили с правым рулем из Японии. Я не против этих автомобилей, отнюдь, но уж слишком далеко и слишком давно это было. В какой-то из хороших книжек я прочитал, что когда Екатерина стала императрицей, то ее решила поздравить вся империя – мышление-то не изменилось с тех пор – и потому все народы должны были приехать в национальных костюмах. И с Камчатки приехали ее поздравлять только через 4 года – ехать оттуда долго. Слишком долго, протяжно и ответственно это пространство. И только вот недавно находясь в Сербии, я понял, что хватит ругать даже и пресловутое монгольское иго, поскольку вот весь наш поход до Калифорнии, до Аляски, проход пешком, на восток, – это, по-видимому, обратная волна чингисхановского нашествия. Это большие исторические сроки. Если бы не захлебнулись, могли бы пройти и пустую, с индейцами одними лишь, Америку и Канаду. Но захлебнулись, и слава Богу. С этим-то не справились.
Держава огромная, обильная, но надо же за нее отвечать, а не только пытаться расправиться с собственным народом. Вот это, по-видимому, каждый раз России приходится понимать, что путем только лишь управления народом нельзя справиться с территорией.
Это нам к 2013 году есть о чем подумать. 400-летие Романовых тоже не подарок. Тоже была расслабленная власть Николая II, действительно, как учили в учебниках. Власть должна быть настолько сильной, чтобы не подавлять, а действительно подчиняться закону. Закона нет, и какая может быть рентабельность при воровстве и коррупции? О чем мы говорим?
У меня есть формула, что вор – это тот, который обращает ценность в стоимость. И это правда. Любая вещь, нажитая трудом, становится ценностью, включая и предметы искусства. А украденная вещь продается «на вес», поэтому она превращается в стоимость. Так вот, хватит превращать ценность в стоимость! Правда, я не представляю себе этих экономистов, которые нашептывают слова о рентабельности детсадов, школ, университетов, научных учреждений – это же стыдно слушать. И больно. Нельзя уничтожать возможность желающим учиться – учиться.
Каким бы убогим ни был социализм, все-таки, значит, там было, что наследовать. И вот в этом плане не надо плеваться в ту сторону и говорить, что все плохо. А вот надо было суметь взять и оттуда, и отсюда, и мы были бы богаче. А закапывать одно другим, историю историей – это опасный опыт.
Но чем занимается наша «ума палата» (Дума – прим. «Однако»)? То у нее педофилы, то еще что. Что она обсуждает? Хватит душить просвещение. До своего уровня опускать просвещение никак нельзя. Дегуманизация общества, которая сейчас происходит, это, по-моему, самая большая потеря, и она происходит не без ведома, такое управляемое ожлобление. Потому что чернь, как сформулировал очень правильно один хиромант, это люди, низводящие все до своего уровня. Великая формула. И чернь может быть на любом уровне. При Пушкине, как мы знаем, была великосветская чернь, которая его низводила до своего уровня, и в общем, он погиб. И Пушкина на нас не хватило. Тогда, значит, надо сказать, что беда России, кроме пространства огромного, с которым надо было грамотно совладать, была еще и в том, что век Просвещения был не пройден, а в Пушкине он как-то очень быстро проскочил. Пушкинская фигура, безусловно, соединяет в себе бездну пропущенных эпох, они опять не пройдены.
Но как раз к 13 году мы снова стали проходить этот период – от Японской войны до Первой мировой, снова развивалось Просвещение. И надо сказать, что просвещенные наши господа уже очень хорошо выражались по-русски, хорошо писали – и Менделеев, и Докучаев, не говоря о Чехове.
И писали они только о природосохранении, о сохранении почв, лесов. Они заранее видели, что такое пространство нужно не только России, а всему миру, что это невероятная экологическая держава, в которой можно было бы, ну, как Иван-дурак, лежать на печи, и все бы учились в Оксфорде. Только правильное землепользование. А мы до сих пор хищнически разоряем землю, не оставляя ничего внукам, тем более, моим будущим правнукам, которых я еще надеюсь застать. Вот это: наконец взять и остановиться. В эссе Розанова про памятник Александру III, «комод», который свалили со Знаменской площади, теперь площадь Восстания, было написано: «Конь уперся перед обрывом». Он очень хвалил Паоло Трубецкого за его скульптуру, очень хорошо ее прочитал. Теперь она где-то на задворках Русского музея сохраняется.
Так что давайте отпразднуем 13-й год тем, чтобы сравнить себя без большой похвалы с тем, что было до Первой мировой. На историю должен быть взгляд не выгодный, а варварский, как говорил Бродский: взгляд, конечно, варварский, но верный.
То Просвещение, которое у нас каким-то чудом сохранялось, давало возможность что-то написать вопреки. Я давно говорю, что советская власть была замечательным соавтором. Напишешь что-нибудь против – и уже будешь известен, либо тебя выпорют, либо посадят, либо объявят мировой знаменитостью. Во всяком случае, не безразличие. А вот утопить все в болоте безграмотности – это самый простой способ, каким можно погубить. И вот «вопреки» было делать легче, чем барахтаться в нынешней исторической жиже. Я могу только сочувствовать нашим вождям – но пусть все-таки меньше делают выражение лица перед народом – вот это я им советую, потому что народ не так глуп, чтобы ничего не видеть и ничего не испытывать.
Надо, наконец, осуществить законное избирательное право, иначе ничего не получится.
Так что праздник 13 года – это такой грустный праздник. Это еще один рывок, еще одна попытка, интеллигентская во многом, но, между прочим, и Столыпин тех же времен человек. Сейчас непонятно, кто он был, его то поднимают, то он – чудовищный реакционер, изобретший вагоны для заключенных. А что, по этапу в кандалах было лучше? Кто бы подумал, что вагоны – это комфорт для заключенных. Единственный упрек, известный в его сторону – это «столыпинские» вагоны. Но дело в том, что эти теплушки пригодились очень во время войны. И я помню, как я три раза выезжал в эвакуацию из блокады в этих же теплушках, и которые бомбили, и мы возвращались назад.
Так что неизвестно, что было. Всегда надо сказать, что было до, прежде, чем обвинять в том, что было после. Все время переставляется телега и лошадь: ужасно было при Ельцине, ужасно – при Горбачеве, и уже становится хорошо во время победы над немецко-фашистскими захватчиками. Бред этих оценок совершенно топит нас. Никакого пафоса, пожалуйста, – взгляните на себя трезво, покайтесь!
Я прожил свою жизнь, мне легче умереть самому, чем меня уничтожить; я ловко, так сказать «придурком», прожил эту жизнь. А вот, простите, дети, внуки, правнуки – это становится очень серьезным. Очень серьезно то, что у меня в 13-м году родится правнук – это серьезнее всех постановлений нашей «ума палаты». И так должен себя чувствовать каждый человек – что его частная жизнь более серьезна, чем жизнь власти, более значительна, поскольку она – его. Это и есть власть, если так себя будет чувствовать каждый человек. А уж как он себя положит за Родину в случае чего, если он так привык себя чувствовать, то это и будет видно – потому что он не захочет этого отдавать.
В общем, я бы пожелал, чтобы мы протрезвели и взглянули на себя объективно. И, конечно, все это связано все-таки с некоторым историческим покаянием, которое относится не только к режимам, но и к каждому человеку. Только что с торжеством отметили 50-летие «Одного дня Ивана Денисовича». Так получилось, что этот один человек и сумел публично за всех покаяться со своим «ГУЛАГом». Но один человек – это не все остальные, и возводить ему только памятники – это не означает отметить юбилей этого произведения.
100 лет – это очень условный срок. Скажем, XIX век, это может быть с 1789 по 1913 годы. А XX – значительно короче: с 1914 года до падения Берлинской стены, совпавшей с 200-летием Французской революции. Двести лет для Европы уже не прерывались революциями. Наш XX– й и ужасный, страшный, продолжается с 1914-го до сегодняшнего дня. Тот век, что закончился в 13-м году, был долгий век, начиная с Французской революции и кончая Первой мировой войной. Все-таки это был срок некоторой непрерывности для Европы и для нас. Наполеоновское вторжение – вот его мы только что отпраздновали, 200-летием входа казаков в Париж, главным образом. Но Наполеон, например, я не так давно это понял, очень много блага принес России, потому что эта победа заразила эпоху такой амбицией, из которой родился «золотой век» русской литературы, хотя бы.
Он продлился с 1812-го, и если считать еще смерть Гоголя, до 1842-го. Вот туда поместилось лучшее, что было сделано в русской культуре. Вздохнули, действительно, но выдохнуть не дали: декабристы поторопились. В грубом приближении, это те же самые офицеры, которых сажали за то, что они пришли с победой 1945 года. Та же самая солженицынская история: офицер, который что-то увидел и что-то там понял. Это освободившееся поколение нельзя повторно сажать, нельзя второго срока.
Наполеон многое значит и для европейцев. Они живут по законодательствам, еще тогда разработанным. Но они по ним живут! А мы-то по своему законодательству не живем. Мы отменяем каждый раз что-то предыдущее, как будто мы способны написать новое. Прерывистость нашего развития, она неправильная. Мы сами обрываем последовательность поколений, а должна быть преемственность хотя бы в 3–4 поколениях. Надо это претерпеть. Так что, может быть, и сейчас надо терпеть. «И дух терпения, смиренья, любви и целомудрия мне в сердце оживи» – как у Ефрема Сирина и у Пушкина.
Я знаю, что 13-й год – это повод взглянуть на себя – очень правильный и точный. С 1913-м годом стоит себя сравнить еще раз, вот так, сейчас, через 100 лет. Не по производству паровозов.
21 декабря 2012 Опубликовано 12 января 2013, журнал «Однако» Публикацию подготовила Вероника БруниP.S. К Старому Новому году наш Новый Министр вооруженных сил принял суворовское решение отменить в нашей армии портянки. Трудно даже представить, сколько будет отмороженных ног, сколько мозолей! Вот оно, Столетие!
P.P.S. Мысль, что столетие 1913 года следует отметить, естественно, пришла в голову не мне одному. 14 марта вся страна (во главе) отметила столетие Сергея Михалкова. Непрерывность и преемственность. Символ и знак. Какого роста был бы Дядя Степа, будь он написан сегодня?
P.P.P.S. Такую новость сообщил мне ИТАР-ТАСС:
30 депутатов Госдумы развелись со своими супругами перед сдачей деклараций о доходах.
18 апреля 2013P.P.P.P.S. Слышал, что снова посягают на Й и Ё, но не мог поверить в такое необольшевисткое кощунство. Однако в кроссвордах, которые я по слабоумию люблю разгадывать, они уже упразднены. Уверен, что такое оскорбление русской речи и Екатерины Великой, не будет нанесено.
P.P.P.P.P.S. В Киеве на юбилее крещения Руси ВВП только что сказал, что самая великая власть это всеравно власть Бога. Надеюсь, что он в этом так же уверен, как и во всем, что говорит.
июль 2013Автобиография 75
Потомственный петербуржец («сын дворянки и почетного гражданина», по классификации Мих. Зощенко) родился в Ленинграде 27 мая 1937 года.
Первое воспоминание – 1941 год, блокада.
Читать начал в 1946-м. Первой книгой был «Робинзон Крузо» (дореволюционное издание со старой орфографией; вообще, все мои первые книги были по старой орфографии).
Важность этого события нельзя преуменьшить: каждый писатель начинает как читатель. Я был очень горд тем, что сам прочитал свою первую толстую книгу от первого слова до последнего. С тех пор я стал последовательным читателем: читал только от начала до конца и каждое слово, как бы вслух про себя, как бы по слогам. Такая тупость привела к тому, что я стал читать книги, которые достойны такого моего черепашьего чтения, т. е. только очень хорошие, т. е. восхищаясь.
В 1949-м, в связи с двумя великими юбилеями Пушкина и Сталина, мне был поручен доклад о Пушкине. Я добросовестно прочитал «всего» Пушкина. Он мне понравился меньше, чем Лермонтов и Гоголь, но надолго залег в подсознание. Летом того же года я впервые увидел Эльбрус и влюбился в горы.
В 1951-м я в одиночку додумался до того, что впоследствии было названо бодибилдингом, и яростно занимался им, не пропуская ни одного дня несколько лет подряд. Я еще не знал, для чего мне это понадобится.
В 1953 году не стало Сталина, а я стал самым молодым альпинистом СССР.
В 1954-м, готовясь к вступительным экзаменам в Горный институт, я читал «Посмертные записки Пиквикского клуба» с таким восторгом, будто сам его писал.
В 1956-м, сразу по разоблачению культа личности, я стал писать стихи, влюбился в свою будущую жену, был исключен из института и попал в армию на Север в строительные части, которые были дислоцированы по только что опустевшим лагерным зонам. Это оказалась полезная «экскурсия»: освободившись, я женился, бросил писать стихи и взялся за прозу, что сразу стала получаться значительно лучше. Уже в 1963-м у меня вышел первый сборник рассказов.
Здесь у меня обрывается биография и начинается борьба за тексты внутри и снаружи параллельно с личной жизнью, женитьбами и рождением детей.
Поскольку моя литература не могла быть востребована режимом, я писал свободно как от социального заказа, так и от потенциального читателя, интересуясь только воплощением собственного замысла и посильным качеством его воплощения, руководствуясь пушкинским принципом «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Торопиться мне было некуда, писал я редко и быстро, романы складывались десятилетиями.
Однако в советских условиях никуда не торопясь, по определению критики, я написал:
• первый любовный роман «Улетающий Монахов» (1960–1976);
• первый постмодернистский роман «Пушкинский дом» (1964–1971);
• первый экологический роман «Оглашенные» (1970–1993).
• Они, наряду с «Путешествиями», сложились в итоговую, а-ля Пруст, эпопею «Империя в четырех измерениях», 1996. Это мой основной труд.
К нему примыкает «Пятое измерение» – о русской литературе, на протяжении своей короткой истории (от Пушкина до Солженицына) последовательно выразившей состояние нашей империи: ГУЛАГ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
После «Пушкинского дома» началась и не кончается моя, уже сознательная, пушкиниана: «Пушкинский том» теперь равен «Пушкинскому дому». Венчается все джазом. Черновики Пушкина, со всеми вычеркиваниями и вариантами читаются под импровизацию джазового квартета. Случилось это спонтанно в Нью-Йорке в 1998-м. Первый пласт вдохновения гения оказался превосходной именно джазовой партитурой: до аудитории было, наконец, донесено то, чем занимались одни лишь специалисты.
И наконец, по определению той же критики… первый философский роман «Преподаватель симметрии» (1971–2007).
И хватит. Я теперь гораздо больше горжусь тем, что мне удалось пробить во Владивостоке установку памятника Осипу Мандельштаму к 60-летию его гибели (1998), а также, уже по собственному проекту, памятник зайцу в селе Михайловском, остановившем Пушкина от ссылки еще дальше, в Сибирь (декабрь 2000, к 175-летию восстания декабристов), а также памятник Хаджи-Мурату (последнему произведению), открытый к столетию ухода Льва Толстого (2010) в том месте, где ему в голову пришел замысел, прекрасно описанный на первой же странице повести.
Мне не нравится, что меня объявляют стилистом и интеллектуалом, много работающим над словом и много знающим. Темен я, но просвещен, как все мое поколение, до всего доходившее «своим умом», пишу редко, спонтанно и набело, поправляя едва одно-два слова на странице. Т. е. мои беловики суть черновики. Я верю лишь в дыхание, единство текста от первого до последнего слова. Это не я работаю над словом, а слово – надо мной.
«Произведение – это то, чего не было, а – есть». Мне нравится это определение.
У меня четыре ребенка от четырех женщин, в разных эпохах (от Хрущева до Горбачева), и пять внуков. Эти произведения останутся после меня незаконченными.
Две первые жены стали видными прозаиками – Инга Петкевич и Ольга Шамборант.
Всё, что мог, написал. Однако в работе еще одна книжка «Автогеография» – о различии менталитетов, и в мечтах – хотя бы одна пьеса (жанр, не поддающийся моему разумению).
Авторитетов cреди современников для меня никогда не было. Я всегда пытался обратить свою зависть в восхищение, восхищение – в дружбу и передружить между собою этих людей. Происходило это на подсознательном уровне. В эпоху застоя я попытался сделать это осознанно. Попытка создать консорт «Багажъ» осталась виртуальной, – чему и посвящена эта книжка. Индивидуальности не пролетарии, чтобы объединяться, и оруженосцами им быть не пристало. Ревность и соревнование – однокоренные слова. У нас побеждала только дружба.
27 сент. 2011, СПб; 13 января 2012, СПб Опубликованно впервы в книге «БАГАЖЪ» ArsisBooks 2012Анти-CV 11
Во времена моего становления официальная ругань воспринималась как похвала, как слава.
Воздух мы вдыхаем и выдыхаем, не думая о нем (пока не задохнёмся). Антисоветизм был нашим воздухом даже при Сталине, так что я не верю в невиновность жертв, как и тех, кто выжил. Страх самой власти, а не страх народа перед ней приводил к массовым репрессиям. Страх это то, что невозможно полюбить.
После рождения правнука и впрямь не хочется вспоминать какие бы то ни было прошлые заслуги. Тьфу-тьфу-тьфу, мне всегда везло.
Повезло попасть под сталинское постановление о запрете абортов в 1936-м, повезло не погибнуть в блокаду Ленинграда в 1941–1942.
Повезло заняться вдруг Бог весть чем: нумизматикой, фотографией, бодибилдингом, альпинизмом. Повезло стать читателем хороших книг.
Повезло забрести в нормальную литературную среду в 1956-м (Литобъединение поэтов Горного института, где учился), и чтобы остаться в ней как поэту прочитать чужие стихи, начал сразу как профессионал, – с плагиата! А потом начал вымучивать что-то свое собственное.
Повезло влюбиться, быть исключенным из института, попасть в армию и опять уцелеть..
Первым профессиональным читателем моих ранних рассказиков оказался Давид Дар в 1959 году. Будучи женатым на великой ленинградской писательнице, он вернул мне рукопись на пороге ее барской квартиры. Похвалив мои начинания, он не пошел на то, чтобы впустить меня и познакомить с нею, однако, испытывая неловкость, вот что добавил к своей похвале: «Андрей! А вы давно перечитывали великие произведения?» Заподозрив его в менторстве, я спросил, что именно он имеет ввиду. Он перечислил. Я ему как на духу ответил, что читал только «Робинзона Крузо» и Джека Лондона. «Божественную комедию» и «Гамлета» вообще не читал. А «Дон Кихота» и «Гулливера» читал лишь в детстве, в детских же адаптациях.
«А я перечитал… – печально вздохнул Дар. – Вы даже не представляете, как это всё плохо написано!» Это было, конечно, оригинальное суждение, и вот чем он его уравновесил:
«А хоть «Тристрама Шенди» вы читали?» «Впервые слышу», – честно ответил я.
«Как же я вам завидую, что вы это впервые прочтете!» Я поверил его интонации.
Выходит, мне и тут повезло. Прививка от мании величия. Я упивался Лоренсом Стерном.
Проза для меня изменилась: проза жизни становилась жизнью прозы. («Гамлета» я прочитал лет в сорок, когда уже сам все написал, а «Божественную комедию» прочту тоже сам, после смерти.)
В 1960-м мне повезло попасть в Литобъединение при издательстве «Советский писатель» в Ленинграде, уже как прозаику, под крыло последнего из «Серапионовых братьев» Михаила Слонимского. Там собрались лучшие молодые непечатающиеся прозаики.
Мы хотели издавать нелегальный альманах «Петрополь», однако печататься я начал в легальном ежегодном альманахе «Молодой Ленинград».
Моя первая книжка «Большой шар» успела лечь на прилавок ленинградских книжных магазинов ровно 8 марта (Международный женский день) 1963 года, ровно в день открытия Идеологического Пленума ЦК КПСС, на котором Никита Хрущев окончательно заморозил собственную оттепель (9 марта книжка бы уже не вышла). Ленинградский обком партии раскритиковал книгу, особенно за аннотацию на обложке (видно, только ее и прочитали): как можно так хвалить начинающего автора, будто это молодой Чехов! В ленинградской печати меня разругали вместе с Солженицыным, зато ровно через год в московской печати похвалили вместе с первой книжкой Василия Шукшина уже как достижение того же Пленума.
Нас с ним похвалил душитель еще сталинской закалки критик В. Ермилов, за что от меня отвернулись многие прогрессивные (в т. ч. К. Чуковский и Паустовский, собиравшиеся похвалить мою первую книгу). Я неправомерно невзлюбил так называемый «либеральный террор» как и официальный. Ни вправо, ни влево – стоял, где стою.
Чехов, Солженицын, Шукшин… сами сказали! Сами назначили мне уровень.
Широкого читателя у меня никогда не было, но свой появился сразу же и никогда меня не покидал. Стандартный комплимент был всегда такой: это вы про меня написали. Выходит, я писал про одиночек и для одиночек, но одиночек тоже много, и мне такого читателя достаточно, и я не хочу ему изменять: в конце концов, читатель и автор всегда встречаются один на один.
Если тебе нет места на собственном месте, то неизбежны поиски его в пространстве.
Мне стало тесно в Ленинграде, и я перебрался на два года в Москву. Поменял среду питерскую не только на московскую, но и на всесоюзную. Поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Их хитроумный директор, под угрозой закрытия Курсов как «рассадника вредной буржуазной идеологии», придумал тонкий ход в честь другого великого юбилея – 50-летия образования СССР: по одному представителю от каждой из социалистических республик (никого из Москвы или Ленинграда!). Ленинград «как республика» чудом проскочил в моем лице. Все «представители» оказались исключительно талантливыми людьми, и теперь они все классики национальных литератур бывших республик Советского Союза. Плод «дружбы народов», я ненароком приобрел великих представителей национальных культур нашей Империи в качестве близких друзей. Как «невыездному» мне она и оставалась – Империя.
Первая книжка в Москве «Дачная местность» вышла в 1967-м, ровно в день великого юбилея 50-летия Октябрьской революции, за что и была тут же обругана.
Зато Ленинградский обком меня стал меньше бояться, раз уж у меня вышла книга в Москве. Рискнули разрешить следующую книжку «Аптекарский остров», правда, рассказ «Образ» беспокоил главного редактора (пониженного из секретарей горкома партии) и, как ни старалась моя редактор сохранить этот текст, вызвал ее «на ковер» и решительно запретил «Образ». «Что это такое, если парочка целый день ищет где переспать и не находит!» – возмущался он. «Но так можно пересказать и «Анну Каренину!» – защищалась редактор.
«И не смейте сравнивать этого внутреннего эмигранта с Толстым!»
Так снова был определен мой – то ли статус, то ли титул.
И мне опять повезло «Аптекарский остров», со всеми торможениями, хоть и «без образа», поступил в продажу ровно ко дню ввода наших войск в Чехословакию в 1968 году. И меня снова ругали критики «за безыдейность».
Мне удалось написать и даже опубликовать «Уроки Армении» в 1969 году, где впервые феномен геноцида армян был предан всесоюзной гласности. В 1972-м удалось опубликовать первую главу будущего «Грузинского альбома».
Я навестил умирающего Слонимского с этой последней публикацией в руках. Уже вовсю ходил в Самиздате «Пушкинский дом», и старик беспокоился за меня, хорошо зная, что такое существование в советской литературе. Погладив подаренный ему журнал, он вздохнул с облегчением:
«Умный мальчик! В один карман положил Армению, в другой Грузию…», – имея ввиду, что «дружба народов» всегда выручит.
Он был прав: она меня спасла и спасала вплоть до 1986 года..
Критики меня ругали, зато литературоведы ценили. Михаил Бахтин и Лидия Гинзбург, Ирина Роднянская и Сергей Бочаров, а замечательный филолог Владимир Топоров (автор теории «петербургского текста») провозгласил меня единственным современным выразителем этого оригинального направления русской литературы.
В 1975 году (ровно полжизни назад) я был поглощен экологией и, написав три разножанровых произведения на эту тему, в очередной раз посчитал, что написал всё.
И действительно, 1976 год покатил на редкость гладко. Был опубликован «Лес»; «Мосфильм» начал заключать договор на «Заповедник»; на лучшую по составу за всю мою карьеру книгу «Дни человека» был подписан договор (с непременным требованием, чтобы все вещи, в неё входящие, были уже опубликованы). И только «Птицы, или Новые сведения о человеке», ни у кого не вызывавшие подозрения, не вызывали и энтузиазма. Экология была все же «вредным буржуазным веянием».
Пройдя по второму кругу все журналы, всё вернулось на круги своя, и «Птицы» приземлились там же, откуда впервые вылетели: снабженные предисловием биолога и послесловием философа, они были «пропущены» Ленинградским обкомом в печать. Последний тормоз с книги был снят, и она двинулась, чтобы выйти к концу года. Опять повезло!
Но всякое везение не бесконечно. В последний момент Обком вдруг снова затребовал «Птиц» и запретил их. Главный редактор журнала потерял свое кресло и не вынес этого. Я не торопился уведомить об этом издательство, и книга успела проскочить.
Мне повезло в квадрате. Главный редактор была возмущена: «Как вы смели не сообщить мне!» «А я не знал», – отвечал я на голубом глазу. Когда же наконец я держал сигнальный экземпляр книги в руках, она в сердцах сказала моему преданному редактору:
«Не могу понять, вроде бы ничего такого и нет, но каждое его слово меня возмущает!»
Не могу отказать ей в тонком чутье. (Я еще и сам не знал, что «Птицы» станут первой частью «Оглашенных», а «Оглашенные» – четвертым измерением всей моей «Империи».)
После «Дней человека» меня практически перестали печатать. А после выхода «Пушкинского дома» в США в 1978-м и участия в подцензурном альманахе «Метрополь» в 1979-м – вообще прикрыли.
Больше всех пострадал от «Метрополя» отец Виктора Ерофеева: был отставлен из чрезвычайных и полномочных послов ЮНЕСКО (лет через двадцать сын еще раз предаст папу в своем очередном вёрстселлере «Я убил своего отца»). Возвращенный в Москву, отец попытался привлечь былые связи, чтобы помочь сыну. Вскоре сынок с гордостью продемонстрировал нам «секретную ориентировку» КГБ на основных участников. Поразила она меня не чем-нибудь, а стилем! Если бы не обиженно-собственнический тон, то какая краткость и какая точность… будто перевод с английского.
Аксенов – «мы же только что выпускали его с матерью в Париж, чего ему мало?»
Ахмадулина – мудрой Белле, кроме лишней рюмки, было нечего вменить
Вознесенский – «этот же из заграницы и телевизора вообще не вылезал!»
Высоцкий – «эти песни и так каждая собака знает наизусть».
Искандер – «он и так сумасшедший». Это была уже угроза: любой советский гражданин, хоть раз обратившийся даже к психологу, по первому сигналу органов мог быть упечен в психушку.
Битов… впервые и я, всего лишь двухлетний москвич, попал в столь почетный московский список хоть и не по алфавиту, а в конце. Меня уже не печатали с 1977 года, ни в телевизоре, ни заграницей, ни на учете я не состоял: упрекать меня в «неблагодарности» было не за что. «А этот всю жизнь делал, что хотел!» – таков был мой диагноз. Считаю эту характеристику высшей оценкой, орденом КГБ.
Существование в противофазе к противостоящим лагерям (как это я только сейчас понимаю) то ли было, то ли стало моей природой.
Меня продолжали прессовать, Грузия и Армения выручали. Главный редактор журнала «Литературная Грузия» рискнул опубликовать рассказ «Вкус» и поплатился должностью: из Москвы последовало грозное распоряжение: «Впредь не печатать материалов русских авторов, не связанных непосредственно с Грузией».
Шел 1982 год. В эмигрантском журнале «Грани» об этом рассказе была напечатана хорошая статья под примечательным названием «Опаздывающий поезд» (в том смысле, что я пытаюсь догнать эмиграцию, пропустив момент, когда все это успели сделать). И тут в Италии пропадает мой брат. Мать в отчаянии, меня обвиняют в том, что брат уехал «за моими миллионами» (кровожадность чекистов равна лишь их же простодушию).
Программы КГБ и Запада странно отражались друг в друге в моей судьбе.
Стоило мне в 1977 году из рук Василия Аксенова подписаться на издание «Пушкинского дома» в «Ардисе» (с обязательством издательства выпустить русский текст одновременно с английской версией), как меня тут же перестали печатать на родине. Не то, что миллионов, но и не цента не заплатили, не то, что по-английски не выпустили, но и мировые права присвоили, чтобы торговать ими направо и налево. «Прививка от расстрела» (формулировка Осипа Мандельштама) не получилась: я-то размечтался, чтобы Запад узнал обо мне сразу, как меня посадят. Заплатить переводчику издателю показалось дороже свободы какого-то советского автора, к тому же невыездного.
Так, стоило войти нашим войскам в Афганистан, как мое французское издательство выкинуло из плана все русские книги, потом решило все-таки мою оставить как наиболее диссидентскую, но решительно сократив. Положение мое было настолько безвыходно, что я готов был сдаться, если бы не мой замечательный переводчик: он пригрозил снять свою фамилию с титула в случае сокращений. Издательство испугалось скандала в своем кругу и отложило книгу до лучших времен.
Брежнев свалился в яму под Кремлевской Стеной, но «лучшие времена» удалось еще ненадолго отложить, чтобы успеть все доворовать и дораспределить до перестройки. Горбачев с Ельциным были в тени наготове.
Французы все колебались. Редакторша на приеме подошла к советскому полпреду со смелым вопросом: когда в СССР простят Битова? Его ответ был примечателен: «У нас за одно преступление могут еще простить, если человек талантлив, даже за два, если очень талантлив, но за три…»
Стоило объявить перестройку, как «Пушкинский дом» вышел и по-немецки, и по-французски, и по-английски, а потом и на прочих языках.
И тут же меня выпустили в Западный Берлин, в Америке выпустили мой первый сборник, написав на обложке опять «молодой Чехов», добавив «только читавший Фрейда» (которого я и до сих пор не читал), а наконец разродившиеся французы назначили «Пушкинский дом» «лучшей иностранной книгой года».
Как же мне повезло, что мой «поезд опоздал» и я не эмигрировал! После пятидесяти я стал «выездным», и мне довелось разглядеть долгожданный Запад, обратную сторону «империи зла», и до чего же они оказались симметричны и даже подобны! Западу не хватало Железного занавеса, он испытывал некую ностальгию по врагу. Особенно интеллектуалы, постаревшие и устаревшие левые. На одном из симпозиумов, рассердившись, я так и сказал: мол, хватит штопать железный занавес с обратной стороны, хватит старательно переименовывать советских в русских. Антонин Лим, чешский беженец образца 1968 года, с которым мы быстро нашли общий язык (что было нетрудно: он свободно говорил на четырнадцати), так прокомментировал мне этот выпад: «Андрей, а ты до сих пор не играешь в общие игры!»
Я счел это признанием своих заслуг.
Западная критика не могла определиться на мой счет: для неё слишком долго существовало лишь две краски – советский и антисоветский. Стать просто хорошим писателем было никому не позволено. Поэтому я побывал в шкуре не только «Чехова, читавшего Фрейда», но и «русского Джойса» и «советского Пруста», особенно меня доставали Набоковым. Все самоуверенно гадали о моем генезисе: откуда такой, которого не должно быть? Не красный и не белый, не русский патриот и не эмигрант… Я читал две монографии о себе, написанные по-английски: одна была слишком описательна, другая слишком мудрёна.
И только старый профессор Кларенс Браун заявил решительно, что знает, откуда взялся «Пушкинский дом»: из «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина». Я обрадовался: тут мне было не спрятаться за то, что я их не читал.
Вот ещё одно американское человеческое высказывание:
АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ!!! Перенести с бум. Оригинала
Спасибо и переводчикамПрисцилле Майер и Сьюзан Браунсбергер за достойный английских моих книг.
Спасибо и старому Роджеру (Страусу), который, несмотря на мой скромный селлинг, продолжал последовательно издавать мои книги. Что мог он понимать в том, что и о чем в них было написано? Однако именно благодаря его издательскому чутью… когда я поставил четыре тома на полку в той последовательности, как они были изданы по-английски, то понял, что вместе они составляют единство: первое, второе, третье, четвертое… – «Империю в четырех измерениях», на которую ушло 37 лет написания, действительно а-ля Пруст.
Меня стали не только выпускать (книги, за границу, на телевидение), но и награждать: немцы, французы, а потом и русские.
Но главную награду, жизнь, я получил не только от родителей, но и от судьбы, спасавшей меня: в 1994-м – от рака мозга, в 2003-м – от рака гортани. Великие и врачи!
Опять же о профессионализме… у нас они наконец объявились: сначала киллеры, потом политики, потом авторши детективов. Врачей, как и учителей, забывают перечислить.
Я не профессионал, но и не графоман только в одном смысле: терпеть не могу писать.
«Что не хочу, то и делаю», – как сказал про меня по пьянке кто-то, кажется, даже я.
SUMMERY.
Что же в сухом остатке? Только подлинность негатива. И вдруг отпечаток!
На кухню, где я отужинал, вынесли трехнедельного правнука: мама ведь тоже должна поесть, чтобы у нее было молоко. Я вышел в трусах на лестничную площадку, чтобы допить кофе с сигаретой. С крыши, где у нас отремонтировали прозрачный фонарь, зашумело, и я понял, что наконец пошел дождь, прервав аномальную жару. В квартире оставались дочь-бабушка, внучка и правнук (без умершей в прошлом году и не дождавшейся своего нового статуса прабабушки); из квартиры раздавался плач правнука и я заплакал с ним вместе стариковскими слезами, и тут полное счастье охватило меня и я вдруг вспомнил, что ровно такой же фразой закончил «Дачную местность», ровно в тот же день, ровно полвека назад:
«И он подумал, что именно это и называется счастьем, потому что жизнь неизвестно как еще может повернуться».
Господи, спасибо и прости!
25 июня 2013, СПб Андрей Битов1
Александр Пушкин, Из Пиндемонти
(обратно)2
Этот текст не вошел в первое издание романа, печатается впервые (примечание редактора).
(обратно)3
Sven Spieker. Figures of Memory and Forgetting in Andrei Bitov’s Prose, 1996 г.
(обратно)4
Орфография автора
(обратно)5
Слова сами знают, что написать, если их слушаться.
Имя Чабуа я упомянул вскользь (судя по черновику 27 апреля), а оказалось, к месту. Ибо сегодня, когда я напоследок проглядывал этот текст, ко мне неожиданно заглянул наш с ним общий шведский друг, писатель Питер Курман, у которого мы выпивали втроем на его даче в Швеции русскую водку в 1988-м. Было что вспомнить!
С Чабуа Амирэджиби я познакомился на похоронах Юрия Домбровского. Он был красивее всех и речь над могилой произнес лучше всех, но для меня был, прежде всего, трижды бежавший из колымских лагерей зэк (Дата Туташхиа еще не был так знаменит).
Мы помянули Домбровского в ЦДЛ и так подружились. Развал Союза нас разлучил.
И сейчас Питер сообщил мне, что Чабуа ушел в монахи. Надо же было узнать об этом именно в Швеции!
Вот четвертый, возможно, самый великий его побег! Потомственный рыцарь, князь царских кровей, через лагеря и писательство, не прогнувшись, не продавшись, куда было ему податься в наше время как не в воинство Господа? Помяни, Чабук, меня в своих молитвах, а я и так не премину это сделать.
20 мая 2011 года, Готланд
(обратно)6
«Озноб» в исполнении Чулпан Хаматовой.
(обратно)7
Rembrandt created masterpieces… We created Rembrandt.
(обратно)8
У древних греков существовал миф о гигантской двухголовой змее, вторая голова которой находится на хвосте; называли ее Амфисбена (греч.: «с обеих сторон – иду»). Как явствует из названия, Амфисбена могла двигаться в обоих направлениях – утверждали, что ради этого она засовывает одну голову в рот второй и катится, как обруч.
(обратно)9
«Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братии кругом его.
«Экая энергия! – подумал я. – Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».
И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. Это было в конце 1851-го года.
В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет».
(Страница цитируется на одной из граней стеллы. На другой может быть посвящение «Последнему произведению», к Столетию ухода Л. Н. Толстого.)
(обратно)10
Великопостная молитва Ефрема Сирина в переложении Пушкина, 1836
(обратно)11
CV? Сurriculum vitæ (в переводе с лат. – «ход жизни») – краткое описание жизни и профессиональных навыков. (Анти-CV написано для американского издательства, готовящего перевод «Преподавателя симметрии», вместо их занудной анкеты о разного рода званиях и наградах автора, с тем чтобы они сами выбрали, что им может пригодиться для PR.)
(обратно)




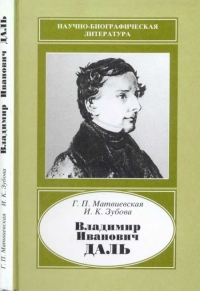


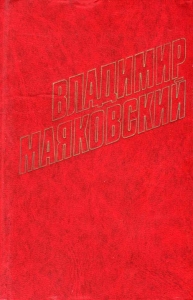
Комментарии к книге «Все наизусть. Годовой творческий цикл», Андрей Георгиевич Битов
Всего 0 комментариев