Таня Мюллер Сплетение судеб, лет, событий
Памяти Эдгара, моего первого сына, посвящается
…Все время схватывая нить Судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья. Борис Пастернак Лето, 1956 год© 2003 Таня Мюллер
© 2013 Т&В Медиа ru.t-n-v.com
Вместо предисловия
В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.
Автор1. Детство в Лиепае
Мое детство прошло у дедушки и бабушки, родителей моей матери, воспитавших меня с первого года жизни и до 14-летнего возраста. В 1934 году они уехали в Палестину к сыну Гарри. Через год вернулись, но вскоре снова уехали, теперь – окончательно, и я их больше никогда не видела.
Дедушка, Иосиф Блумберг, был родом из Латвии, а бабушка Хава, урожденная Карлин, приехала в свое время из Данцига (Гданьск). Может быть поэтому в нашей семье разговаривали по-немецки, и я выросла на немецких книгах, хотя и сам город Лиепая в западной провинции Латвии, Курляндии (Курземе), был в то время наполовину онемеченным. Так исторически сложилось.
До 1918 года, когда Латвия обрела независимость, Курляндия, пережившая не одну смену власти, от тевтонских рыцарей в 13-м веке до поляков в 16-м – 17-м веках, входила в состав Российской Империи, но истинными хозяевами были владевшие ее землей немецкие помещики. Вот почему наряду с латышским языком в обиходе был русский и особенно немецкий.
Дедушка и бабушка были глубоко верующими евреями, соблюдавшими все религиозные обряды и праздники, в которые за нашим большим столом собиралось много народу, а приятный, сильный тенор дедушки звучал на весь дом. Он был почетным кантором синагоги, и иногда к нам приходили двое мальчиков, подпевавших ему. Дедушка выделялся и своей красивой внешностью: статный мужчина, темный блондин с чуть рыжеватыми усами и бородкой, высоким лбом, светлыми глазами, крупным прямым носом и волевым ртом. Бабушку нельзя было назвать красавицей. Она была невысокой, полненькой, с толстоватым носом, но у нее были пышные черные волосы, большие темные глаза, и ее мягкая, добрая натура отражалась в линии рта и выражении лица.
Дедушка был образованным и либеральным человеком, дети которого рано уехали учиться в разные края. Во многом похожая на него старшая дочь Соня (Софья) училась на женских курсах в Петербурге, откуда она впоследствии переехала в Москву, где закончила институт и работала экономистом-плановиком. Известия от нее были очень редко, и дедушка, прочитав в газете о голоде в России, собирал для нее огромные продуктовые посылки. Знал ли он тогда, что в Советской России связь с заграницей не только нежелательна, но даже опасна для жизни? Этот вопрос в нашем доме не обсуждался, во всяком случае – при нас, детях, и мы росли в полном неведении того, что там происходило, хотя в лиепайских газетах появлялись статьи и заметки, разоблачавшие сталинский режим. Но мы, дети, газет не читали.
Старший сын дедушки, Макс, еще юношей уехал в Париж, получил там профессию часовщика-ювелира, женился и остался там жить. Второй сын, Гарри, как и Макс очень похожий на свою маму, закончил в Берлине консерваторию по классу скрипки и там же преподавал, пока к власти не пришел Гитлер, после чего он уехал в Палестину вместе со своей женой – пианисткой и в Тель-Авиве они создали свою музыкальную школу.
Младшая же дочь Лина (Либа), моя мама, оставалась в Лиепае. Красивая женщина, она внешне напоминала дедушку, только волосы и глаза у нее были темными. Она рано вышла замуж и родила от своего первого мужа, моего отца, четверых детей, с промежутками в полтора года между каждым ребенком. Отец же, будучи журналистом, редко бывал дома и часто оставлял маму без денег. Она кое-что зарабатывала, делая шляпки, но этого было недостаточно, чтобы прокормить семью. Вот почему три ее дочери были взяты на воспитание ее родителями: первой к ним попала я, через несколько лет – моя младшая сестра Гита, а еще через какое-то время – моя старшая сестра Ида, которая тогда уже была школьницей. Брат Лео, самый старший из нас, оставался то у матери, то у отца, когда они развелись.
Мне дали имя матери моего дедушки, Тауба, но дома называли по-немецки Тойбхен (голубок). Но уже с раннего детства стали называть Таней, и это имя стало моим на всю жизнь.
Имя же моего отца в нашем доме не упоминалось, и лишь в 1936 году, уже живя в Риге, я узнала, что мой отец, Вульф (или Вильям, как он подписывал свои статьи) Блумберг живет за границей. Он был дальним родственником моей матери, и фамилия у него была та же.
Мама вышла вторично замуж и родила от второго мужа еще одного сына, Абрама. В нашем доме она появлялась редко, а в тех случаях, когда она нас навещала, атмосфера в доме была гнетущей, хотя никто никого ни в чем не упрекал.
Все эти семейные неурядицы однако не отразились сколько-нибудь серьезно на моем детстве, вполне счастливом, поскольку дедушка и бабушка заменяли мне родителей. Они относились ко мне и к моим сестрам с большой любовью и заботой, но и достаточно строго и требовательно, как положено родителям. Они никогда не жаловались на свою нелегкую судьбу и подавали нам, детям, пример стойкости и самоотверженности. Несмотря на то, что они уже не были молодыми, а у бабушки был хронический бронхит, и она часто кашляла ночами напролет, они вставали рано и поочередно уходили на работу: кто-то из них всегда оставался, чтобы приготовить нам завтрак и отправить в школу. Оба придавали большое значение порядку и чистоте и строго требовали от нас того же.
У дедушки была небольшая торговля стройматериалами и топливом – участок земли, где штабелями лежали доски и дрова, и где мы, дети, любили играть в прятки. В деревянном домике – конторе он или бабушка поджидали покупателей. Сюда часто захаживал кучер, высокий латыш, привозивший или развозивший товар. Его лошадь по кличке Бойко была нашей любимицей. Когда дедушка собрался в Палестину, торговля перешла к кучеру, и он продолжал снабжать нас дровами, пока мы оставались в Лиепае.
Мы жили недалеко от центра города, на улице Бариню, где, судя по названию, когда-то был приют для сирот. Может быть, не случайно здесь обосновалась и Армия Спасения, квази-военная миссионерская организация, занимающаяся евангелизаторской и благотворительной деятельностью. Я часто видела ее членов в синих с красным мундирах, шагавших под звуки маленького духового оркестра мимо нашего дома, что всякий раз оживляло атмосферу нашей тихой улицы.
Жители нашей улицы были, судя по всему, людьми с небольшими доходами, как и мой дедушка, который не был богатым человеком. Обстановка нашей трехкомнатной квартиры была весьма скромной, без излишеств, но вместе с тем достатка хватало, чтобы содержать приходящую прислугу, помогавшую бабушке по хозяйству. Мы, дети, никогда не ощущали нехватки в питании или одежде. Дедушка строго следил за тем, чтобы мы по внешнему виду и по поведению соответствовали общепринятым представлениям о детях из «хорошей» семьи. Сам он был весьма уважаемым человеком, которого неизменно избирали в родительский комитет нашей школы. Он состоял также в правлении лиепайского еврейского благотворительного общества «Гмилус Хессед», как я недавно узнала из газеты 1926 года.
В то время в Лиепае было около 67 тысяч жителей, из них больше половины латышей, 16 % – евреев, 10 % – немцев и 4 % русских. Несмотря на то, что этот город находится довольно далеко от столицы Латвии, Риги, его расположение портового города у Балтийского моря способствовало тому, что в нем оседало или через него проезжало много народу из разных стран, особенно в первую мировую войну и в 20-е годы, когда немало интеллигентов, дворян и крупных собственников бежало из России от большевиков. В середине 20-х годов оттуда одновременно прибыло шестьсот меннонитов – христиан евангелической секты, выехавших вскоре в Канаду. Уже с начала 20-х годов из Лиепаи в Америку регулярно ходили пароходы.
Не удивительно поэтому, что мое внимание еще в детстве привлекали разные необычные люди, встреченные мною на улицах нашего города.
В Лиепае в конце 20-х – начале 30-х годов жили две француженки, уже немолодая мать и взрослая дочь. Тесно прижавшись друг к другу, они как две серые тени проносились по улице. Они зарабатывали на жизнь художественной штопкой одежды и поднятием петель на чулках. Иногда бабушка посылала меня к ним, ведь в то время одежду шили из добротной ткани, и если случалось ее порвать, то непременно чинили. Глядя на искусную работу этих женщин, я и сама пробовала починить дырки так, чтобы было незаметно, и со временем неплохо в этом преуспела. Эти француженки жили очень бедно и были чрезвычайно скромными, тихими и мало общительными. Меня не раз подмывало спросить их, откуда они к нам попали, но воспитанность удерживала меня от подобных вопросов. Скорее всего, они были из числа тех французских гувернанток и гувернеров, которых революция вымела из России…
Стоило мне дать волю воображению, как все вокруг окутывалось особой атмосферой загадочной таинственности. Вот попался на улице навстречу человек с совершенно синим лицом. Кто он, откуда? Вероятно, хронический алкоголик, как я теперь понимаю. Тогда же в моем воображении роились разные экзотические названия мест, связанных с невероятными событиями и приключениями: Гонолулу, Гонконг, Йокогама… Не зря я глотала приключенческие рассказы и романы.
Могла ли я себе представить, что когда-нибудь сама побываю в этих, казавшихся недосягаемыми, местах?
Недалеко от нашего дома, на углу соседней улицы, ведущей к центру города, вечно сидел сморщенный старичок с большой белой бородой, и прохожие подавали ему монетку. Он был в некотором роде достопримечательностью этой улицы, без которой картина была бы неполной. Мне он рисовался каким-то древним гномом, волею судеб оказавшимся на этом углу.
Вдруг обнаружилось, что этот старичок был в действительности богатым человеком! Когда он умер, из под его матраца извлекли огромную сумму денег… Узнав эту новость, я была разочарована: сказочное как-то сразу потускнело…
Лиепая гордится своим широким пляжем с белым песком, вдоль которого тянутся зеленые насаждения, во времена моего детства – ухоженный парк, настоящий курорт, где бывало немало народу.
Мужчины и женщины купались отдельно, и единственным мужчиной на женском пляже был толстый усатый полицейский в полном обмундировании. Вытирая пот, градом катившийся по его лицу, он стоял как прикованный, окруженный совершенно голыми бабами, и выслушивал всякие жалобы и склоки: то ребенок исчез, то вещи украли, то кто-то с кем-то подрался… Терпению его, казалось, не было конца…
Мы, 10-ти – 11-тилетние школьники, устраивали состязания: кто наберет большее число купаний за лето, причем начиналось это еще до открытия купального сезона и заканчивалось в сентябре, когда пляж уже был почти пустынным. Помнится, я набирала до 90 купаний. В любую погоду: дождь ли, ветер ли хлестал, но мы, самые стойкие, стуча зубами, прятали свою одежду кто куда и кидались в море.
Еще до этого я была весьма закаленным ребенком и с марта до октября ходила в носочках, с голыми коленками, и никогда не мерзла. Но эти азартные игры – соревнования еще больше закалили меня, и я никогда ничем не болела. Однако плавать я не научилась, хотя выросла у моря. Дело в том, что в Лиепае даже на порядочном расстоянии от берега море все еще по колено, в буквальном смысле слова. Взрослые уходили далеко, чтобы поплавать, но нам это, конечно, строго запрещалось.
В другом конце Лиепаи – большое озеро. В те времена там было много диких уток и рыбы. Там тоже купались и катались на лодках, но меня туда, почему-то, не влекло. Все мои интересы и занятия были связаны с другими частями Лиепаи, где находились школа, библиотека, кинотеатры, и где был пляж, куда устремлялись в летнее время все, кто только мог. В районе Лиепайского озера, преимущественно населенном рабочими и беднотой, я начала бывать в 14-летнем возрасте, когда стала интересоваться политикой и социальными вопросами.
В непогоду морской гул был слышен повсюду, и уханье волн, похожее на стоны гигантского существа, наполняло ночную тишину, проникая и в нашу спальню, где я, спрятав лампу под одеяло, чтобы дедушка не заметил света в комнате, до глубокой ночи читала книги. К 13-летнему возрасту я уже прочла немало произведений немецких классиков и современных писателей, в том числе очень популярного в 30-е годы Якоба Вассермана, автора психологических романов. Его книга «Каспар Хаузер» особенно захватила меня загадочностью судьбы героя, реального существа, брошенного кем-то в лесу и выросшего среди зверей. Появившись в Нюрнберге в 1828 году, он так же загадочно погиб пять лет спустя.
Меня привлекали и философские произведения, в частности, книга Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Ее романтический пафос и поэтичность не оставляли меня равнодушной, хотя в ее сути я мало что понимала. Но какого подростка, читающего книги, не увлекли бы такие слова Ницше: «В человеке велико то, что он – мост, что он не цель: он восход и закат…»
Все это давало мне много поводов для дискуссий со сверстниками, среди которых выделялся один паренек, Иоси (Иосиф), также очень начитанный. С ним я могла часами спорить, гуляя по длинному молу, отделявшему пляж от порта. Волны разбивались об огромные блоки мола, летели брызги, часто дул сильный ветер, но наши дискуссии продолжались, пока не начинало темнеть, и мы бегом отправлялись домой.
Иоси привлекал меня исключительно как умный товарищ, с которым было интересно общаться, хотя он, помнится, был красивым парнем со жгучими черными глазами. Никакой влюбленности я не испытывала, и в этом отношении еще долго оставалась ребенком, хотя читала книги для взрослых. Все, что касалось сексуальной сферы, проскальзывало мимо моего сознания и не затрагивало моих чувств. Это было, по всей вероятности, в большой степени связано с условиями, в которых я росла. Телевидения тогда еще не существовало. Дома, кроме нас, детей, были только дедушка и бабушка. Я наблюдала, как трогательно они заботились друг о друге, особенно, если кто-то из них заболевал. Но я никогда не видела их в обнимку или целующимися. Они еще не были старыми, но все интимное происходило за закрытыми дверьми, когда мы спали. Нас, детей, целовали на ночь, обнимали, но это была очень понятная мне отеческая или материнская любовь, в которой я нуждалась не меньше других детей.
Гита, я, бабушка и Ида, 1933 г.
В 13-летнем возрасте, ученицей шестого класса, я начала давать уроки отстающим ученикам. По-видимому преподаватели нашей школы поручали мне эту работу не только потому, что я очень хорошо училась и была весьма активной в классе, но также потому, что я довольствовалась очень низкой платой за урок – 20 сантимов, то есть столько, сколько стоил билет в кино, а в оперу школьников впускали за 25–50 сантимов. Я очень не любила просить денег на развлечения или мороженое у дедушки и бабушки, хотя знала, что они мне не откажут.
Один из моих учеников жил в той части города, которая называется Новая Лиепая, и путь туда был не близок. Приходя к нему, я неизменно наблюдала одну и ту же сцену: верзила-второгодник лежал на кровати во всей одежде, а его мама, завидев меня, хватала метлу и кидалась к нему: «Вставай, лентяй, учительница пришла!». Вскоре это мне надоело, и я перестала туда ходить.
Другая моя подопечная запомнилась мне совсем в ином свете. Она была чрезвычайно одаренной музыкальными способностями, но отставала по некоторым школьным предметам. Ее мама торговала на рынке селедкой. Полная, с красным обветренным лицом, в огромном резиновом фартуке, она доставала красными набухшими руками жирную селедку из бочки и заворачивала ее в кусок газеты, сразу же темневший от жира. (Ах, этот рыбий жир! Ни одна зима моего детства не проходила без того, чтобы передо мной не маячила ложка с рыбьим жиром. Я громко протестовала, зажимала нос, но дедушка был неумолим! Бабушка же меня слишком жалела, чтобы заставить меня проглотить эту пахучую гадость).
В те годы в Лиепае было много всякой рыбы, особенно мы любили вкуснейшую свежекопченную камбалу, которую бабушка часто покупала. Куда она потом подевалась? А селедка лежала в больших деревянных бочках: соленая, малосольная и свежая. В мясном ряду особым спросом у покупателей (естественно, не еврейских) пользовался бекон – копченая свиная грудинка, которую экспортировали даже в Англию. Типичный завтрак рабочего или крестьянина того времени: огромный ломоть черного хлеба с большим куском бекона.
С множества крестьянских фур ведрами торговали картошкой, огурцами, яблоками и прочими продуктами сельского хозяйства, которых в Латвии было в изобилии, пока Советская власть не загнала крестьян в колхозы.
Мама моей подопечной, уже немолодая еврейка, оставшаяся без мужа, зарабатывала на жизнь тяжелым трудом, ворочая бочки с селедкой, но едва могла прокормить свою семью. Я договорилась с ней, что буду обмениваться с ее дочерью уроками: я помогу ей по школьным предметам, а она будет учить меня игре на рояле.
Так продолжалось довольно долго (я уже начинала играть простые вальсы), пока эту талантливую девушку не перевели в музыкальную школу, где согласились ее обучать бесплатно. Но эти уроки не прошли для меня бесследно: музыку я бросила, но благодаря общению с этой семьей и ее окружением, я проникла в незнакомый мне мир, в ту часть еврейского общества Лиепаи, где разговаривали на идиш, читали книги еврейских писателей, изданные на идиш, любили русскую литературу и придерживались социал-демократических или социалистических взглядов.
Культурная жизнь различных общин нашего города била ключом. Я уже упомянула Оперный театр – он отличался прекрасным репертуаром и хорошими певцами. Там пела знаменитая в Латвии госпожа Брехман-Штенгель, обладательница замечательного сопрано. На сцене Оперного театра нередко выступали гастролировавшие в Лиепае солисты, например, Мария Кузнецова, в 20-е годы – «лучшая Баттерфляй Европы», как о ней писала лиепайская газета.
Сюда приезжали театральные ансамбли из Риги и других городов: кроме латышских театров, Театр русской драмы, основанный еще в 1883 году, Рижский камерный театр Е. Н. Рощина-Инсарова, Рижский еврейский театр и другие известные гастролеры.
В конце 20-х годов с сольными концертами в Лиепаю приехал и мой дядя Гарри, что всколыхнуло размеренную жизнь нашей семьи. Возможно, что тогда в нашем доме впервые прозвучало имя Артуро Тосканини, под управлением которого дяде Гарри тоже довелось играть.
Меня привлекали библиотека, кинотеатры и Опера, в которой я бывала не часто, но посещение этого театра каждый раз было для меня незабываемым праздником. Значительно чаще я посещала кино. В элегантном кинотеатре Сплендид Палас в те годы часто шли немые фильмы, сопровождавшиеся фортепьянной музыкой. Помню смешные картины со знаменитыми комиками Патом и Паташоном. Я не пропускала ни одной картины с обожаемой Гретой Гарбо, и навсегда в памяти осталось глубокое впечатление от фильма о Франце Шуберте под названием «Leise flehen meine Lieder» («Песнь моя, лети с мольбою…») – первые слова его известной песни. Это был прекрасный австрийский музыкальный фильм, может быть, один из первых в этом жанре.
Но ни с чем не сравнимую роль в моей жизни уже тогда играла библиотека. Я приходила туда, как к себе домой, рылась на полках и сама выбирала себе книги – большая привилегия для того времени, когда за кругом чтения детей и подростков было принято строго следить.
Возможно, что здесь свою роль сыграло то, что я была весьма серьезной для своего возраста. Это сказалось и на моих взаимоотношениях с братом Лео. Он был на три года старше меня, но духовно гораздо ближе, чем сестра Ида, которая мало интересовалась книгами. Она и внешне очень отличалась от нас с Лео, а также от младшей сестры, Гиты. У Иды были красивые каштановые волосы и карие глаза. Мы же были темноволосыми и темноглазыми. Рослый Лео был похож на маму: у него были слегка вьющиеся волосы и высокий лоб. Он был очень вдумчивым парнем, который пристально всматривался в окружавший его мир, и к тому же талантливым художником, о чем я расскажу подробнее ниже. Мы виделись с ним не очень часто, так как он жил у мамы, но мы были очень дружны и хорошо понимали друг друга. Он-то и познакомил меня со своими взрослыми друзьями, общение с которыми значительно повлияло на наши с братом взгляды на жизнь.
В январе 1934 года в наш город прибыла большая группа евреев из Германии, в основном молодые мужчины, для которых Лиепая должна была служить промежуточной остановкой. Однако они застряли здесь на целый год. Как выяснилось, они собирались в Россию, но из этого ничего не вышло, к счастью для них, как теперь очевидно, так как они попали бы из огня да в полымя, от нацистских погромов – в застенки НКВД. В конце концов они уехали в Палестину.
С двумя взрослыми парнями из этой группы я и познакомилась благодаря Лео. Одного звали Ганс (Hans), а второго – Гейнц (Heinz). Не только имя, но и воспитание у них было немецким, и если бы не Гитлер, они продолжали бы считать себя немцами, как и многие другие евреи в Германии до прихода к власти нацистов.
Оба были социалистами, но принадлежали к разным слоям общества и обладали совершенно противоположными характерами и склонностями.
Ганс был простым рабочим, простодушным и веселым, без каких-либо комплексов и претензий. Он очень скоро нашел себе в Лиепае подходящую подругу, и хотя она разговаривала на идиш, они хорошо понимали друг друга, поженились и вместе уехали в Палестину. Могу себе представить, что они быстро приспособились к трудным условиям жизни в киббуце того времени, тем более, что они с детства привыкли к трудностям и лишениям.
Совсем другое дело – Гейнц. Это был утонченный интеллигент из обеспеченной семьи. Он не мог жить без книг, без духовной пищи. Философствование, интересные беседы, дискуссии имели для него первостепенное значение.
В письме из киббуца он описывал нам свою жизнь, низведенную, по его словам до животного состояния: работа на цитрусовой плантации от зари до зари, зверская усталость, невозможность собраться с мыслями, ночевки в холодной палатке почти во всей одежде. Чувствовалось, что он в полном отчаянии. Что с ним стало, как сложилась в дальнейшем его жизнь, я так и не узнала.
В нашей еврейской школе, кроме латышского и немецкого языков, преподавали иврит. Я хорошо знала этот язык, хотя впоследствии почти полностью забыла, за исключением отдельных слов и одной песни, запавшей в мою память в связи с печальной судьбой ее автора, молодой поэтессы, рано умершей в киббуце от туберкулеза. Эта песня полна меланхолии, и ее слова звучат в подстрочном переводе примерно так: «Ночь, тьма, крутом, крутом мычат коровы./ Будут ли у меня светлые дни, и будут ли ночи…»
Как большинство учеников моего класса, я состояла в левой сионистской организации Хашомер Хацаир, но мое участие в ней ограничивалось походами в лес и песнями у костра, полными своеобразной романтики. Для более активного участия в этой молодежной организации у меня не было ни времени, ни желания. В сущности, я не была сионисткой, да и вообще национализм был мне чужд. То, что я узнавала из книг, вызывало у меня огромное желание познавать мир, и я затруднялась бы ответить на вопрос, какая его часть или отдельно взятая страна привлекают меня больше всего.
В 1934 году мои взгляды на жизнь получили более четкие очертания. Под влиянием бесед с Гейнцом и Гансом я стала интересоваться политикой, читать газеты. В мире происходило много важных событий, находивших отклик в газетах, а также в наших беседах.
В 1934 году, в годовщину провозглашения Гитлера Рейхсканцлером, резко активизировалась деятельность его сторонников не только в Западной Европе и в Австрии, но и в Латвии, где власти были вынуждены начать судебные разбирательства деятельности фашистской организации «Перконкрустс» и ее газеты. Но все это заглохло. В мае 1934 года к власти пришел Карлис Улманис. Он совершил государственный переворот, распустил Сейм и все политические партии и установил в Латвии авторитарный режим. Местным фашистам и сторонникам Гитлера это было весьма на руку.
В беседах с Гейнцом и Гансом мы узнавали много подробностей о событиях в Германии и в Австрии, где в феврале 1934 года восстал Шуцбунд, военизированная организация австрийских социал-демократов, созданная еще в 20-х годах для защиты социальных реформ. Восстание было быстро подавлено не без помощи местных нацистов.
До этого времени я не имела понятия о том, что такое – марксизм. Гейнц познакомил меня и Лео со взглядами немецкого марксиста Тальгеймера, книги которого были в Советской России запрещены, как я узнала много позже: они не соответствовали догмам марксизма-ленинизма.
С другой стороны, общаясь со своей вышеупомянутой ученицей-учительницей фортепьяно, которая была моей ровесницей, я познакомилась с некоторыми ребятами, на несколько лет старше нас, которые состояли в подпольной социалистической организации «Дарба Яунатне» («Рабочая молодежь»), куда входили не только латыши, но также евреи и русские. Я охотно соглашалась помочь подпольщикам в распространении листовок, подсовывая их под двери домов или в подворотни рабочего района, примыкавшего к Лиепайскому озеру.
Это можно было делать только после наступления темноты, когда улицы были пустынными – занятие не безопасное, так как полицейские особенно часто патрулировали этот район, где жило много социал-демократов, принимавших участие в мятежах 1905 года. Но в отличие от тех латышей, которые в сибирской ссылке примкнули к большевикам, остались в России и принимали участие в Октябрьской революции и ликвидации «контрреволюционеров», старые лиепайские социал-демократы, горячо любившие свою родину, Латвию, ограничивались тем, что за кружкой пива или в разговорах с молодежью вспоминали давние события и чужие края.
Мне запомнилась одна песенка, услышанная от кого-то из них, и отражающая чемоданные настроения латышей-участников революции 1905 года, после ссылки возвращавшихся в родные края. Эта забавная песенка состоит из смеси латышских слов с русскими и немецкими: «Kur ir mans štoks un čemodans, proščai, man vaļas nav…» («Где моя палка и чемодан, прощай, у меня нет времени…»).
Если и до этого я часто приходила домой не рано, и этому находилось множество оправданий, то теперь я иногда возвращалась чуть ли не после того, как все уже легли спать, и дожидалась на лестнице, сидя на ступеньках, пока сердобольная бабушка не откроет мне дверь, тихонько, чтобы дедушка не услышал: он твердо решил меня проучить, заставив провести ночь на лестнице. К счастью, эти случаи не имели тяжелых последствий. Дедушка знал, что я не способна на аморальные поступки и, увидев меня утром целой и невредимой, смягчался и прощал меня.
Когда в том же 1934 году встал вопрос об отъезде в Палестину, я категорически отказалась уехать из Лиепаи, считая, что мое место здесь, и я должна в Латвии бороться за социальную справедливость и лучшее будущее. Мой дальновидный, мудрый дедушка настоял, чтобы я хотя бы приобрела профессию, так как мне придется самой о себе заботиться. Он договорился с портнихой, которая согласилась за определенную плату обучать меня шитью. Так в мою жизнь вошло новое занятие, очень скучное, как мне тогда казалось, к тому же отнимавшее массу времени однообразным обметыванием швов и пришиванием пуговиц и кнопок.
Портниха вскоре поняла, что таким образом меня никогда не научит шить одежду, и решила меня заинтересовать, научив рисовать выкройки по предварительно снятым меркам и придуманным мною фасонам. Это меня увлекло, и я стала даже дома кроить платья, хотя это чаще всего кончалось испорченным материалом. Но впоследствии умение кроить и шить мне очень пригодилось и много раз спасало от голода меня и мою семью. Как часто я вспоминала дедушку, как благодарна я была ему за то, что он подумал о моем будущем!
Дедушка и бабушка уехали, взяв с собой Гиту и оставив со мной Иду, чтобы она за мной присматривала, хотя она была всего на полтора года старше меня. Мы оставались жить в той же квартире, а мама и Лео стали чаще нас навещать.
В 1935 году дедушка, бабушка и Гита вернулись: бабушка плохо переносила жаркий климат, к тому же не находила общего языка с женой дяди Гарри… Но привычный образ жизни уже был нарушен, и главное – не стало заработка, а накопленное быстро таяло. Это вынудило дедушку принять окончательное решение переселиться в Палестину. На сей раз с ним и бабушкой уехала Ида, а Гита осталась в Лиепае у мамы.
Я перешла в латышскую коммерческую школу, но проучилась там только год, и в 1936 году уехала в Ригу. Это не был мой первый отъезд из Лиепаи. Еще в возрасте одного года и восьми месяцев я побывала за границей, и тогда случилось событие, которое могло круто изменить всю мою дальнейшую судьбу.
Берлин, 7 декабря 1921 г.
Дедушка и бабушка взяли меня с собой в Берлин, куда они поехали навестить сына Гарри. На фотографии, снятой в Берлине в начале декабря 1921 года, изображены мы трое: моя нарядно одетая и еще не седая бабушка, я с резиновой куклой в руке и мой дедушка, в очках, с усами и бородкой, каким я его помню всю жизнь.
После Берлина они направились со мной в Италию, побывали в Неаполе (вспоминая эту поездку, дедушка меня спрашивал: «Ты помнишь Везувий?». Но я ничего не помнила). Из Неаполя мы поехали в Палестину. Где и как долго мы там были, не знаю. Зато мне известно, что из Палестины мы направились в Египет, в Александрию, где и произошло невероятное: дедушка ушел куда-то по какому-то делу, оставив меня с бабушкой. Она на минутку отвернулась, и в этот момент я исчезла. Она кинулась туда, сюда, но безрезультатно. На ноги была поднята полиция, меня долго искали. К счастью, кто-то заметил араба, державшего на руках явно не здешнего ребенка, и сообщил об этом полиции, после чего меня нашли, иначе я бы выросла арабкой в Египте… Араб, якобы, утверждал, что он меня не украл, а нашел…
Вся эта история настолько потрясла бабушку и дедушку, что они еще в течение многих лет ее вспоминали…
Из этих рассказов я также узнала, что дедушка еще в молодости побывал в Африке (может быть от него у меня тяга к путешествиям?). К сожалению, я тогда не интересовалась прошлым дедушки, который был очень интересным человеком и безусловно немало повидал в жизни. Не расспрашивала я и бабушку, и поэтому мало что знаю о ней кроме того, что видела собственными глазами. Если бы я больше знала о них, я бы наверно лучше понимала саму себя.
Я осознала это уже будучи взрослой. В подростковом возрасте я мало задумывалась над вопросом о том, от кого у меня те или иные черты характера, или кем были мои предки, как они жили. А что касается детства, то для ребенка вообще не существуют понятия «прошлое» и «будущее». Ребенок живет настоящим днем, «здесь и сейчас». Лишь становясь взрослой, начинаешь понимать, что ты – звено, соединяющее прошлое с будущим, что в тебе живы частицы твоих предков и твоих потомков, и что продолжение твоего рода во многом зависит от того, насколько жизнеспособной окажешься ты сама, от твоей физической и духовной сущности, от твоего умения познавать себя, понимать свое окружение и выстраивать свою жизнь.
Возвращаясь к годам своего детства, ярко вспоминаются поездки, когда мы, мои сестры и я, еще дошкольницы или ученицы первых классов, летом отправлялись с бабушкой на несколько недель в деревню. Помню красивые места в окрестностях Лиепаи, например, Бернаты, тенистые леса с муравейниками и грибами, красочные поляны, где мы собирали душистую землянику и полевые цветы для венков, которые тут же плели и надевали на голову; крестьянские хутора, где нам позволяли самим собирать на грядках огурцы или помидоры, угощали нас парным молоком и вкусным свежеиспеченным хлебом.
Помню маленький поезд – небольшой паровоз и вагон, прозванный нами «чайник». Пыхтя и пуская пар, он не спеша возил нас в Гробиню, живописный городок недалеко от Лиепаи, основанный скандинавскими викингами как торговый форпост на земле куршей, древнего балтийского племени. В 13-м веке тевтонские рыцари захватили городок и его укрепленный замок. Стратегическое значение Гробини своеобразно отразилось в гербе конца 17-го века, на котором изображен журавль с камнем в поднятой ноге и с агрессивно приоткрытым длинным клювом – мол, не нападайте, мы умеем защищаться…
Однако замок был разрушен, и в годы моего детства среди его руин каждое воскресенье лихо наяривали сельские музыканты и танцевал народ – бал под открытым небом, традиционное развлечение в латышских селениях.
В 1936 году, уезжая в Ригу, я навсегда покинула Лиепаю и больше сюда не приезжала, хотя не раз порывалась навестить места моего детства. После войны это была закрытая зона с военным портом, и требовалось специальное разрешение, чтобы туда поехать, а в последующие десятилетия Лиепая настолько захирела и потускнела, по рассказам знакомых, побывавших там, что мне расхотелось туда ехать.
Уезжая из Лиепаи в 16-летнем возрасте, я подвела черту: мое детство кончилось, началась самостоятельная жизнь, в которой ответственность за свою судьбу брала на себя я сама.
2. В Риге, еще открытой миру
В начале лета 1936 года я приехала в Ригу и, выйдя из здания вокзала, сразу же почувствовала непривычный для меня запах бензина, который еще долго ассоциировался в моем сознании с представлением о столице, о большом городе, где было почти в пять раз больше жителей, чем в Лиепае. Но в то время в Риге еще было немного автомобилей, и вместе с несколькими машинами у вокзала приезжих поджидали извозчики.
По улицам ходили беспрестанно позванивавшие трамваи, и рядом с красивыми большими зданиями и элегантными магазинами здесь еще было много невзрачных деревянных домов и мелких лавок, особенно в предместьях, например, в Пардаугаве, где деревянная архитектура сохранилась до сих пор.
Вместе с тем, Рига уже тогда слыла одним из красивейших городов Прибалтики, с широкими бульварами, прекрасными зелеными насаждениями вдоль канала – бывшего рва городских укреплений, и большими парками. В районе Стрелкового сада, где жил богатый народ, внимание привлекали роскошные здания. Но самым впечатляющим было не это, а Старый город, тогда еще не пострадавший от бомбежек и полностью сохранивший свое неповторимое очарование.
Стоило пройти по широкому бульвару, мимо еще нового памятника Свободы с «зеленой Мильдой», как в народе тогда прозвали женскую фигуру на его вершине, и пойти вперед, по улице Калькю (Известковой), как перед глазами возникала волшебная картина Старой Риги.
Мне не раз случалось заблудиться в этом лабиринте извилистых улиц и улочек, необыкновенно живописных, как бы вобравших в себя атмосферу столетий, с множеством старинных построек – амбаров и богато украшенных зданий более поздних эпох. Я тогда еще совсем не разбиралась в архитектурных стилях: готике, барокко, а просто любовалась многочисленными орнаментами, барельефами и особенно – скульптурными изображениями: огромные женские фигуры, поддерживающие балконы (кариатиды); чугунные кошки, изящно водрузившиеся на башенках большого здания; сидящий на краю крыши юноша, читающий книгу… Казалось, что он живой…
Поражало все: великолепная Ратушная площадь с затейливым Домом Черноголовых и большой статуей легендарного Роланда, высокие шпили церквей с петушками, внушительных размеров собор, мощная Пороховая башня у границы Старого города…
Много лет спустя я прочла воспоминания французского режиссера Армана Домерга о Риге. Он был здесь в октябре 1808 года с актерской труппой, направлявшейся из Германии в Петербург. Она застряла в Риге из-за финансовых неурядиц, вскоре улаженных русским губернатором, и во время вынужденного простоя труппа знакомилась с городом. Среди щегольски одетых французских актеров и актрис, веселой, шумной толпой гулявших в те октябрьские дни по улицам и набережным Риги, привлекая всеобщее внимание, была и молодая актриса Мелани, высокая, изящная блондинка с голубыми глазами, в которую был страстно влюблен Анри Бейль – будущий писатель Стендаль, автор знаменитых романов «Красное и черное» и «Пармская обитель». Я выяснила это в 60-х годах, когда изучала детали биографии и творчества этого французского писателя и карьеру его подруги в России.
Вот что писал о Риге в своих воспоминаниях режиссер Домерг: «Выгодное местоположение этого города, его необъятная торговля, превращающая его как бы в склад изделий из всей Европы, его великолепные набережные… – все это давало повод для самых интересных наблюдений».
Почти то же самое можно было бы сказать о Риге и в 1936 году. Знакомясь с городом, я гуляла по набережной широкой полноводной реки Даугава, впадающей в Рижский залив Балтийского моря. Ее устье образует отличный порт, куда могут войти даже очень крупные суда.
К набережной примыкает Старый город (его изумительная панорама особенно хорошо обозрима с противоположного берега Даугавы), а также богатый разнообразными продуктами Центральный рынок с огромными павильонами.
У меня разбегались глаза, когда я проходила по рядам и павильонам этого многолюдного рынка, мимо красочных прилавков со всевозможными продуктовыми товарами, среди которых меня особенно привлекали восточные сладости и южные фрукты. Но, увы, у меня не было денег, и я зареклась впредь сюда никогда не приходить. Я ограничилась посещением маленьких магазинов, где я покупала себе только самое необходимое.
Однако вернусь к Арману Домергу, писавшему в своих воспоминаниях, что в Риге «чужеземцу… бросается в глаза смешение сотни различных народов, привлеченных сюда выгодой…»
В этих словах еще слышен отзвук былой славы Риги, с конца 13-го века входившей в Ганзу – знаменитую лигу таких торговых городов, как Гамбург, Любек, Берген и другие, просуществовавшую несколько веков. Вместе с тем, в них отражается очень важная и характерная, на мой взгляд, черта Риги, в той или иной мере сохранившаяся до 30-х годов 20-го века: открытость миру.
Свое значение главного портового города Балтики Рига сохраняла на протяжении нескольких столетий, хотя власти здесь менялись неоднократно: поляки, шведы, Русская Империя (в феврале 1744 года Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, распорядилась о торжественной встрече в Риге двух немецких принцесс: будущей Екатерины Второй и ее матери).
Первая мировая война сильно сократила численность населения Риги, но в 20-е и 30-е годы город еще отличался многообразием экономических, торговых, дипломатических и других связей и интересов, привлекавших сюда много людей из разных стран. В Риге, например, начиная с 1922 года находилась резиденция Чрезвычайного и Полномочного Посланника США в Прибалтике.
Многие рижане отправлялись за границу для получения образования и профессии, а богатые люди – для лечения и отдыха.
Среди моих знакомых в Риге была семья, отнюдь не богатая, дети которой учились в Англии (впоследствии они стали отличными преподавателями Латвийского университета). Рижанин, инженер ткацкой фабрики, получил свою профессию в Бельгии. С его женой – бельгийкой, преподававшей в Риге французский язык, интересной, темпераментной женщиной и прекрасным преподавателем, я общалась в течение многих лет.
Способные молодые люди из еврейской общины Риги уезжали учиться за границу не только потому, что некоторые специальности (в частности, филологические, медицинские), в то время было принято получать за рубежом – в Англии, Франции, Швейцарии, Австрии и других странах, но также и потому, что в рижском университете существовала негласная квота для евреев, ограничивавшая количество студентов этой национальности.
Различные национальные общины Риги, в том числе еврейская, имели свои школы и культурные учреждения. Я уже упомянула Рижский еврейский театр и русские театры.
Здесь был и французский лицей с преподавателями-французами.
Когда я приехала в Ригу, в обиходе было несколько языков: латышский, немецкий, русский. Многие жители разговаривали также на польском или литовском, а среди евреев – на идиш. Это было естественным, веками сложившимся явлением.
Еще перед отъездом из Лиепаи мне дали несколько адресов рижан, которые могли бы мне помочь устроиться, найти работу. Среди них была Иоганна Исидоровна Лихтер, учительница. Ее сын Воля (Вульф) состоял в подпольной организации «Дарба Яунатне». Он работал слесарем на велосипедном заводе, и в свои 24 года уже успел отсидеть два года в тюрьме за политическую деятельность. Зная латышский, немецкий и русский, он в тюрьме выучил еще английский и эсперанто.
Попал же он за решетку за то, что боролся за права, считающиеся во всех демократических странах общепринятыми: право на нормированный рабочий день, на оплаченный отпуск, пособие по безработице, право на забастовки… Даже если они были официально признанными, эти права весьма часто нарушались, особенно после прихода к власти Карлиса Улманиса.
Воля сыграл в моей жизни в Риге немалую роль. Он взял надо мной шефство и как бы стал моим вторым старшим братом. Он помог мне найти пристанище и начал обучать меня русскому языку. Среднего роста, слегка скуластый, курносый молодой мужчина, с высоким лбом и мечтательными серыми глазами, Воля Лихтер производил впечатление серьезного и интеллигентного человека. Он умел разговаривать с людьми и сразу же располагал их к себе. Я тоже почувствовала к нему полное доверие, когда познакомилась с ним, и очень охотно с ним общалась.
Моим первым пристанищем в Риге был небольшой парикмахерский салон на улице Бривибас (Свободы). Его хозяйка, очень милая молодая женщина, любезно согласилась приютить меня в своей комнате, примыкавшей к салону. Она спала на кровати, я – на маленьком диване. До начала рабочего дня и после его окончания мне позволялось читать у большого окна салона, за столиком маникюрши.
Воля часто заходил сюда после работы, и за этим же столиком мы занимались русским языком. Я быстро усвоила русский алфавит и вскоре уже начала читать простые тексты.
Иногда к хозяйке приходил кавалер, и тогда волей-неволей я читала за столиком маникюрши до поздней ночи немецкие переводы Рабиндраната Тагора (мне очень нравилась его поэтическая книга «Садовник»), Достоевского, Чехова, Мопассана и других писателей.
Я нашла работу на консервной фабрике, где раскрашивали банки для рыбных консервов. В цехе было очень сыро и, главное, сильно пахло ацетоном. Этот запах буквально отравлял меня, и через пару месяцев я была вынуждена искать другую работу.
Среди моих знакомых в Риге была дальняя родственница, Юдит, молодая и приятная женщина. Она была замужем за очень богатым коммерсантом, намного старше ее. Они ежегодно ездили в Карлсбад (Карловы Вары), где он надеялся вернуть былые силы, но, по-видимому, из этого ничего не получалось – детей у них не было. Юдит подыскала мне у своих знакомим заказы на починку или переделку одежды. Но наше общении вскоре прекратилось: мне претило приходить в богатые дома в качестве работницы-портнихи, тем более – чувствовать себя бедной родственницей.
Вскоре я нашла работу у известной в Риге портнихи, правда, малооплачиваемую и не постоянную. Здесь я занималась тем же обметыванием швов и пришиванием пуговиц и кнопок, с чего началось мое обучение у лиепайской портнихи.
Тем временем хозяйка парикмахерского салона решила уехать в Южную Африку, где у нее были родственники. Я начала искать комнату, которая была бы мне по средствам, и после долгих поисков нашла такую на улице Марияс.
Тогда в Латвии люди еще не жили в коммунальных квартирах, и хозяева сдавали комнаты, только если они нуждались в деньгах, или если они содержали пансионы. В любом случае жильцы должны были быть надежными плательщиками. Я же, в свои 16 лет, не производила такого впечатления.
На верхней части фасада дома, где согласились мне сдать комнату, крупными буквами на латышском языке красовалось изречение «Мой дом – моя крепость» (оно еще было там совсем недавно, в мой последний приезд в Ригу). Вручив хозяйке задаток – 10 лат, огромную для меня сумму, я начала мыть комнату и стоявшую в ней железную кровать, как вдруг, о ужас! из всех щелей цепочками поползли клопы… Представив себе, как они полезут на меня по ночам, я схватила свои вещи и оставила клопам их крепость, даже не заикнувшись о задатке. До этого я никогда не видела клопов, и не знала, что они не только ползут, но и зверски кусают.
Что делать? В этой непредвиденной ситуации снова на помощь пришел Воля. Зная, что у меня не осталось денег, чтобы снять другую комнату, он нашел выход из положения: организации «Дарба Яунатне» нужно было помещение для хранения литературы, и такое помещение нашлось. Мне предложили ведать этим литературным центром и там же жить, и я охотно согласилась.
Комната была девичьей, то есть для прислуги, в большой квартире на улице Авоту (Источников), с тем преимуществом, что примыкала непосредственно к лестничной клетке, и ее дверь вела в прихожую. Достаточно было постучать в стену, чтобы я услышала и открыла входную дверь. Словом, соблюдалась конспирация – хозяева ничего не слышали и не видели тех, кто ко мне приходил. Они были очень довольны мною. Я вела себя тихо, почти не пользовалась кухней, так как мне нечего было готовить, никто у меня особенно не задерживался, да и мои посетители редко попадались им на глаза.
Приходили же ко мне только Воля и девушка – связная Ната. Она была на несколько лет старше меня, но производила впечатление совсем юного существа. Невысокая, худенькая, с большими голубыми глазами, она вела себя тихо и скромно, но вместе с тем была очень мужественной девушкой. Ведь за подпольную деятельность грозила тюрьма, и все же она приносила мне подпольную литературу – брошюры и листовки. Я их распределяла по пакетикам, и Ната забирала нужные пакетики в те дни, когда у нее были назначены встречи со связными соответствующих районов.
Воля приходил проверить, как я живу, не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Я никогда виду не подавала, даже если у меня в тот день не было денег на хлеб, не говоря уже о чем-то большем. Но он догадывался об этом, однако, зная мою гордость, никогда не позволял себе предложить мне деньги. В таких случаях он просил Нату захватить для меня угощение – булку, молоко, еще что-то.
Кто же отказывается от угощения, особенно, если тебя угощает человек, с которым и ты делишься, если у тебя бывает такая возможность. А я с Натой делилась, когда что-то зарабатывала и позволяла себе чем-то полакомиться. В такой день я даже могла сходить в молочный ресторан и заказать буберт – сладкое блюдо, популярное у немцев, и состоящее из рисовой или манной каши, взбитой с яичным желтком и белком, обильно политой фруктовым соусом. Это недорогое блюдо не заменяло обеда, зато напоминало мне о детстве.
Но даже если мне приходилось иной раз ложиться спать голодной, я не унывала. Я была весьма крепкой физически и оптимисткой по натуре, и уже в 16-летнем возрасте умела настраивать себя не на минорный, а на мажорный лад, легко перенося трудности и лишения. Немецкая поговорка, «после дождя будет солнце», всегда приходила мне на ум в трудных ситуациях, и я не сомневалась в том, что смогу с ними справиться.
Во время своих посещений Воля проверял мои домашние задания – я продолжала заниматься русским языком. Однажды он пришел и сказал: «В кино идет фильм «Цирк». Я подкину монету, и если она ляжет на эту сторону», и он показал мне ее, «ты возьмешь эту монету и пойдешь в кино». Это была игра, и я согласилась. Монета упала на нужную сторону, я взяла ее и пошла посмотреть этот фильм. Это была первая советская кинокартина, которую я тогда увидела, и она понравилась мне своей праздничной, радостной атмосферой. Особенно восхитила меня блистательная Любовь Орлова.
В это же время мама Воли, Иоганна Исидоровна, получила разрешение посетить своего старшего сына, который остался жить в Москве у ее брата после окончания Московского университета.
Иоганна Исидоровна вернулась из Москвы потрясенной увиденным и услышанным, и то, что она рассказывала Воле и мне, совсем не соответствовало той атмосфере, которую излучал фильм «Цирк». В Москве царил страх, шли повальные аресты, люди бесследно исчезали. Всюду и везде были бюсты и портреты Сталина, ему поклонялись и его восхваляли, как некое божество… (Племянник Иоганны Исидоровны, советский историк, во времена Хрущева написал правдивую, с его точки зрения, книгу о Второй мировой войне, за что был изгнан из Института истории и уехал в Англию. Но Иоганны Исидоровны тогда уже не было в живых).
Мы были ошеломлены ее рассказом и нисколько не сомневались в его правдивости, но наши мысли уже были заняты другим: в Испании шла гражданская война, генерал Франко наступал на Мадрид, немецкие тяжелые бомбардировщики из легиона «Кондор» бомбили этот город день и ночь…
Шел ноябрь 1936 года, весь мир следил за происходящим в Испании, где фашизм разворачивал кровавое наступление на демократию, на Испанскую Республику. Эрнест Хемингуэй позже писал: «Как никакое другое событие нашего времени, оно завладело совестью целого поколения».
Мы принадлежали к этому поколению, охваченному глубокой тревогой за судьбу Испании и всей Европы.
Начались же эти события 17 июля 1936 года закодированным сообщением по радио из марокканского города Сеута у Гибралтарского пролива: «Над всей Испанией безоблачное небо». Это был сигнал к мятежу против Испанской Республики, поданный начальником Генерального штаба, генералом Франко, его сообщникам в Испании.
На следующий же день в Севилье, Гранаде и в других городах начались военные мятежи, и фалангисты (испанские фашисты) тут же начали кровавую расправу с демократическими силами, расстреляв многих видных деятелей Республики. В первые же дни мятежа в селении близ Гранады был зверски убит великий поэт Испании Федерико Гарсия Лорка. Всюду, где власть захватывали мятежники, репрессии были ужасающими.
Генерала Франко немедленно поддержали Гитлер и Муссолини. Немецкие и итальянские самолеты перебрасывали в Испанию марокканские войска и части иностранного легиона.
В городах Испании вспыхивали спонтанные восстания. Народ требовал от правительства решительных мер и вооружения. Началась гражданская война… Западные страны предпочли политику невмешательства в испанские дела, но трагедия испанского народа взволновала множество людей самых различных политических взглядов и профессий по всему миру. Были образованы Интернациональные бригады, наряду с испанскими дивизиями защищавшие Республику. В них сражались не только участники левых партий и движений, но и множество людей, не принадлежавших ни к каким политическим партиям, например, племянник Винстона Черчиля Эсмонд Ромильи, правнук Чарльза Дарвина поэт Джон Корнфорд, французский писатель Андре Мальро, немецкий кадровый офицер и писатель Людвиг Ренн и многие другие.
Клод Дж. Боуэрс, который был послом США в Испании в те годы, обличал в своих воспоминаниях Пакт Невмешательства западных стран как «бесчестный фарс». Он писал об интербригадцах, что «они были добровольцами», как, например, знакомый ему студент из Луисвиля (США, штат Пенсильвания), оставивший колледж и поехавший в Испанию, потому что он чувствовал, что там решается судьба европейской демократии. Он сражался и погиб в Испании. Он был не более коммунист, чем кардинал города Толедо, писал Боуэрс.
Эти детали я узнала много лет спустя, но уже в конце 1936 года нам было ясно, что мы обязаны сражаться против фашизма, угрожавшего не только Испании, но и всей Европе. Одним из первых добровольцев из Латвии в Интернациональные бригады отправился Воля Лихтер.
Вскоре после того, как его мама вернулась из Москвы, он навестил меня, и с первых же минут я почувствовала, что происходит что-то необычное: всегда сдерживавший свои эмоции Воля, и в этом он был похож на свою маму, на сей раз был чем-то очень взволнован. В этот вечер мы даже не занимались русским языком – ему явно было не до этого. Я не решалась его расспросить, да это и не было принято у нас, подпольщиков. Я даже не знала фамилию Наты и где она жила, и мне в голову не приходило ее об этом спрашивать.
В этот последний вечер Воля задерживался у меня значительно дольше обычного. Мы болтали о разных вещах, но у меня было ощущение, что он хочет мне что-то важное рассказать, но тянет время. Наконец он сообщил мне, что уезжает, и просил не прерывать связи с его мамой, и через нее дать ему о себе знать.
Я сразу же поняла, что он собирается в Испанию, на фронт, но отнеслась к новости о его отъезде по-детски восторженно: «Ах, ты уезжаешь, как я хотела бы тоже поехать!». У меня и в мыслях не было, что это опасно, что он может погибнуть, что я его больше никогда не увижу…
Я подождала несколько дней, а потом решила забежать к его маме и узнать о нем. Прихожу к ней, и кто открывает мне дверь? Воля. Оказалось, что он уезжает на следующий день. Иоганна Исидоровна сообщила мне, в котором часу, каким поездом и в каком вагоне он отправляется. И тут я снова поступила совершенно по-детски, несмотря на всю мою кажущуюся взрослость.
Я решила ему что-то подарить на память, и на все свои деньги купила ему галстук (спрашивается, к чему галстук человеку, едущему на фронт?) и два персика на дорогу. Почему именно персики? Да потому, что это мне казалось невероятно роскошным угощением, достойным такого замечательного человека, как Воля. Я сама никогда не пробовала персики, они в Латвии не росли и были очень дорогие, к тому же их привозили совершенно зелеными, какими, очевидно, были и те персики, которые я купила для Воли.
В день его отъезда я написала ему записочку на немецком языке (мы общались по-немецки) о том, что я его никогда не забуду, приложила свою фотокарточку, галстук и персики, и отнесла этот пакетик к поезду, вошла в вагон и, увидев Волю с мамой, без слов положила ему пакетик на колени и убежала…
Через какое-то время Иоганна Исидоровна попросила меня переселиться к ней: ей, мол, одиноко без Воли. Я охотно согласилась, тем более, что доставка литературы прекратилась: кое-кого из подпольщиков арестовали, как мне сообщила Ната, тоже прекратившая свои посещения, чтобы меня не скомпрометировать.
Я переселилась к Иоганне Исидоровне в комнату Воли. В той же квартире жила приятельница Иоганны Лихтер, Шева, уже немолодая женщина, работавшая помощницей и секретаршей у слепого еврейского профессора. Она была настолько предана своему шефу, что посвящала ему все свое время и приходила домой только ночевать. Ее скромность и непритязательность были поистине безграничными.
Однажды ко мне в гости пришел муж моей мамы, плотный 50-летний мужчина. Он еще до этого дважды навестил меня, узнав мой адрес от Лео, с которым я переписывалась, но мы не оставались в моей комнате, а сразу же уходили в город. Он даже пригласил меня в элегантный ресторан гостиницы «Рим», самой лучшей гостиницы Риги того времени. Не могу сказать, что это мне было приятно, совсем наоборот, я чувствовала себя очень неловко.
У него был в Лиепае небольшой молочный магазин, и он сам готовил творог и прессованный белый сыр трех сортов: без соли, слегка соленый и с тмином, который был очень популярен в Латвии.
Как всегда, он приехал в Ригу по делу, но на сей раз не позвал меня в город, а уселся в моей маленькой комнате, и все во мне восстало против этого гостя. Он был грубоватым, но, наверно, добрым человеком. Меня же отталкивала его откровенная чувственность, отражавшаяся в его полных, влажных губах и масленых, томных глазах.
Я знала по книгам о взаимоотношениях мужчин и женщин, даже интересовалась психоанализом и читала Фрейда, но сама не потерпела бы и невинного поцелуя. А тут рядом со мной сидит мужчина, который смотрит на меня как удав на кролика…
К счастью, Иоганна Исидоровна была дома. Я вышла из своей комнаты и попросила ее пригласить моего гостя в столовую и посидеть с нами. Вскоре он ушел, и я его больше не видела.
Иногда я навещала знакомую пожилую еврейскую пару, взрослые дети которой учились в Англии. Жена была очень доброй и мягкой по характеру женщиной. У нее в той же квартире была мастерская, где она с помощницами изготовляла бюстгальтеры и корсеты, пользовавшиеся спросом. Тогда дамы, особенно полные, еще носили корсеты со шнуровкой или с крючками и петлями. Мне было очень приятно с ней общаться, но зная ее занятость, я редко туда приходила.
Ее муж оставался для меня загадкой, он казался мне «тихим омутом», в котором «черти водятся». За его внешней невозмутимостью, по всей вероятности, скрывалась страстная натура. Много лет спустя я убедилась в справедливости этих догадок, когда познакомилась с его детьми. Дочь была копией отца, и внешне, и по характеру, а сын был очень похож на свою маму.
Как-то раз, уже после отъезда Воли, я снова пришла в этот дом. Разговор зашел о моем отце, не помню, в какой связи. И тут хозяйка дома вспомнила, что встречала его вторую жену, работавшую пианисткой в кинотеатре.
Я быстро разыскала ее. Софья Максимовна, так ее звали, была невысокой женщиной с чуть испуганным выражением глаз. Она разговаривала тихо и держалась очень скромно, как будто стараясь быть незаметной. Она жила со своим 11-летним сыном Виктором, моим братом по отцу, на маленькую зарплату и еле сводила концы с концами.
Софья Максимовна рассказала мне о моем отце: в 1932 году он был вынужден покинуть Латвию в связи со своей журналистской деятельностью, какое-то время жил в Лондоне, а теперь живет во Франции. По-видимому, он писал сыну время от времени. Мне Виктор очень понравился, и я с ним подружилась, но встретилась с ним всего несколько раз.
Недавно я узнала из архивных материалов, что в 1931 году мой отец подал прошение об издании в Риге еженедельника на немецком языке «Der Weltbuerger» («Гражданин Мира») – политика, литература, экономика. Ответственным редактором и владельцем значился он. Разрешение было получено, но никаких следов о том, что еженедельник увидел свет, я не обнаружила.
Настала весна 1937 года. От Воли уже давно не было никаких известий, и мы очень тревожились, тем более, что знали, что в Испании идут тяжелые бои.
31 марта немецкие бомбардировщики средь бела дня уничтожили дотла баскский городок Дуранго, а 26 апреля – Гернику.
В Интернациональные бригады все чаще отправлялись и добровольцы из Латвии. Всего их было более семидесяти человек, среди них врачи, медсестра, рабочие, кузнец, моряк, два актера и другие. Из-за политики невмешательства Франции, закрывшей границу с Испанией, они пробирались туда нелегально, кто морем, а кто по горным тропам Пиренеев. Четырнадцать добровольцев из Латвии погибли в боях и навсегда остались в испанской земле, отдав этой далекой стране свою жизнь.
С момента отъезда Воли я носилась с мыслью тоже поехать в Испанию сражаться против фашизма. Но как это осуществить? Как получить заграничный паспорт? Ведь я была несовершеннолетней.
В мае 1937 года в Париже открылась Международная торгово-промышленная выставка, сопровождавшаяся множеством культурных мероприятий. Она должна была продолжаться до конца ноября. Это вдохнуло в меня надежду попасть в Париж, а оттуда – в Испанию. Железнодорожный билет для поездки на выставку стоил полцены, и я надеялась наскрести эту сумму, продав ручную швейную машинку бабушки, привезенную мною из Лиепаи.
К лету я нашла работу у портнихи на Взморье, в Майори, где я наслаждалась солнцем, морем и клубникой с молоком. Когда-то я побывала там со школьной экскурсией из Лиепаи, и чуть было не утонула в реке Лиелупе. Селение Майори расположено между рекой и морем.
Эта живописная река очень коварна. Быстрое течение то и дело образовывает в песчаном дне ямы, затягивающие даже опытных пловцов. Не умея плавать, я вместе с другими школьниками плескалась в воде у самого берега, как вдруг почувствовала, что я куда-то проваливаюсь, как будто меня сильно потянули за ноги. Я захлебнулась водой, не успев крикнуть. К счастью, ребята заметили, что я тону, меня успели вытащить и откачать. С тех пор я никогда больше не вступала в эту реку, даже когда жила совсем рядом, как в это лето 1937 года.
После того, как летний сезон закончился, и я вернулась в Ригу, я решила попытаться получить заграничный паспорт под предлогом поездки на выставку и в гости к отцу. Его адрес я узнала от Софьи Максимовны и сразу же известила его об этом.
Перед отъездом я тщательно изучила в библиотеке маршрут поезда: Варшава, Берлин, Кельн, Париж, и решила, что по дороге стоит посмотреть.
Я попрощалась с Иоганной Исидоровной, пообещав ей сделать все, что смогу, чтобы выяснить судьбу Воли. На прощание она подарила мне фотографию, где она снята вместе с Волей, и на обороте написала на немецком языке: «Таня, дарю Вам эту фотографию в знак моего особенно теплого отношения: мой снимок получают очень немногие. И. Л.». Эти слова как нельзя лучше отражают характер как самой Иоганны Лихтер, так и наших взаимоотношений.
С кузиной. Даугавпилс, 1937 г.
Я провела неделю в Даугавпилсе у кузины, с которой тогда встретилась впервые. Об этой милой молодой женщине, воспитательнице еврейского детского сада, я потом больше ничего не слышала. Боюсь, что она тоже стала жертвой Холокоста, как множество других евреев во время немецкой оккупации. На память осталась фотокарточка, на которой мы с ней засняты на фоне стены, увешанной детскими рисунками.
В начале ноября, послав телеграмму отцу, я выехала из Даугавпилса в Варшаву. Здесь у меня было несколько часов времени, чтобы посмотреть город. Оставив свой небольшой чемодан на вокзале, рядом с пассажирами, ожидавшими посадки на тот же поезд, в Берлин, я отправилась в северные кварталы Варшавы, населенные хасидами, членами мистической еврейской секты, возникшей в Польше в 18-м веке и отличавшейся особым укладом жизни. Здесь я впервые увидела евреев в черных кафтанах, с черными головными уборами, бородами и пейсами. Улица, по которой я шла, показалась мне удручающе бесцветной и бедной. На моих глазах человек с большой корзиной бубликов поскользнулся на мокрых опавших листьях и чуть не упал, корзина сильно покачнулась и часть бубликов полетела в грязь. Он преспокойно собирал их, обтирал концом балахона и клал обратно в корзину. Я содрогнулась, но подумала: что же, жизнь здесь явно не сладкая и бубликами, как видно, никто здесь не разбрасывается.
Желая убедиться в социальных контрастах Варшавы, я из этих еврейских кварталов, во время немецкой оккупации вошедших в печально известное Варшавское гетто, направилась в центр города, к элегантной Маршалковской. Тогда в Варшаве все было еще цело: и старые окраины, и блестящие центральные артерии, и роскошные дворцы, и замечательный памятник Шопену в лесном парке Лазенки на юге столицы, куда я поехала на трамвае. Недолго погуляв по этому парку и полюбовавшись прекрасным памятником композитору, о котором я уже кое-что знала из книг, я вернулась на вокзал, где мой чемодан ожидал меня в целости и сохранности.
То же самое я сделала в Берлине, где также надо было долго ждать пересадки. Здесь мне хотелось взглянуть на Рейхстаг. В памяти еще были рассказы Гейнца о процессе по поводу поджога Рейхстага вскоре после прихода Гитлера к власти. Нацисты обвиняли в поджоге коммунистов, в частности, Георгия Димитрова, а также какого-то голландца, Ван дер Люббе. Димитров сам себя защищал и сумел доказать свою непричастность к поджогу, обвиняя в нем нацистов. Ван дер Люббе же был казнен в январе 1934 года. Это был несомненно подручный гитлеровцев, которые таким образом от него избавились. Как и многие другие, Гейнц был уверен, что поджог Рейхстага был подстроен нацистами, чтобы использовать его как повод для расправы над коммунистами и их сторонниками. Четыре тысячи человек были ими арестованы немедленно.
Я отправилась с вокзала к Рейхстагу, нисколько не думая о том, чем это может мне грозить, с моей еврейской внешностью. Вдоволь наглядевшись на его еще закопченные от дыма стены и взглянув на стоявших там эсэсовцев, я вернулась на вокзал.
В Кельне было интереснее. И хотя здесь не было пересадки, и поезд стоял не очень долго, я все же успела увидеть знаменитый собор, тогда еще занимавший почти всю площадь и казавшийся еще громаднее рядом с небольшими домами. (Во время войны Кельн был сильно разрушен бомбежками, и вокруг собора образовалось большое свободное пространство).
Когда поезд покинул Германию, у меня уже не осталось ни денег, ни еды. В Бельгии пассажиров прибавилось, и напротив меня сели двое – мужчина и женщина средних лет. Они заговорили со мной, и мы начали беседовать на немецком языке. Узнав, что я из Риги («где это, Рига?»), то есть, с севера, они очень удивились. По их мнению, я скорее была похожа на девушку с юга, с моей смуглой кожей и черными глазами. Видя, что у меня нет еды, они то и дело меня чем-то угощали, не обращая никакого внимания на мои протестующие возгласы и жесты.
Оказалось, что они едут в Париж на выставку. Узнав, что я еду к отцу и тоже собираюсь побывать на выставке, они обрадовались, но сказали, что не оставят меня одну на вокзале и подождут, пока за мной не придет отец. Так и случилось. Наш поезд прибыл на Северный вокзал Парижа (Gare du Nord), мы вышли из вагона, и они не отходили от меня, пока не подошел высокий, седеющий и чуть сутулый мужчина, который оказался моим отцом.
3. В свободном и оккупированном Париже
В этот день начала ноября 1937 года я увидела своего отца впервые. Ему тогда было 52 года. У него были крупные черты лица и темные, глубоко сидящие проницательные глаза. Он сразу же заговорил со мной по-немецки, взял мой чемодан и повел меня к другому поезду. Мы поехали в Монморанси, где он снимал небольшой коттедж.
Этот живописный городок, расположенный на лесистых холмах севернее Парижа, знаменит тем, что здесь в середине 18-го века в течение пяти лет проживал стареющий Жан-Жак Руссо со своей служанкой-супругой Терезой. Здесь он написал свои самые известные книги, и на лужайке перед стареньким коттеджем принимал своих именитых гостей: герцогов и герцогинь, графов и графинь.
Отец познакомил меня со своей новой женой, англичанкой лет тридцати, и ее маленьким сыном. Как она мне позже рассказала (мы с ней встречались несколько раз в Париже), она познакомилась с моим отцом в очень трагическое для нее время: ее муж погиб в автокатастрофе, и сама она была на грани умопомешательства. Она очень любила своего мужа, и эта потеря наложила свой отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь: в минуты сильного волнения у нее начинали трястись голова и руки, и она ничего не могла с этим поделать.
У нее был чудесный голос, альт, и она могла бы стать незаурядной певицей, если бы не эта нервная болезнь. Она все же продолжала брать уроки пения и иногда выступала по французскому радио.
Ее 8-летний сынок был истинным англичанином, курносым, с золотисто-рыжими кудряшками, и невероятно деловитым. Он бегал в местный магазин за покупками, и однажды даже повел меня на рынок, в близлежащий город Ангьен, где он сам выбирал продукты, торговался с продавцами и расплачивался с ними. Я тогда еще совсем не говорила по-французски, и мне только оставалось с изумлением наблюдать за ним и складывать купленное в корзину.
В коммерческой школе Лиепаи я изучала английский язык, и пробыв две недели в доме отца, где разговаривали по-английски, уже начинала многое понимать.
Отец свободно владел пятью языками, и вместе с тем он был самоучкой. После учебы в хедере в годы детства, как он мне рассказал, он не посещал никаких учебных заведений, и все, что он знал, усвоил самостоятельно. В 1937 году он уже был гражданином Франции и парижским корреспондентом большой лондонской газеты «Jewish Chronicle».
Каковы были его взгляды? В Риге мне говорили, что он симпатизировал Советской России, но с тех пор утекло много воды. Он знал о политических процессах и массовых репрессиях в СССР. Как многие другие журналисты и писатели, например, Андре Жид, опубликовавший в 1937 году в Париже нашумевшую книгу «Возвращение из СССР», он не мог закрывать глаза на происходящее в Москве. Он также знал о событиях в Испании, осуждал мятеж генерала Франко и его сообщников, и безусловно был антифашистом. Вместе с тем, он не хотел, чтобы я была втянута в эту войну. В его глазах я еще была подростком, и он, судя по всему, намеревался наверстать упущенное и воспитывать свою вновь обретенную дочь.
Я же считала себя взрослой, вполне самостоятельной, была уверена в своих намерениях и без обиняков говорила об этом отцу.
Между тем, по вечерам я наслаждалась в своей комнате огнями Парижа, ярко мерцавшими на горизонте, за широкой долиной, отделявшей Монморанси от Парижа. Вытянувшись на животе поперек большой французской кровати и подперев голову руками, я зачарованно смотрела в окно, на далекие и столь притягательные огни огромного города, о котором я читала в книгах.
Я горела желанием погулять вдоль набережной Сены, где букинисты раскладывают свой товар: старые книги, гравюры и открытки; увидеть улицу Кота, ловящего рыбу; побывать в соборе Парижской Богоматери…
Каково же было мое удивление, когда отец мне рассказал, что в Монморанси и Ангьене живут старики, никогда в своей жизни не побывавшие в Париже!
Из наших бесед отец вскоре понял, что меня переубедить невозможно, и отпустил меня в Париж, дав на прощание какую-то сумму денег на первое время.
Еще перед отъездом из Риги, я узнала от Иоганны Исидоровны адрес бывшей рижанки, у которой Воля остановился, когда ждал в Париже отправки в Испанию.
Эта молодая женщина, Бетти, жила в рабочем предместье, в мансарде скромного дома, где санитарные условия, как во всем подобных домах и небольших гостиницах Парижа того времени, были самыми элементарными: умывальник в комнате, примитивный туалет на лестничной клетке.
Бетти оказалась невысокой и полной женщиной, очень жизнерадостной и подвижной, которая чувствовала себя в Париже как рыба в воде. Она приняла меня очень радушно, охотно согласилась приютить, пока не найду работу, а также помочь ее подыскать. Она тоже ничего не знала о Воле, от которого после первой весточки из Испании, у нее не было никаких известий.
Тем временем заканчивалась международная выставка, и я поспешила ее посетить. Она занимала большую площадь Трокадеро напротив Эйфелевой башни, от которой ее отделяла река Сена. Специально к выставке был построен дворец Шайо, полукругом охватывающий часть этой площади. По обе стороны большого бассейна с фонтаном располагались временные павильоны разных стран: рядом с румынским – советский, на котором возвышались огромные фигуры рабочего и крестьянки, творение скульптора Веры Мухиной. Прямо напротив советского – немецкий павильон. Здесь посетители могли впервые увидеть маленький экран телевидения, демонстрировавшего пропагандистские кадры нацистской Германии.
Сама выставка не вызвала у меня особого восторга. Я тогда очень мало интересовалась всякими техническими новинками, и на обилие выставленных предметов смотрела скорее равнодушно, но зато меня восхищало все, что окружало выставку или примыкало к ней: Эйфелева башня, огромное Марсово поле, с многочисленными фонтанами. С этого и началось, собственно говоря, мое знакомство с Парижем.
Бетти общалась с некоторыми бывшими рижанами и познакомила меня с ними. У кого-то из них я встретила молодую латышскую поэтессу Анну Берзинь, невысокую, худощавую женщину с коротко остриженными волосами и челкой, в строгом темном костюме. Мы с ней погуляли недолго по городу. Она произвела на меня впечатление очень сдержанного и замкнутого человека. Вскоре я поняла всю трагичность ее ситуации в это время: ее муж, польский писатель Бруно Ясенский, был арестован в Москве, и кое-кто из ее парижских друзей-коммунистов уже начал избегать встреч с нею.
Бруно Ясенский был приглашен в Москву в 1929 году, здесь опубликовал роман «Человек меняет кожу», был принят в Союз писателей, и вместе с другими арестован в 1937 году как польский шпион – стандартное обвинение той поры массовых репрессий. В то время, когда я встретила его жену, она, по-видимому, еще ничего не знала о его дальнейшей участи: как множество других, он был расстрелян.
Я часто приходила на встречи политэмигрантов из Латвии, среди которых были латыши, евреи, русские. Некоторые из них, например, будущий писатель Жанис Фолманис, ожидали отправки в Испанию. Я горела желанием присоединиться к ним, но выяснилось, что несовершеннолетним требуется согласие их родителей или опекунов. У меня же такого согласия не было и быть не могло.
Через много лет я прочла в одной из книг о событиях в Испании такую историю: 16-летний сын известного английского биолога, профессора Джона Б. Халдана, Рональд, решил поехать добровольцем на фронт, в Интернациональные бригады, и его родители не только не помешали ему, но и сами оказывали всемерное содействие Комитету помощи республиканской Испании. Весной 1937 года жена профессора, весьма уважаемая женщина, приехала в Париж, чтобы помочь Центру в его работе по отправке добровольцев в Испанию. Адрес Центра был строго засекречен. Впоследствии она рассказала в своих воспоминаниях, как ей удалось добиться конспиративной встречи с организаторами этого Центра.
Если бы я была парнем, я бы, возможно, нашла способ, как отправиться в Испанию без согласия родителей, скажем, юнгой на судне. Во всяком случае, предприимчивости у меня бы хватило. Но будучи девушкой, мне оставалось лишь попытаться попасть на курсы медсестер для фронта, но из этого тоже ничего не получилось.
Надо было срочно искать работу. С помощью Бетти я устроилась у портнихи родом из Эльзаса, говорившей по-немецки. Она жила близ площади Мадлен, и пока я у нее работала, я познакомилась с этим элегантным районом Парижа, возникшим в 18-м – 19-м веках, в красивых особняках которого бывали герои романов Бальзака, и где жила женщина, послужившая Александру Дюма прототипом для его Дамы с камелиями.
В первые же дни работы там, я решила пойти в соседний ресторан что-то покушать. Посмотрев на меню и ничего не поняв, не зная французского языка и названия блюд, я ткнула пальцем в одно название с подходящей для меня ценой. Вскоре официант принес на тарелочке – кактус! Я не знала, что с ним делать, как это едят. Оглянулась вокруг, но ни у кого из гостей не было такого блюда. Между тем, голод давал о себе знать, и я решила – будь что будет, отрезала кусочек от листьев этого растения и сунула в рот. О Боже! Это было горько как яд. Я вытащила носовой платок и украдкой выплюнула в него эту горечь, расплатилась с официантом и ушла. (Это было, кстати, моим единственным посещением ресторана за три года жизни в Париже). Когда я рассказала об этом Бетти, она покатывалась со-смеху. Оказалось, что это был артишок, и его листья не едят, а обламывают, обсасывая только мягкие кончики, предварительно обмакнув в лимонный соус, стоявший там же, на столике ресторана, наряду с другими соусами.
Этот эпизод побудил меня серьезно взяться за изучение французского языка. Я стала также более внимательно прислушиваться к речи окружающих, читать газеты, и за несколько месяцев усвоила язык настолько, что могла элементарно объясниться с людьми, хотя и тут не обходилось без смешных казусов.
Однажды я прибежала к своим друзьям и радостно объявила: французское правительство решило отправить в Испанию самолеты! Но оказалось, что в газете речь шла лишь о требовании к правительству отправить туда самолеты.
С момента начала гражданской войны в Испании, вокруг этого вопроса шла яростная дискуссия: министр Воздушных сил правительства Леона Блюма, Пьер Кот, был за оказание помощи республиканской Испании и отправку самолетов, а военный министр, Эдуард Даладье – категорически против. Сам глава правительства проявлял нерешительность, и в конце концов уступил консервативным силам во главе с Эдуардом Даладье.
Правительство Народного фронта, премьером которого был лидер социалистов, Леон Блюм, пришло к власти в 1936 году. Уже несколько лет во Франции заметно падала экономика. Фашиствующие молодчики спровоцировали массовые беспорядки с убитыми и множеством раненых. В это же самое время крепла решимость левых сил и профсоюзов преградить дорогу фашизму.
Победа Народного фронта вызвала волну эйфории: профсоюзам и левым партиям удалось добиться сорокачасовой рабочей недели, оплаченного отпуска и коллективных договоров с предпринимателями.
Отголоски этого приподнятого настроения ощущала и я, приехав в Париж. Они звучали в песнях, которые молодежь пела в вагонах метро, в массовых митингах, в частности, и в тех, которые проводил Комитет помощи республиканской Испании.
На одном из этих многотысячных митингов, устроенном в Зимнем велодроме Парижа, выступали социалист Пьер Кот и знаменитая Долорес Ибаррури, Пасионария (Пламенная), как ее прозвали. Я пришла туда со своими друзьями и не могла оторвать взора от этой мужественной женщины, дочери шахтера, вдохновлявшей испанский народ на борьбу за свободу своей страны. Ей принадлежали слова, ставшие лозунгами Республики: «Они не пройдут» («No pasarán»), «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» («Más vale morir de pie que vivir de rodillas»).
Как всегда, Пасионария была в простом черном платье, ее гладко зачесанные назад черные волосы открывали высокий лоб. Она говорила вдохновенно, с высоко поднятой головой и горящими темными глазами. А огромное здание велодрома то и дело взрывалось аплодисментами, многотысячная аудитория скандировала: «No pasarán, no pasarán». Это было незабываемо.
В это время я уже жила в Латинском квартале, на улице Дез Эколь, в гостинице, занимавшей большое здание рядом с Сорбонной – парижским университетом. Здесь жили главным образом студенты. Моя комната находилась на самом верхнем этаже, и ее обстановка была самой элементарной: железная кровать, столик, умывальник и биде, в которых я мылась по частям, как многие тысячи студентов и эмигрантов, живших в бесчисленных гостиницах Парижа. Как и они, я кипятила воду и согревала еду на спиртовке, используя в качестве горючего кубики сухого спирта.
Не всегда у меня была работа, часто нехватало денег на самое необходимое, но жизнь была невероятно интересной.
Стоило мне выйти из гостиницы, пойти направо по улице Дез Эколь и завернуть за угол, как дорога вела прямо к Пантеону, последнему пристанищу многих великих французов: Вольтера, Руссо, Гюго, Золя, Жореса…
А если я шла от гостиницы налево, то через несколько минут я оказывалась на Буль-Миш, как сокращенно называли и называют знаменитый бульвар Сен-Мишель, где всегда было множество разношерстного народу со всего света, и где в книжных магазинах можно было рыться сколько душе угодно, а в кафе за чашечкой кофе бесплатно просматривать газеты. По Буль-Миш до набережной Сены с живописными букинистами – рукой подать, а там, через мост, остров Сите, древняя Лютеция, что означает: «Окруженная водой» – колыбель Парижа, основанного галльскими рыбаками во втором веке до н. э.
На острове Сите – Дворец Правосудия и примыкающая к нему Консьержери с мощными круглыми башнями – тюрьма, где томились королева Мария Антуанетта и тысячи других узников, которых ждала гильотина.
Рядом с Дворцом Правосудия – Префектура полиции, куда мои друзья – эмигранты приходили с сердцебиением отмечать свои временные виды на жительство. Было немало трагических случаев, когда полиция по каким-то, только ей одной известным причинам, отбирала у эмигрантов этот документ и депортировала их, т. е. отвозила обратно на границу, скажем, с Германией, выпихивая несчастных назад, к их палачам.
К счастью, мне не пришлось испытывать этих мытарств. Я была дочерью французского гражданина и числилась в бумагах Префектуры студенткой.
Если Префектура не вызывала у меня никаких особых эмоций, то, подойдя к собору Нотр-Дам, в двух шагах от нее, я всякий раз испытывала трудно определимое чувство – изумление, восторг, смешанный с трепетом. С башен собора на город взирают странные фигуры, химеры. Когда я поднялась на одну из башен и разглядела их поближе, меня особенно поразила химера, прозванная «Мыслитель»: полуживотное, получеловек, с рожками, орлиными крыльями и как бы в насмешку высунутым языком, она глядит на город, подперев голову руками…
Эти фантастические существа так же отражают духовный мир средних веков, как и многочисленные статуи фасада и огромных порталов собора – библейские образы, сопровождавшие человека от рождения до смерти.
Бессмертная книга Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» подготовила меня, как и любого другого, читавшего ее, к встрече с реальным собором Нотр-Дам, и все же – величие этого могучего создания человеческих рук и духа всякий раз потрясает заново…
В Латинском квартале я жила полтора года, с начала 1938 до лета 1939 года, и за этот период грядущая Вторая мировая война приблизилась семимильными шагами: в марте 1938 года гитлеровские войска оккупировали Австрию, а в сентябре месяце того же года было подписано позорное Мюнхенское соглашение, предоставившее Гитлеру свободу действий.
В Париже разразилась буря негодования и протестов, но французское правительство во главе с Эдуардом Даладье не сделало никаких серьезных шагов, чтобы предотвратить оккупацию всей Чехословакии в марте 1939 года.
В Париж устремилась новая волна эмигрантов, бежавших от нацистского террора. С двумя эмигрантами из Праги я случайно познакомилась в большом книжном магазине на бульваре Сен-Мишель, где я любила просматривать книги.
Это был чех среднего возраста и его сестра, у которых, как оказалось, в Праге тоже был книжный магазин. Они смотрели на книжные полки с такой тоской, что этого нельзя было не заметить. Кто-то из них обратился ко мне с каким-то вопросом, я ответила по-немецки, и мы разговорились. Они свободно разговаривали на немецком языке и ухватились за меня, как ухватываются за родного человека, встреченного в чужой стране. Но наше знакомство длилось недолго. Я почувствовала, что чех начинал привязываться ко мне в большей степени, чем я могла допустить, и прекратила общение с ними.
На площади Согласия, 1938 г.
В поисках заработка я познакомилась с семьей русских эмигрантов, обосновавшихся в Париже после прихода к власти большевиков. Я приходила в этот дом в качестве портнихи, и занимаясь шитьем, с удовольствием слушала, как хозяйка дома заливалась русскими песнями: «Вдоль по улице метелица метет…», «Волга, Волга, мать родная, Волга-матушка, река…» Мне очень нравились эти песни, услышанные мною впервые, хотя я могла уловить только отдельные слова, запомнившиеся мне благодаря урокам Воли. Мне нравилась и уютная атмосфера этого дома с самоваром, чаем с пирожками, которыми хозяйка меня угощала, со старинными иконами и лампадкой в углу комнаты. К сожалению, еще слабое знание французского языка и незнание русского не позволяли мне поговорить с хозяйкой о России, и прошлом ее семьи.
В Люксембургском саду, 1 октября 1938 г.
Мое знакомство с Парижем не ограничивалось в этот период Латинским кварталом и островом Сите. В жаркие дни я отправлялась в большой Люксембургский сад, тоже на левом берегу Сены, где я любила сидеть у фонтана и наблюдать за детьми, пускавшими кораблики, или гуляла в тени деревьев по живописным улицам близлежащего квартала Сен-Жермен-де-Пре, где в витринах художественных магазинов и маленьких галереях выставлялись произведения современного искусства.
Я тогда еще не знала, что совсем рядом, в одном из кафе любили встречаться и беседовать парижские писатели того времени: Жан-Поль Сартр, Поль Элюар, Симона де Бовуар и другие.
У моста через Сену, 1 октября 1938 г.
Летом 1938 года в Париж приехал мой брат Лео. Он был талантливым художником, и еще в 16-летнем возрасте вылепил из пластилина очень выразительный бюст свистящего сквозь пальцы апаша, с прищуренными глазами, наморщенным лбом, в кепке и плаще с поднятым воротником. Мама послала этот бюст (к счастью, у меня сохранилась его фотография) вместе с другими работами брата известному парижскому скульптору Науму Аронсону, который был родом из Латгалии, восточной провинции Латвии. Ему они понравились, и он пригласил Лео в Париж для работы в его мастерской.
Лиепая, 1934 г.
Таким образом, я снова встретилась с братом после двухлетней разлуки. У меня сжалось сердце, когда я его увидела. Он был бледным и похудевшим. Несколько лет назад у него обнаружили туберкулез легких, и болезнь явно прогрессировала. Я еле смогла удержать слезы, когда обняла его. Но он радовался возможности увидеть Париж, побывать со мной в музеях. Мы вместе посетили музей любимого им скульптора Родена, произведения которого произвели на нас огромное впечатление, особенно бюсты Виктора Гюго и Бальзака, великолепная скульптурная группа «Граждане Кале».
Мама надеялась, что перемена климата поможет Лео преодолеть болезнь, против которой тогда не существовало эффективных лекарств. Эта болезнь считалась смертельно опасной, особенно в условиях сырой погоды Прибалтики. Но когда Лео приехал в Париж, он уже был настолько слабым, что работа в мастерской скульптора над гранитом и мрамором оказалась для него непосильной. Он отказался от нее и поселился у отца в Монморанси. Там он начал заниматься миниатюрой и резьбой по дереву, а также много рисовал.
Сент-Этьен-дю-Мон, 1 октября 1938 г.
Я храню как реликвию красивый нож для разрезания бумаг с рукояткой, изображающей голову гиппопотама и двух змеек, вырезанный братом в то время из красного дерева и подаренный им французским друзьям. Они передали мне этот нож, хранящий тепло рук моего любимого брата, когда я через много лет встретилась с ними в Париже.
Лео привез с собой письмо от мамы, в котором она мне сообщала адрес дяди Макса. Я еще не была с ним знакома, и сразу же навестила его. Дядя мне очень понравился, он напоминал мне бабушку своими чертами лица и добрым, мягким характером. Но с его женой, происходившей из какого-то белорусского или украинского местечка, а также с дочерью, изящной парижанкой, я не могла найти общего языка, не только из-за еще недостаточного знания французского, но также из-за того, что у них были совсем иные интересы, чем у меня. Поэтому я у них побывала всего несколько раз.
С тетей Бертой (женой дяди Макса) и двоюродной сестрой Люси, 1938 г.
С тех пор, как я приехала в Париж, я не прекращала поисков сведений о Воле, встречалась с разными людьми, побывавшими в Испании. И вот однажды, летом 1938 года, мне сообщили, что из Испании прибыла группа раненых интербригадцев. Вскоре я встретилась с ними. Это были главным образом немцы из 11-й Интербригады, где сражались также австрийцы и добровольцы из Прибалтики и Скандинавских стран. Я показала им фотографию Воли, и один из них узнал его и рассказал мне все. что он знал о его судьбе: они вместе сражались в батальоне имени Эдгара Андре, и так как Воля владел несколькими языками, в том числе эсперанто, его определили в пулеметный расчет вместе со скандинавами, с которыми он мог общаться.
9 февраля 1937 года в горах на восточном берегу реки Харама начались ожесточенные бои, продолжавшиеся несколько дней. Подступы к Мадриду здесь защищал также батальон имени Эдгара Андре. В этих боях от прямого попадания фашистского снаряда погиб весь пулеметный расчет, в котором был и Воля Лихтер.
Это известие меня так потрясло, что я не смогла произнести ни слова. Схватив фотографию, я убежала, заливаясь слезами. От Воли уже полтора года не было писем, но все же теплилась надежда, что он жив. Теперь же я со всей ясностью ощутила невозвратность потери дорогого мне человека, и как-то сразу эмоционально повзрослела. Пока Воля был жив, я относилась к нему как к заботливому старшему брату. Известие о его гибели вызвало во мне волну чувств, заставивших меня по-новому взглянуть на наши отношения. Я поняла, что Воля любил меня, оберегал и щадил мои еще не созревшие чувства, а я, глупая, об этом не догадывалась и даже не поцеловала его на прощание!
В своей маленькой комнате я долго терзалась мыслями о Воле и о том, как мне сообщить ужасное известие его маме. В конце концов я решила отправить письмо ее приятельнице Шеве, чтобы она, со свойственной ей душевностью, поговорила с Иоганной Исидоровной. Лишь после этого я написала письмо самой Иоганне Лихтер.
Однако мне хотелось услышать как можно больше о Воле от его товарища по батальону, и вскоре мы встретились. Его звали Густав Мюллер, он был из Маннгейма, на юге Германии, и бежал из нацистской тюрьмы вместе со своим товарищем, чтобы сражаться против фашизма в Испании. Позже он мне подробно рассказал историю этого побега, как им удалось нелегально пробраться во Францию, а затем в Париж, где им помогли через Пиренеи попасть в Испанию. Это было летом 1936 года, в самом начале организации Интербригад.
Во время нашей встречи я его разглядела ближе, и мне он понравился своей выправкой и привлекательной внешностью: выше среднего роста светлый шатен, с высоким лбом, чуть лукавыми карими глазами, прямым носом и энергично очерченным ртом. Он сразу же произвел на меня впечатление очень мужественного и вдумчивого человека. Как я вскоре убедилась, он пользовался большим авторитетом среди своих товарищей, обладая проницательным умом и способностью разобраться в самых сложных ситуациях и энергично действовать.
Раненый Густав Мюллер (слева) в Испании, 1938 г.
Густав отнесся ко мне с большим пониманием и много рассказал об Испании, о том, где сражался его батальон, и какие замечательные люди там были, среди них и Воля Лихтер, которого он высоко ценил.
Сам он очень сроднился с Испанией, где участвовал во многих боях и был тяжело ранен: у него была раздроблена правая рука, уже начиналась гангрена, ее хотели ампутировать, но в госпитале оказался очень опытный хирург, сумевший спасти руку, но кисть осталась парализованной. Еще в госпитале Густав научился все делать левой рукой, даже писать.
Густав (справа) за игрой в шахматы.
Его серьезность и сочувствие сразу же расположили меня к нему. Я стала встречаться с ним и с его друзьями. Хотя они все были старше меня – Густаву было 33 года, а мне – 18 лет, мне было очень легко с ними общаться: не было языкового барьера, у нас были общие интересы, да и разговаривали они со мной как с равной, не поучая меня.
С момента знакомства с Густавом и с его товарищами моя жизнь в Париже стала еще интереснее и содержательнее.
Вместе с ними я посещала вечера парижской секции Объединения немецких писателей в эмиграции, почетным президентом которого был Генрих Манн, брат Томаса Манна. Особенно запомнилась мне встреча с Ильей Эренбургом, военным корреспондентом московской газеты «Известия» с начала гражданской войны в Испании. Он встречался со многими участниками событий, бойцами и командирами, побывал на всех фронтах, общался с французскими летчиками и советскими инструкторами эскадрильи, которую создал Андре Мальро, с испанскими и зарубежными журналистами и писателями, с Эрнестом Хемингуэем, Эгоном Эрвином Кишом и многими другими. Эренбург был весьма популярен среди испанцев, и его именем была названа одна из испанских центурий.
Эренбург вошел в зал в темном берете и плаще – казалось, он только что прибыл с фронта. Я тогда ничего не знала о нем, кроме того, что он советский журналист. Но меня очень заинтересовал его живой и острый рассказ о событиях в Испании, где в июле 1938 года состоялось сражение у реки Эбро, одно из самых ожесточенных и кровопролитных в этой войне. Густав же и его товарищи слушали рассказ Эренбурга с напряженным вниманием, ведь все, о чем он говорил, было для них родным, за что они были готовы отдать свою жизнь.
Тогда же, в конце лета 1938 года, мы вместе побывали на вечере антифашистского французско-немецкого кабаре. В его подвальном помещении размещалось не очень много людей, небольшая сцена была близко, и мне хорошо запомнились некоторые выступления: характерный танец на испанские мотивы и, особенно, рассказы «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша. В памяти ярко запечатлелись его плотная фигура пражанина, выпивавшего в день не одну кружку пива, круглая голова, крепко сидевшая на короткой шее, лукавая усмешка, с которой он рассказывал две очень смешные истории, якобы из его жизни.
Одна из них, вкратце, о том, как он в бытность свою солдатом австро-венгерской армии послужил моделью для портрета усопшего генерала. Однако художник предпочел для портрета не голову модели, а голую солдатскую спину, нарисовав на ней портрет генерала головой вниз!.. Когда настал торжественный момент вручения портрета генеральше – супруге покойного, со спины «модели» была снята холстина и генеральша кинулась под звуки фанфар обнимать и целовать портрет своего покойного супруга, уткнувшегося толстым бугристым носом – в одно непотребное место…
Это было уморительно: не только сама эта, конечно, вымышленная история, но и манера Киша рассказывать, напоминавшая бравого солдата Швейка из знаменитой книги Ярослава Гашека.
В мае 1938 года в Париже впервые были поставлены эпизоды драматического цикла Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьем Рейхе», созданного драматургом там же, в эмиграции. Роли исполняли Елена Вайгель – супруга Брехта и другие актеры, эмигрировавшие из нацистской Германии.
Осенью того же года некоторые эпизоды этого спектакля, разоблачавшего быт и нравы гитлеровской Германии, были показаны на сцене рабочего театра одного из предместий Парижа. Мы посетили это представление, и мне запомнились суровый облик замечательной актрисы Елены Вайгель, простая сцена, почти без декораций, и зал амфитеатром с обычными скамьями.
Под давлением западных стран в сентябре 1938 года Интернациональные бригады были отозваны с фронтов, и 15 ноября в Барселоне, на широком бульваре Авенида Диагональ, в присутствии премьера Негрина, Долорес Ибаррури и многих жителей Барселоны, состоялось торжественное прощание народа Испании с героями-добровольцами, бригада за бригадой продефилировавшими через всю Барселону.
В своей книге «Уважение к Каталонии» («Homage to Catalonia», 1938) Джордж Орвелл документально описал противоречия, раздиравшие левые политические движения Барселоны – анархистов, коммунистов, социалистов, но в тот день, 15 ноября 1938 года, народ Барселоны был един в своей глубокой признательности интербригадцам, со всего света пришедшим на помощь Испании в критический период.
Франция же встретила их концентрационными лагерями близ границы с Испанией, Гюрс и Аржелес-Сюр-Мер, специально созданными для этой цели французскими властями еще до гитлеровской оккупации. В Аржелесе оказался и выдающийся испанский поэт Антонио Мачадо, который погиб здесь в первую же зиму. Уже в феврале 1939 года правительство Даладье официально признало диктаторский режим генерала Франко.
Среди интербригадцев, которым удалось попасть в Париж, или которых эвакуировали туда из Испании с тяжелыми ранениями, был и австрийский шахтер Иоганн, раненый в позвоночник. Могучего телосложения, он мог передвигаться только на костылях, перебрасывая парализованную нижнюю часть тела. Я вернусь к нему ниже, но уже сейчас отмечу солидарность простых французов, помогавших ему и другим раненым интербригадцам.
Все эти события повлияли на мое намерение вернуться в Латвию и продолжить свое участие в деятельности организации «Дарба Яунатне». То, ради чего я приехала во Францию, перестало существовать, и мое место снова было в Латвии, как мне казалось.
Когда я сообщила об этом Густаву и нашим общим друзьям, они были опечалены, но согласились со мной. Совсем по-иному реагировали мои друзья – политэмигранты из Латвии. Они заявили, что это безумие, я сразу же попаду в тюрьму, как только приеду в Латвию, что латышское консульство в Париже хорошо осведомлено о каждом гражданине Латвии, проживающем здесь, в том числе и обо мне и моих связях с ними.
В конце концов я согласилась с их доводами, тем более, что мне уже трудно было расстаться с Густавом, к которому я прониклась более сильными чувствами, чем простая дружба.
Густав же, узнав о том, что я все же останусь в Париже, был счастлив и не скрывал этого. Таким образом, в начале 1939 года определились наши отношения, и мы сблизились.
Нас связывало глубокое чувство беззаветной любви, не обусловленное никакими временными соображениями и поэтому пронесенное нами через все препятствия и многолетнюю разлуку, о чем расскажу подробнее ниже. Густав был не только моим первым мужем, разбудившим во мне женщину, но также необыкновенно чутким другом, с которым мне было легко и просто в любых, даже очень тяжелых обстоятельствах.
Поскольку я уже успела отказаться от своей комнаты на улице Дез Эколь, мне пришлось переселиться в другую недорогую гостиницу, на улице Ласепед, рядом с Ботаническим садом, в том же Латинском квартале. Густав теперь навещал меня очень часто.
Однажды он предложил мне вместе с ним поехать к знакомой ему немецкой женщине, лежавшей в клинике недалеко от моей гостиницы. Это была Марта Берг-Андре, жена Эдгара Андре, казненного в Гамбурге сразу же после прихода Гитлера к власти. После гибели мужа она эмигрировала из Германии и посвятила свою жизнь борьбе с фашизмом. Она выступала во многих странах с рассказом о том, что происходило в Германии, где уже в 1933 году начали появляться концлагеря с тысячами узников, среди них были лидер коммунистов Эрнст Тельман, писатели Карл фон Оссиецки и Эрих Мюзам, и многие другие выдающиеся деятели донацистской Германии.
Еще до оккупации Австрии и Чехословакии Марта Берг-Андре предупреждала в своих выступлениях о той опасности, которая грозила Европе со стороны гитлеровской Германии, запускавшей свою военную промышленность уже полным ходом и готовившейся к новой войне.
Мне очень понравилась эта тихая и вместе с тем столь отважная женщина, и я еще не раз беседовала с ней, когда она бывала в Париже.
Гэби с детьми, 1938 г.
Густав познакомил меня также со своими французскими друзьями, с которыми подружилась и я. Мари-Луиза и Гэби (Габриэль) были примерно того же возраста, что и Густав. У них было двое детей, живших в деревне, у родителей Гэби. Это была простая рабочая семья, которая жила в тесной полутемной квартире на улице Фобур дю Тампл, близ площади Республики. На этой улице было множество маленьких магазинов, и в домах жили мелкие торговцы, продавцы, служащие, рабочие.
Мари-Луиза, типичная француженка, была полна шарма. Невысокая, изящная, живая и темпераментная, она всегда была готова принять участие во всяких мероприятиях, митингах и демонстрациях. Как многие француженки, она обладала превосходным вкусом, и самые простые вещи казались на ней элегантными. Ее муж, Гэби, высокий, с простым, открытым лицом и сильными, мускулистыми руками, привыкшими к тяжелому труду, обожал свою жену и помогал ей во всем. Он также охотно приходил на помощь своим друзьям и товарищам.
Мы часто бывали у них по воскресеньям, и благодаря им познакомились с жизнью и мыслями рядовых французов.
В первый же раз, когда они пригласили меня с Густавом к ним на обед, со мной случилась смешная история. До этого я еще никогда не обедала у французов, традиционно пьющих во время обеда красное столовое вино. Мы обедали, они мне подливали вино, а к концу обеда я не смогла встать из-за стола, коленки подкашивались! Смеху-то было… Благодаря общению с Мари-Луизой и Гэби я уже стала гораздо лучше разговаривать по-французски, что было весьма важно для поисков работы.
Тогда же, в первой половине 1939 года, мы лучше узнали Париж Больших бульваров, от площади Республики до Оперы, где парижане еще любили проводить свободное время, где можно было с чашечкой кофе часами сидеть и беседовать за столиком на бульваре, наблюдая за прохожими и уличными сценками, где еще не было кричащих реклам и неоновых огней, а также толп туристов…
С Густавом я побывала в «Чреве Парижа», Ле Аль, который находился в самом центре города. Вся деятельность этого огромного оптового рынка проходила ночью, когда на больших телегах с резиновыми колесами сюда свозили горы овощей и всякой снеди. Это был феерический спектакль с приглушенными голосами, ведь рядом спал трудовой народ Парижа.
Весной стало ясно, что я беременна. Густав подыскал нам маленькую квартиру на улице Пиреней, на шестом этаже большого дома с лифтом. Здесь, на севере Парижа, в 19-м веке еще были поля, а когда мы там поселились, по улице Пиреней еще гнал свое стадо овец пастух, свирелью давая знать хозяйкам о своем появлении и поджидая, пока они спустятся на улицу за овечьим сыром.
Недалеко от улицы Пиреней находится прекрасный большой парк Бют-Шомон, с озером, островком, мостиком, скалами и водопадом. Мы любили гулять среди этой полудикой природы и совершали длинные прогулки к старому кладбищу Пер-Лашез на востоке Парижа. Там похоронены многие великие писатели, композиторы, художники: Мольер, Лафонтен, Бомарше, Бальзак, Шопен, Делакруа, Модильяни… Здесь находится Стена Коммунаров, у которой были расстреляны 147 участников Парижской Коммуны – восстания парижан в 1871 году.
Мы не спеша любовались замечательными памятниками старого кладбища. Времени у нас было много – лето, город опустел, работы было мало. Отсутствие денег мы компенсировали интересными прогулками: на Монмартр, где обосновались художники, и по другим местам прекрасного Парижа. Это отвлекало нас также от тревожных мыслей о будущем, над которым тучи сгущались вес сильнее. Но пока еще большой поддержкой для нас была столовая немецких политэмигрантов, где мы могли обедать вдвоем.
Еще в мае в газетах появилось сообщение о пакте между Гитлером и Муссолини, что предвещало новые осложнения обстановки в Европе, а 23 августа был заключен Германо-советский пакт, ошеломивший буквально всех. Густав и его товарищи были в полном замешательстве – произошло немыслимое. Даже французские коммунисты, слепо верившие в Советский Союз, были в растерянности и не могли объяснить ни себе, ни другим причины соглашения между Сталиным и Гитлером, которое нанесло коммунистической партии Франции жестокий удар. Многие интеллигенты немедленно отказались от дальнейшего членства в КПФ.
1 сентября 1939 года, через неделю после заключения Германо-советского пакта, гитлеровские войска вторглись в Польшу, а 3 сентября Франция и Великобритания объявили войну Германии. Началась «Странная война», которая продлится до мая 1940 года, когда Гитлер начнет молниеносное наступление на Западную Европу.
Пока что правительство Даладье начало наступление на антифашистские силы в собственной стране. Тысячи беженцев из гитлеровской Германии и все немецкие интербригадцы были отправлены во французские концлагеря, в том числе Густав и его товарищи.
События развивались так стремительно, что мы не успевали опомниться, но Густав все же сумел договориться с одной еврейской семьей о том, чтобы мне помогли, когда настанет пора родов, и устроили меня в хороший госпиталь. К сожалению, я почти ничего не знаю об этой семье и ее участи во время немецкой оккупации. Помню лишь, что это была еще молодая, очень интеллигентная пара, по-видимому связанная с врачебным миром. Жена была просто красавицей.
Гэби, муж нашей приятельницы Мари-Луизы, был мобилизован в армию, и я каждое воскресенье проводила у нее. Мы старались поддерживать друг друга морально, времена настали тяжелые. Я уже была на восьмом месяце беременности. С питанием было плохо – цены быстро росли, а денег не было. Когда настало время родов, упомянутая семья привезла мне все необходимое для младенца и отвезла меня в Гарш, за пределы Парижа, где был хороший госпиталь. 27 октября, после очень тяжелых родов, появился на свет мой первый сын, названный нами Эдгаром, в память Эдгара Андре, человека и батальона.
Гэби и Мари-Луиза, 1939 г.
Густав очень переживал за меня и часто посылал мне весточки из концлагеря. Под давлением французской общественности, в конце 1939 года правительство было вынуждено выпустить на волю раненых интербригадцев, и Густав вернулся домой.
Мари-Луиза отправилась на Рождество и Новый год к своим детям в деревню, а мы с Густавом решили встретить новый, 1940-й год вместе с нашим товарищем, уже упомянутым тяжело раненым австрийцем Иоганном, в его маленькой комнате. Я никогда не забуду этой печальной новогодней ночи, проведенной в разговорах с Иоганном, рядом с которым на кровати безмятежно спал наш младенец. Положение Иоганна было трагическим, ведь он был полупарализован, а мы догадывались, куда вела политика правительства Даладье.
Не знаю, как бы мы прожили с нашим младенцем эту тяжелую зиму, если бы не пособие от еврейской организации, которого для меня добилась та же семья, помогавшая мне во время родов. Столовую немецких политэмигрантов закрыли, работы почти не было. Но мы по-прежнему проводили каждое воскресенье вместе с Мари-Луизой, получавшей продукты из деревни.
В первых числах мая из Монморанси приехал Лео. Он уже был знаком с Густавом, с которым он встретился летом 1939 года, когда мы все вместе провели прекрасный день в большом лесном парке. Они очень хорошо понимали друг друга. Теперь же Лео увидел и своего маленького племянника, и мы снова могли вместе провести несколько часов в парке. Это была моя последняя встреча с Лео в Париже. С Густавом он еще раз повидался перед своим отъездом из Франции.
В начале мая Гитлер развернул наступление на Нидерланды и Бельгию. Новый французский премьер Поль Рено, казалось, потерял голову. Все раненые интербригадцы снова были отправлены в концлагерь, и Густав тоже. В газетах было много бахвальства по поводу якобы непреодолимой оборонительной линии Мажино. Но она не помешала немецкой армии продвигаться к Парижу.
Во французском командовании царил хаос. Военные части или попадали в плен, или отступали, а там, где они сражались против наступавшего врага, военные действия не были скоординированы. Около двух миллионов французских солдат попали в гитлеровские лагеря для военнопленных, в том числе и муж Мари-Луизы, Гэби.
Густав с Эдиком и Лео, 1940 г.
К тому же все дороги, ведущие на юг, были запружены беженцами. Вскоре начался также массовый исход из близлежащих к Парижу населенных мест.
Тем временем связь с Густавом оборвалась. Я очень беспокоилась, но решила оставаться на месте и ждать от него известий.
Густав с Эдиком, май 1940 г.
В Париже уже была слышна канонада, парижане были полны решимости защищать свой город, как вдруг, в полночь 13 июня, наступила зловещая тишина. Люди выбегали из домов, чтобы узнать, что произошло. Я тоже не спала, но спускаться вниз и оставлять ребенка я не могла, к тому же лифт с начала войны не работал.
Рано утром выяснилось: Париж был объявлен открытым городом, со всех сторон в него входили немецкие войска, побритые, почищенные, как на параде. Парижане стояли на улицах и плакали.
Это произошло 14 июня 1940 года, а 16 июня Поля Рено заменил маршал Петен. Кабинет министров уже находился в Бордо (в июле правительство переберется в курортный город Виши). Оставалось только сдаться на милость победителей, что и произошло 22 июня, когда Петен подписал акт о капитуляции. Франция была разделена на две неравные части со строго охранявшейся демаркационной линией между ними: север и запад страны были оккупированы немцами, а юг до поры, до времени оставался неоккупированной зоной. Туда требовался пропуск от немецкой комендатуры.
С Эдиком в парке Бют-Шомон, 1940 г.
Прошло еще несколько недель в тревожном ожидании, и от Густава под чужим именем пришло сообщение: он находился в Тулузе, просил меня оставаться на месте и обещал скоро дать о себе знать.
Однажды в августе, воскресным вечером я возвращалась домой от Мари-Луизы и медленно поднималась по лестнице с Эдгаром на руках. С лестничной клетки четвертого этажа уже можно было видеть окна нашей комнаты и кухни. Я машинально взглянула и обомлела – в комнате был свет! Что это, гестапо? Я знала о самоубийстве знакомого эмигранта, за которым в Париже уже охотились гестаповцы.
Я остановилась в нерешительности: подняться к себе, или вернуться к Мари-Луизе и больше сюда не возвращаться? А если это Густав? И я решила подняться выше и прислушаться. Если там гестапо, то будет слышен шум. Однако все было тихо. Я подошла к самой двери. Она вела в кухню – тоже полная тишина. И тут я открыла дверь в комнату и увидела Густава на кровати во всей одежде. Он крепко спал. Я растормошила его. Оказалось, что он пешком пробрался с юга в Париж, шел по ночам, а днем отлеживался в стогах сена или заброшенных сараях. Его ноги были в крови, и я с трудом стащила обувь.
Когда он немного отдохнул, он рассказал мне всю историю: узнав, что немецкие войска вторглись во Францию, он решил организовать побег из лагеря, который удался. Нужно было скрываться некоторое время, и он добрался до Тулузы, где уже было полно беженцев из северной Франции. Оттуда он смог мне послать сообщение, которое шло, как оказалось, очень долго. Он больше всего боялся того, что я, поддавшись всеобщей панике, уйду из Парижа. Остальное было делом выдержки и максимальной осторожности. Сложнее всего было незамеченным пересечь демаркационную линию.
Как быть дальше? Густав был внешне типичным немцем и разговаривал по-французски с немецким акцентом. К тому же было заметно, что его правая рука ранена, а инвалидов войны в Париже еще не было видно, тем более немецких в гражданской одежде. Он запросто мог быть остановленным полицией для проверки документов и переданным гестапо.
Наша консьержка, видевшая всех, кто входил и выходил из дома, знала, что он немец, и могла донести об этом полиции. (После войны оказалось, что она еще больше боялась Густава, чем мы ее, и никого бы не выдала полиции).
Но Густав совсем не думал о риске для его собственной жизни. Ему важнее всего было организовать мой отъезд с Эдгаром из Парижа, где вскоре был опубликован декрет маршала Петена, предписывавший множество ограничений для евреев, впоследствии и вовсе депортированных в нацистские концлагеря. В 1993 году я узнала из письма, полученного мною от члена ассоциации родственников депортированных французских евреев, что по архивным материалам мой отец числился в списке конвоя № 57, отправленного из Парижа в Аушвиц (Освенцим) 18 июля 1943 года. В этом конвое была ровно одна тысяча евреев, включая детей. Выжило лишь 52 человека… Моего отца среди них не было, он погиб в газовой камере, как три миллиона других евреев, умерщвленных нацистами в Освенциме.
Когда в октябре появился декрет Петена, мы еще были в Париже, но у меня уже был советский паспорт.
После присоединения в июле 1940 года Латвии, Литвы и Эстонии к СССР, согласно секретному протоколу Риббентропа-Молотова, который еще полвека останется в тайне, граждане этих стран, проживавшие за границей, должны были обменять в советских консульствах свои паспорта на советские, или же они лишались гражданства.
Вернувшись в Париж, Густав узнал адрес советского консульства, и я пошла туда. Мой паспорт поменяли без особых расспросов – по французскому виду на жительство я числилась студенткой, и по свидетельству о рождении вписали в новый паспорт Эдгара.
Густав решил оставаться в Париже до тех пор, пока не сможет меня с Эдгаром отправить в Советский Союз, в Ригу, и затем уйти в подполье, в движение Сопротивления оккупантам. А пока что он посвящал все свое время нам с Эдгаром. Он часто брал его в чудесный парк Бют-Шомон, пока я была занята делами или поисками работы. Всякий раз, когда он уходил с Эдгаром из дома, я очень волновалась, вернутся ли они домой.
Иногда мне приходилось уходить на целый день, чтобы что-то заработать. Однажды я договорилась со знакомой женщиной о работе у нее дома. Она жила в другом конце Парижа, и экономя деньги на метро, я вышла из дома очень рано и часами шла к ней пешком. Когда я, наконец, пришла, она открыла мне дверь со смущенным видом, и я сразу поняла, в чем дело – в прихожей висела немецкая офицерская шинель. Я повернулась и ушла, не сказав ни слова. Тогда ведь мало у кого был телефон, парижане общались по пневмопочте, особенно в срочных случаях. Я же не получила от нее никакого срочного сообщения, значит визит офицера был неожиданным. Как бы то ни было, я вернулась домой смертельно усталой и голодной, но сразу же успокоилась, увидев Густава и нашего улыбчивого малыша.
Во второй половине декабря все было готово к отъезду. Осталось только известить родителей Густава о том, что такого-то числа я буду проездом во Франкфурте с нашим сыном, их внуком. Густав очень хотел, чтобы его родители познакомились со мной и увидели Эдгара.
Я попрощалась с милой Мари-Луизой и с некоторыми другими друзьями, и в последних числах декабря 1940 года Густав посадил нас на поезд. Мы расстались с щемящим сердцем, впереди была неизвестность…
4. Возвращение в Ригу. Война – бегство в Россию
Поезд ушел с Северного вокзала Парижа поздно вечером, и утром мы прибыли во Франкфурт-на-Майне. У вагона ждали двое пожилых мужчин. Одного я узнала по описанию Густава – это был его отец. Второй оказался его дядей. Матери не было, ей нездоровилось, и она осталась в Маннгейме.
Они встретили меня весьма приветливо, без дальних слов взяли Эдгара, чемодан с его вещичками и повели меня к выходу из вокзала сказав, что я смогу продолжать путь тем же поездом на следующий день, а пока отдохну с ребенком в доме дяди, проживавшего во Франкфурте. От усталости и волнения я совсем забыла о чемодане, который Густав сдал в багаж.
Прежде чем поехать к дяде, они пошли со мной в ресторан позавтракать. В окне висела табличка с надписью «Евреям вход воспрещен». Я остановилась и взглянула на отца Густава. Он с отвращением махнул на табличку рукой и решительно открыл дверь ресторана. Мы вошли, сели за столик, и отец Густава заказал для нас завтрак, а для малыша манную кашу.
В доме дяди нас уже ждали. Там все напоминало о недавнем Рождестве. Увидев нас, тетя, полная светлоглазая немка, засуетилась. Она приготовила Эдгару ванночку и сама стала его мыть. Он очень любил воду, и когда его мыли, всегда смешно надувал щечки и пускал пузыри, плеская ручками и ножками по воде. К тому же он был красивым младенцем, с золотистыми волосиками и темными глазками. Тетя хохотала от удовольствия – малыш ей понравился.
Для меня была подготовлена душистая ванна, и я легла в нее с невыразимым наслаждением. В последний раз я мылась в ванне более трех лет назад, в доме отца в Монморанси. Даже у Мари-Луизы не было ванны, а только душ в углу кухни, отгороженный прорезиненной занавеской.
С Эдиком во Франкфурте, проездом (декабрь 1940 г.).
Отец Густава был сапожником, а дядя был простым тружеником, но судя по всему, они не нуждались. Жизнь в Германии изменилась за последние годы, разумеется, за счет оккупированных стран Европы. У немцев теперь было и масло, и кофе, и шоколад, хотя бы по праздникам.
Густав мне рассказывал, как его семья голодала в 20-е годы, когда картофельная шелуха иной раз казалась лакомством, а уж верхом блаженства была картошка, сваренная ломтиками в воде, в которую добавляли поджаренную с луком глазунью – одно яйцо на всю семью. Были периоды, когда деньги обесценивались так стремительно, что на зарплату, полученную утром, вечером можно было купить лишь коробок спичек. К тому же была массовая безработица.
Гитлер тем-то и взял немецких обывателей, что дал им работу, а им, одурманенным бредовыми нацистскими идеями, было все равно, чем занять свои руки – работой у станка военного завода или ношением оружия, маршируя в чужих странах, тем более, что настоящего отпора они практически не встречали.
Отец и дядя Густава не были нацистами. В свое время они голосовали за социал-демократов, а Гитлера они считали опасным безумцем, чья мания величия и одержимость властью приведет к новой мировой войне. Оба они сражались на фронтах первой мировой войны, где отец Густава потерял ногу (он носил протез и сильно прихрамывал). Но среди их родственников было немало таких, которые не задумываясь выдали бы Густава тайной полиции (гестапо) как предателя немецкого народа. Естественно, что они ничего не знали ни о моем приезде, ни о том, где находился Густав.
Ночью я спала под пуховой периной, что было крайне непривычно, однако не помешало мне выспаться, а утром мы вернулись на вокзал. Где-то по дороге дядя сфотографировал меня с Эдгаром на руках. Снимок был сделан фотоаппаратом, привезенным Густавом из Испании – маленький кодак 1937 года, который растягивался как гармошка. Густав подарил мне его перед отъездом, и я положила аппарат вместе со своими фотографиями в чемодан с вещичками Эдгара. Таким образом все это сохранилось. Чемодан же, сданный в багаж, пропал. Кондуктор поезда сказал, чтобы я узнавала о нем на вокзале в Берлине, где у меня была пересадка. Там меня направили в какое-то другое, центральное место. В конце концов оказалось, что мне надо было заявить о багаже на границе немецким пограничникам, а поскольку я этого не сделала, мой чемодан был снят с поезда.
Искала же я его почти исключительно из-за материалов, привезенных Густавом из Испании: рукописные газеты 11-й Интербригады, которые передавались из батальона в батальон, фронтовые зарисовки, стихи, сочиненные на фронте и др. Я спрятала все это среди своей одежды, надеясь, что смогу привезти в Ригу и сохранить. Держать же при себе в вагоне было слишком рискованно.
В поисках чемодана по Берлину, я поразилась множеству людей в военной форме на улицах, а когда села с Эдгаром в поезд, идущий к границе с Советским Союзом, в нем оказались почти одни военные. В ту же сторону шли составы с тяжелым вооружением. Мне было не по себе – все это свидетельствовало о близкой войне.
Прибыв на пограничный пункт, указанный в немецкой визе в моем паспорте, я вышла из вагона с Эдгаром и чемоданом в руках, и тут же ко мне подбежал немецкий офицер, который накричал на меня: «Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?» Я показала ему паспорт. Он долго изучал его, затем вернул мне паспорт и велел следующим же поездом вернуться к такой-то станции, а оттуда направиться к другому пограничному пункту.
Эти мытарства продолжались почти сутки, и 31 декабря 1940 года я, наконец, приехала в Ригу. По-видимому, безмерная усталость явилась причиной того, что этот день полностью изгладился из моей памяти. Но уже на следующий день, 1 января 1941 года, отдохнув от дорожных мытарств, я побывала с Эдгаром на новогоднем празднике вместе со своей сестрой Гитой, любившей танцевать и участвовавшей в художественной самодеятельности. Я не виделась с ней с 1936 года, с тех пор, как покинула Лиепаю. Тогда она была худеньким подростком, теперь же она стала привлекательной невестой с красивыми темными глазами и белозубой улыбкой. Ее жених, Моня (Марк), молодой инженер-строитель, прямодушный и честный человек, поражал меня своим неистощимым юмором.
На короткое время из провинции приехала моя мама повидаться со мной и обнять своего первого внука. Это была наша последняя встреча – больше я ее не видела. Как и многие другие евреи, она погибла в Латвии во время немецкой оккупации.
Среди друзей Мони и Гиты был молодой русский военный. Познакомившись с ним, я рассказала ему, а Моня переводил на русский язык, об увиденном во время поездки через Германию, готовившую нападение на Советский Союз. Вскоре мы узнали, что его военное начальство запретило ему общаться с нами, так как мы, якобы, «сеяли панику». Вспомнил ли он об этом спустя пять месяцев, когда Германия напала на Советский Союз, и в Риге началась настоящая паника? Скорее всего ему тогда было не до воспоминаний.
В рижской печати вопрос о возможной войне даже не ставился и не публиковались какие-либо материалы, которые предупреждали бы население о грозящей опасности, как будто больше не существовало фашизма и агрессивного нацистского режима, хотя в Риге тогда уже было немало людей, бежавших из Австрии и других европейских стран от немецкой оккупации. Что же касается меня и моего круга родных и друзей, то мы тогда еще высказывались весьма откровенно, не зная, что при советской власти надо держать язык за зубами, и что не всеми впечатлениями можно делиться с кем попало. Это станет очевидным лишь значительно позже, после войны.
Пока что, в начале 1941 года, я сталкивалась в Риге с различными мнениями и настроениями, часто диаметрально противоположными. Одни проклинали советскую власть и проводившуюся национализацию, в результате которой владельцы лишались не только своего имущества, но и работы, средств к существованию, хотя кое-кто еще оставался в своем предприятии в качестве сотрудника.
Но в Риге еще было немало людей, питавших надежду на более свободную жизнь после устранения от власти Карлиса Улманиса. Они воспринимали арест и депортацию Улманиса и ряда членов его правительства после присоединения Латвии к Советскому Союзу как неизбежное развитие событий, хотя это могло уже служить предвестником будущих массовых арестов и депортаций без суда и следствия. В июне 1941 года, за считанные дни до начала войны, из Латвии было депортировано в Сибирь более 14-ти тысяч ни в чем не повинных людей, целыми семьями, среди них около 1800 евреев.
Но до этого еще оставалось пять месяцев. Среди тех, кто радовался появившейся возможности активно участвовать в политической жизни Латвии, были освобожденные из тюрем политические заключенные и бывшие подпольщики. Некоторые из них уже занимали ответственные посты, как тот директор мебельного предприятия, бывший рабочий, который принял меня на работу счетоводом, хотя у меня не было ни специальных знаний, ни опыта. Может быть поэтому, а также потому, что я владела немецким языком, он вскоре направил меня в одну из комиссий по репатриации балтийских немцев.
Еще в октябре 1939 года, когда советское правительство навязало прибалтийским государствам – Литве, Латвии и Эстонии договор о строительстве советских военных баз на территории этих стран (в Латвии предусматривались три базы, в том числе в Лиепае), немецкое правительство информировало своих послов в Прибалтике о своем решении репатриировать балтийских немцев. Для этой цели было создано специальное акционерное общество (Umsiedlungs-Treuhand-Aktiengesellschaft), которое проводило работы по погрузке имущества балтийских немцев и их переселению в Германию. На то имущество, которое должно было оставаться (недвижимость, предприятия и другая собственность), составлялись списки, по которым владельцы должны были получить определенную компенсацию.
Когда я вернулась в Ригу, эта работа шла полным ходом, и в одну из комиссий, занимавшихся этим делом, попала я по распоряжению своего директора, в свою очередь выполнявшего распоряжение вышестоящего начальства. Это тоже было характерной особенностью национализации – вместо одного руководителя появилась цепочка связанных между собой начальников, и каждый давил на нижестоящего, давая ему указания.
Комиссия по репатриации состояла из трех человек – немецкого представителя и двух местных уполномоченных, представлявших финансовые ведомства и городские власти. Я не помню, кого я там представляла, но занималась я тем, что под диктовку составляла списки имущества соответствующих немецких семей. В связи с этим я оказывалась в самых разных домах: богатых, среднего достатка и бедных, и сталкивалась с самыми разными настроениями, от радости до настороженности и грусти. Молодые немцы чаще всего рвались в Германию, старики же с трудом расставались с накопленным имуществом и привычными условиями жизни.
Подавляющее большинство балтийских немцев никогда не проживало в Германии. В Прибалтике их предки жили многими поколениями, переняв обычаи местного населения. Даже произношение немецкого языка отличало их от жителей Восточной Пруссии или других областей Германии.
Очень ярко запомнилось мне одно посещение немецкой семьи – пожилой супружеской пары, жившей в двухкомнатной квартире на улице Дзирнаву. Это была относительно бедная семья, по-видимому, социал-демократы. Вместо портретов предков на стене столовой висели большие портреты Карла Маркса и Августа Бебеля, одного из основателей и самого популярного лидера германской социал-демократической партии до его смерти в 1913 году. Его книга «Женщина и социализм» была переведена на многие языки и попалась мне на глаза, когда я рылась на полках лиепайской библиотеки.
Когда мы вошли в эту комнату, я сразу же заметила ироническую усмешку, с какой немецкий представитель разглядывал эти портреты. Он несомненно был связан с гестапо, и я не сомневалась в том, что эти пожилые немцы попали в кандидаты для концлагеря. Они понятия не имели о том, какая участь их ждала в Германии, но даже если бы они догадывались об этом, они были бы бессильны что-либо предпринять – репатриация была, безусловно, одним из последствий секретного соглашения Риббентропа-Молотова, жертвами которого стали и эти несчастные пожилые люди.
Как только я поступила на работу, я смогла устроить Эдика – так все здесь звали Эдгара, и я тоже, в дневные ясли, где он с первого дня стал любимцем латышской няни, высокой полной блондинки средних лет. Она умоляла меня отдать ей Эдика. Я, мол, еще молода, у меня еще будут дети… Я слышать ничего не хотела об этом и, конечно, никогда бы его не отдала.
В это время у меня уже была своя комната, которую мне уступил знакомый врач, живший в большой квартире и опасавшийся «уплотнения» – вселения посторонних людей. Он предпочитал меня в качестве соседки, тем более, что я была дружна с его женой и дочерью.
Зарплата у меня была маленькая, и весной я перешла на работу старшим счетоводом в электрическом предприятии регионов Видземес и Земгалес, находившемся в красивом здании на улице Смилшу. Среди сотрудников было немало дамочек из состоятельных латышских семей, но начальником уже был советский латыш из партийной номенклатуры, один из их начальников, которых советская власть назначала на руководящую должность независимо от отрасли и специальности, и которые беспрекословно выполняли все «указания партии и правительства». Это позволило нашему начальнику каким-то образом выжить в годы массовых чисток и репрессий.
Вместе с тем, он был старым большевиком, еще обладавшим минимальными личными потребностями и полностью отдавшим себя «делу социализма, служению партии и народу». Мне не раз приходилось относить ему домой какие-то бумаги на подпись, так как он часто болел (кажется, у него была язва желудка), и я поражалась неустроенности и неуютности его спартанского быта. По характеру он был весьма прямолинейным человеком, не лишенным какой-то внутренней честности и порядочности, хотя ему, по всей вероятности, не раз приходилось идти на сделку со своей совестью. Он был из тех партийцев, которые слепо верили магическим словам «так надо», не задумываясь или стараясь не задумываться над тем, почему там надо.
Геня и моя кузина Юдит Берзинь (18 июня 1941 г.).
До начала войны оставалось менее двух месяцев. Из Парижа вернулся мой брат Лео, уже тяжело больной туберкулезом. Его удалось устроить в еврейский туберкулезный санаторий в Приедайне, небольшом поселке недалеко от Рижского Взморья. Лео привез мне долгожданное письмо от Густава, с которым он связался перед отъездом с помощью Мари-Луизы. Густав уже был в подполье, в движении Сопротивления. Лео оставил ему свой французский вид на жительство, по которому Мари-Луиза впоследствии смогла получить для Густава продовольственную и промтоварную карточки – с конца 1941 года продукты уже продавались во Франции по талонам.
Письмо Густава, переданное мне братом, оставалось последней весточкой о нем в течение очень многих лет.
22 июня 1941 года мы все проснулись в другой эпохе – началась война, по праву названная Великой Отечественной, независимо от того, какое содержание Сталин и его окружение вкладывали в слово «Отечество».
Когда по радио прозвучало сообщение о нападении Германии на Советский Союз, мне было ясно одно – из Латвии надо бежать, и как можно скорее. Зная, как быстро немцам удалось оккупировать Данию, Голландию и Бельгию, я не питала никаких иллюзий насчет Латвии и других прибалтийских стран.
В тот же день я связалась с Гитой и предложила ей уехать вместе со мной, но она решила эвакуироваться с Моней, с которым она сразу же расписалась, став его женой. Я попыталась связаться с мамой, но безуспешно (как потом оказалось, Лиепаю немцы оккупировали в первые же дни войны). Меня сильно беспокоила судьба брата, и я поехала в Приедайне, чтобы его забрать, но врач сказал, что он слишком слаб, чтобы самостоятельно передвигаться по городу, и что он будет эвакуирован вместе со всеми больными и медицинским персоналом (увы, они не успели этого сделать, и немцы расстреляли всех на месте, больных и весь еврейский персонал этого санатория). Но я все же успела повидаться с Лео. Мы долго беседовали, и он показал мне свои последние рисунки – прекрасные портреты окружавших его людей. Мне было очень страшно за него, но я была бессильна что-либо сделать.
В эти первые дни войны, в разговорах с родными и знакомыми, с которыми я встречалась, постоянно возникал вопрос об эвакуации. Одни соглашались со мной, другие возражали, считая, что лучше оставаться на месте, среди родных стен, чем попасть из огня да в полымя. У мужа моей родственницы Юдит советская власть отобрала большой продуктовый магазин и выгнала его на улицу. Он и слышать не хотел об эвакуации в Россию. Врач, у которого я жила, тоже не собирался никуда уезжать, считая что немцы не могут быть хуже русских, неделю назад выславших в Сибирь знакомых ему добропорядочных людей, даже не позволив им подготовиться к дороге. Среди депортированных были видные деятели еврейской общины Риги и известный ученый, признанный специалист в области криминологии профессор Минц.
Тогда еще ничего не было известно о намерении Гитлера и его приспешников заняться «окончательным решением» еврейского вопроса, которое будет сформулировано ими в конце июля 1941 года, и уже через пару месяцев начнется почти поголовное уничтожение евреев в газовых камерах концлагеря Освенцим. Но еще до начала войны в Риге было известно о систематических и массовых преследованиях евреев в Германии и оккупированных немцами странах. Однако и опыт первого года советской власти, по мнению многих рижан, тоже не сулил ничего хорошего. Культурные учреждения еврейской общины – прекрасный театр, школы, закрывались, не говоря уже о последствиях национализации и депортации. Не удивительно, поэтому, что так много евреев оставалось в Латвии. Одни не хотели уезжать, другие не успели.
Я ломала себе голову, как мне выбраться с Эдиком из Риги. Железнодорожных билетов не было, а пешком я бы далеко не ушла, с ребенком на одной руке и с чемоданом в другой. И тут мой хозяин – врач мимоходом обмолвился о том, что ему надо сдать билет на поезд в Даугавпилс, куда его пригласили для консультации, но из-за начавшейся войны он не поедет. Я обомлела: «Как?! У вас билет в Даугавпилс, и вы не собираетесь им воспользоваться?! Тогда отдайте лучше мне, чем сдавать на вокзале». И он отдал мне этот билет на последний поезд, как потом оказалось.
Снова я собирала вещички Эдгара, в первую очередь его зимнюю шубку, в тот же чемодан, с которым приехала из Парижа, положила туда кое-что из своих вещей, фотоаппарат, подаренный мне Густавом, и свои фотографии – память о прошлом и близких мне людях. В летнем пальто, с Эдгаром и чемоданом в руках, я села в поезд на Даугавпилс, откуда еще предстояло добираться до русской границы.
Мы уехали весьма вовремя, как мне впоследствии рассказывали. На следующий день в Риге началась паника. Местным фашисты, до поры до времени припрятавшие оружие, начали стрелять в людей и в готовые к отъезду грузовые машины с чердаков и крыш зданий. Поездов не было, люди выбирались из города кто как мог. Многие не смогли спастись, наступавшие немцы их настигали.
Когда мы приехали в Даугавпилс, перрон уже был забит людьми, ждавшими поезда в Зилупе – городок у русской границы. Толпа все росла, а поезд не шел. Я стояла с Эдиком и чемоданом в руках, не зная, что мне делать. Со всех сторон нас сдавливали люди с узлами и чемоданами. Вдруг к станции стал приближаться какой-то состав, люди сдвинулись еще ближе. Это оказался военный эшелон. Он остановился, но никого из ожидавших поезда в него не пускали. Люди шумели, волновались. Какой-то солдат из эшелона что-то крикнул, указав в мою сторону. Я не успела опомниться, как меня с ребенком и чемоданом уже втаскивали в эшелон, через головы людей. По-видимому, я все же родилась под счастливой звездой…
Солдаты напоили нас чаем, я куда-то приткнулась с ребенком и тут же уснула. Не знаю, как долго я спала. Проснулась я уже в России, а Эдик все еще продолжал мирно спать.
5. В русской глубинке. Возвраще
На какой-то русской узловой станции мне пришлось покинуть военный эшелон. Я чуть ли не со слезами попрощалась с пожалевшими Эдика и меня солдатами и вышла на перрон. С множеством других людей, подталкиваемая со всех сторон, я с трудом пробралась в какой-то пассажирский поезд с ребенком и чемоданом в руках. Поезд был битком набит, о билетах никто и не заикался. Через какое-то время выяснилось, что он должен был идти в Москву, но очевидно не раз менял направление, пока через сутки не прибыл на станцию Клин, где по громкоговорителю сообщалось, что в Москву никакие поезда не пойдут. Все вышли из вагона, и я со всеми.
Стоя с Эдиком и чемоданом в руках на перроне, я обдумывала, что же делать дальше, как вдруг услышала латышскую речь. Оказалось, это были эвакуированные. Вместе с другими, они ехали в стоявшем рядом товарном поезде. Я немедленно присоединилась к ним. Теперь я была спокойна – куда, они поедут, туда и я. Снова я провела несколько суток в дороге. Мы сидели или спали на соломе, с трудом добывали на станциях у бабушек что-то поесть, или немного молока для ребенка, причем каждый раз было неизвестно, как долго поезд будет здесь стоять. Иногда он стоял на станциях часами, иногда отправлялся через несколько минут, причем без свистка.
В вагоне было ведро, и когда вода кончалась, кто-то выходил на платформу за водой. На большой станции Старая Русса я решила, что и мне надо принести воду – ведро уже было почти пустым. Я взяла его и побежала по платформе, нашла кран и начала набирать воды, как поезд двинулся. Услышав скрежет колес, я бросила ведро и побежала догонять набиравший скорость состав, но не смогла догнать. Он ушел вместе с Эдиком!
Вне себя от отчаяния, я ворвалась в здание станции. Кто-то посоветовал мне найти военного коменданта. Я разыскала его и на ломанном русском языке, рыдая, просила помочь: поезд ушел, а там мой ребенок! Комендант тоже не знал, куда ушел поезд, к тому же там шли и другие поезда в разные стороны: военные, пассажирские, товарные. Но он пожалел меня и стал но телефону выяснять, куда ушел состав с эвакуированными. Через короткое время, показавшееся мне вечностью, он сумел узнать, что состав находился там же, в Старой Руссе, на товарной станции. Он вышел со мной на улицу и показал, в каком направлении бежать, чтобы попасть на эту станцию. И я понеслась со всех ног. Приближаясь к станции, я издали увидела поезд и людей около вагонов. Завидев меня, они начали махать, мол, скорей, скорей! Я мчалась что было сил и прибежала на последнем дыхании… Никто не упрекнул меня в том, что я бросила ведро. Без Эдика я уже не выходила из вагона ни на минуту.
Прошло еще несколько суток, пока на какой-то станции нас всех не высадили из вагонов, посадили на телеги и стали развозить по колхозам. Мы оказались в Пьяно-Перевозском районе Горьковской области, на юго-востоке от города Горький и на северо-востоке от Арзамаса. Название района, по-видимому, происходило от названия протекающей там реки Пьяна, где безусловно был перевоз.
Вместе с некоторыми другими эвакуированными, которые, впрочем, очень скоро уехали из этого района, я попала с Эдиком в небольшой и весьма бедный колхоз. В мирное время большинство мужчин оттуда, а также из соседнего колхоза, уезжали на заработки на Волгу, в город Горький и другие места, так как в колхозе за целый год тяжелого труда они могли заработать не более мешка зерна, а порою и того меньше. Когда началась война, мужчины ушли воевать, и вся тяжесть работы в колхозе и на личных огородах, за счет которых колхозники кормились, легла на плечи женщин и подростков. Но если они и раньше заменяли мужчин, то теперь уже никто не привозил им гостинцев и денег на покупку самых необходимых продуктов и других товаров: соли, сахара, крупы, муки, спичек, мыла и т. д.
Единицей учета труда в колхозах был трудодень, но нормы были такие, что женщинам, а тем более подросткам, редко удавалось за день выработать полный трудодень. Например, на прополке или окучке картофеля, чем я тоже занималась, вырабатывали лишь часть трудодня. Моя хозяйка – 70–80 сотых трудодня, я – 30–40, так как у меня, естественно, сноровки было несравненно меньше. Полный трудодень можно было выработать на косьбе и молотьбе, но и прополка поля была не менее тяжелым трудом, от нее спину ломило не меньше.
Как и у колхозников, у меня была учетная книжечка, куда бригадир заносил начисленные трудодни. Расчет с колхозниками производился после уборки урожая и выполнения обязательств перед государством – госпоставок, которые в годы войны были сильно увеличены. В итоге оказывалось, что после сдачи зерна государству и засыпки обязательных колхозных фондов – семенного и фуражного, на трудодни ничего не оставалось.
Упомянутые фонды были источником непрекращавшегося воровства, как я впоследствии убедилась, попав в соседний, крупный колхоз. Это могло происходить лишь в колхозах и совхозах. Какой же нормальный хозяин собственной земли станет рубить сук, на котором он сидит – воровать семена у своих полей и фураж у своего скота!
Урожаи зерна и овощей в этих колхозах были крайне низкими из-за недостатка удобрений и плохой обработки почвы. В первом колхозе, куда я попала, было очень мало коров и лишь несколько тощих лошадей.
Меня с Эдиком поселили в избу бригадира, мужчины средних лет с искалеченной рукой, из-за которой его не взяли в армию. Как почти все избы этого колхоза, его бревенчатая четырехстенная изба, кроме сеней, имела лишь одно помещение с большой русской печью, сколоченными из досок лавками вдоль стен и таким же столом. У дверей висел рукомойник, под которым стояло ведро. Рядом висело полотенце.
К избе примыкал хлев, где жила одна единственная коза, и который использовался также в качестве туалета, к чему привыкнуть мне было труднее всего, и каждый раз приводило меня в содрогание.
Кроме бригадира, его жены и двоих детей 8-ми и 10-ти лет, в избе жила старуха-теща. Она спала на печи, где лежала всякая ветошь, сушилась промокшая одежда, а зимой лежали и валенки. Там же в углу стояла квашня с опарой. Дети спали на лавках, бригадир с женой – в закутке, углу за печью, отгороженном занавеской.
Старуха часто брала к себе на печь Эдика. Вскоре я с ужасом обнаружила, что она вшивая, и сразу же остригла Эдику все полосы. Запретить ей брать его к себе я не могла. Она была очень доброй и сердобольной, и это бы ее кровно обидело. В ее глазах мы были «выковыриванные» – так она произносила и понимала слово «эвакуированные», то есть, насильственно вытащенные из родной среды, что было близко к истине. Она жалела Эдика, и когда я работала в поле, а он на это время оставался в колхозных яслях, она то и дело наведывалась туда узнать, не обижают ли «выковыриванного» Эдика.
К тому же вшивость была общим явлением в этом колхозе. Я часто видела, как женщины и девушки, сидя на завалинках – земляных насыпях у стен изб, искали друг у друга вши в волосах. На мой взгляд дело тут было не только в отсутствии мыла и других средств, например, керосина, которым при вшивости натирали волосы, но также в хроническом недоедании, ослабленном организме. Несмотря на то, что в годы войны я жила в тех же условиях, вши у меня не завелись. По-видимому, мой организм еще обладал достаточными защитными ресурсами.
Колхозницы были чистоплотными. Они скребли столы и деревянные полы ножами и отмывали их чуть ли не добела. Они успешно стирали белье золой из печи, что делала и я за отсутствием других средств, а затем полоскали в речке, где зимой прорубали во льду большое отверстие. Когда я впервые сунула руки с бельем в прорубь, мне казалось, что они вот-вот превратятся в ледышки и отвалятся. Но ничего, не отвалились, а раскраснелись и горели, как от сильного жара.
И в черной русской бане можно было обойтись без мыла. Моя хозяйка поливала раскаленные камни ковшиком из ведра, с шипением поднимался пар, от которого захватывало дыхание и стояла такая влажная жара, что все поры раскрывались и пот стекал ручьями. В добавок мы колотили друг друга березовыми вениками, запасенными в лесочке. Из бани мы выскакивали голыми и распаренными докрасна в предбанник, где зимой лежал снег и стоял лютый мороз. Крыша здесь была худая, видно, соломы на все не хватало.
Солома была жизненно важным продуктом в колхозе. Ею крыли крыши, ее подстилали в хлеву. Соломой топили печи: ее вязали в тугие, длинные снопики, постепенно всовывали в горящий очаг, и после того, как горячий пепел накалил «под» очага, его нижнюю плоскость, жар отгребали в сторону, железным ухватом ставили туда чугунок с едой и закрывали заслонку. Как ни удивительно, но от соломы печь сильно нагревалась, и жар стоял долго. На следующий день от него снова разгоралась солома. Я очень скоро научилась проделывать эту операцию, не обжигая руки, как и таскать на коромысле два ведра воды из колодца, не расплескивая ее.
Изрубленная солома – сечка шла на корм скоту, а мякина, отвеянная от колоса плева – в пищу людям: ее добавляли вместе с истолченной вареной картошкой к муке, которой в хлебе было меньше всего. Этот неудобоваримый хлеб был наряду с картофелем в мундире основным продуктом питания. Из него готовили тюрю: крошили в миску, заливали водой и подбеливали козьим молоком. Тюрю давали и младенцам, только матери предварительно прожевывали хлеб.
В первый же день в колхозе нам пришлось отведать это блюдо. Жена бригадира поставила на середину стола большую миску с тюрей, у каждого была деревянная ложка, и после того как по традиции первым из общей миски начал черпать хозяин, присоединялись все остальные.
У Эдика был прекрасный аппетит и он был, к счастью, всеядным существом, я же с трудом могла скрыть отвращение. А что оставалось делать? Отказаться от предложенной пищи, ходить голодной? Выбора не было, нужно было приспосабливаться к обстоятельствам.
До начала уборочной была небольшая передышка, и мы с хозяйкой и с детьми отдыхали душой и телом в чудесном березовом лесочке, где было много земляники и подберезовиков. Ягоды тут же съедали, а из грибов варили суп. Хозяйка ничего не солила, она берегла соль для хлеба и картошки, а также для щей, когда поспевала капуста. Весной, когда капуста кончалась, колхозники собирали по оврагам молодую крапиву для щей.
Я не видела ни в этом колхозе, ни в соседнем, чтобы на огородах росли морковь, салат, помидоры. Земли у колхозников было мало, и они сажали лишь самое необходимое: картофель, капусту, свеклу, огурцы и лук, а кое-где еще и табак, листья которого старики сушили, крошили и но щепотке сыпали в «козьи ножки» – самодельные папироски. Свеклу вялили в печи: чугунок со свеклой ставили в печь на ночь в течение трех суток, после чего свекла становилась черной, липкой и сладкой, и с ней в прикуску, вместо сахара, пили травяной чай или просто кипяток. Дети, и Эдик тоже, ее очень любили, и свеклы еле хватало на зиму.
Началась молотьба, и я работала на току вместе с женщинами и подростками. Снопы в дряхлую молотилку подавал 12-летний белобрысый Саня, работавший на молотьбе с утра до вечера как взрослый мужчина, а на обед младшая сестренка приносила ему картошку, огурец, кусок клеклого хлеба и кринку с водой. Нельзя было не восхищаться необыкновенной стойкостью этих ребят и женщин, таким каторжным трудом, почти ничего не получая взамен, добывавших хлеб для страны и ушедших на фронт солдат.
Так тяжело работавшие женщины и дети, не жалевшие себя, были вынуждены питаться мякиной, но не имели права собирать в поле упавшие колоски. Птицам нельзя было это запретить, и они их клевали. А людей строго судили, даже детей, но они все равно потихоньку их собирали – голод был сильнее страха. Такая это была изуверская власть, которая вершила тогда судьбами огромной страны и многомиллионного народа.
Единственным утешением для колхозников были треугольнички – письма с фронта, весточки от мужей, отцов, братьев, сыновей. Но, увы, уже стали прибывать и похоронки, и тогда у несчастной солдатки, потерявшей мужа, или старухи, потерявшей сына, собирались бабы и раздавались такие причитания такое вытье, что кровь стыла в жилах. Но это было еще только начало четырехлетней изнурительной войны. Похоронок будет все больше и больше.
У колхозников не было ни газет, ни радиоточек. Новости узнавали в правлении колхоза, от председателя или счетовода, а эти новости были плохими: Красная Армия все отступала и отступала, с боями, как сообщали сводки Совинформбюро.
Не успела еще закончиться уборка урожая, как у меня заболел Эдик. В колхозных яслях за малышами присматривал дети и полуслепые старухи. О санитарии и речи не было. Не удивительно, что Эдик что-то съел, от чего у него начался понос, напоминавший дизентерию. Не было ни врача, ни лекарств. Вести же в районную больницу означало бы обречь его на верную смерть. Детская смертность, особенно в раннем возрасте считалась в колхозах чуть ли не естественным явлением. «Бог дал, Бог взял» говорили колхозники, вопреки всей пропаганде и агитации коммунистической партии верившие в Бога, как верили их предки.
Узнав о болезни моего ребенка, в избу бригадира то и дело заглядывали бабы с причитаниями и утешительными словами, вроде «Бог тебя избавит…» Я их гнала из избы и не отходила от Эдика, который уже не мог держать голову от слабости. Пытаясь возместить обезвоживание его организма, я то и дело понемногу поила его кипяченной водой. Кто-то привез мне из районного центра горсточку риса, обмененную на что-то. Я разварила рис до клейкой жидкости и этим поила Эдика. Через несколько дней он начал поправляться…
Первая военная зима была особенно холодной. Мороз ежедневно достигал 40 градусов, но, к счастью, был сухим и безветренным. Почти всю зиму я проходила в летнем пальто, только голову и шею закутывала теплой шерстяной шалью, на которую я обменяла свою рижскую блузку. На ногах у меня были лапти и онучи, которыми я обертывала ноги почти до колен. Такой меня сфотографировали, улыбающейся, на снегу, с засунутыми в карманы пальто руками и висящим сбоку футлярчиком от моего кодака, на фоне бревенчатых изб с покрытыми толстым слоем снега соломенными крышами.
В начале 1942 года в армию ушел счетовод колхоза. Районный военный комиссариат начал посылать призывные повестки еще не мобилизованным мужчинам – видно, потери Красной Армии были огромными. Председатель колхоза, хромой старик, назначил на эту должность меня. Я, мол, считать умею, а то, что я еще плохо говорю по-русски, не беда, научусь. И я пошла работать в правление колхоза, где председатель учил меня писать справки для колхозников: «Дана сия Мешалкину Федору Ивановичу…» Русские буквы я писать умела. Воля не зря со мной занимался.
Колхозники не имели паспортов или других документов, удостоверяющих личность, и когда им нужно было куда-нибудь поехать или поступать куда-то на учебу, правление колхоза выдавало им соответствующую справку. Естественно, что колхозники предпочитали не ссориться с председателем, который мог и не дать справки и таким образом заставить их оставаться работать в колхозе.
В качестве счетовода мне приходилось ездить с председателем в районный центр, в разные учреждения: райсовет, райзо (земельный отдел) и другие. Лошадью правил сам председатель, в меховой шапке-ушанке, огромном тулупе и толстых валенках – до центра было километров двадцать, а морозы стояли свирепые. Я сидела в телеге на соломе, закутанная в тулуп счетовода поверх моего летнего пальто. И вот, однажды, увидев меня в летнем пальто и лаптях, председатель райсовета дал моему председателю нагоняй, и тут же были раздобыты для меня теплое пальто и валенки. Все находилось, как по мановению волшебной палочки, если высокое начальство того захотело.
Видимо, из-за этого случая в районном центре обратили на меня внимание. Когда в армию вскоре призвали и счетовода соседнего, крупного колхоза, меня перевели туда на эту должность, но не на трудодни, как прежде, то есть бесплатно, а на месячную оплату труда, состоявшую из полпуда муки (8 кг). Это позволило мне печь настоящий ржаной хлеб, без картошки и мякины, а также обменивать часть муки на молоко для Эдика и другие необходимые продукты.
Нас поселили в избу, где жила молодая колхозница с дочерью-школьницей. Как и у всех, ее муж был на фронте. Эта изба тоже была четырехстенная, и условия были те же, но мы теперь уже не были вынуждены «хлебать» тюрю, и за короткий срок Эдик заметно окреп. Всякий раз, когда я пекла хлеб и угощала им свою хозяйку и ее дочь, они наслаждались им как пирожными. Они давно не ели настоящего ржаного хлеба.
В колхозной конторе дела осложнялись с каждым днем все больше. Приступив к работе, я сочла своей обязанностью проверить состояние отчетности в колхозе и соответствие того, что числилось в бухгалтерских книгах, с тем, что было в наличии, и вскоре убедилась в том, что колхоз разворован. Акты о падежи скота не соответствовали действительности, о чем меня уже предупредила моя хозяйка, работавшая на ферме. Когда я потребовала, чтобы мне показали, где павший скот зарыт, заведующая фермой пришла в замешательство. Коровы были в такой плачевном состоянии, будто их всю зиму кормили одной соломой. Не лучше было и с лошадьми. Но хуже всего дело обстояло с семенным фондом. Весна приближалась, а семян почти не было.
Я еще не успела составить акт об итогах проверки, как председатель собрал членов правления, где были одни старики и в моем присутствии объявил им, что я не справилась с возложенной на меня задачей, и он решил снять меня с должности счетовода.
Эта новость молниеносно облетела весь колхоз. Возмущенные бабы собрали делегацию в районный центр, чтобы отстоять «первого честного счетовода», появившегося в колхозе в кои-то веки. Этим делом верховодила отчаянная женщина, гроза колхоза, Маша – водовоз, огромная баба с зычным голосом и серо-бурым лицом, обладавшая невероятной физической силой и выносливостью.
Колхозное село и ферма были расположены на невысоких холмах. В низине текла речка, откуда бралась вода для фермы. Под гору тощая лошаденка шла сама, в гору же лошадь, телегу и бочку с водой таскала Маша – водовоз.
Не прошло и несколько дней, как меня ночью разбудила хозяйка, ни жива ни мертва от страха: «Таня, вставай, тебя вызывает начальник НКВД». Протирая глаза, я спрашивала: «Какой начальник? Почему ночью?» Но в дверях уже стояла колхозница, посланная начальником за мной. Я быстро оделась и пошла с ней. В ее избе мне навстречу поднялся невысокий черноволосый и черноглазый мужчина во френче, с виду татарин. В этом районе было немало татар и чувашей. Их автономные республики находятся к востоку от Горьковской области.
Он поздоровался со мной за руку, попросил садиться и начал очень странный разговор: «Вы, говорят, жили в Париже. Расскажите о Париже, что вы там делали, на что жили, как там одеты полицейские».
Коверкая русские слова, но в общем-то вполне понятно, я начала рассказывать о Париже, и по мере того, как говорила, разгоралась все больше, и с энтузиазмом описывала многотысячные митинги в защиту республиканской Испании, куда собиралась и я, чтобы сражаться в Интербригадах. Я рассказала также о том, что в Париже зарабатывала шитьем, что с полицейскими мне не приходилось сталкиваться, но что я их видела, и описала их внешний вид: кепки, накидки.
Я, наверно, говорила очень долго. Уже начинало светать, когда он меня прервал и спросил, смогла бы я сшить ему гимнастерку. «Конечно, если у вас есть швейная машинка». Потом речь зашла о моем кодаке. «Говорят, у вас есть фотоаппарат», сказал он. «Можете ли вы мне его показать?» «Да, конечно», и я сбегала за ним, показала его начальнику, но просила не испортить пленку. Там заснят мой сынок, и я хочу сохранить эти снимки. Он сказал, что возьмет фотоаппарат с собой, но вернет мне его с проявленной пленкой. Я уже собиралась уйти, считая разговор оконченным, как он меня остановил и спросил: «Вы знаете, кого вы мне напоминаете?» Я взглянула на него с недоумением. «Лялю Черную», сказал он. Я приняла эта к сведению, так как понятия не имела, кто такая Ляля Черная! Потом хозяйка рассказала мне, что до войны была такая знаменитая киноактриса, и что у нее были черные глаза и такие же густые темные волосы, как у меня.
На прощание начальник пожал мне руку и сказал: «Продолжайте работать, Таня, ничего не бойтесь».
Когда я вернулась, хозяйка была чуть ли не в обморочном состоянии. Она была уверена, что меня больше не увидит. Я же была слегка возбуждена от парижских воспоминаний, но в остальном ничем не взволнована. Я так и не поняла, чем был вызван ночной визит начальника еще не известного мне НКВД. Если в Риге кто-то и упоминал это название, то оно не запало в мою память и ни с чем не ассоциировалось в моем сознании. Поэтому я не испытывала никакого страха, услышав его. Может быть, приезд начальника НКВД был связан с появлением в районном центре делегации колхозниц, наделавшей шума, или это было следствием доноса со стороны председателя колхоза, решившего таким образом от меня избавиться. О том, что у меня был фотоаппарат, знал весь колхоз с того момента, как его увидели моя хозяйка и ее дочь. Кстати, аппарат мне вернули с проявленной пленкой – начальник выполнил свое обещание.
Лишь много позже я поняла, в какую опасную ситуацию я тогда попала. Если бы начальником НКВД был не этот татарин, по всей вероятности умный человек, а какой-нибудь полуграмотный мужик, бывший колхозник – бедняк, поднявшийся по социальной лестнице и выслужившийся в начальники, меня бы на всякий случай упекли в места не столь отдаленные, а мой ребенок попал бы безымянным в детский дом, как многие малыши репрессированных матерей.
Прошло еще несколько дней, и в колхоз нагрянула ревизионная комиссия. Выводы моей проверки были подтверждены, главные виновники – председатель колхоза и его сообщник, председатель сельсовета, были вскоре отправлены на фронт, в штрафную роту. Райзо обязал ряд председателей колхозов выделить семена для весеннего сева нам в заем. Мне пришлось присутствовать на этом шумном заседании, где каждый выступавший доказывал, что у него нет ни грамма лишних семян.
После этой эпопеи я проработала в колхозе еще год. Весной я посадила для себя картошку, но не целиком, а как делала моя хозяйка, экономя картофель: она отрезала и сажала лишь ту его часть, где был здоровый глазок, откуда затем появлялся росток. В итоге я обеспечила себя картошкой до следующей весны.
Летом опять случилось чрезвычайное происшествие. Когда я работала в колхозной конторе, Эдик оставался в детских яслях, находившихся рядом со школой, в низине, где текла речка. Однажды в контору ворвалась девочка с криком: «Тетя Таня, тетя Таня, Эдик утонул!» Я бросилась бежать к речке, вне себя от отчаяния, и не успев добежать, увидела учительницу с Эдиком, живым и здоровым. Оказалось, он забрел в речку и вполне мог бы утонуть, если бы учительница, жившая в пристройке к школе, его не заметила, и не вытащила из воды.
В нашем колхозе было несколько эвакуированных женщин и девушек. Они постепенно разъехались в разные места. Одна из них поступила на курсы медсестер, где она познакомилась с моей сестрой Гитой. Таким образом Гита узнала, где я нахожусь, и написала мне письмо. Оказалось, она была эвакуирована в Чувашию, и оттуда уехала на эти курсы.
Через несколько месяцев, зимой 1942 года, Гита сообщила мне, что Моня, ее муж, отправлен из военного училища в Гороховецкие лагеря, под Горьким, где формировалась латвийская дивизия. Это было не слишком далеко от нашего колхоза, и я решила навестить его, насушила сухарей на дорогу и для гостинца Моне, оставила Эдика со своей хозяйкой, уже не работавшей больше на ферме, и с саночками отправилась в путь, через густые горьковские леса. От села к селу там была проторена дорога в город Горький, по которой с санками шли люди, кто навестить родню, кто обменять картошку на муку. Стоял тихий мороз, далеко не такой сильный как год назад, идти через красивый, запорошенный снегом лес было очень приятно и совершенно безопасно. Люди в то время были удивительно солидарными, сочувствовали друг другу, старались помочь. Общие тяготы, лишения, потери, тревоги и надежды сближали и объединяли людей в военные годы.
Когда начинало темнеть, я останавливалась на ночь в ближайшем селе. Тогда можно было постучать в любую дверь или в окно, и жители села пускали ночевать, не требуя никакой платы. Они угощали путника кипятком, если он был, и подстилали ему какую-нибудь одежку на лавку или на пол.
За три дня я добралась до Горького, и не заходя в город, нашла дорогу в Гороховецкие лагеря. Когда я, наконец, туда пришла, меня остановил часовой. Я сразу же заговорила с ним по-латышски. Что тут началось! Меня окружили солдаты, появился офицер, срочно разыскали Моню, и всю ночь, сидя в землянке с ним и с его товарищами – лейтенантами, попивая чай с сухарями, мы разговаривали, вспоминали Ригу, Латвию, родных. После войны, всякий раз, когда звучала популярная песня «Бьется в тесной печурке огонь…», я вспоминала эту ночь в землянке и наш нескончаемый душевный разговор.
Рано утром мы попрощались, и я двинулась в обратный путь, усталая от бессонной ночи, но довольная и окрыленная надеждой, что эти замечательные молодые воины добьются заветной цели – освобождения Отечества и вернутся на Родину, что бы они не подразумевали под этим словом: край латгальских озер, видземские хутора или Старую Ригу. Среди них были русские из Латгалии, латыши из разных мест Латвии, еврей из Риги, но все они были братьями по оружию, и не было среди них ни старших, ни младших.
Это была пора жестоких сражении под Сталинградом и в самом городе, за каждое здание, превращенное в руины. Подробности Сталинградской битвы станут известны лишь после войны, во времена Хрущева, но из скупых сводок Совинформбюро уже тогда было ясно, что шла невиданная битва, от исхода которой зависела судьба страны.
Победа под Сталинградом вызвала у меня и у всех вздох облегчения и надежду на скорое изгнание или уничтожение немецких оккупантов. Мы ждали с нетерпением открытия союзниками второго фронта в Западной Европе, но они почему-то не спешили с этим. В колхоз вернулись первые раненые, и все чаще стали прибывать похоронки.
Весной 1943 года я получила письмо от женщины, которая была эвакуирована в наш колхоз, а впоследствии уехала в город Шуя Ивановской области. Она звала меня туда, там было немало эвакуированных из Латвии. И я решила туда переехать.
В большом пригородном овощеводческом колхозе Шуйского района работали сестра и 14-летняя дочь наркома легкой промышленности Латвии в 1940–1941 годах, Шица. Меня взяли в сортиспытательную бригаду, в то же самое звено, где они работали. Нас было всего 18 женщин и девушек. Звеньевой была очень симпатичная местная женщина средних лет с длинной русой косой, уложенной вокруг головы, с пробором посередине. Она не давала никому никаких поблажек, но вместе с тем была очень доброжелательной, всегда готовой помочь, что для меня было очень важно, так как я впервые имела дело с парниковым хозяйством.
Эта работа была очень тяжелой, на первых порах постоянно ломило спину. Надо было чистить парники, таскать в руках корзины с землей и торфом по 10–15 кг в каждой руке; засыпав парники, на очень ровном расстоянии друг от друга посадить рассаду; поливать ее, полоть сорняки, а когда рассада вырастала, пересаживать в поле и регулярно полоть эти участки. Нашей работой руководила очень строгая, ученая женщина – агроном, поседевшая на этой должности и заставлявшая нас все делать по правилам.
Вокруг каждого участка поля была защитная полоса. Когда овощи поспевали, их учитывали, взвешивали, порой измеряли. Угощаться овощами можно было исключительно из защитной полосы. Во время передышки на завтрак звеньевая посылала кого-нибудь с корзинкой, которая наполнялась овощами: зеленым луком, редиской, укропом, зеленым горошком, огурцами, помидорами. Каждый доставал свой хлеб и что-нибудь попить, и мы наслаждались отдыхом и только что собранными с грядки овощами. В колхозе работала столовая, где можно было за один рубль неплохо пообедать.
Этот колхоз был богатым, главным образом, за счет ранних овощей, продававшихся на рынке. Колхозники здесь жили несравненно лучше, чем в тех колхозах, где я провела первые годы эвакуации. Они зарабатывали на свои трудодни немало овощей и также продавали их на рынке, в Шуе, и на вырученные деньги могли себя обеспечить всем необходимым. Овощи стоили дорого, особенно ранние, тем более, что у колхоза не было конкурентов.
Я жила с Эдиком в пригороде Шуи, в полукрестьянском – полугородском доме с двумя просторными комнатами. Здесь тоже была русская печь, но на ней никто не спал. Моя хозяйка, сорокалетняя женщина, и ее две дочери спали на металлических кроватях с матрасами, поверх которых были нарядные покрывала и горка подушек. Брат моей хозяйки был летчиком – испытателем, и всякий раз, когда навещал ее перед войной привозил ей и ее дочкам красивые вещи. В сундуке у нее лежали отрезы на платья, у нее была швейная машинка, и за то время, пока я у нее жила, я сшила им несколько платьев. Уже после войны, в июле 1945 года, они мне прислали фотокарточку, на которой мать и старшая дочь засняты в платьях, сшитых мною. На обороте написано: «На добрую память Тане и сыночку Эдику от ваших друзей Вари и дочек Леночки и Галочки Литвиновых». Я храню эту фотографию как дорогую мне память о добрых и приветливых людях, с которыми мне довелось жить в русской глубинке.
Варя, Лена и Галя Литвиновы (17 июля 1945 г.).
В колхозных яслях и садике, куда Эдик теперь ходил, были профессиональные няни и воспитательницы, и мне уже не приходилось больше беспокоиться за него, когда он там оставался. За то время, пока мы жили в пригороде Шуи, Эдик вырос в крепкого, загорелого мальчугана, для которого русский язык был родным.
С самого начала эвакуации я разговаривала с ним только по-русски, хотя вначале сама еле знала этот язык. Мне казалось немыслимым разговаривать с ним по-немецки, когда шла война с немецкими захватчиками, и нас окружали колхозники, родные и близкие которых воевали с «Фрицем». Наверно, и для Эдика было лучше органически врастать в ту языковую среду, которая окружала его с младенчества. Что же касается меня, то ко времени приезда в Шую я уже свободно разговаривала по-русски, правда, на простонародном языке, со словечками, вроде: авось, небось, чай (чаю), нехай и другими. После войны я усвоила литературный язык, читая произведения русских писателей. Уроков я не брала, не было ни денег, ни времени.
1944 г.
27 января 1944 года была, наконец, снята блокада Ленинграда, длившаяся без малого два года и пять месяцев – время неописуемых страданий, лишений и потерь ленинградцев от голода, холода, постоянных вражеских обстрелов, но также и время невероятного мужества и самоотверженности жителей великого города и приходивших им на помощь людей, военных и гражданских, под огнем врага по часто ненадежному льду Ладожского озера прорывавшихся к Ленинграду на грузовиках с жизненно необходимыми городу грузами продовольствия и вывозивших оттуда больных и детей.
Лишь много лет спустя мир узнает всю правду, если вообще ее можно узнать, о блокаде Ленинграда. Но еще в начале лета 1943 года, вскоре после приезда в Шую, я вместе с другими людьми со слезами на глазах и сжимавшимся сердцем смотрела, на группу ленинградских детей, живых скелетиков, вывезенных из осажденного города по последнему, предвесеннему льду Ладожского озера. Хотя прошло уже несколько месяцев, как эти дети были спасены, на них все еще лежала печать пережитого страшного времени.
Я тогда еще не знала, что в осажденном Ленинграде жила сестра моей бабушки. Ее два сына сражались на фронте, а зять, муж ее дочери, приехав с фронта на короткий срок, погиб в Ленинграде – его придавило стеной обрушившегося от бомбежки дома. Когда я в 50-х годах приехала в Ленинград и познакомилась со своими родственниками, то немногое, что я от них узнала, леденило сердце. Ленинградцы, пережившие блокаду, тогда старались не бередить незажившие раны и на вспоминать пережитые ужасы.
Весна и лето 1944 года прошли для меня в тяжелом труде в колхозе и в напряженном внимании к сводкам Совинформбюро. Овощи, заработанные мною на трудодни, были проданы вместе с овощами моей хозяйки, и я смогла на полученные деньги не только обеспечить нам пропитание, но и приобрести необходимую одежду и сапоги – возвращение в Ригу из мечты постепенно превращалось в приближавшуюся реальность. Началось долгожданное освобождение Латвии.
Сестра Шица и его дочь готовились к отъезду в Ригу. Я понимала, что после освобождения столицы Латвии туда сразу же вернется советское правительство, в том числе нарком легкой промышленности Шиц, который заберет из колхоза сестру и дочь, и я надеялась, что смогу вернуться в Ригу вместе с ними. Тогда это было не просто, многие эвакуированные еще месяцами ждали возвращения на родину.
Наше звено. Я – во втором ряду слева, рядом со мной женщина из Латвии (1944 г.).
Рига была освобождена 13 октября 1944 года. Это был настоящий праздник для нас. Во второй половине октября, попрощавшись со своим звеном и с милой хозяйкой и ее дочерьми, я села с Эдиком в поезд на Ригу. Поездка была довольно долгой, но по определенному расписанию, и я без опасений отстать от поезда вышла на одну из станций за кипятком. Тогда еще не разносили чай по вагонам, на перронах стояли титаны с кипятком, и пассажиры набирали там горячую воду. Был уже вечер, я наклонилась, чтобы лучше видеть, как лился кипяток, а когда набрала воды и стала выпрямляться, сильно стукнулась головой о чью-то наклонившуюся к титану голову. «Простите», сказал я и ахнула – это был Моня, муж моей сестры Гиты! Оказалось, что он ехал тем же поездом, и тоже вышел из вагона за кипятком. Его направили в Ригу на работу по восстановлению пострадавших от бомбежек железных дорог. Он был ранен под Старой Руссой и после этого демобилизован.
Майорша (октябрь 1944 г.).
Моня повел меня с Эдиком в свой вагон и представил нас своим спутникам, среди которых была женщина из Одессы с двумя сыновьями – школьниками. Она ехала к мужу, офицеру Военно-морского флота, переведенному в Ригу. Это была веселая и решительная женщина, невысокая, кругленькая и очень общительная. Узнав, что у меня в Риге никого не было, и я не знала, где смогу остановиться, она сразу же решила, что мы с Эдиком будем жить у нее, пока я не найду комнату.
Когда поезд прибыл в Ригу, и ее с мальчиками встретил муж, она без разговоров повела нас с собой к ожидавшей их машине, в том числе и Моню, который тоже не знал, где сможет ночевать. Таким образом мы познакомились и вскоре подружились с «майоршей», как мы ее шутя прозвали, и ее мужем, очень симпатичным и образованным человеком, как и она родом из Одессы. Благодаря им прибытие в осеннюю Ригу, где нас никто не ждал и не встречал, было окрашено в теплые тона солидарности и приветливости, добрых человеческих отношений.
6. В послевоенной Риге
Мы снова в Риге! Я внутренне ликовала, прижимая к себе сидевшего на моих коленях Эдика и глядя из машины на мелькавшие мимо знакомые улицы, парки и здания. Через несколько минут машина остановилась у дома, мимо которого я не раз проходила, когда работала в комиссии по репатриации балтийских немцев. В этом фешенебельном районе близ Стрелкового сада в 30-е годы жили богатые немцы и латвийская элита. После репатриации немцев и депортации в Сибирь многих жителей этих красивых зданий, опустевшие квартиры заняла советско-партийная элита. Но началась война, и эти квартиры снова опустели – не надолго, в них вселились новые хозяева, немецкие офицеры и другие властители из Рейха.
Немецкие оккупанты были изгнаны из Риги, с ними город оставили не только соучастники их злодеяний – местные фашисты, но также многие латыши, предпочитавшие эмиграцию жизни в советской Латвии. Среди них было немало людей, живших в роскошных домах в районе Стрелкового сада. И снова сюда стали вселяться возвращавшиеся или командированные в Ригу представители советско – партийного руководства и военного командования, в том числе и морской офицер, муж нашей «майорши».
Он привел свою семью и нас с Моней в большую и хорошо обставленную квартиру, впопыхах брошенную предыдущими жильцами. Он вселился сюда временно, в ожидании своей семьи. Через несколько недель они все вместе переедут в Эстонию, на острова, поближе к флоту. А пока что места хватало для всех. Моня устроился в бывшей девичьей, а я с Эдиком в одной из четырех комнат. В тот же вечер, сидя за обеденным столом вместе с приютившим нас морским офицером и его семьей, мы оживленно беседовали и много смеялись шуткам неистощимого Мони и наших новых друзей – одесситов.
Но ближайшие дни повергли нас в такой ужас, какой я, по крайней мере, до этого еще никогда не испытывала. Куда бы мы не пошли, чтобы узнать о судьбе оставшихся в Риге родных, друзей, хороших знакомых, их соседи – латыши нам говорили одно и то же, правда, с разными интонациями: кто с сочувствием, кто с состраданием, а кто и с плохо скрытым злорадством – все евреи были загнаны немцами в гетто и затем расстреляны. В Бикерниекском лесу, на окраине города, земля шевелилась еще много часов над тысячами мертвых и полуживых тел, а фашистские охранники – айзсарги туда никого не подпускали…
В Приедайне, где находился мой брат Лео, когда началась война, местные жители слышали, как сразу же после прихода немцев в еврейском туберкулезном санатории раздавались автоматные очереди. Никого в живых не осталось…
Судьба моей матери и ее семьи оставалась неизвестной до тех пор, пока не выяснилось, что все евреи Лиепаи, находившиеся там в начале войны, погибли: и те, кто с оружием в руках героически сопротивлялся немецким захватчикам, и тысячи остальных, безоружных, от стариков до младенцев.
Пройдет более полувека, пока по архивным материалам не выяснится приблизительное число погибших в Латвии евреев – около семидесяти тысяч. Лишь около четырехсот человек спаслось благодаря мужеству и самоотверженности местных жителей, рисковавших собственной жизнью и жизнью своих семей, пряча евреев и помогая им. Свыше четырех тысяч евреев было угнано в Германию, в концлагеря.
Иоганна Лихтер успела еще перед началом войны уехать к сыну в Москву, и о ее судьбе мне тоже ничего не было известно, пока в Ригу не вернулась ее приятельница, военный врач, а впоследствии заведующая отделением рижской больницы Мари (Мирьям) Львовна Рудина, рассказавшая мне о тягостной жизни Иоганны Исидоровны в одной комнате с невесткой и внуком в подмосковном бараке, так, как жило огромное количество москвичей. Ее сын был на фронте, а она по-прежнему работала учительницей в школе и была так же сильна духом, хотя очень постарела.
С Мари Львовной я впоследствии очень подружилась. Она была в Интербригадах вместе со своей сестрой – врачом и организовала в Испании госпиталь. Мужественная, волевая и очень умная женщина, она была прекрасным доктором и пользовалась в Риге большим уважением. Подтянутая и элегантная она и в глубокой старости продолжала следить за своей внешностью.
Через несколько лет после возвращения из эвакуации в Ригу, я встретила у знакомых рижан Софью Максимовну, вторую жену моего отца. Она приехала на Рижское Взморье из Москвы, где она жила у своей сестры. Софья Максимовна рассказала мне, что Виктор, мой брат по отцу, ушел на фронт добровольцем в 16-летнем возрасте и погиб под Берлином за неделю до окончания войны. Других детей у нее не было… Мне было очень горько, что я так мало общалась с Виктором, когда это было возможно. Мудрый Тютчев, большой русский поэт 19-го века, писал:
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, — И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать…Невысказанные нами вовремя слова сочувствия и симпатии мучают нас, когда близкого человека не стало, и сказать их некому…
В первые же дни после возвращения в Ригу я послала телеграмму Мари-Луизе в Париж, освобожденный от немецкой оккупации в августе 1944 года. У меня не было ее точного адреса – все адреса пропали вместе с моим чемоданом, когда я возвращалась из Парижа в Ригу. Но я визуально хорошо помнила расположение ее дома – это был третий дом от начала улицы, и соответственно вычислила его номер. Телеграмма вернулась с пометкой «адресат неизвестен». Через двадцать два года, когда я снова попала в Париж, я убедилась в своей ошибке: дом был третий, но каждый подъезд, каждая подворотня в нем имели свои номера… Судьбе не было угодно, чтобы мы с Густавом разыскали друг друга с помощью Мари-Луизы уже тогда, в конце 1944 года.
Надо было устраиваться в Риге, работать, учиться. У меня не было аттестата средней школы, я проучилась в коммерческой школе Лиепаи всего год вместо четырех лет. Я записалась на подготовительные курсы для сдачи выпускных экзаменов, и за несколько месяцев подготовилась к ним. С литературой, языками, историей у меня было все в порядке, но с математикой и физикой… Спасало то, что в нашей школе в Лиепае была блестящая учительница математики, и я была ее лучшей ученицей. Это помогло мне быстро наверстать упущенное, да и экзаменационная комиссия закрывала глаза, и мы безбожно списывали друг у друга. Среди нас было несколько недавно демобилизованных молодых людей в солдатских шинелях, и это обстоятельство, очевидно, тоже повлияло на снисходительность экзаменационной комиссии. Как бы то ни было, я получила аттестат зрелости и могла подать документы в университет.
С работой у меня тоже все наладилось. Сначала я зарабатывала на жизнь шитьем – первое платье я успела сшить «майорше» до ее отъезда из Риги, благо в ее квартире была швейная машинка, тоже брошенная прежними жильцами. Она бы мне ее охотно отдала, но все было строго учтено управлением, предоставившем эту квартиру ее мужу. Я начала искать подержанную швейную машинку на толкучках, которых в Риге тогда было в изобилии. Люди продавали, что могли, чтобы покупать продукты по коммерческим ценам – по карточкам, по государственной цене, они получали слишком мало, чтобы на это существовать.
Таким образом, я приобрела ножную швейную машинку знаменитой фирмы «Зингер», но не целиком, а но частям: в одном месте – головку, чуть ли не по цене металлолома, в другом месте – столик от машинки, требовавший лишь незначительного ремонта, в третьем месте – приводной ремень, а в четвертом – шпульки. В итоге я собрала отличную швейную машинку начала 20-го века, прекрасно работающую и по сей день.
Незабываемый праздник долгожданной победы над фашистской Германией мы с Эдиком отмечали вместе с Моней и Гитой, вернувшейся в Ригу после нас и ожидавшей первого ребенка. Не успели отзвучать залпы салюта, как произошло другое событие – мне предложили работу в создававшемся тогда Вечернем университете марксизма-ленинизма. В мои обязанности технического секретаря входили контакты с лекторами и регистрация слушателей. Среди последних были известные актеры, преподаватели и другие представители рижской интеллигенции, которые должны были усвоить «основы марксистско-ленинской философии». И они являлись на эти лекции и, думаю, немало потешались, слушая лекторов, главным образом старых большевиков, повторявших штампы советских учебников. Директор этого университета и его заместительница, добродушная советская латышка, тоже были из числа старых ленинцев и очень напоминали мне моего довоенного начальника Электрического предприятия.
Эта работа, продолжавшаяся пару лет, меня очень устраивала. Она не занимала много времени, и то только по вечерам, а днем я могла посещать занятия в Латвийском государственном университете, куда я поступила в том же 1945 году. Благодаря этой работе я смогла устроить Эдика в хороший детский садик, рядом с университетом.
Мы еще жили у «майорши», когда я однажды случайно встретила на улице Жозефину, довоенную знакомую, вернувшуюся из эвакуации. Ее родители погибли вместе с другими рижскими евреями, но ей вернули большую квартиру, где она родилась и выросла, и она сама подбирала себе соседей из числа своих коллег в морском училище, где она преподавала математику. Обстановка была в основном разграблена, но она обнаружила кое-что у дворника, не посмевшего не вернуть ей вещи ее родителей.
Жозефина предложила мне комнату в своей, уже ставшей коммунальной, квартире, и я с радостью приняла се предложение и переселилась с Эдиком к ней, на улицу Бривибас, в двух шагах от того дома, где я жила в парикмахерском салоне, когда впервые приехала в Ригу. В нашей комнате раньше был врачебный кабинет отца Жозефины, и вся мебель в ней была белой. Мы с Эдиком спали на врачебных кушетках, но его кушетку я загородила белыми же стульями, чтобы он ночью не свалился на пол.
Вначале Эдик был единственным «мужчиной» в квартире, где кроме Жозефины и нас жили две преподавательницы морского училища: русская женщина со своей престарелой матерью и дочерью-подростком, и еврейка из Харькова. Последняя вскоре вышла замуж за мастера из того же училища, светлоглазого блондина, русского северянина, очень покладистого и трудолюбивого человека, чинившего все в нашей квартире.
Мы прекрасно ладили и все дела обсуждали на кухне, на «семенном совете», за общим столом, где Эдик, как самый маленький, сидел сбоку, под полкой с посудой.
Постепенно к нам стали наведываться «женихи», молодые демобилизованные мужчины, искавшие подходящих невест. Жозефина, энергичная, жизнерадостная женщина лет 30-ти, отличный математик, еще не была замужем. Кое-кто сватался и ко мне, но я надеялась, что Густав жив, и он меня разыщет, зная, что мы с Эдиком в Риге, если выжили.
Уже прошел год, как кончилась война, а вестей от него не было. Среди мужчин, интересовавшихся мною, был аспирант Киевского университета, демобилизованный в Риге. Он звал меня с собой, в Киев, где в это время уже жила его мама, еврейка, в годы войны работавшая хирургом в госпиталях. Он мне очень нравился, и я бы вышла за него замуж, если бы не его равнодушное отношение к Эдику. Он уверял меня, что это изменится, как только он начнет его воспитывать, но я почему-то в это не верила.
Как-то в нашей квартире собралось много народу – у кого-то был день рождения, и Жозефина послала меня за дополнительными вилками и ножами к знакомой семье, жившей этажом ниже. Я знала, что эта пожилая пара в свое время жили во Франции. Муж был переводчиком, а жена преподавала французский язык. Когда мы встречались на лестнице, мы всегда здоровались, но этим наше знакомство ограничивалось. Постучав к ним и войдя в квартиру, я увидела у них незнакомого мужчину и постеснялась при нем попросить по-русски вилки и ножи, а произнесла эту просьбу по-французски. Получив их, я вернулась домой, но, как потом оказалось, человек сидевший у них, хорошо знал французский язык и заинтересовался мною.
Через какое-то время эта семья пригласила меня в гости, чтобы поближе познакомиться. Когда я пришла, там был тот же мужчина. Единственное, что я в тот вечер о нем узнала, эти то, что его звали Алексеем Николаевичем, что он тоже жил во Франции, а в данный момент был помощником председателя рижского горисполкома. Это меня очень удивило. Я скорей могла бы себе его представить на каком-нибудь заводе – на нем был плохо залатанный в локтях костюм, к тому же он не производил впечатления общительного человека. Весь вечер он сидел нахмурившись, как-бы о чем-то мучительно раздумывал, а его серые глаза смотрели куда-то мимо нас.
Семейная пара, пригласившая меня, развлекала нас разными историями. Им было о чем рассказать, и я с интересом слушала. Алексей Николаевич сидел погруженный в себя и лишь изредка вставлял какое-то слово.
Мне хотелось больше узнать о нем и разобраться в его сложном, как мне казалось, характере, и я пригласила его зайти к нам и рассказать о своей жизни во Франции. Вскоре он пришел, и первое, что мне бросилось в глаза, это его реакция на присутствие Эдика, как-бы снявшее напряжение с его лица. Он стал улыбаться, разговаривать. По-видимому, он любил детей и ему их нехватало, решила я.
Постепенно выяснились кое-какие детали его жизненного пути. Ему было 34 года. Русский, москвич, он приехал в Ригу еще юношей вместе со своей рано овдовевшей матерью, вышедшей замуж за рижского врача-еврея. С отчимом он не ладил, и после окончания гимназии уехал во Францию, где получил образование инженера-агронома. Затем было участие в гражданской войне в Испании, заключение во французский концлагерь, отправка немецкими оккупантами на работу в Германию, возвращение во Францию, ожидание в лагере для перемещенных лиц репатриации, наконец, после окончания войны, возвращение в Ригу вместе со своей подругой, вскоре умершей от чахотки.
Я, Алеша и Эдик (июнь 1946 г.).
Все это я узнавала не сразу, а отрывочно, из отдельных упоминаний о перипетиях его жизни. Позже, когда мы уже жили имеете, он мне показал кое-какие фотографии, иллюстрировавшие в какой-то мере его слова. Много лет спустя он начат писать повесть о своей жизни, и стимулом, по-видимому, послужила его встреча со старыми немецкими антифашистами, с которыми он познакомился еще тогда, когда работал в Германии. Однако это было уже после того, как наши пути разошлись, хотя мы еще годами были вынуждены жить рядом, в одной квартире.
За десять лет нашей совместной жизни произошли такие драматические и трагические события, которые сломали множество судеб, и не только жизнь непосредственно пострадавших от них людей, о чем речь еще пойдет ниже, но также подкосили моральные устои миллионов людей: то, во что они верили, оказалось дьявольским измышлением, чудовищным мифом. Не у всех хватало силы духа, чтобы не запить, не скатиться в трясину цинизма и беспринципности.
Однако вернемся к 1946 году. Алексей Николаевич стал бывать у нас, и его ласковое отношение к Эдику покорило меня. Мне он стал казаться романтиком, человеком «не от мира сего», и это было мне симпатично. В конце концов мы сблизились, и я согласилась выйти за него замуж.
Моня, Гита с Витенькой, Алеша и Эдик (июнь 1946 г.).
Будучи помощником председателя горисполкома, он среди еще свободных в послевоенный год квартир выбрал худшую, в доме с потрескавшимися от бомбежек стенами, с крутой узкой лестницей, по которой приходилось таскать дрова из подвала на четвертый этаж, с отсыревшими обоями в комнатах и плесенью в углах. Зимой там был зверский холод, отовсюду дуло, ребенка можно было купать только у самой печи, ванной комнаты не было, как в очень многих домах Старого города. Лишь через несколько лет, во время капитального ремонта дома, удалось выкроить ванную комнату и устроить в квартире центральное газовое отопление, что стоило много сил и денег. Но пока что мне приходилось мириться с этими и другими тяготами жизни, да и времени не было об этом задумываться, надо было учиться, зарабатывать на жизнь, воспитывать сына.
Первый год я проучилась в университете на отделении журналистики и убедилась в том, что эти занятия мне мало что дали. Тот, кто талантлив, решила я, сможет писать и без этих пустопорожних, проникнутых партийной идеологией лекций, а если таланта нет, то эта учеба тем более ни к чему. И я перешла на романское отделение филологического факультета, где изучали теорию и историю французского языка, французскую и зарубежную литературу и другие предметы. В группе была всего девять студентов, а среди преподавателей – несколько очень интересных и хороших специалистов, как, например, Илга Зандрейтере, дочь известного латышского революционера, казненного во время сталинских репрессий. Несмотря на то, что она была дочерью «врага народа», она все же закончила аспирантуру в Москве, что стоило ей немало моральных сил и нервов, и сразу же после войны переехала в Ригу. Илга Зандрейтере была замечательным преподавателем и прекрасным, очень вдумчивым человеком с несчастной судьбой и подорванным здоровьем (она рано умерла). Мы неоднократно встречались и после того, как я закончила университет. Одна из наших последних встреч была в 1967 году, сразу же после моего возвращения из Италии, со Стендалевского конгресса, откуда я ей привезла запрещенную в Советском Союзе пластинку с музыкой к кинофильму «Доктор Живаго», и мы тогда с большим наслаждением прослушали ее.
Среди преподавателей французского языка была также пожилая швейцарка, Натали Бастэн. Ее отец и дедушка в свое время преподавали французский язык в Петербурге и издавали свои учебники. Мадам Бастэн была тонким и деликатным человеком и отличалась не только изысканными манерами, но и гуманным и доброжелательным отношением к людям, свидетельствовавшим о глубокой культуре.
Тетя Соня (сестра моей мамы) и кузина Рэма (Москва, 17 октября 1946 г.).
Самым же близким мне человеком среди преподавателей университета стала заведующая кафедрой зарубежной литературы, Зоя Моисеевна Гильдина. И не только мне, но и многим другим студентам и молодым преподавателям. Она была не только талантливым, темпераментным лектором, но также очень душевным человеком, к которому можно было запросто прийти со всякими проблемами и заботами. Ее дом был открыт для всех и был настоящей отдушиной в тогдашнее время разнузданных политических кампаний борьбы с «космополитизмом» и с «буржуазным национализмом».
Рэма (Москва, 25 сентября 1947 г.).
Среди студентов и аспирантов, собиравшихся у Зои Моисеевны, были неутомимые заводилы, придумывавшие всякие экспромты, вызывавшие всеобщий смех и восторг. Во время этих встреч сочинялись шутливые стенгазеты, обсуждались интересные новинки литературы, отмечались дни рождения присутствовавших. К Зое Моисеевне вместе со мной часто приходили и Алексей с Эдиком, дружившим с ее маленькой дочерью.
С 1955 года в Москве выходил журнал «Иностранная литература», где печатались произведения Хэмингуэя, Олдриджа, Ремарка, Бёлля и других писателей, затем издававшиеся книжными издательствами. Мы увлекались ими, как и лучшими публикациями «толстых» журналов, особенно «Нового мира», и оживленно обсуждали их, не обращая внимания на тенденциозные критические статьи в периодической печати.
В 30-е годы Зоя Моисеевна работала в московском книжном издательстве, где она встречала известных писателей, в частности, Ромена Роллана и его супругу и помощницу Марию Павловну, происходившую из среды русской интеллигенции. В 1966 году вышла книга З. М. Гильдиной «Ромен Роллан и мировая культура». Когда я в том же году поехала в Париж на Стендалевский конгресс, я навестила по ее просьбе Марию Павловну Роллан и передала ей экземпляр этой книги и томик стихов Марины Цветаевой, ее любимого поэта. Встреча с многолетней спутницей Ромена Роллана, простота и душевность Марии Павловны, строгая обстановка рабочего кабинета покойного писателя произвели на меня глубокое впечатление. Повеяло атмосферой духовного величия, которой, казалось, проникнуто все в квартире Ромена Роллана на бульваре Монпарнас.
В 1949 году, на последнем курсе университета, я писала на французском языке дипломную работу на тему «Поэзия Сопротивления Луи Арагона». Он был прекрасным поэтом, и его стихи нравились мне гораздо больше, чем его проза. За годы немецкой оккупации он сочинил несколько сборников стихов, куда вошли и стихи, впервые опубликованные в подпольных изданиях. Ни в Риге, ни в московских библиотеках этих книг на было, и Зоя Моисеевна посоветовала мне обратиться к Илье Эренбургу – он лично знал Арагона и получал от французских писателей их книги. К этому времени я уже прочла очень интересный роман Эренбурга «Падение Парижа», напомнивший мне драматические события 1939–1940 годов, «Странную войну» и оккупацию Парижа гитлеровскими войсками.
Наша студенческая группа и преподаватели романского отделения филологического факультета ЛГУ (1949 г.).
Я позвонила Эренбургу, и он согласился меня принять. Когда я пришла к нему, на улицу Горького, дверь открыла супруга Ильи Григорьевича, Любовь Михайловна, еще сохранившая следы замечательной красоты. Я потом не раз бывала у Эренбурга, дома и на даче, в Новом Иерусалиме, и познакомилась с ней поближе. Она была талантливой художницей (я видела ее холст с женской фигурой в квартире Эренбурга), очень интеллигентной, образованной и милой женщиной, умелой и тактичной хозяйкой дома, где бывало множество видных деятелей, писателей, ученых, не говоря уже о журналистах, которые, приехав в Москву, считали своим долгом посетить Эренбурга. Очень жаль, что небольшая квартира Ильи Григорьевича не была сохранена как квартира-музей, живое свидетельство тесной связи Эренбурга с мировой культурой 20-го века, не только благодаря многочисленным произведениям искусства, подаренным Эренбургу самими художниками: Пикассо, Матиссом, Шагалом, Фальком, множеству книг с дарственными надписями их авторов, но также потому, что здесь побывали многие выдающиеся личности 20-го века, оставившие неизгладимый след в воспоминаниях и переписке Эренбурга, а также в других документальных материалах.
Страстная активность его натуры, его глубокий и острый ум, борьба за мир, которая была кровным делом Эренбурга, привлекали к нему множество людей. За то короткое время, которое я у него проводила, когда приезжала в Москву, происходило многое: кто-то уходил, кто-то вот-вот должен был прийти, кто-то просил о приеме. Я видела Илью Эренбурга в разные моменты, в плохие и хорошие дни, после тяжелой болезни и после очередной поездки за границу, дома и за рубежом; видела его в разном настроении, но никогда не видела его равнодушным, отрешенным от мира.
Эренбурга считали «трудным» человеком. Многие не любили его за резкость суждений. На мой взгляд, такое восприятие личности Ильи Григорьевича, было вызвано неукротимостью его характера, цельностью его натуры, принципиальностью его взглядов. В отличие от многих других, Эренбург никогда не скрывал своих мыслей, и выражение его лица, глаз, как нельзя больше раскрывало его умонастроение.
Взор советских деятелей того времени весьма часто выражал подобострастие, если он был устремлен на вышестоящих по должности или положению в обществе «товарищей», или высокомерие, если он был обращен на нижестоящих, подчиненных людей, или же вообще ничего не выражал. Глаза же Эренбурга были зеркалом его души, его критического ума и отражали целую гамму чувств. Илья Григорьевич смотрел на собеседника совершенно по-разному, в зависимости от того, какое впечатление тот производил, какие чувства в нем вызывал: пытливо, заинтересованно, сочувственно, с симпатией, скептически, холодно, с иронией… Выражение глаз Ильи Григорьевича могло быть бесконечно добрым и ласковым, особенно, когда он общался с Любовью Михайловной или гладил свою любимую собаку. Помню, с какой теплотой в глазах он показывал мне на даче свою маленькую оранжерею с экзотическими растениями, за которыми он любовно ухаживал, как и за своими цветами в саду.
Однако вернемся к моему первому посещению Эренбурга. Впустив меня в квартиру, Любовь Михайловна пригласила меня в небольшую гостиную, где находился Илья Григорьевич. Он поднялся мне навстречу, пожал руку и пытливо посмотрел на меня. Выслушав мою просьбу, он повел меня в свой рабочий кабинет. Пока он рылся на полках, разыскивая для меня книги Арагона, я робко оглядывалась вокруг, на картины Фалька и известных французских художников, висевших на стенах тесного кабинета, на знаменитую коллекцию трубок над небольшим диваном, на множество книг – скромные старинные томики и разноцветные современные издания. У Эренбурга была пышная седая шевелюра, и он казался мне высоким и грузным в этом маленьком кабинете. Видя, как он искал книги на нижних полках, согнувшись в три погибели, мне стало ужасно неловко, и я облегченно вздохнула, когда он бросил поиски и отправил меня к Лиле Юрьевне Брик, сестре супруги Арагона, писательницы Эльзы Триоле. Лиля Юрьевна получала из Парижа все издания обоих писателей. Я читала о ее тесной дружбе с Маяковским, и мне было интересно с ней познакомиться.
Лиля Юрьевна уже была пожилой женщиной, но ее выразительные глаза и живость манер еще свидетельствовали о былой притягательности. Она охотно дала мне с собой целую стопку книг Арагона – видимо, ссылка на Эренбурга служила достаточной гарантией того, что я эти книги верну. И я сидела днями и ночами за маленьким столиком в тесной комнате моей тети Сони, переписывая стихи Арагона. Копировальных машин тогда еще не было, во всяком случае – в Москве, и все приходилось перепечатывать на пишущей машинке или переписывать от руки. Тетю Соню я разыскала еще в 1946 году, в мой первый приезд в Москву. Она жила на Арбате в 16-метровой комнате с дочерью Рэмой.
Когда дипломная работа была завершена и перепечатана, я послала один экземпляр Эренбургу. Через пару лет я совершенно неожиданно получила письмо от его секретаря, Елены Александровны Зониной, сообщавшей мне, что когда Луи Арагон был в Москве, Илья Григорьевич попросил его прочесть мою работу. Арагон сделал на полях ряд замечаний. Когда он вернул ее, Илья Григорьевич поручил Зониной сообщить мне общий смысл замечаний Арагона, а работу оставить, «так как она теперь представляет собой в некотором роде музейную ценность». Зонина перенесла все замечания Арагона на другой экземпляр, а оригинал попал впоследствии вместе с архивом Эренбурга в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства).
Во время учебы в университете я познакомилась с очень интересным литературоведом, Евгенией Львовной Гальпериной, доцентом Московского университета. Зоя Моисеевна пригласила ее в Ригу для чтения лекций, и с тех пор я всегда навещала ее, когда приезжала в Москву, а иногда у нее ночевала. Евгения Львовна стала одной из первых жертв «борьбы с космополитизмом» – придя однажды на лекцию в МГУ, она оказалась в пустой аудитории: ее исключили из состава преподавателей, о чем студенты были оповещены, а Евгению Львовну даже не сочли нужным известить… В те же дни «безродными космополитами» были объявлены и другие литераторы, в том числе известный критик Александр Борщаговский, исключенный тогда из коммунистической партии и лишенный возможности публиковаться.
Учась в университете, я продолжала зарабатывать на жизнь шитьем. Летом 1947 года ко мне домой пришли трое незнакомых москвичей, отдыхавших на Рижском Взморье. Оказалось, это были известный актер Московского Еврейского театра Вениамин Зускин, его супруга и ее приятельница. Кто-то порекомендовал меня этим дамам, искавшим портниху. Я сшила каждой по платью, и не вспоминала бы больше об этом, если бы Зускин также не стал жертвой сталинских расправ. Началось же это так: в 1941 году при Совинформбюро был образован Еврейский антифашистский комитет, и его председателем был назначен знаменитый актер Соломон Михоэлс. Комитет приобрел известность в еврейских кругах за рубежом, и когда настала пора расправиться с ним, НКВД организовал две акции, весьма возможно, придуманные самим Сталиным в определенных целях и с далеко идущими последствиями: жена Молотова, Жемчужина, входившая в состав упомянутого комитета выдвинула идею, естественно, не ею придуманную, о создании в Крыму еврейской автономной республики (как известно, такая автономная область с центром Биробиджан была создана на Дальнем Востоке, у границы с Китаем). Но прежде чем разгромить комитет за, якобы, сионистский заговор, в январе 1948 года НКВД организовал убийство Михоэлса выстрелами в упор в Минске, придумав версию об автомобильной катастрофе, которая возмутила даже Н. С. Хрущева, судя по его воспоминаниям, настолько она была шита белыми нитками.
Зускин, ставший после гибели Михоэлса руководителем Еврейского театра, был арестован в декабре того же года, как и члены Еврейского антифашистского комитета, в том числе и сама Жемчужина. Она была сослана, Еврейский театр и комитет закрыты, а в 1952 году, после многочисленных допросов и пыток, члены Еврейского комитета были расстреляны. Среди погибших представителей еврейской интеллигенции были известные литераторы: поэт Перец Маркиш, писатель Давид Бергельсон и другие.
В те же годы трагические события происходили и в Латвии где многие тысячи трудолюбивых крестьян лишились своих хуторов, а порой и жизни. Мне довелось непосредственно столкнуться и подружиться с одной из жертв этих чудовищных репрессий.
В 1949 году, когда я заканчивала университет и начала искать постоянную работу, Эдику было десять лет. Во время очередной медицинской проверки у него обнаружили в легких закрытый туберкулезный очаг. Это было жестоким ударом – я ведь помнила о болезни моего брата Лео. Тогда еще не было эффективных лекарств против туберкулеза, и эта болезнь считалась крайне опасной.
Надо было немедленно действовать, обеспечивать Эдику такие условия, которые помогли бы его организму преодолеть болезнь: свежий воздух, хорошее, регулярное питание, соответствующий режим. Я убедила Алексея, что нам необходима, дача. Так как он работал в горисполкоме, ему не стоило труда заключить договор на дачное помещение на Рижском Взморье, где нам предоставили верхний этаж небольшого летнего дома. Однако мне нужно было работать, на небольшую зарплату Алексея было невозможно прожить. Я начала искать женщину, которой я могла бы доверить Эдика, пока я на работе.
У кого-то была знакомая женщина – бухгалтер, инвалид с ампутированной ногой, искавшая кого-то, кто согласился бы прописать в своей квартире в качестве домработницы ее кузину – крестьянку, жившую у нее и помогавшую ей по хозяйству. Сама она не могла ее прописать, так как жила в служебной квартире. С этим было очень строго в Советском Союзе – без прописки человек не имел права жить в городе и не мог поступить на работу.
Я попросила познакомить меня с этой сельчанкой. Ко мне пришла высокая, загорелая, крепкая женщина средних лет, с виду настоящая крестьянка. Она рассказала мне свою горестную историю.
Ее звали Зельмой, она с детства работала на хуторе своих родителей как все крестьянские дети и подростки: пасла коров, ухаживала за скотом, помогала по хозяйству. Когда умерла ее мать, она стала вести дом, готовить, печь хлеб, кормить отца и его двух подсобных работников. Началась организация колхозов, ее отец наотрез отказался вступить в коллективное хозяйство. Его арестовали, хутор забрали, а ее выгнали из дома. Жить ей было негде, и она уехала в Ригу, к кузине.
Я с Зельмой (1951 г.).
Мне Зельма сразу же понравилась, и я заключила с ней письменный договор, по которому я смогла ее прописать у нас. Зельма была настоящим кладом. Она заботилась о нас так же, как она раньше заботилась о своей семье. С теми небольшими деньгами, которыми я располагала, она хозяйничала так экономно, и вместе с тем так хорошо, что я только диву давалась. Летом она и ее кузина жили у нас на даче, а в остальное время она приходила к нам по рабочим дням на несколько часов, в течение которых она успевала управиться со всеми домашними делами. Она была образцовой хозяйкой и прекрасным человеком, настоящим другом. Эдик к ней очень привязался, и благодаря ее заботе о нем быстро преодолел свою болезнь, которая больше не повторялась. Эта латышская крестьянка сыграла в моей жизни очень важную роль, за что я ей бесконечно благодарна. Она помогала мне в течение четырех лет, и если бы не сложившиеся обстоятельства, оставалась бы с нами гораздо дольше.
Эдик и Зельма (1951 г.).
Репрессиям подвергались не только крестьяне, но и представители латышской интеллигенции. Среди студентов романского отделения филологического факультета была симпатичная и очень талантливая молодая женщина, Майя Силмале. Ее отец был профессором, и они жили недалеко от Стрелкового сада в красивом доме в стиле модерн, построенном в начале 20-го века по проекту известного рижского архитектора Михаила Эйзенштейна, отца кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Майя не раз приглашала меня к себе домой, чтобы показать свои интересные работы. Творческая личность, она не только отлично переводила на латышский язык произведения французских писателей, но также сама создавала и оформляла альбомы, куда записывала переведенные ею стихи.
В 1951 году она была арестована вместе с группой других молодых людей, интересовавшихся французской литературой и искусством. Все они были осуждены на длительные сроки и сосланы в Сибирь. В 1956 году, во времена Н. С. Хрущева, они были освобождены из лагерей и вернулись в Ригу. В последующие годы Майе удалось опубликовать ряд переводов, и я написала о некоторых книгах небольшие статьи для периодического издания «Яунас Граматас» («Новые Книги»), с которым я сотрудничала более четверти века, опубликовав в нем полсотни статей.
Очень интересную работу мы с Майей провели в связи с ее поисками материалов о сицилийском писателе – аристократе Джузеппе Томази ди Лампедуза, жившем какое-то время в Латвии, где у его супруги было поместье. В латышском переводе вышел его замечательный роман «Гепард», к которому я написала послесловие, как и к некоторым другим книгам зарубежных писателей.
Когда кончилась хрущевская оттепель, Майю Силмале снова стали преследовать за литературную деятельность, проводить обыски в ее квартире, допрашивать. Это окончательно подорвано ее здоровье, и в 1973 году она скончалась.
Среди арестованных в 1951 году латышских интеллигентов был прекрасный художник Курт Фридрихсон, осужденный на двадцать пять лет и также освобожденный в 1956 году. Он был выдающимся акварелистом, иллюстратором книг, сценографом. Его иллюстрации латышских изданий «Илиады», «Одиссеи», древнегреческих трагедий и других книг поистине шедевры этого жанра.
Я познакомилась с ним лично в 60-е годы, и по просьбе Наталии Ивановны Столяровой, тогдашнего секретаря Ильи Эренбурга, познакомила с ним одну московскую художницу, специально для этого приехавшую в Ригу. Курту Фридрихсону тогда не разрешали устраивать персональные выставки, хотя в Москве его очень ждали.
В начале 1950 года меня пригласили на работу в справочно-библиографическое бюро Фундаментальной библиотеки Академии Наук Латвийской ССР, где требовался библиограф со знанием иностранных языков. Директором библиотеки был бывший полковник, советский латыш, с громогласным голосом и военными манерами, но вместе с тем очень хороший и порядочный человек, который не вмешивался в сугубо библиотечные дела и позволял специалистам решать эти вопросы по их усмотрению. В библиотеке был роскошный концертный зал (сейчас – зал Вагнера), где проводились мероприятия Академии Наук, а также наши вечера, на которых директор лихо играл рояле.
Мне нравилась моя работа. Я знакомилась с интересным людьми и выполняла сложные задания. Разыскивая для читателей литературу, я обогащала и свой кругозор. В фонде редких книг и рукописей нашей библиотеки хранились чрезвычайно интересные и ценные материалы, и когда мне поручили разобраться с французскими изданиями, я обнаружила там листовки Великой французской революции, которые, правда, потом куда-то бесследно исчезли.
Фундаментальная библиотека (1953 г.).
За три года работы в Фундаментальной библиотеке меня неоднократно вызывали к парторгу Академии Наук и велели, в который раз, написать свою автобиографию. И я повторяла одно и то же, не скрывая ничего: о дедушке, бабушке, дяде и сестре в Израиле, о которых я уже много лет ничего не слышала, об отце – журналисте во Франции, который уже давно погиб в Освенциме, о чем я тогда знать не могла, о Густаве, оставшемся во Франции, в движении Сопротивления… Лишь спустя годы я поняла, почему меня столько раз вызывали – эта было связано с тем, что Густав посылал запросы обо мне через партийные организации. Он был членом Коммунистической партии Германии, сразу же после окончания войны вернулся на родину, в Маннгейм, и в течение десяти лет разыскивал меня и Эдгара, но не через Красный Крест, помогавший после войны многим людям найти своих родных, а через партийную организацию, о чем Густав впоследствии горько жалел. Товарищи из КПГ посылали запросы в Москву, а оттуда приходили соответствующие указания в Ригу. Густав получал отрицательные ответы, меня, мол, не нашли, а мне не говорили о том, что он нас разыскивал, а только заставляли все вновь и вновь писать автобиографию. Какие же это были бездушные изверги, эти партийные чиновники и их повелители, попиравшие самые святые человеческие чувства и годами скрывавшие от Густава, что его сын жив!
Логическим продолжением кровавых расправ Сталина и его подручных стало разразившееся в начале 1953 года дело об «убийцах в белых халатах», кремлевских врачах, среди которых был брат Михоэлса, профессор Вовси. Их обвиняли в намерении устранить Сталина, и в печати разразилась антисемитская истерия.
В конце февраля заместитель нашего директора вызвал меня в свой кабинет и сказал буквально следующее: «Татьяна Вольфовна, мы с вами здесь одни. Я вам что-то скажу, но прошу вас никому об этом не говорить. Если вы все же кому-то расскажете, я это никогда не подтвержу». И он начал мне говорить о том, что руководство Академии Наук уже несколько месяцев требовало от директора библиотеки, чтобы он меня уволил, так как у меня родственники за границей. Директор же отказывался и заявлял, чтобы сначала уволили его, а уже потом Кочеткову, т. е. меня. Однако обстоятельства изменились, сказал мне заместитель, «евреям сейчас не доверяют», и директор уже не сможет меня защитить. Тут я вспылила: «Как! Евреям не доверяют! В таком случае я ни дня не останусь в системе Академии Наук!» Я потребовала лист бумаги и тут же написала заявление об уходе с работы. Через неделю умер Сталин…
Алексей тогда уже работал в русской редакции Радиокомитета. В начале марта, еще до смерти Сталина, его вызвали на заседание бюро райкома партии – он был кандидатом в члены КПСС, и предложили ему или уйти из Радиокомитета, или развестись со мной, еврейкой, по той же самой причине. Алексей мне потом рассказал, что он «покрыл их всех матом» и хлопнул дверью. После этого его исключили из кандидатов в члены партии и уволили из Радиокомитета. Мы оба остались без работы, и если бы я не умела шить, нам пришлось бы очень худо.
С моей сестрой Гитой, ее мужем Моней, их детьми, Эдиком и Зельмой (Сигулда, 1951 г.).
Моню с работы не уволили, хотя он был еврей и работал в управлении Латвийской железной дороги, стратегически важном месте. Он был начальником отдела строительства зданий и сооружений, и без таких специалистов они обойтись не могли. А бедная Гита умерла еще в 1951 году – это было для нас огромным горем.
За несколько недель до ее смерти в Ригу приехала наша московская кузина Рэма, и мы все вместе, Гита и Моня со своими детьми – шестилетним Витей и трехлетним Семиком, моя семья, Зельма и Рэма, провели чудесный день в Сигулде, одном из красивейших мест Латвии, «латвийской Швейцарии», куда из Риги всего полтора часа поездом. Нам дышалось легко, никакие заботы не омрачали этот прекрасный день, ничто не предвещало о близкой беде. А она пришла внезапно. Через пару недель у Гиты поднялась высокая температура, начались острые боли, ее отвезли в больницу. Правильный диагноз, брюшной тиф, поставили лишь через неделю, когда уже было поздно. Гита потеряла сознание и скончалась. К Моне переехала его мама, взявшая на себя заботу о малышах.
Зоя Моисеевна с Таней и Нина Андреевна со своей семьей.
Смерть Сталина вызвала в Риге у одних – слезы, у других – шок, у третьих – ликование. Третьих, втайне ликовавших, было большинство. Коренное население Латвии еще не лишилось здравого смысла и трезвого взгляда на жизнь, согласно которому «хозяин – барин», и без его ведома и согласия, а то и прямого указания, ничего важного не происходило, в то время как советские люди, десятилетиями воспитанные в духе преклонения перед «гениальным вождем и учителем», приписывали все злодеяния то Ежову, то Берии, то еще кому-нибудь из подручных Сталина, о которых он, якобы, не знал. Бесчисленные обращения жертв репрессий к Сталину, в Центральный Комитет КПСС, только подтверждают, сколь велики были эти заблуждения. Через несколько лет после смерти Сталина я смогла убедиться в этом на собственном опыте.
С Эдиком (9 августа 1953 г.).
Пока же прошло несколько месяцев после его смерти. Дело об «убийцах в белых халатах» было разоблачено как преднамеренная провокация коллеги кремлевских врачей, женщины по имени Тимашук, которой в действительности приказали написать соответствующее письмо Сталину.
Теперь-то, казалось бы, я смогу устроиться на работу, и то обстоятельство, что я еврейка, уже не должно играть особой роли. Но я ошибалась. По телефону мне говорили: да, работник нужен, приезжайте. Но стоило мне появиться, как место уже оказалось занятым.
Так дело продолжалось до конца 1953 года, когда я решилась, в конце-то концов, настоять на своем праве на труд. Я добилась приема у секретаря Центрального Комитета КП Латвии, ведавшего высшими школами и учреждениями культуры, и заявила ему, что не для этого закончила университет, чтобы сидеть дома без работы и без средств к существованию. По-видимому, моя решительность произвела впечатление, так как он при мне позвонил директору Государственной библиотеки Латвийской ССР, и сказал ему, чтобы меня немедленно приняли на работу, и если штатной должности нет, то пока вне штата.
С 1 января 1954 года я начала работать в этой крупнейшей библиотеке Латвии, библиографом справочно-библиографического отдела, где я проработала семнадцать лет, в полной мере используя свои знания иностранных языков и литературы и постоянно обогащая их. Эта работа была очень интересной. Надо было регулярно следить за новыми книгами и публикациями литературных журналов, быть в курсе актуальных событий, готовить тематические списки литературы, проводить розыски литературы и иллюстраций по запросам театров, редакций журналов и газет, различных учреждений и читателей библиотеки. Например, по просьбе писателя Николая Задорнова, автора романов «Амур-батюшка», «Капитан Невельской» и других книг, я разыскала в зарубежной печати 19-го века весьма любопытные мемуары немецкого автора о путешествии по Сибири и встречах с русским генерал-губернатором и устно перевела Задорнову особенно интересовавшие его главы.
Среди сотрудников библиотеки, с которыми у меня сложились многолетние хорошие, уважительные, а часто и дружеские отношения, было немало интересных людей. Один из них, молодой историк, бывший узник немецкого концлагеря, впоследствии стал профессором и заведующим кафедрой Даугавпилского педагогического института.
Весной 1954 года на работу устроился и Алексей, агрономом в пригородном садоводстве, что имело роковые последствия для нашей семьи. Овощи в рижских магазинах в те годы были очень плохого качества, полугнилые, с прилипшей к ним землей. Это было не случайно. В пригородном садоводстве работали отбросы общества, пьяницы и проститутки, совершенно не заинтересованные в результатах своей работы. Она была для них лишь источником постоянного воровства и прикрытием от возможной высылки из города за тунеядство. Бутылка водки была их постоянной спутницей, и они начали появляться в нашем доме, как только Алексей стал там работать. Сидя на подоконнике лестничной клетки с бутылкой водки в руке, или барабаня в нашу дверь, они орали на весь дом: «Ленька, выходи!»
Жизнь превратилась в ад. К тому же в 1956 году, когда у нас с Алексеем уже было двое малышей, двухлетняя Верочка и шестимесячный Вова (Владимир), в нашем доме начался капитальный ремонт, продолжавшийся «всего» полгода – в иных домах он тянулся годами: стройматериалы, краски и прочее куда-то исчезали, рабочие неизменно вымогали у жильцов то трешку, то пятерку (рублей) на бутылку водки, но работа все равно не двигалась с места. Рабочих то и дело перебрасывали на другие объекты, где был очередной аврал в связи с грозным окликом какого-нибудь партийного начальника. Коммунальное хозяйство, наряду с сельским хозяйством, было в Советском Союзе в самом плачевном состоянии. Дома в городах принадлежали государству, а жильцам приходилось месяцами, а то и годами, добиваться починки протекавших крыш и труб, не говоря уже о вечно капавших кранах. Когда я через несколько лет после войны позвала старого мастера починить недавно поставленный кран, он, глядя на это советское изделие, горестно качал головой. «Неужели они не собираются больше жить, что так плохо работают», – сказал он.
Итак, полгода нам приходилось жить в разгромленной квартире с полусодранными полами, без газа и воды, которую таскали в ведре с улицы, с пожарного крана. Главной опорой для меня был Эдик, учившийся в последнем классе школы. Я уходила на работу во вторую смену, когда Эдик возвращался из школы, и он оставался дома с малышами, пеленал и кормил их как настоящая няня. Когда Вове минул год, я смогла устроить его и Верочку в дневные ясли, где они часто болели, и Эдик снова меня выручал. Он был огромной моральной поддержкой для меня и позже, когда закончил школу и начал работать учеником слесаря на заводе, учась в университете на вечернем отделении факультета механики. Все эти годы он ходил в старой офицерской шинели, с которой были сняты погоны, подаренной ему кем-то из моих знакомых, и в одном единственном костюме, отказываясь от покупки нового костюма, так как знал, что я еле сводила концы с концами и нередко была вынуждена занимать деньги до следующей зарплаты в кассе взаимопомощи библиотеки. Зарплата ученика-слесаря была ничтожной, и он не позволял себе даже сходить в кино, отказываясь от денег, которые я ему предлагала. Эдик был воистину самоотверженным человеком и прекрасным сыном и братом, а впоследствии и отцом и мужем. В возрасте шестидесяти двух лет его не стало, и это было ужасной трагедией для нас всех так любивших его.
Не знаю, чем бы все кончилось у нас дома, если бы Алексей, у которого от водки всякий раз подскакивало давление, не попал с инсультом в больницу, где на его глазах умерло несколько больных, после чего он, выписавшись из больницы, перестал пить и начал заниматься переводами технической литературы. Но это было уже после того, как я добилась развода, и наши пути разошлись навсегда, хотя мы еще долго были вынуждены жить рядом в той же квартире.
Отдушиной от бытовых неурядиц и очень важным моральным стимулом для меня была работа, а также научные исследования, которыми я занялась в первый же год в Государственной библиотеке. Однажды мне позвонил заведующий отделом редких книг и рукописей и попросил попытаться перевести какие-то совершенно неразборчивые рукописные заметки на французском языке. Они были сделаны в 80-х годах 19-го века на листах, приплетенных к книге итальянского автора Луиджи Ланци по истории венецианской живописи. Судя по дарственной надписи, также на французском языке, эти записи были сделаны Стендалем, настоящее имя которого было Анри Бейль, и книга была преподнесена «милейшему господину барону Феликсу фон Мейендорфу его преданным слугой Донато Буччи».
Случилось так, что свою тридцатилетнюю научную работу в области стендалеведения я начала с самого сложного – изучения рукописи писателя, не только крайне неразборчивой, но отчасти и зашифрованной. Естественно, что мне прежде всего было необходимо детально познакомиться с творчеством и жизненным путем Анри Бейля – Стендаля, изучить его манеру письма и психологические особенности. Лишь после этого можно было заняться его заметками в книге Ланци. Все это заняло почти три года.
Чем глубже я вникала в насыщенную событиями биографию Стендаля и в его творчество, тем больше меня увлекала его необыкновенно интересная и сложная личность. В Стендале «лед» сочетается с «пламенем», острый, критический ум, склонный к сарказму, со страстной, мечтательной душой, способной горячо увлечься чем-нибудь и кем-нибудь.
Бурные события эпохи привели юного Анри Бейля вместе с частями наполеоновской армии в Италию. Он навсегда полюбил эту страну за пылкость характеров, энергию страстей, глубину и естественность чувств, отразившихся в итальянской живописи и музыке, которым Стендаль посвятил свои первые книги.
Он не раз влюблялся, но его самая страстная любовь осталась безответной. Это побудило его сочинить трактат «О любви», в который он вложил свой собственный опыт, развивая теорию «кристаллизации» любви и подразделяя это чувство на разные виды. Книга «О любви» сыграла большую роль в становлении Стендаля-романиста, знатока человеческих сердец.
Готовлю публикацию (1956 г.).
Мысль этого писателя постоянно в движении, она чутко реагирует на изменения в обществе и идеях. Широта его кругозора и внутренняя независимость поражают. Но обстоятельства эпохи и его собственной жизни, психологические особенности Стендаля часто заставляли его скрывать свои мысли и чувства под маской, что стало своеобразной привычкой. Стендаль употреблял множество псевдонимов и других способов маскировки, особенно в своих дневниковых записях и письмах. К тому же его почерк крайне неразборчив.
Тетя Соня (слева), 1956 г.
Все это делало изучение рукописных заметок Стендаля чрезвычайно сложным, но также захватывающе интересным занятием. К концу 1957 года я начала готовить публикацию «Неизвестная рукопись Стендаля» для московского журнала «Вопросы литературы» (1958, № 5). Одновременно я сообщила об этом Илье Эренбургу и послана ему фотокопию одной страницы заметок Стендаля. Илья Григорьевич ответил мне, что он очень заинтересован этой работой и переслал фотокопию Луи Арагону. Он же, в свою очередь, предоставил ее для экспертизы крупнейшему специалисту по творчеству Стендаля, Анри Мартино, признавшему в открытом письме во французской газете «Les Lettres françaises» (1 января 1958), что это действительно почерк Стендаля, и запись сделана в «дьявольский день». Несмотря на все его усилия, он не смог расшифровать ее до конца.
Вскоре Арагон прислал мне длинное письмо о реакции французских ученых на открытое письмо Анри Мартино, и о том, Что они «с нетерпением» ждали моей публикации.
Так, совершенно неожиданно для меня самой, я стала специалистом по Стендалю, и моя первая публикация и все последующие появились не только на русском языке, но и на французском, в специальном периодическом издании «Stendhal Club». С его издателем, профессором гренобльского университета и президентом международной ассоциации Друзей Стендаля, Виктором дель Литто, меня связывали многолетняя переписка и дружеские отношения. Меня начали приглашать на Стендалевские конгрессы, где я неоднократно выступала с научными докладами.
Заметки Стендаля в книге Ланци, опубликованные мною полностью, оказались чрезвычайно интересными. Они позволили мне восстановить некоторые события его жизни в Триесте, о которой сохранилось мало сведений. (В 1830 году он был назначен туда на пост французского консула, но австрийское правительство, информированное о литературной деятельности Бейля-Стендаля, отвергло назначение «опасного» либерала в свои владения, и через несколько месяцев он был переведен на аналогичный пост в Италию, в Чивитавеккию). Рукописные заметки Стендаля содержат также ранее неизвестное описание его путешествия из Парижа в Триест, длившегося девятнадцать дней, очень любопытные высказывания Стендаля о Луиджи Ланци, авторе книги, в которую Стендаль заносил эти записи, об английском литературном журнале, который он читал в те дни в Триесте и другое.
Последняя запись Стендаля в книге Ланци была сделана спустя пять лет в Риме, после посещения галереи Дориа. Среди упомянутых им картин, Стендаль особенно выделил портрет знаменитого Никколо Макиавелли, отмечая его «преимущественно непреклонный и не двуличный облик» в этом портрете, «подлинный образ его поведения»…
Весьма поразительна история самой книги Ланци, служившей Стендалю справочником по истории венецианской живописи и находившейся в его личной библиотеке в течение многих лет. После его смерти эта книга осталась у его друга Донато Буччи, антиквара в Чивитавеккии, небольшом портовом городке недалеко от Рима, где Анри Бейль жил в 30-е годы 19-го века, занимая пост французского консула. Как и другие книги, испещренные записями Стендаля, она осталась не проданной, так как покупатели считали ее «испорченной».
Мне удалось также выяснить, каким образом принадлежавшая Стендалю книга попала в Ригу. В московском историческом архиве (ЦГИА) я обнаружила рукописный дневник Феликса Мейендорфа, молодого русского дипломата, в 1861 году направленного в Италию с секретной миссией, состоявшей в том, чтобы убедить папу Пия IX не вмешиваться в дела Польши, где в том же году происходили волнения, не без влияния папской курии. По пути в Рим, Мейендорф побывал в Чивитавеккии, где он познакомился с местной достопримечательностью, старым антикваром Донато Буччи. В своем дневнике Мейендорф подробно описал посещение антиквара и беседу с ним о Стендале. Тогда же, в 1861 году, Буччи преподнес ему книгу Луиджи Ланци с заметками Стендаля. Однако дарственная надпись была сделана позже, в 1863 году, когда Мейендорф уже работал в русской миссии в Риме и там жил. В тот год он снова посетил Донато Буччи и попросил его дарственной надписью подтвердить, что эта книга содержит заметки Стендаля, что было важно для ее сохранности в будущем.
Родовое имение Мейендорфа было в Лифляндии. В 1919 году, после национализации помещичьих библиотек, книга с заметками Стендаля попала в Ригу, в Государственную библиотеку. Всю эту необыкновенно интересную историю я подробно рассказала в своей книге: Татьяна Мюллер-Кочеткова, «Стендаль, Триест, Чивитавеккья и… Рига», опубликованной на латышском и русском языках (Рига, «Лиесма», 1978, 1983).
Научными исследованиями и подготовкой публикаций, как и других статей, я могла, естественно, заниматься лишь в свободное время, то есть по ночам или во время отпуска. Начиная с 1958 года, когда мои малыши начали проводить лето в хороших детских яслях и садике на Рижском Взморье, в Яундубулты, а когда подросли – в пионерском лагере Министерства культуры на Взморье, я ежегодно использовала свой отпуск для работы в московских и ленинградских архивах и библиотеках, и материал, собранный за этот месяц, давал мне возможность двигаться дальше в своих исследованиях. Так, в 1958 году, по инициативе Эренбурга, я начала работать в архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ), над фондом Вяземских. Эренбург рассказал мне, что в 30-х годах, в одном из томов «Литературного наследства», была опубликована записка Стендаля к Петру Андреевичу Вяземскому без комментариев, так как ее смысл оставался непонятым.
Найдя эту публикацию, я загорелась желанием разгадать интригующий смысл записки, посланной французским писателем русскому поэту, другу Пушкина, вместе со страницами французской газеты «Le Temps». В ней речь, на мой взгляд, шла о России, но не было никаких дат, ни названия места, где она была написана. Стендаль обращается в ней к своему «соседу»: не угодно ли ему прочесть эти две страницы и вернуть их «завтра в 10 часов. Там показана замечательная черта молодого казака». После этих слов Стендаль восклицает: «Какая (это была бы) держава, если бы буржуазия пошла навстречу крестьянству!»
Сразу же возник ряд вопросов: когда и где Петр Андреев Вяземский жил по соседству с Анри Бейлем – Стендалем? О каких страницах французской газеты идет речь, и что там напечатано? Кто этот молодой казак, и какая его черта привлекла внимание Стендаля? Наконец, о какой буржуазии идет речь? Ведь в России в то время сформировавшейся буржуазии еще не существовало.
Изучив фонд Петра Андреевича Вяземского, я обнаружила черновик неизвестного письма Вяземского к Стендалю, естественно, на французском языке, где говорится: «Прибывший из России князь Вяземский узнал, что по воле счастливого случая он оказался в Риме под одной крышей с господином де Стендалем, его старым и хорошим знакомым, остроумное, живое и поучительное общество которого доставляло ему столько сладостных и сильных ощущений при чтении “Красного и черного”, “Жизни Россини” и “Прогулок по Риму”: на этом основании и в качестве скромного служителя муз своего Отечества он осмеливается просить господина де Стендаля о милости быть представленным господину де Бейлю». Как оказалось, это изящно написанное письмо, датированное 16-м декабря, относится к 1834 году, когда Вяземский приехал со своей семьей в Рим для лечения дочери Пашеньки, заболевшей чахоткой (она вскоре там умерла).
Для полной уверенности мне было необходимо прежде всего выяснить все даты, когда русский поэт мог оказаться в одном городе с французским писателем и поселиться по соседству. После этого я поехала в Ленинград, где в Публичной библиотеке, к счастью, сохранились полные комплекты газеты «Le Temps» за многие годы. Я просмотрела ее, страница за страницей, за все время, когда в ней мог появиться материал, настолько заинтересовавший Стендаля, что он захотел поделиться им с Вяземским. В итоге я обнаружила те две страницы, о которых идет речь в вышеупомянутой записке.
На этих страницах напечатана обширная статья известного французского журналиста о книге польского автора, активного участника варшавского восстания 1831 года. И в книге, и в статье во французской газете, много внимания уделено движению декабристов, вдохновивших организаторов варшавского восстания. Оказалось, «молодой казак» – это полковник Павел Иванович Пестель, руководитель Южного общества декабристов. По французской традиции того времени, Стендаль называл русских военных «казаками». В газете подчеркивалось бескорыстие Пестеля, та «замечательная черта», так заинтересовавшая Стендаля. В подтверждение приведена цитата из письма Пестеля к другу: «Что касается меня, то после того, как завершится это великое дело (свержение самодержавия. – Т. М.), я уединюсь в киевский монастырь…»
Этот материал появился во французской газете в сентябре 1834 года, за три с лишним месяца до того, как Стендаль познакомился со своим русским соседом. Примечательно, что он сохранил эти страницы. То обстоятельство, что он послал их Вяземскому, по всей вероятности, со слугой, говорит о том, что этот материал был связан с тематикой их бесед, очень интересовавшей самого Стендаля: восстание декабристов, варшавское восстание 1831 года.
Ознакомившись со всем, что в литературном наследии французского писателя связано с движением декабристов, я обратила внимание на чрезвычайно любопытный момент: Стендаль узнавал о событиях 1825–1826 годов в России гораздо раньше и получая более полную информацию, чем многие представители образованных кругов русского общества, так как он следил за материалами парижской газеты «Le Moniteur Universel», где уже в июле 1826 года был полностью опубликован доклад следственной комиссии по делу декабристов, представленный царю в конце мая того же года. Вскоре в той же газете были напечатаны и другие материалы из России, позволившие Стендалю уже летом 1826 года получить подробнейшие сведения о движении декабристов, о допросах «государственных преступников», о мерах наказания декабристов…
Не удивительно, поэтому, что французский писатель уже в августе 1826 года затрагивал эти вопросы в статье, посланной им в лондонский журнал. Еще в марте месяце того же года он отметил, что «либеральные взгляды существуют в самих недрах русской армии»… В докладе следственной комиссии подробно сообщалось о проекте конституции Пестеля – «совершенно в духе республиканском». В публикации парижской газеты название Тульчинской управы Южного общества декабристов, по-видимому, вызывало у Стендаля ассоциацию с французской Директорией 1795–1799 годов (слово «управа» было переведено как «директория»). Все ото наводило Стендаля на мысль о буржуазно-демократическом характере идей Южного общества. С этим связано его восклицание в записке к Вяземскому: «Какая (это была бы) держава, если бы буржуазия пошла навстречу крестьянству!»
Моя публикация «Стендаль и Вяземский», появившаяся в журнале «Вопросы литературы» (1959, № 7) и во Франции, понравилась не только Илье Эренбургу, но и Луи Арагону, опубликовавшему в этой связи большую статью «О Стендале и о XX веке» в газете «France Nouvelle» (№ 731, 1959), в которой он рассказал читателям газеты не только о моих публикациях, но также о своей встрече со мной в Москве, о моей судьбе, о Густаве, называя его «молодым немцем», которого он мне обещая разыскать, но так и не нашел…
Встреча с Арагоном состоялась в апреле 1958 года. 19 апреля Эренбург сообщил мне, что Арагон в Москве, и указал его номер телефона в гостинице «Москва». Я позвонила Арагону, и он пригласил меня приехать. На следующий день я уже была в Москве. Когда я пришла в гостиницу, супруга Арагона, Эльза Триоле, как раз обсуждала сценарий кинофильма «Нормандия – Неман» со своими соавторами, Константином Симоновым и Шарлем Спааком. Луи Арагон представил меня им и прошел со мной в смежную комнату, где состоялся продолжительный разговор: говорил, главным образом, Арагон, а я внимательно слушала, и лишь под конец рассказала ему о Густаве.
Арагон тогда уже был совсем седым, но седина ему очень шла. У него было моложавое лицо и стройная фигура, и он разговаривал очень живо и темпераментно, много рассказывал о французской литературе, о своей любви к Стендалю и нелюбви к Бальзаку, и о другом. Это продолжалось довольно долго, и я начала чувствовать себя неловко, мне казалось, что я его задерживаю. Вдруг разговор начал касаться моего прошлого, Густава, наших французских друзей в Париже, с которыми я не смогла связаться. Пообещав навести справки, Арагон поднялся с места, я тоже встала, попрощалась с ним и вышла из комнаты. Я уже была в другом конце длинного коридора гостиницы, когда услышала голос Арагона, позвавшего меня назад, попрощаться с Эльзой Триоле. Мне потом рассказывали, что Арагон в Москве не делал ни шагу без Эльзы Триоле, и что его привязанность к ней изумляла всех, знавших обоих писателей лично.
Пытаясь узнать что-либо о Густаве или об общих знакомых, я регулярно просматривала периодические издания из ГДР, поступавшие в Государственную библиотеку, где я работала. Листая очередной номер иллюстрированного издания, я увидела знакомое лицо: постаревшая, но вполне узнаваемая Марта Берг-Андре разбивает бутылку шампанского о борт судна, носящего название «Эдгар Андре». Марта жива, и судя по всему, в ГДР! Я сразу же написала ей и послала письмо в адрес издательства с просьбой, ей переслать. Вскоре от Марты пришел подробный ответ: она рассказала о себе, о некоторых общих знакомых, но о Густаве она ничего не знала.
Через некоторое время, в 1959 году, в мои руки попал бюллетень, составленный и размноженный в Западной Германии бывшими интербригадцами. Среди прочих материалов там был список лиц, сражавшихся в свое время в 11-й Интербригаде, пожертвовавших деньги для политических заключенных в Испании, и среди них Густав М. из Маннгейма! Я вздрогнула от неожиданности – это он! Других с таким именем и оттуда в 11-й Интербригаде не было!
В Риге работало общество дружбы с зарубежными странами, где я иногда бывала на французских мероприятиях. Я знала референта этого общества, и с бюллетенем в руке вошла в его кабинет: «Я уверена, что здесь упомянут Густав Мюллер, отец моего старшего сына. Как мне ему сообщить, что его сын жив?» Взглянув в бюллетень, он ответил: «Тут указан адрес ответственного лица. Напишите ему.» И я написала несколько строк. Через месяц почти одновременно пришло два письма. Крайне взволнованное, со сплошными восклицательными знаками, от Густава: Как же так! Он нас столько лет разыскивал, и ему ничего о нас не сообщали! Он хотел бы нас увидеть, и как можно скорее! Второе письмо было от лица, ответственного за бюллетень, который оказался старым другом Густава. Он поехал к нему в Маннгейм и лично передал ему мои строки и наш адрес. Как он мне сообщил, Густав показал ему копии всех своих запросов о нас и полученные им отрицательные ответы.
Тогда же, летом 1959 года, в Ригу со своим мужем приехала директор немецкого телеграфного агентства ГДР Деба Виланд. Она была родом из Риги, и пользуясь случаем, навестила здесь свою школьную подругу Тамару. Во время этого визита ее муж, Гейнц Виланд, упомянул мое имя и девичью фамилию и сказал, что знал меня в Париже и хотел бы со мной встретиться, если я в Риге. На сей раз меня быстро нашли. Я позвонила Тамаре и встретилась у нее с Гейнцом и его супругой. Гейнц Виланд был другом Густава, вместе они бежали из гитлеровской тюрьмы, нелегально перешли французскую границу, попали в Париж, затем в Испанию, где они сражались в одном батальоне. В горах Харамы, там, где погиб Воля Лихтер, Гейнц отморозил себе ступни. Их пришлось ампутировать, после чего он передвигался на костылях. Мы часто встречались в Париже и бывали вместе на различных мероприятиях после того, как я познакомилась с Густавом и его товарищами. Потом Гейнца эвакуировали в Москву, где его лечили и изготовили ему протезы. В годы воины он был политкомиссаром лагеря для военнопленных, где он встретил свою будущую жену, Дебу, работавшую там переводчицей. После окончания войны его направили на партийную работу в Берлин, и вместе с ним поехала туда Деба.
Деба Виланд (24 июня 1968 г.).
Гейнц рассказал мне также о Густаве, изредка приезжавшем в Берлин. Он знал, что Густав очень скучал по своему единственному сыну, и предложил мне устроить для нас встречу в Берлине, если Густаву не удастся приехать в Ригу. В политических обстоятельствах того времени это было весьма сложным делом, так как Густав был гражданином Федеративной Республики Германии, страны, которую Советский Союз считал своим врагом № 1 в Европе, хотя с 1958 года у власти уже был Н. С. Хрущев, за два года до этого разоблачивший коварство и преступления Сталина в своей секретной речи на 20-м съезде КПСС, вскоре ставшей известной миру, по крайней мере в общих чертах.
Пока что мы с Густавом переписывались. Он хотел как можно больше узнать о своем сыне, который в это время уже работал слесарем на заводе, учился на вечернем отделении факультета механики и помогал мне как только мог. Густав очень жалел, что Эдгар не владел немецким языком и не мог сам ему написать.
Вернувшись после капитуляции Германии в Маннгейм, Густав продолжал общаться с нашими французскими друзьями, Мари-Луизой и освобожденным из плена Гэби. Через пять лет после окончания войны он женился на своей подруге юности, но с условием, что она даст ему развод, если я все же найдусь. Он продолжал нас разыскивать, пока ему однажды не рассказали, что кто-то из переживших ужасы концлагеря меня, якобы, там видел – все там были на одно лицо, изможденные, кожа да кости, вполне можно было ошибиться.
1960 г.
С сентября 1960 года я начала по совместительству работать на французском отделении факультета иностранных языков Латвийского государственного университета, преподавателем на почасовой оплате: два рубля в час за лекции, один рубль за семинарские занятия. Это были ничтожные деньги, и шитьем я бы зарабатывала гораздо больше. И хотя я нуждалась в деньгах, я все же пошла на эту работу и ночами напролет готовила на французском языке новые курсы лекций по теории и истории французской литературы. Так, на почасовой оплате, я проработана в университете десять лет, до 1970 года. Мне очень нравилось общаться с преподавателями нашего отделения и кафедры зарубежной литературы и заниматься со студентами, среди которых были очень способные молодые люди, ставшие впоследствии хорошими специалистами: гидами, переводчиками, преподавателями.
С Эдгаром (1 июля 1960 г.).
Подготовка и чтение лекций, восьмичасовой рабочий день в библиотеке, домашние дела и воспитание детей не оставляли мне времени для полноценного отдыха. Все же я продолжала посвящать свой ежегодный месячный отпуск научным исследованиям, приносившим мне огромное моральное удовлетворение, так как я каждый раз возвращалась из Москвы или Ленинграда с чем-то новым. Так, например, роясь в московском архиве древних актов (ЦГАДА), в материалах наполеоновской армии, перехваченных русскими в 1812 году, я обнаружила неизвестные письма Анри Бейля из России, подписанные разными псевдонимами (Бейль был помощником Главного интенданта наполеоновской армии, графа Дарю). Или, изучая издания пушкинской эпохи, я установила неизвестного автора некоторых публикаций – они принадлежали перу Стендаля и были переведены из французских изданий. Это позволило мне значительная расширить временные рамки истории русских переводов Стендаля. Поиски в архивах Москвы и Ленинграда помогли мне полностью выяснить судьбу и карьеру в России французской актрисы, подруги Анри Бейля, которую он разыскивал в горящей Москве… Эта молодая женщина сыграла значительную роль в жизни и творчестве Стендаля, и опубликованный мною материал вызвал у стендалеведов большой интерес. (На русском языке я рассказала о ней в своей книге «Стендаль. Встречи с прошлым и настоящим». Рига, «Лиесма», 1989).
Особенно увлекательной, хотя и очень сложной, была работа в архиве Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР в Ленинграде, где хранятся также письма и рукописные дневники Александра Ивановича Тургенева – брата декабриста Николая Тургенева и друга Пушкина и Вяземского. Александр Иванович общался со многими выдающимися личностями в разных странах Европы, и его дневники, ряд фолиантов с чрезвычайно неразборчивыми, а порою и полуистлевшими записями, представляют большую культурно-историческую ценность. В одном из этих дневников я наткнулась, например, на никому не известное пространное описание прогулок Анри Бейля с Александром Тургеневым по Риму и окрестностям. Обладая феноменальной памятью, Александр Иванович подробно изложил в своих дневниковых записях рассказ Бейля о памятниках древности, о «теперешнем Риме и римлянах», о папе, кардиналах, внутренней политике.
Справочное бюро Государственной библиотеки.
В 1960 году я заканчивала большую работу, заказанную мне Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы и изданную в Москве в 1961 году: «Стендаль. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1822–1960».
Лучшим вознаграждением за мой труд было письмо, полученное мною в январе 1962 года от крупнейшего специалиста в области русско-зарубежных литературных связей, академика Михаила Павловича Алексеева. Он писал: «Я… поразился обилию собранного Вами материала, который, кстати сказать, очень интересно представлен читателю – в интересных цитатах, объяснениях и т. д. Не сомневаюсь, что эта полезная и хорошо изданная книга будет весьма сочувственно встречена как у нас, так и за рубежом».
Это был не единственный отклик Михаила Павловича на мою работу. Он написал также официальные отзывы о моем большом обзоре «Творчество Бальзака в России» (опубликованном в Риге в 1964 году) и о кандидатской диссертации «Стендаль в России», которую я защитила во Львове в 1968 году. Я храню письма Михаила Павловича как дорогую мне память о большом ученом, одном из лучших представителей старой ленинградской интеллигенции.
В 1960–1970 годах в моей жизни произошли крупные события. О некоторых из них я расскажу ниже, но сейчас хочу остановиться на очень драматическом эпизоде, даже трагическом, имевшем прямое отношение к Густаву и нанесшем ему большой удар.
Летом 1960 года он намекнул в письме на возможность скорой встречи. Я терялась в догадках, но решила, что у него были основания на это надеяться, а нам оставалось ждать развития событий. В октябре пришло письмо от Густава из ГДР. Он сообщил, что включен в состав немецкой делегации на совещание коммунистических и рабочих партий в Москве в ноябре месяце, и что после совещания он сможет повидаться с нами. 27 октября, когда Эдгару исполнился 21 год, пришла поздравительная телеграмма на русском языке из Москвы, от имени его отца. Никаких писем от Густава не было. Зоя Моисеевна Гильдина, принимавшая большое участие в судьбе своих друзей, очень скептически отнеслась к тому, что Густаву разрешат поехать в Ригу, и посоветовала мне съездить в Москву и попытаться встретиться с ним там. Я ее послушалась, и это было большой ошибкой.
В Москву я приехала 6 ноября и остановилась у Евгении Львовны Гальпериной, упомянутой выше в связи с пресловутой «борьбой с космополитизмом». У нее был горький опыт сталинских репрессий, на ее глазах происходила бешеная травля замечательного поэта Бориса Пастернака. Казалось бы, у нее не должно было быть никаких иллюзий насчет КПСС и всей этой системы, существенно не изменившейся и после смерти Сталина. Но Евгения Львовна, романтик в душе, была настроена оптимистично и в восторге от того, что Густав в Москве. Она дала мне совет, которому я ни в коем случае не должна была следовать: позвонить в Центральный Комитет КПСС, вкратце рассказать, в чем дело, и попросить помочь мне повидаться с Густавом. Какой я тоже была тогда наивной! Я послушалась ее, и это было роковой ошибкой.
Если бы я, вместо того, чтобы поехать к Евгении Львовне, сразу же обратилась к Эренбургу, дело повернулось бы совсем иначе. Как он мне потом рассказал, вместе с немецкой делегацией в Москву приехал известный писатель из ГДР, которого Илья Григорьевич хорошо знал лично, и его он смог бы попросить пригласить меня в гостиницу, где они все остановились, и там я бы встретила Густава. Но история не знает сослагательного наклонения. Я этого не сделала, а позвонила в ЦК, где меня вежливо попросили позвонить завтра. На следующий день, 7 ноября, там тоже ничего не знали о Густаве, а тем временем уже происходило событие, о котором я во всех деталях узнала лишь через шесть лет, в 1966 году в Париже, когда я, наконец, встретилась с Густавом.
А произошло, вкратце, следующее. 7 ноября утром Густав был вместе со всей делегацией на трибуне Красной площади, где они наблюдали за парадом. После парада они в холле гостиницы «Москва» оживленно делились впечатлениями. Официант разносил на подносе рюмочки с водкой. Как и все, Густав выпил рюмку и… потерял сознание. Он пришел в себя лишь в больнице, где его продержали две недели, обследовали, ничего не нашли и выписали. После чего его посадили на самолет и отправили домой, в Западную Германию. Но самое ужасное, с точки зрения немецкой делегации и самого Густава, случилось сразу же после того, как он потерял сознание. Как ему рассказал кто-то из членов делегации уже в Западной Германии, он начал буйствовать, отбиваться от врачей, пытавшихся ему помочь, принимая их в бреду за гестаповцев… Короче, он ударил и оскорбил советских врачей! Немецкие коммунисты были возмущены до крайности. Партийная организация долго с ним разбиралась. Он был в полном отчаянии, не мог понять, как такое могло случиться, не говоря уже о том, что он не встретился с нами, не увидел сына! А после такого происшествия вряд ли еще когда-нибудь сможет нас навестить. Опьянеть от рюмки водки до беспамятства, до буйства! Он, привыкший, как все в Южной Германии, к обеду выпить бокал вина!
Ему и всем им не приходило в голову, да и не могло тогда прийти, что это был испытанный прием КГБ – подсыпать что-то в рюмку, в бокал, в чашку, если нужно было кого-то изолировать, не дать встретиться с кем-то, выдворить из страны… Илья Григорьевич рассказал мне, что такое же произошло с американской журналисткой, но она попала не в больницу, как Густав, а в вытрезвитель! О чем злорадно сообщала московская газета.
Не знаю, случилось бы это, если бы я не поехала в Москву и не позвонила в ЦК КПСС, где, несомненно, сразу же подняли на ноги КГБ. Зоя Моисеевна меня уверяла, что все равно произошло бы нечто подобное, Густаву не дали бы встретиться с нами. Но тогда, по всей вероятности, это случилось бы уже после совещания, и он еще смог бы услышать яростное выступление Н. С. Хрущева, наблюдать за перипетиями разрыва КПСС с коммунистической партией Китая…
Но обо всем этом разговор с Зоей Моисеевной шел через шесть лет, когда картина случившегося в Москве прояснилась. Вернувшись оттуда в Ригу, я, конечно, ничего не знала и недоумевала, почему от Густава не было никаких известий. Письмо пришло только через несколько месяцев, когда Густав собрался с силами и в очень общих чертах сообщил нам о своей неудаче. Из этого письма я поняла одно – он был в глубокой депрессии и уже не верил в возможность увидеть нас. Тогда я решила обратиться с письмом лично к Н. С. Хрущеву. В этом сжатом и предельно ясном письме я изложила известные мне факты и просила Хрущева содействовать тому, чтобы Густав, немецкий коммунист и бывший интербригадец, мог увидеть сына, с которым он расстался более 20-ти лет назад.
Через какое-то время меня пригласили к секретарю ЦК КП Латвии. Он разговаривал со мной весьма миролюбиво: «Мы знаем, что вы не были официально замужем за Густавом Мюллером. Было бы лучше, если бы его сын сам добивался встречи с отцом»… Одним словом, пустой разговор. Каким образом мог бы Эдгар тогда этого добиться? О приглашении родственников из-за границы или частных поездок к ним в гости, особенно в капиталистические страны, тогда еще не могло быть и речи.
С актерами Комеди Франсез на встрече в обществе дружбы (Рига).
В 1963 году я получила приглашение на Стендалевский конгресс в Италию. В связи с этим, я обратилась к Эренбургу. Он был председателем общества дружбы «СССР – Франция», а я состояла в рижском отделении этого общества. Секретарь Илья Григорьевича, Наталия Ивановна Столярова (Елена Зонина тогда уже работала переводчиком), ответила мне от его имени, что «отношения у Ильи Григорьевича с Союзом обществ неважные и он убежден, что они не помогут. Я боюсь, что Вам придется заняться этим вплотную самой, приехать и т. д. Когда Вы уже будете здесь, то и Илье Григорьевичу легче будет Вам помочь. (За шесть лет, что я добиваюсь встречи с сестрой, ему не удалось мне помочь)».
Наталия Ивановна вернулась из Парижа в СССР еще до войны и сразу же попала в лагерь, на каторжные работы. После смерти Сталина ее освободили из лагеря. Прошло уже десять лет, как кровавого душегуба не стало, а она все еще не могла повидаться со своими родственниками во Франции.
Приглашение на конгресс я не смогла использовать. Обстоятельства были весьма неблагоприятными. Международные отношения СССР обострились еще больше, после возведения берлинской стены (1961) и Кубинского кризиса (1962), когда советские ракеты, отправленные на Кубу, чуть не спровоцировали новую войну. Ожесточилась и идеологическая борьба в Советском Союзе. После того, как в «Новом мире» в 1962 году была опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а по стране начали распространяться произведения «самиздата», размноженные на пишущих машинках, нападки в печати на строптивую творческую интеллигенцию стали еще более яростными. На Эренбурга уже ополчились по поводу его очерка «Уроки Стендаля» (1958), поднимавшего актуальные вопросы о правде в искусстве и о роли писателя в обществе. В начале 60-х годов отношение властей к нему еще ухудшилось из-за поддержки, которую он оказывал Евгению Евтушенко и другим молодым поэтам.
В 1966 году я снова получила приглашение на конгресс, на сей раз – в сентябре того же года в Париже. Ассоциация Друзей Стендаля пригласила и Эренбурга. Желая мне помочь, Илья Григорьевич обратился с письмом в Иностранную комиссию Союза писателей, в котором он сообщил необходимые сведения обо мне и просил оказать содействие положительному разрешению вопроса о моей поездке на конгресс. Я узнала об этом письме лишь в 1987 году, прочтя подборку писем Эренбурга в журнале «Вопросы литературы» (№ 12). Не знаю, предприняла ли Иностранная комиссия что-нибудь, но на этот раз общие обстоятельства были более благоприятными. В Москве ожидали приезда президента Французской Республики, генерала Шарля де Голля. В советской печати появлялись дружественно настроенные по отношению к Франции публикации, вспоминались давние традиции русско-французских культурных связей.
Мое приглашение было подписано профессором Сорбонны, и когда я пришла с этим официальным письмом в ОВИР, ко мне отнеслись более благосклонно, чем можно было ожидать. В характеристике, выданной мне директором библиотеки для ОВИРа, были перечислены все мои родственники за границей, живые и мертвые, вероятно, на тот случай, если я сама забуду кого-нибудь указать. Несмотря на это, я получила разрешение поехать на конгресс. Но пришлось немало понервничать – заграничные паспорта выписывались только в Москве, и мои паспорт прибыл в Ригу в последний момент.
Мои друзья очень переживали за меня и принимали деятельное участие в моей экипировке и в снабжении деньгами: одна приятельница одолжила мне свой элегантный плащ, другая – красивую сумку… Я сшила себе второпях платье и закончила подшивать подол и обметывать швы в поезде по дороге в Париж…
7. На Стендалевских конгрессах. Встречи с Густавом. В Западной Германии
Наконец, 2 сентября 1966 года я приехала в Париж, на Северный вокзал, откуда уезжала с Эдгаром почти двадцать шесть лет назад. Организаторы конгресса предоставили мне комнату в гостинице, но я намеревалась побыть в Париже еще неделю после конгресса и решила сразу же попытаться выяснить судьбу дяди Макса и его семьи. Я помнила маленький ювелирный магазин, где он работал в 30-е годы. Там его хорошо знали, рассказали мне, что он на пенсии, и дали его номер телефона. Я ему позвонила. Какая это была радость снова услышать его голос! Дядя также очень обрадовался мне и просил немедленно приехать. Он и слышать не хотел о гостинице, предоставил мне свою квартиру, а сам на время моего пребывания в Париже поселился у дочери, моей кузины Люси. Она была замужем за французским аристократом, имевшем в Париже небольшой особняк, куда меня после конгресса пригласили в гости. Тети уже не было в живых, она погибла в гитлеровском концлагере. Кузину прятали у себя в провинции французы, выдававшие ее за свою родственницу парижанку.
Конгресс открылся в прекрасном здании ЮНЕСКО, построенном в 1955–1958 годах по проекту американского, итальянского и французского архитекторов, с внутренними садиками, керамическими декорациями Миро, фресками Пикассо и произведениями многих других художников. Участники конгресса и представители прессы собрались в очень светлом зале цокольной части этого здания (одна боковая стена – сплошное стекло, за ним – зелень). Выяснилось, что Эренбург еще не прибыл в Париж – он задержался в Москве из-за болезни супруги. Его выступление было предусмотрено в программе первого заседания, посвященного теме «мировое значение Стендаля». Все вопросы, относившиеся к России и к Советскому Союзу адресовались мне, что было неожиданно – у меня в тот день был свой доклад на тему «Стендаль и русские писатели». Но я все же справилась с этим, хотя и испытывала большое напряжение.
Во время конгресса я познакомилась со многими интересными людьми, с которыми впоследствии встречалась и на других Стендалевских конгрессах. Виктора дель Литто, «папу» стендалеведов после смерти Анри Мартино, я уже знала по переписке, а тут познакомилась с ним и с его супругой, русской по происхождению.
Дядя Макс.
Театр, музыка, итальянская опера играли большую роль жизни и творчестве Стендаля. С блестящей импровизированной речью на конгрессе выступила старейшая актриса и режиссер театра Комеди Франсез Беатрис Дюссан, о которой я еще расскажу ниже в связи с любопытным эпизодом, происшедшим в Италии. Среди выступавших был и директор музея театра Ла Скала, Джампьеро Тинтори, пригласивший меня в этот лучший в мире оперный театр. Я познакомилась в эти дни и с некоторыми участниками конгресса, для которых занятия Стендалем было хобби, как, например, для детского врача из Триеста, Бруно Пинкерле, опубликовавшего серьезные исследования, посвященные этому французскому писателю. С ним я снова встретилась потом в Италии, но тогда он уже был смертельно болен лейкемией. Ему оставалось жить всего несколько месяцев, он знал об этом и все же участвовал в Стендалевском конгрессе.
Выступление Ильи Эренбурга в зале ЮНЕСКО.
Последнее заседание парижского конгресса состоялось в музее естествознания Ботанического сада. В этом доме, где жил выдающийся натуралист Жорж Кювье, часто бывали Стендаль и Александр Иванович Тургенев, когда он приезжал в Париж. Семья Кювье принимала гостей по субботам.
В 1977–1978 годах я опубликовала в периодическом издании «Stendhal Club» со своими комментариями неизданные письма Софи Дювосель, падчерицы и помощницы Жоржа Кювье, к Александру Ивановичу Тургеневу, с которым она поддерживала дружеские связи. В этих весьма содержательных и интересных письмах речь неоднократно шла также об их общем друге Анри Бейле («Стендаль» был, как сказано выше, его литературным псевдонимом). Не случайно вопрос о связях Анри Бейля – Стендаля с учеными его времени занимал важное место в тематике докладов того заключительного дня заседаний конгресса.
Заседание в музее естествознания Ботанического сада.
На кладбище Монмартр в Париже во время конгресса.
У могилы Стендаля.
Илья Эренбург прилетел в Париж на второй день конгресса, и я облегченно вздохнула, когда увидела его на торжественном приеме в городской ратуше Парижа, Отель де Виль, где нам показали подписи Н. С. Хрущева и Джона Кеннеди в книге почетных гостей и предложили также в ней расписаться. После заключительного заседания Эренбург принял участие в экскурсии к берегу Марны. Во время обеда в саду небольшого ресторана Эренбург с довольной улыбкой наблюдал за тем, как Виктор дель Литто, взяв меня за руку, обошел со мною длинный стол, провозглашая здравицу за дружбу между народами Востока и Запада. Дель Литто потянул было с нами и стендалеведа… аббата, но тот отмахнулся. Позже он объяснил мне причину: «Я безумно стесняюсь…».
Вернувшись в Париж, Эренбург уехал в Везеле, где ему предстояло выступить на симпозиуме, посвященном Ромену Роллану.
Мари Павловна Ромен Роллан и Илья Эренбург в Везеле.
После двух дней экскурсий вместе с участниками конгресса, я пошла разыскивать Мари-Луизу и быстро нашла ее квартиру в доме, местоположение которого я хорошо помнила, когда послала ей телеграмму в конце 1944 года. Теперь же я убедилась и своей ошибке – номер той части этого здания, где находилась ее квартира, был совсем другой. Мари-Луизы не оказалось дома. Я оставила ей записку и решила вернуться вечером, а пока погулять по городу. Изменился ли Париж за двадцать шесть лет? В 1945 году Эренбург написал стихи, которые я часто вспоминала в разных ситуациях. Там говорится:
…Париж не лес, и я не волк Но жизнь не вычеркнуть из жизни. А жил я там, где сер и сед, Подобен каменному бору, И голубой и в пепле лет, Стоит, шумит великий город. …Прости, что жил я в том лесу, Что все я пережил и выжил, Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа.И мне запомнился Париж «седым». Древний город оказался помолодевшим. От патины веков были очищены Триумфальная арка, Пантеон, другие монументы и исторические здания. Но нетронутым еще был собор Нотр-Дам с его многочисленными статуями и химерами, и это меня очень обрадовало – я как будто встретилась с днями моей молодости. На Больших бульварах, прежде таких уютных, появились кричащие рекламы, много неонового света. Но стоило свернуть в сторону от запруженных туристами городских артерий, как перед глазами возникали давно знакомые картины непринужденного образа жизни парижан, о котором Эренбург писал в том же стихотворении:
…Там с шарманкой под окном И плачет и смеется вольность.Когда я вечером того же дня вернулась к Мари-Луизе, она с нетерпением ждала меня, и мы обе расплакались от переполнивших нас чувств. Сколько пережито за эти многие годы! Мари-Луиза уже была бабушкой и вдовой – Гэби умер несколько лет назад от рака. Они почти ежегодно встречались с Густавом, приезжали к нему в гости, в Маннгейм, или он посещал их в Париже. Мари-Луиза никак не могла понять, почему ему не удалось нас разыскать. Я и не пыталась объяснить ей причины. Они казались бы тогда дикими, невозможными, людям, жившим на Западе в нормальных, человеческих условиях. Лишь после того, как «железный занавес» рухнул и люди получили возможность свободно общаться, многое прояснилось и становилось понятным…
Узнав о том, что я более десяти лет занималась творчеством Стендаля и в связи с этим приехала в Париж, на конгресс, Мари-Луиза ахнула и напомнила мне, что перед моим отъездом из Парижа она положила в мой чемодан книгу Стендаля – его роман «Красное и черное», тем самым как бы предсказав мою судьбу. Этот чемодан пропал, и я совсем забыла о ее судьбоносном подарке.
Мари-Луиза предложила мне вместе с ней пойти на почту и отправить Густаву телеграмму. Через день он уже был в Париже. Трудно рассказать о событии, которой мы оба ждали более четверти века, и вот – оно свершилось! Мы, наконец, встретились. Сколько за эти долгие годы было передумано, прочувствовано, пережито… И все это спрессовывалось в два дня бесконечных разговоров. Густав стал внешне более солидным, но как личность мало изменился, только стал более критически относиться к ранее незыблемым постулатам – опыт всех этих лет не прошел для него даром, как и для многих коммунистов Западной Германии, как я потом могла убедиться. Я же, конечно, очень изменилась, и внешне, и внутренне, и Густав старался как можно больше узнать о моей жизни за эти десятилетия, а также об Эдгаре, который уже был отцом двухлетнего сына, Игоря. Вместе с тем, наши чувства не изменились, мы по-прежнему глубоко любили друг друга, и нам снова было очень легко общаться, хотя в первые часы нашей встречи у меня иногда путались немецкие слова с французскими и русскими – я уже мыслила по-русски, а за неделю в Париже – уже и по-французски.
В то время, когда Густав помогал французам сражаться против немецких оккупантов, его двоюродный брат, как он узнал после войны, служил в гитлеровской авиации и был сбит в небе над Россией. Родители не дожили до возвращения Густава из Франции, а дядя и тетя, с которыми я познакомилась во Франкфурте, погибли во время бомбежек этого города…
Через два дня после приезда в Париж для встречи со мной, Густав должен был вернуться в Маннгейм, на работу в страховом обществе. Я провела еще несколько дней в Париже, посетила те места, где когда-то жила, побывала в доме моей кузины Люси и познакомилась с ее семьей, пообщалась еще с дядей Максом и с Мари-Луизой, и вернулась в Ригу, где меня с нетерпением ждали дети и друзья.
Еще на парижском конгрессе меня пригласили на следующую встречу стендалеведов в мае 1967 года в Парме. Через несколько месяцев мне прислали два официальных приглашения: от президента пармской Ассоциации по туризму, Франческо Борри, и от мэра Пармы, Энцо Балдасси. Все расходы на мою поездку организаторы конгресса брали на себя. Я еще расскажу ниже об упомянутых лицах, оказавшихся очень интересными людьми. Сейчас отмечу, что разрешение ОВИРа на эту поездку я получила, но и на сей раз она висела на волоске. Мне удалось получить заграничный паспорт лишь в самый последний момент и весьма своеобразным способом: приехав в Москву, я добилась приема у начальника ОВИРа, седого, но еще не старого генерала с интеллигентным лицом, и рассказала ему, почему я должна участвовать в работе конгресса, о сути своего доклада.
Когда я вошла в кабинет генерала и объяснила ему причину, заставившую меня обратиться к нему, он сказал: «Ну зачем вам самой лететь в Италию? Пошлите свой доклад». Я ответила, что конгресс начнется через два дня, его организаторы ужо оплатили мой билет на самолет. Они пригласили меня как советского специалиста, сумевшего разобраться в зашифрованных записях Стендаля и способного их комментировать. В этом и состоит суть моего доклада. Проанализировав дневниковые записи Стендаля, где писатель скрывается под очередным псевдонимом, я по-новому трактую знаменитые военные сцены романа «Пармская обитель», первое реалистическое описание войны, научившее Льва Толстого, по его собственным словам, «понимать войну».
Видя, что этот момент заинтересовал генерала, я привела некоторые детали моего доклада. Может быть, он уже читал что-то из произведений Стендаля. То, о чем я говорила, произвело на него впечатление, и он тут же велел принести мой паспорт. Когда я в последний момент примчалась в итальянское консульство и сказала, что должна вылететь в Италию уже на следующий день, там развели руками: для предоставления визы требовался месяц. Но стоило мне упомянуть, что я единственный советский стендалевед, который приглашен в Италию имеете с писателем Ильей Эренбургом, как все уладилось очень быстро. Илья Григорьевич потом со смехом рассказал, что ему позвонили из итальянского посольства и спросили, не возражает ли он против моей поездки в Парму, на что он ответил, что не только не возражает, но просит срочно предоставить мне визу.
Самолет авиалинии Алиталия летел в Милан над Швейцарией. Я впервые увидела величественную панораму Альп: островерхие ледники, покрытые вечным снегом хребты, темно-зеленые склоны гор, изрезанные речками и селениями долины… Над Цюрихом и Цюрихским озером самолет уже снижался (недавно я побывала в Швейцарии, и могу себе теперь представить эту волшебную картину, глядя с земли).
В Парме нас с Эренбургом поместили в фешенебельную гостиницу «Жоли – Стендаль». В холле было большое панно на стендалевские темы, напоминавшее мне рисунки Пушкина. С автором панно, художником Карло Маттиоли, одним из лучших иллюстраторов книг Стендаля, мы вскоре познакомились лично.
Организаторы конгресса угостили Эренбурга и меня образцами пармской кухни в одном из ресторанов (ни одна трапеза не обходится в Парме без знаменитого сыра «пармезан», который добавляют к самым разным блюдам, и без сушеной ветчины, нарезанной тонкими, как бумага, прозрачными розовыми ломтиками). На следующий день нас повели завтракать в гостиницу «Кампана» (Колокол), где жил Леонардо да Винчи во время своего пребывания в Парме. В тех же скромно побеленных стенах, видевших великого мастера эпохи Возрождения, сидели мы с организаторами конгресса и оживленно беседовали. Энцо Балдасси, коммунист, избранный мэром Пармы, был одним из самых молодых партизан, освободивших Парму в апреле 1945 года. Он рассказал нам о своем городе, с которым мы позже детальнее познакомились во время экскурсии и различных мероприятий.
Во время завтрака в гостинице «Кампана» разговор зашел также о войне. Эренбург вспомнил блокаду Ленинграда. Всех присутствовавших глубоко тронул его рассказ о выставке собак в 1945 году в Ленинграде, где он видел как несколько высохших старушек показывали посетителям своих собачек, переживших блокаду.
На этом завтраке я познакомилась и с Франческо Борри, одним из самых богатых и влиятельных деятелей Пармы, невысоким, плотным и очень подвижным человеком лет шестидесяти, в доме которого мы вскоре побывали. Этот старинный дом принадлежал древнему роду семьи Борри уже шесть веков. В нише лестничной площадки стоял мраморный саркофаг с фигурой лежащего ребенка. В залах, с фресками на стенах и росписью на потолках, были замечательные картины, среди них женский портрет кисти друга Леонардо да Винчи…
Среди организаторов конгресса был пожилой адвокат Джакомо Миацци, не только член местной группы Друзей Стендаля, но и итальянской Академии гастрономии. Он пригласил нас к себе домой и угостил собственноручно приготовленным изысканным обедом, к которому он, надев фартук, принес из своего винного погреба бутылку очень старого вина, покрытую толстым слоем пыли и паутины, и лишь после того, как продемонстрировал ее нам, он велел слуге бутылку отмыть и подать к столу.
Стендалевский конгресс в Парме, 1967 г., заседание в Палатинской бибилиотеке.
В ресторане Жиованнино Гуарески.
Выставка к Стендалевскому конгрессу, организованная г-ном Тинтори, директором музея театра Ла Скала.
Илья Эренбург (крайний слева – Виктор дель Литто).
Г-жа Дюссан, Илья Эренбург, г-н Константен, приятельница Константенов.
Г-жа Дюссан, Илья Эренбург, г-жа Константен и ее приятельница.
В один из дней в Парме нас повезли в Мамиано, в предгорьях Апеннин, в имение профессора – искусствоведа римского университета Луиджи Маньяни, тоже участвовавшего в работе конгресса. У него была крупная коллекция картин его покойного друга, известного художника Джорджо Моранди, умершего в 1964 году. Он специально приехал в свое имение, чтобы показать Илье Эренбургу картины этого художника, который Эренбурга очень интересовал.
В холле большого дома, окруженного красивым парком, расположились друг против друга хозяин дома и Илья Григорьевич, а за ним – остальные гости. Слуга в ливрее не спеша приносил и уносил одну за другой картины Моранди, почти исключительно натюрморты: скрипка, труба и мандолина; кувшин с розами; графины; бутылки и разное другое. Моранди очень редко писал пейзажи. Один из них, весьма своеобразный, был в коллекции Луиджи Маньяни: левая часть картины – сплошная глухая светло-серая стена, справа – просвет голубого неба, блекло-зеленая зелень на фоне крыш и стен домов. Тона всех картин – неяркие, спокойные, минорные. Поражало разнообразие оттенков: серого, желтого, коричневого, фиолетового… Дух этой живописи очень соответствовал самому хозяину дома, производившему впечатление утонченного, меланхоличного интеллигента. Эренбургу очень понравились картины Моранди. Он внимательно разглядывал каждую из них, делясь своими впечатлениями и расспрашивая о художнике и о судьбе других его полотен.
Затем Луиджи Маньяни повел нас в зал, где висели картины старых мастеров. Прощаясь с нами, он с грустной улыбкой преподнес мне огромную розу, такую красивую, что мне жаль было оставлять ее в гостинице, и я подарила ее милой и скромной госпоже Борри, у которой в тот день были именины.
Пармский конгресс был блестяще организован, с обширной программой докладов и различных мероприятий. На него съехалось более двухсот стендалеведов и гостей из разных стран и континентов. Рядом с японкой можно было видеть черную как смоль африканку и облаченную в сари индуску. Было много представителей печати и телевидения. С Виктором дель Литто приехал и мэр Гренобля, родины Стендаля. Заседания проходили в исторических зданиях Пармы, в частности, в знаменитой Палатинской библиотеке, обладающей большим собранием редких книг и рукописей, более сорока тысячами гравюр. Все стены зала конференций занимали книги в кожаных переплетах, расставленные на полках по формату и по алфавиту: самые маленькие томики вдоль расписного потолка.
Мне довелось выступить на заключительном заседании, в средневековом замке Соранья, в восьми километрах от Пармы. На нем присутствовали хозяин замка, принц Мели Лупи ди Соранья и его супруга, немолодая, но очень красивая женщина с величественной осанкой. Замок Соранья (8-й век) с мощными четырехугольными башнями, выступающими по углам огромного квадратного строения, – одна из достопримечательности пармской провинции. В залах много фресок, гобеленов, картин, больших зеркал, позолоты, старинной мебели. Стены обтянуты шелком. Хотя замок и принадлежал семье Соранья, его исторические ценности были учтены государством и не подлежали распродаже. Часть замка была доступна туристам, и портье, водивший их туда, получал 20 процентов входной платы в качестве вознаграждения. Нам же замок показывал сам принц, рассказывая о нем много интересного.
В дни конгресса мы имели возможность ознакомиться со многими выдающимися памятниками архитектуры и искусства Пармы и пармской провинции, а также увидеть все, что связано с великим художником 16-го века Корреджо, о котором Стендаль писал, что он сумел «выразить красками» чувства, «которые после него сумели запечатлеть… только Чимароза и Моцарт». Неописуемое впечатление произвела на меня его величественная фреска «Успение Марии» купола пармского собора: вихрь небесных и вместе с тем таких земных, нежных и сильных фигур Корреджо, парящих в облаках; золотое сияние, пронизывающее теплые тона палитры великого пармского художника… И все это в сочетании с органной музыкой, звуки которой наполняли собор – потрясающее, незабываемое переживание этих прекрасных дней, проведенных мною в Парме.
Мы посетили также монастырь, по которому назван шедевр Стендаля, его роман «Пармская обитель». Основанный в 13-м веке, он богато украшен фресками. Его квадратный внутренний двор обрамлен великолепной аркадой. С начала 20-го века в Пармской обители размещено государственное профессиональное училище.
Недалеко оттуда, на живописном берегу горной реки По, в том самом месте, где герой романа «Пармская обитель» Фабрицио переправился через реку, спасаясь от преследователей, итальянское телевидение брало интервью у Эренбурга. Илья Григорьевич сидел на каменных ступеньках, ведущих к реке, и отвечал на вопросы сидящего рядом журналиста. Оператор направил на них объектив телекамеры. Мы с интересом наблюдали за ними. Вскоре я увидела эту сцену по телевизору в холле гостиницы: передавали хронику. Сначала показывали папу римского на церковном празднике, затем кадры военных действий на Ближнем Востоке и во Вьетнаме, а после этого – Илью Эренбурга на берегу По.
Интервью с журналистом итальянского телевидения.
После закрытия конгресса я осталась вместе с большой группой стендалеведов еще на несколько дней в Парме. За Эренбургом приехали из советского посольства в Риме, где ему предстояло вручить скульптору Джакомо Манцу ленинскую премию мира. В тот день, вернувшись в гостиницу, я застала Илью Григорьевича в холле в обществе двух молодых мужчин. Эренбург подозвал меня и представил «наших ребят из посольства». Мы очень весело беседовали о Парме и пармской кухне, а когда Илья Григорьевич ненадолго отлучился, заговорили и о нем. Один из этих «ребят» сказал: «Я давно знаю Эренбурга. Наш Илья мировой парень!» Меня это очень рассмешило, но вместе с тем я задумалась: как молод душой Илья Григорьевич, несмотря на преклонный возраст и усталость, как он умеет найти общий язык с людьми, разговаривать с ними о том, что их интересует… Перед отъездом Илья Григорьевич пригласил меня навестить его в Риме, где я намеревалась провести неделю.
За эти дни в Парме после конгресса мы побывали на очень интересных экскурсиях: в местах, где родился и жил Джузеппе Верди, посетили несколько средневековых замков со звучными названиями – Фонтанеллато, Торрекьяра, Фелино, осмотрели фешенебельный курорт Салсомаджоре в предгорьях Апеннин. Здесь и произошел вышеупомянутый эпизод с режиссером театра Комеди Франсез Беатрис Дюссан.
В ресторане курорта Салсомаджоре гремел джаз, нескольку пар кружилось в танце. Из больших окон виднелись окрестные холмы с замками, вдали – Фиденца и Парма. Под окнами находилась полукруглая площадка, где любители стреляли в голубей, запертых в клетках. При «удачном» попадании дверцы клеток распахивались. Вдруг на окно взлетел подстреляный голубь, на стекло брызнула кровь и потекла вниз. Госпожа Дюссан стремительно поднялась с места и с видом глубокого отвращения покинула зал. Вскоре за ней последовали и другие, участвовавшие в этой экскурсии, в том числе и я.
В замке Торрекьяра (14-й – 15-й века) часто снимались фильмы о средних веках. Тоже с четырехугольными башнями, он высится на холме и окружен внушительной стеной. В «золотой комнате» замка, стены которой когда-то были покрыты позолотой и эмалью, сохранились фрески художника Бенедетто Бемби (15-й век), изображающие встречу Бьянки Пеллегрини с ее возлюбленным Росси, жившем недалеко отсюда в замке Фелино. Бьянка была замужем, ее любовь считалась грешной, поэтому художник изобразил ее с черным лицом. Рядом с замком находилась траттория (ресторан), а при ней «разделочная», изготовлявшая знаменитую пармскую ветчину. Окорока висели рядами одни над другими и сушились на свежем воздухе – целый «собор» окороков… В траттории висели большие фотографии знаменитой певицы Ренаты Тебальди. Она была родом из Пармы, как и выдающийся дирижер Артуро Тосканини.
Мы видели скромный дом в местечке Ронколе Верди, где в 1813 году родился великий композитор (тогда оно называлось просто Ронколе), и побывали в замке Буссето, где в театральном зале, уменьшенной копии театра Ла Скала, ставились оперы Джузеппе Верди, и сам композитор стоял за дирижерским пультом. Французская оперная певица Сюзанн Балгери, тоже участница конгресса, рассказала нам здесь о Джузеппе Верди, «замечательно выразившем все тревоги женского сердца»… В трех с лишним километрах от Буссето находится вилла Сант-Агата, построенная по заказу Верди. Здесь он создавал некоторые из своих лучших опер. Родственница композитора, госпожа Каррара-Верди, приехала сюда, чтобы показать этот дом стендалеведам. Все в нем сохранилось как при жизни композитора, в частности, его рабочая комната с роялем, письменным столом, шезлонгом, на котором Верди отдыхал, с картинами и портретами… На стене висели также эскизы «Фальстафа» – последней оперы Верди.
Вскоре мне посчастливилось услышать эту оперу в Милане, в театре Ла Скала, куда меня пригласил Джампьеро Тинтори, директор музея Ла Скала, который мне также показал этот замечательный, крупнейший в мире музей театрального искусства. В тот вечер в фойе Ла Скала, у входа в зрительный зал, вытянувшись в струнку, стояли два стройных молодца в черных мундирах, высоких шлемах с красным плюмажем, в белых перчатках и с саблей на боку. Между ними в зал проходила элегантная публика в смокингах и вечерних туалетах. В партере, где я сидела, слышалась почти исключительно иностранная речь: английская, немецкая, французская…
Билетерами театра Ла Скала были импозантные мужчины в черных фраках и белых перчатках. Сама мысль о том, что им полагались «чаевые», как, например, билетершам парижского театра Комеди Франсез, казалась невозможной.
Трудно передать словами атмосферу этого дивного вечера: восхищение, энтузиазм, восторг, неистовые аплодисменты… 60-летний творческий путь великого композитора завершился по-юношески задорной, гениальной комической оперой! Непревзойденная постановка театра Ла Скала и замечательные голоса во всех, без исключения, партиях! Я еще расскажу ниже о двух других спектаклях Ла Скала, на которых я имела счастье побывать в 1980 году, во время Стендалевекого конгресса в Милане.
В первые дни пребывания в Риме я отправилась в Отель ди Милано, где остановился Эренбург. Войдя в гостиницу, я увидела его в холле в обществе двух мужчин. Илья Григорьевич подозвал меня и представил своих собеседников – итальянцев, переводчика русской литературы и журналиста популярного итальянского периодического издания. Я оказалась свидетельницей последнего интервью Эренбурга западному журналисту (Илья Григорьевич скончался в Москве через три месяца, 31 августа 1967 года).
В те дни конца мая итальянские газеты сообщали об участии Эренбурга в Стендалевском конгрессе в Парме и о его приезде в Рим, а вскоре также о речи М. А. Шолохова на 4-м съезде писателей в Москве, цитируя его слова об Эренбурге, в которых звучала явная издевка: «Посмотришь, посмотришь вокруг – нет Ильи Григорьевича, и вроде чего-то тебе не хватает, становится как-то не по себе… Где Эренбург? Оказывается, он накануне съезда отбыл к берегам италийским. Нехорошо как-то получилось у моего друга… И вот уже, глядя на этакую самостоятельность и пренебрежение к нормам общественной жизни Эренбурга, некоторые великовозрастные молодые писатели начинают откалывать такие коленца, за которые впоследствии им самим будет стыдно…»
Журналист долго донимал Илью Григорьевича вопросами о том, как он относится к выступлению Шолохова, чем оно вызвано. Эренбург отвечал очень сухо и сдержанно. Под конец ему надоело, и он весьма резко спросил журналиста: «Скажите, что вы читали из моих произведений?» Тот оторопел от неожиданности и не сразу нашелся, что ответить. Наконец он вспомнил самое нашумевшее: «Оттепель». (Эта книга Эренбурга вышла в 1954 году, и ее название стало нарицательным для эпохи хрущевской «оттепели»). Тогда Илья Григорьевич с сарказмом сказал журналисту: «Признайтесь, вы ведь не интересуетесь мною как писателем, а хотите по мне измерить температуру в Союзе советских писателей». На этом интервью закончилось. Эренбургу было крайне неприятно также то обстоятельство, что в римских газетах появлялись сообщения о нем наряду с сообщением о бегстве дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, наделавшем тогда много шума.
После смерти Эренбурга комиссия по его литературному наследию начала собирать материал для сборника «Воспоминания об Илье Эренбурге» (Москва, 1975). Ко мне также обратились с предложением написать о нем свои воспоминания, которые вошли в этот сборник под заглавием «С Ильей Эренбургом на Стендалевских конгрессах». Однако эпизод с римским интервью был опущен. Составитель, Галина Белая, писала мне: «Очень жаль, но приходится». В своей книге «Стендаль. Встречи с прошлым и настоящим» (Рига, 1989), в главе «С Ильей Эренбургом в Париже и в Парме» я восстановила пропущенное.
Еще в Парме Виктор дель Литто пригласил меня в Гренобль посетить места, связанные с жизнью и творчеством Стендаля. В Риме я получила французскую визу, и когда приехала на границу, в Вентимилья, французский пограничник долго рассматривал мой паспорт, а затем с ним куда-то ушел (в те годы советские, граждане еще не появлялись в этих местах). Когда он вернулся с моим паспортом, кондуктор сказал, что мне надо пересесть в другой поезд, этот, мол, не пойдет в Гренобль. Торопя меня, он взял мой чемодан и повел меня к поезду, который, как потом оказалось, шел… в Марсель, вдоль Лазурного берега, не спеша, останавливаясь на каждой из многочисленных станций. Я пришла к выводу, что кондуктор сделал это нарочно, чтобы я, советская гражданка, увидела Лазурный берег, но не обиделась на него, так как виды были поистине сказочными: Монако, Монте-Карло, Ницца, Антибы, Канны… Правда, эта «экскурсия» не была предусмотрена в моем скромном бюджете, но зато какие впечатления! Во время этой поездки я не только любовалась красивыми видами этого благодатного края, но также познакомилась с непосредственностью провансальцев, в лице двух новобранцев, вошедших в Ницце в мое купе. Я видела, как они на перроне прощались со своими друзьями и подружками. Поздоровавшись со мной и закинув свои дорожные сумки на багажную полку, они растянулись на сиденьях, где, кроме меня, никого не было. Парню, севшему рядом со мной, места явно не хватало, чтобы растянуться во всю длину, а спать ему, видно, очень хотелось, и он как ребенок положил голову на мои колени и моментально уснул. Я опешила, но решила его не тревожить, только осторожно приподняла его голову и подложила вместо подушки свою сумку.
Я продолжала зачарованно смотреть в окно, пока не наступил вечер и кроме мелькавших мимо огней и оранжевых полос на потемневшем небе ничего не было видно. В нашем вагоне появился буфетчик, предлагавший пассажирам сандвичи и напитки. Мои попутчики очнулись и наконец сели. Мы купили что-то поесть и попить, а когда насытились, начали беседовать. Оба новобранца очень охотно рассказывали о себе, о своих занятиях и увлечениях, в которых преобладали танцы и велосипедные гонки. Для чтения у них времени не оставалось, и они очень удивились, узнав, что молодежь моей страны любит читать книги.
Тем временем мы подъезжали к Марселю. Узнав, что я еще никогда не была в этом городе, они предложили мне пойти с ними погулять по ночному Марселю. Я, естественно, вежливо отказалась, сославшись на усталость. Все же они проводили меня на вокзал, взяв мой чемодан, и помогли мне сдать его на хранение, после чего расцеловались со мной и ушли. У меня было такое чувство, будто я только что попрощалась с хорошо знакомыми, славными ребятами. В полуночном Марселе я долго искала комнату на безлюдных улицах, с трудом нашла свободную в весьма сомнительной гостинице, где кое-как переночевала, не разбирая постели. На следующее утро я погуляла по городу и Старому порту, наслаждаясь теплом, живописными уличными сценками и южными красками, затем села в поезд Марсель-Париж. На станции Баланс, где нужно было довольно долго ждать поезда в Гренобль, случилось забавное происшествие. Сидя на перроне, я увидела, как какой-то мужчина, пытаясь перебежать через железнодорожные пути, заметался между двумя поездами, подходившими к станции с двух сторон. Пытаясь ему помочь, я крикнула: «Месье, вот туннель, пройдите по нему!» Это был начальник станции! Он прошел по туннелю, подошел ко мне и, поблагодарив, сказал, что привык бегать через рельсы, и в этот момент совсем забыл о туннеле… Мы долго беседовали, пока не подошел мой поезд.
Два дня в Гренобле тоже были насыщены впечатлениями: о самом городе, окруженном высокими горами, о стендалевских местах, о рукописях и других материалах в музее Стендаля, о поездке в горы Веркора, к могилам французских партизан. В 1943 году в этом горном лесном массиве были построены укрепленные лагеря участников Сопротивления, в создании которых принимал участие и писатель Жан Прево, автор интересной книги о Стендале. Союзники сбрасывали туда легкое вооружение и другие материалы. В июле 1944 года немецкая альпийская дивизия окружила эти места с помощью аэропланов, сбрасывавших на парашютах специальные войска. После тяжелых боев, часть партизан сумела отойти в горы, многие были убиты или схвачены немцами.
По просьбе Виктора дель Литто со мной туда поехал бывший партизан, участник этого героического противостояния гитлеровцам. Он много рассказывал мне о событиях тех лет, и среди многочисленных могил показал также могилу партизана с русской фамилией. Жаль, что я не запомнила ее.
По возвращению в Ригу жизнь снова вошла в обычную колею: работа в библиотеке и университете, подготовка автореферата диссертации, домашние дела. К счастью, мои младшие дети, Верочка и Вова, не только не доставляли мне огорчений, но наоборот, радовали меня – просматривать их тетради и дневники было одно удовольствие. Правдивость и чувство ответственности, привитые мне в свое время дедушкой и бабушкой, я старалась привить и своим детям. Они постоянно ощущали мою любовь и заботу о них, но не росли в тепличных условиях. Я была требовательной матерью, хотя мне часто приходилось наставлять их по телефону. Но я знала, что они сделают то, о чем я их прошу и не обманут меня. Думаю, что немалую роль в том, что мои младшие дети росли хорошими, трудолюбивыми ребятами, сыграл также пример старшего брата, Эдгара, которого они очень любили и слушались. Он же, вернувшись с обязательной военной службы, работал инженером-механиком на заводе и жил со своей семьей, но как и прежде, всегда был готов выслушать, прийти на помощь. Для меня он был и оставался не только старшим сыном, но и другом, понимавшим меня с полуслова.
Я с Верой и Вовой (1968 г.).
Очень огорчило меня письмо от Густава, полученное после возвращения из Италии. У него обнаружили рак, к счастью, в ранней стадии (он прожил после этого еще тринадцать лет, и умер не от рака, а от инфаркта). Его оперировали и долго лечили. Через год он уже настолько поправился, что смог поехать в Берлин, к своему другу Гейнцу, где мы снова встретились и провели вместе неделю, наслаждаясь прекрасными постановками в театрах и замечательным Пергамон-музеем. В театре Комише Опер шел «Дракон» Евгения Шварца – постановка, которую немцы воспринимали как сатиру на Гитлера, а советские зрители – как сатиру на Сталина. Тогда я снова увидела (через тридцать лет!) брехтовский Берлинер Ансамбль, единственный в своем роде театр. О политике мы старались не говорить, чтобы не отравить эти дни в Берлине: вторжение советских войск в Чехословакию потрясло всех. В Берлине реакция была особенно болезненной – Чехословакия была излюбленным местом отдыха для немцев из ГДР, не имевших возможности путешествовать по Западной Европе. Большинство туристов, приезжавших в Прагу, были из Восточной Германии.
Руководство Советского Союза то завинчивало гайки туже, то слегка отпускало их, что в перспективе не могло не расшатать всю эту систему. В условиях начавшейся массовой эмиграции евреев в Израиль, стало возможно приглашать в гости родственников из-за границы.
Еще в 1963 году из Израиля в Москву приехал мой дядя Гарри повидаться со своей сестрой Соней, которую он не видел полвека. Я тоже съездила туда на встречу с дядей. В то время можно было приехать в СССР только через Интурист. Это учреждение было монополистом в сфере иностранного туризма, и ни для кого не было секретом, что там, в основном, трудились агенты КГБ.
Дядя был обязан остановиться в Москве в дорогостоящей гостинице для иностранцев со скверным обслуживанием, ему навязали гида-переводчика, хотя он говорил по-русски (к счастью, эта девушка не была слишком настырной и получив от иностранного гостя подарок, отправлялась по своим делам). Поездка дяди была организована по обычной программе Интуриста: посещение Третьяковской галереи, где гид так подробно рассказывал о русских художниках 19-го века, что на искусство 20-го века времени почти не оставалось; вечер в Большом Театре, чему мы с тетей Соней были несказанно рады, так как без дяди Гарри не побывали бы на чудесных маленьких балетах «Шопениана», «Паганини» и «Подпоручик Киже», а также в Оружейной Палате Кремля, где мою кузину Рэму особенно восхитила легендарная шапка Мономаха (14-й век), украшенная драгоценными камнями и вошедшая в пословицу: Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
С тетей Соней, ее внуком Сережей и дядей Гарри.
С тетей Соней и дядей Гарри (май 1963 г.).
В 1969 году, когда я, наконец, смогла пригласить Густава в Ригу, все оформлялось в ОВИРе. Ему разрешили жить в частной квартире, предоставленной моей приятельницей Тамарой, переезжавшей летом на дачу. Густав приехал на весь свой отпуск, и ему разрешалось также побывать на Рижском Взморье, открытом для иностранных туристов.
Встреча Густава со своим тридцатилетним сыном, с которым он расстался, когда Эдгар был годовалым младенцем, была неописуемо волнующей. Густав уже знал по фотографиям, как его взрослый сын выглядел, и по моим рассказам, каким прекрасным человеком он вырос, и все же действительность превзошла все ожидания. Его обнял высокий, сильный мужчина с приятной, доброй улыбкой, во многом похожий на него, каким он был в молодости. Эдгар тоже был светлым шатеном с высоким лбом, у него была такая же линия рта и осанка. Но его глаза были темными, как у меня. Больше всего Густава потрясло то, что с первой же минуты ему пришлось общаться со своим сыном через переводчика, меня. Из моих писем Густав знал, что его сын не говорил по-немецки, и все же, одно дело – отвлеченно знать, совсем другое – оказаться с ним лицом к лицу и не иметь возможности поговорить по душам! Но волнение скоро улеглось, Густав поближе познакомился с Эдгаром и его семьей (Игорьку тогда уже было пять лет), а также с моими младшими детьми, проводившими этот летний месяц в пионерском лагере на Взморье. Он вскоре подружился и с моими друзьями, Тамарой и ее мужем, свободно владевшими немецким языком.
Густава очень интересовала наша жизнь, и он пристально присматривался ко всему, с чем сталкивался за этот месяц в Риге. Впоследствии он приезжал к нам еще два раза. Ему очень нравилась Рига, особенно Старый город, и Рижское Взморье, но совсем не нравилось, как здесь обслуживали людей. В полупустом ресторане «Майори», куда мы зашли пообедать после долгой прогулки по прекрасному пляжу, никто не соизволил подойти к нашему столику – официанты были заняты какой-то дискуссией. В конце концов мы встали и ушли… Он возмущался поведением продавцов: не понимая, о чем они разговаривали с покупателями, он хорошо улавливал их отношение к ним по повышенному, раздраженному тону и сердитому выражению лица. Его поражали неизменно длинные очереди в магазинах, в то время, когда части продавцов делать было нечего, и они скучали за своими прилавками. Он не мог понять, почему советские люди терпели это издевательство над ними и попусту тратили столько времени и сил. Западный коммунист, он не имел представления о реальной жизни в Советском Союзе, пока к нам не приехал и не пожил с нами. Он сокрушался, когда сталкивался с явлениями, которые были бы немыслимыми на Западе.
С Густавом, Надей и Наташей (Рига, 1975 г.).
Хотя сталинская эпоха прошла, здесь продолжали относиться к людям как к «винтикам», по выражению Сталина, которых можно игнорировать, как угодно заменять («незаменимых людей нет» – излюбленное выражение многих советских руководителей), которыми можно манипулировать. В этой связи вспоминается фарисейская постановка вопроса «о роли народных масс и личности в истории» в советских учебниках и вузах. Превознося роль народных масс, партийные и государственные руководители ими так же манипулировали, как это делали средневековые иезуиты, натравливая народ на «ведьм». Только в Советском Союзе «пригвождали к позорному столбу», «клеймили позором» писателей, поэтов, инакомыслящих…
В 1970 году, после десяти лет внештатной работы в университете, я решила отказаться от дальнейшего преподавания. Мне уже минуло пятьдесят лет, двойная нагрузка и бессонные ночи становились невмоготу. Тогда университет предложил мне штатную должность старшего преподавателя, и я отказалась от работы в Государственной библиотеке. Это сильно облегчило мне жизнь, уже не говоря о том, что ставка кандидата наук была в два раза выше моей библиотечной зарплаты, что было немаловажно – мои младшие дети подросли и расходы значительно увеличились. К тому же лето теперь у меня было свободным, и я могла уделять больше внимания семье.
К этому времени Густав уже получил развод – его жена выполнила свое обещание, и мы стали думать о совместной жизни. На мой вопрос, не хотел бы он жить с нами в Риге, Густав ответил категорическим «нет» – он не смог бы привыкнуть к здешним порядкам и условиям жизни, не говоря уже о незнании местных языков, латышского и русского.
В 1972 году Густав пригласил меня в гости в Западную Германию, и мы договорились, что если мне дадут разрешение туда поехать, мы там оформим наш брак. Это позволило бы мне в дальнейшем проводить свой отпуск у него, пока мои младшие дети не станут взрослыми студентами, и я смогла бы переехать к нему жить. Разрешение я получила, и в 1972 году впервые побывала у Густава. Он тогда уже был на пенсии и жил в маленьком городке Шрисгейм, расположенном между Маннгеймом и Гейдельбергом, у покрытых виноградниками холмов, за которыми начинается Оденвальд, обширный холмистый лесной массив со множеством живописных селений, замков и курортов. На тропах и дорогах Оденвальда всегда встретишь туристов с рюкзаками за спинами и палками пешеходов, любящих посещать эти романтические места вблизи долины реки Неккар и знаменитого университетского города Гейдельберг, который союзники пощадили и во время войны не разбомбили.
С холмов Шрисгейма с руинами средневекового замка с высокой круглой башней – опознавательным знаком этих мест, открывается превосходный вид на городок и тянущуюся за ним плодородную долину с небольшими селениями, вплоть до Маннгейма, где река Неккар впадает в Рейн.
Я еще два раза приезжала в гости к Густаву, уже на правах жены – мы скромно отпраздновали нашу свадьбу вместе с несколькими друзьями в шрисгеймском ресторане в том же 1972 году, наслаждаясь прекрасным местным вином, произведенным по всем правилам искусства виноделия, которым славятся земли Баден-Вюртемберг (где находится Шрисгейм) и Рейнланд-Пфальц. Весной 1979 года, когда мои младшие дети уже имели собственные семьи, а Верочка уже жила в Америке, я переехала из Риги к Густаву в Шрисгейм, где провела более двух лет до его кончины от инфаркта, и еще полгода после его смерти – так долго пришлось ждать советской визы для возвращения в Ригу, хотя у меня был советский паспорт, что было вовсе непонятно старым друзьям покойного Густава, немецким коммунистам, ставшим и моими друзьями.
Густав с друзьями.
Мне нравились эти бесхитростные, трудолюбивые, честные и добрые люди, отличавшиеся от других добропорядочных немецких бюргеров неким идеализмом давно прошедшей эпохи, хотя их образ жизни, вполне обеспеченной, практически ничем не отличался – разве только тем, что они посещали не церкви, а свои традиционные собрания. За эти годы я хорошо узнала жизнь местного населения. Многое было мне знакомо с детства, так как я была воспитана по тем же правилам поведения. Если я в послевоенные годы полюбила Пушкина, Лермонтова и других великих представителей русской литературы и культуры, это не помешало мне сохранить память о поэзии Гете, Шиллера и Гейне, полюбившейся мне в детстве и юности. Поэтому я легко находила общий язык с людьми, с которыми я подружилась за эти годы в Западной Германии.
Среди немцев, с которыми я общалась, были не только старые друзья Густава и их семьи, но также студенты и некоторые местные жители, взгляды которых сформировались в послевоенные десятилетия в атмосфере осуждения нацистского прошлого Германии и гитлеровских злодеяний. Невольную настороженность у меня вызывали пожилые немцы, которые могли быть бывшими членами нацистских организаций и даже в глубине души сохранять прежние взгляды. Но в 70-х годах бывшие нацисты еще всячески открещивались от своего прошлого и даже считали неприличным публично признаваться в своих симпатиях к фюреру. Однако по мере ухудшения экономического положения в стране и роста иммиграции, кое-кто из старых нацистов вновь поднял голову и уже не стеснялся во всеуслышание восхвалять Гитлера и его расистскую политику, собирая отряды молодых приверженцев – неонацистов. Все же они оказались бессильными повлиять на курс Федеративной Республики Германии, вставшей на путь демократии.
Наша совместная жизнь с Густавом естественно продолжалась, как будто мы не расставались на десятилетия. Густав был полон энергии и предприимчивости, увлекая меня различными замыслами походов и поездок. Его деятельная натура, любознательность, неиссякаемый интерес к миру и к людям, любовь к природе наполняли нашу жизнь разнообразными впечатлениями. Мы не раз снова побывали в Париже, посещали многие древние города и замечательные места Южной Германии, совершали теплоходные экскурсии по Рейну и Неккару, любуясь прекрасными видами покрытых виноградниками и садами холмов, живописных селений, старинных замков на вершинах невысоких гор. Мы часто и много ходили пешком по красивому Оденвальду, порою до холмов у реки Неккар, с которых открывается изумительная панорама старого Гейдельберга. Здесь в свое время любил гулять Гегель, преподававший философию в древнейшем в Германии гейдельбергском университете. С той же «тропы философов» мы не раз любовались красивым городом: огромным полуразрушенным темно-розовым замком на склоне горы, на фоне пышной зелени, старым мостом с воротами и мощными круглыми башнями…
Стендалевский конгресс в Западном Берлине (сентябрь – октябрь 1975 г.). Во время экскурсии в Брауншвейг.
Стендалевский конгресс в Бреюсселе (май 1977 г.). Во время приема в городском управлении.
Во время Стендалевского конгресса в Бреюсселе. Банкет в замке Колонстер в окресностях Льежа.
В Антверпене во время Стендалевского конгресса (1977 г.).
Я нередко приезжала в Гейдельберг поработать в большой университетской библиотеке – за время проживания в Шрисгейме я подготовила рукопись своей будущей книги «Стендаль. Встречи с прошлым и настоящим», а также доклады для Стендалевских конгрессов, в частности, для конгресса в Милане в марте 1980 года, где произошло много интересных событий, о которых я рассказала в упомянутой книге: большие выставки («Стендаль и его время» во дворце, где когда-то жили Наполеон и Жозефина, «Стендаль и Ла Скала» в музее театра Ла Скала); премьера оперы, специально поставленной к Стендалевским дням в Милане; открытие нового фонда книг, принадлежавших Анри Бейлю, так называемого «фонда Буччи» с чрезвычайно драматической судьбой.
Эти книги, испещренные записями Стендаля и поэтому оставшиеся после его кончины непроданными, хранились в Чивитавеккии у его друга Донато Буччи и впоследствии перешли по наследству к внуку антиквара, Клодовео, умершему в 1942 году. Завещание Клодовео Буччи обязывало его наследников обеспечивать целостность стендалевской библиотеки. Вскоре они продали ее вместе с бумагами консула Анри Бейля флорентийскому дельцу. Когда гитлеровские войска оккупировали среднюю Италию, «фонд Буччи» был спрятан на вилле этого дельца в окрестностях Флоренции. Гитлеровцы захватили и эту виллу, убили хозяина и нескольких молодых крестьян – участников Сопротивления, оказавшихся в этом доме. Ящики же с книгами и бумагами Стендаля оставались сваленными в подворотне виллы до тех пор, пока после войны их там не обнаружили.
Стендалевский конгресс в Милане (март 1980 г.). Прием в городском управлении.
Во время Стендалевского конгресса в Милане (март 1980 г.). Экскурсия на озеро Комо.
Во время стендалевских дней в Милане произошли также события, не предвиденные организаторами конгресса, но тем не менее навсегда запомнившиеся его участникам и взволновавшие весь город и всю страну, но об этом расскажу позже.
Милан занимал особое место в жизни и творчестве Стендаля. Он попал в этот город впервые семнадцатилетним юношей в 1800 году вместе с резервными частями наполеоновской армии. Он впоследствии неоднократно возвращался в этот город, ставший для него «прекраснейшим местом на земле», и бродя по миланским улицам, составил себе представление о красоте местных женщин, которую он называл «ломбардской красотой» (от названия области Ломбардия). Этот женский тип напоминал Стендалю «нежное благородство» женских образов Леонардо да Винчи. В Милане он стал завсегдатаем Ла Скала, этого «первого в мире театра», которому он посвятил много вдохновенных страниц. В годы, когда Стендаль жил в Милане, в Ла Скала впервые ставились оперы Моцарта «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта». А в итальянской опере появился новый прекрасный талант – Джоакино Россини, которому Стендаль впоследствии посвятил книгу «Жизнь Россини».
Но Ла Скала эпохи Стендаля, это не только замечательный оперный театр, где в один и тот же вечер ставились опера, большой балет (между первым и вторым актом оперы), а в конце вечера, вернее, в полночь – маленький комический балет. Театр Ла Скала был также постоянным местом встреч миланского общества. Там назначались свидания по самым разным поводам. Ложи театра Ла Скала сдавались на целый сезон и даже продавались. Во время представления там занимались чем угодно: знакомились, разговаривали, пили чай (в ложе русского посланника), играли в карты… Одна и та же опера ставилась десятки раз подряд. Внимание обычно привлекали лишь отдельные любимые арии, выступления знаменитых певцов. Сам Стендаль тоже встречался и беседовал в Ла Скала с миланскими литераторами, и там же он познакомился с Байроном. В театре Ла Скала встречались и персонажи романа «Пармская обитель»…
Глубокая привязанность Стендаля к Милану, в большей степени связанная с театром Ла Скала, отразилась не только в его книгах, но и в эпитафии, которую он сочинил для самого себя: «Энрико Бейль, миланец, жил, писал, любил. Эта душа обожала Чимарозу, Моцарта и Шекспира…»
В одной из своих книг Стендаль подробно рассказал о постановке оперы «Бронзовая голова» в Ла Скала в 1816 году.
Ее автору, композитору Карло Эвазио Солива, тогда было всего двадцать шесть лет. Либретто этой оперы сохранилось в музее театра Ла Скала, а ее партитура – в миланской консерватории имени Джузеппе Верди. К Стендалевскому конгрессу в Ла Скала была подготовлена постановка этой оперы, действие которой происходит в Венгрии, в замке князя Адольфа, где в парадном зале стоит огромная бронзовая голова. В ее цоколе скрыт вход в подземелье замка. Там скрывается молодой офицер Федерико, тайно обрученный с польской графиней Флореской, на которой князь Адольф собирается жениться. После ряда неожиданных и драматических событий князь узнает, что Федерико – его внебрачный сын.
Вместе с другими участниками и гостями конгресса мне посчастливилось присутствовать на блистательной премьере этой оперы в Малом зале театра Ла Скала, Пиккола Скала, открытом в 1955 году и рассчитанном на шестьсот посетителей.
В те дни мы побывали и в большом зале Ла Скала, на представлении оперы «Тоска» с Лучано Паваротти в партии Каварадоси. Во время очередной бури аплодисментов даже один из оркестрантов не удержался от восторженного восклицания: «Лучано – лучший!»
Однако общая картина театра Ла Скала в этот вечер во многом отличалась от той картины, которую я наблюдала в 1967 году во время представления оперы «Фальстаф». В фойе не было почетной стражи в исторических (или театральных) костюмах, и публика в партере уже не состояла почти исключительно из богатых туристов. В Ла Скала произошли значительные перемены в сторону демократизации. Но билетеры по-прежнему были во фраках.
Совершенно необычным в тот вечер был вид оркестра: один лишь японский дирижер Сейджи Озава был во фраке, оркестранты же были одеты в чем попало. Оказалось, это была забастовка: оркестр выражал таким образом свой протест против отказа администрации театра удовлетворить требования дополнительной оплаты за дорогостоящий фрак.
Заседания Стендалевского конгресса проходили в Миланском университете, занимающем очень красивое историческое здание бывшей главной больницы, с большим квадратным внутренним двором, наподобие монастырского, обрамленным двумя этажами изящной аркады с колоннами. Многочисленные лестницы ведут в аудитории разных факультетов.
21 марта, во время очередного заседания, на одной из соседних лестниц, ведущей в аудиторию юридического факультета, террористами средь бела дня был убит доцент криминологии, следователь Миланского трибунала Гвидо Галли.
Как только об этом узнали, все заседания и занятия в университете были прерваны. Весть об убийстве Галли, принадлежавшего к прогрессивным кругам, молниеносно разнеслась по городу. Уже через несколько часов по улицам двигалась демонстрация протеста: студенты, преподаватели, представители различных профсоюзов и организаций, многочисленные другие жители Милана выражали свое возмущение наглым преступлением террористов и призывали к решительным действиям.
Мы еще не успели оправиться от потрясения, а уже пора было собираться в театр Ла Скала, где в тот день состоялось представление оперы Пуччини «Тоска». Вместе с программой оперы – прекрасно изданной театром книги с либретто, многочисленными иллюстрациями и другими материалами об этой опере и ее композиторе, посетителям была вручена размноженная листовка, напечатанная на бланке театра Ла Скала и озаглавленная «Наш протест». В ней администрация театра сообщала о злодейском убийстве и извещала: спектакль не будет отменен; посвященный памяти Гвидо Галли, он будет частицей тех усилий, которые сцементируют новое гражданское сознание итальянцев…
Среди самых ярких впечатлений тех лет, в памяти осталась поездка в Испанию вместе с Густавом и группой бывших интербригадцев из Западной Германии. К этому времени у власти в Испании уже был молодой король Хуан Карлос, и зарубежные добровольцы, защищавшие Испанскую Республику с оружием в руках против фашистских войск, наступавших на Мадрид, получили возможность снова побывать в Испании и посетить места былых сражений.
В сентябре 1979 года мы с Густавом и его товарищами вылетели в Мадрид, где состоялась встреча с испанскими участниками гражданской войны, воевавшими на стороне Республики. Их судьбы сложились совсем иначе, чем судьбы их немецких товарищей по оружию. Социал-демократическое правительство Федеративной Республики Германии не только осудило фашистское прошлое своей страны, но также приняло очень важное решение, касавшееся многих людей, переживших фашизм. Согласно этому решению, годы, проведенные немецкими гражданами в гитлеровских тюрьмах и концлагерях, в вынужденной эмиграции и в боях с фашизмом, приравнивались в отношении социального страхования к предыдущим годам, когда делались страховые взносы, что в итоге обеспечивало им хорошие пенсии. Испанские же участники войны против фашизма всячески преследовались режимом диктатора Франко, вплоть до многолетнего тюремного заключения, и в итоге оказались без средств к существованию. Больно было смотреть на этих бедных стариков, пожертвовавших всем ради свободы своей родины и так разительно отличавшихся от благополучных немецких товарищей. Не напрасно бывшие интербригадцы ФРГ собирали деньги для жертв режима Франко, что, кстати, помогло мне в своя время найти Густава.
Мадрид… В ноябре 1936 года самолеты гитлеровского легиона «Кондор» нещадно бомбили этот город, стремясь сломить сопротивление мадридцев итальянским и марокканским войскам, переброшенным генералом Франко в центр Испании для захвата столицы. На помощь народу Мадрида пришли бойцы 11-й и 12-й Интербригад, защищавшие западные окраины города, Университетский городок. В 1979 году, во время нашей экскурсии по Мадриду, убеленные сединами бывшие интербригадцы с напряженным вниманием всматривались в эти места со столь знакомыми названиями и… ничего не узнавали. За исключением центральных исторических районов, Мадрид очень сильно изменился, особенно в 60-х – 70-х годах, благодаря ускоренному строительству, бурному росту туризма и большому притоку иностранной валюты, в немалой степени от многочисленных испанцев, работавших в странах Западной Европы и впоследствии открывавших на родине свои маленькие предприятия, магазины, гостиницы, рестораны…
Экскурсия по Мадриду включала посещение великолепного королевского дворца и изумительного музея Прадо, куда я пришла еще раз одна на следующий день и часами наслаждалась произведениями Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Зурбарана и других великих испанских художников. Но и этого времени было недостаточно, чтобы ознакомиться с замечательным собранием испанского искусства, не говоря уже о многочисленных других экспонатах, и через шестнадцать лет, в 1995 году, я снова вернулась сюда во время большого, трехнедельного путешествия по Испании, когда я, на сей раз одна, посетила Толедо, Кордову, Севилью, Гранаду и Валенсию.
Но в 1979 году наша поездка имела другие цели и другой маршрут. После посещения Мадрида состоялась четырехдневная автобусная экскурсия по местам, где во время гражданской войны проходила линия фронта. Тут многое было вполне узнаваемо для участников тех событий. Тот же холмистый пейзаж Харамы с далекими горами Гвадаррама, те же почти голые холмы, высохшие русла речек, желто-серая сухая почва, столетние оливковые деревья рядом с молодой порослью… Те же селения со скудной растительностью, прижатыми друг к другу постройками и небольшой квадратной площадью, охваченной двухэтажными белыми домами с черными чугунными решетками балконов, где собирались жители селения во время традиционных коррид, когда быка впускали на площадь через ворота, которые затем наглухо запирались. В одном таком селении, Триеке, участники нашей экскурсии узнали дом на площади, где в свое время находился штаб Интербригады, и разговорились с местным стариком, хорошо помнившим те события. В горных местах, с серо-бурыми скалами и темными глубокими ущельями с огромными валунами, жилища казались встроенными в скалы, так плотно они были к ним прижаты. По узкой каменистой улочке крестьянин погонял в гору мула с тяжелой поклажей.
В память врезались руины Бельчите у притока реки Эбро, оставленные как напоминание потомкам о трагедии испанского народа рядом с новым городком под тем же названием. На фоне сине-оранжевого сияния вечернего неба немым укором темнели силуэты прострелянной церковной башенки и ломанных линий разрушенных зданий с остатками стен и оконных проемов. Здесь проходил Арагонский фронт, и бойцы батальона «Линкольн» в течение трех суток удерживали свои позиции против превосходивших их сил фашистов, сражаясь за каждый дом, каждый угол этого городка, как через пять лет бойцы Красной Армии будут сражаться за каждое здание Сталинграда…
Кроме немых руин Бельчите о трагических событиях того времени напоминали народные мемориалы, увиденные нами в пути: щиты на деревянных столбах, обложенных камнями и обвитых кустами роз, или обвешанных цветочными горшками. Пространные надписи повествовали о том, что на этом месте (у края поля или оврага) тогда-то было расстреляно столько-то человек. Первые официальные мемориалы и памятники появились в городах Испании лишь в 80-х годах, через полвека пост гражданской войны, унесшей множество жизней, не говоря уже о жертвах последовавших репрессий.
Ярко запомнился мне живописный город Теруэль: его красные холмы, старинный акведук, высокие мавританские башни, выложенные из красного кирпича с искусным орнаментом, включающим цветную керамику; в том же стиле построенный древний собор с красивыми кованными воротами; мавзолей «Влюбленных из Теруэля»…
Трагическая история любви Диего де Марсилья и Изабеллы де Сегура, о которой повествует легенда 13-го века, вдохновляла многих поэтов и нашла свое отражение в большом впечатляющем барельефе с керамическим орнаментом, установленном в Теруэле, а также и в мавзолее, где в стеклянном саркофаге покоятся, как утверждает табличка, скелеты обоих влюбленных, выкопанные в 16-м веке из могилы в часовне местной церкви. Тут же, на постаменте, лежат прекрасные мраморные фигуры юноши и девушки, касающиеся друг друга кончиками пальцев протянутых рук.
Во время гражданской войны красные холмы и скалы в окрестностях Теруэля служили естественным укреплением для республиканских сил, отбивавших ожесточенные атаки противника, поддержанные с воздуха самолетами легиона «Кондор». Здесь, среди скал, в канун Рождества 1937 года, раздавался могучий голос американского певца Поля Робсона, певшего для интербригадцев и испанских бойцов негритянские религиозные песни. Эхо его глубокого, проникновенного голоса разносилось далеко вокруг и заставляло орудия умолкнуть на время.
В ходе этой экскурсии мы побывали во многих местах, ночуя в пути в бывших замках на вершинах холмов, с прекрасным видом на всю округу и красивыми внутренними дворами с фонтанами, деревьями и цветами. Эти замки были переоборудованы национальным Секретариатом по туризму в комфортабельные гостиницы. Нас сопровождал замечательный гид, бельгийская еврейка, эмигрировавшая в Испанию и вышедшая замуж за немца. Средних лет, она была весьма образована и отлично владела несколькими языками. Очень интересным человеком был также испанский водитель автобуса, бывший тореро, с 18-летнего возраста участвовавший во многих корридах, и одновременно поэт, сочинивший много стихов. В пути он иногда читал нам свои стихи, как и стихи Федерико Гарсиа Лорки. Мы успели подружиться с гидом и водителем, и с сожалением расстались с ними в Барселоне, где нам предстояло провести два дня, а затем вылететь в обратный путь, во Франкфурт.
Барселона совершенно очаровала меня своей красотой и непринужденной атмосферой средиземноморского города, где легко дышалось. На высокой колонне перед большим портом со множеством судов стоит смотрящая вдаль статуя Колумба. К ней ведет длинный и широкий бульвар-променад Рамблас, обсаженный ветвистыми деревьями. Здесь было много народу, люди отдыхали, читая газеты или беседуя со знакомыми, гуляли, останавливались перед красочными стендами с цветами на участке бульвара, названном «Рамблас цветов», или перед клетками с канарейками и большими красно-синими попугаями на «Рамблас птиц»… Солнечные блики проскальзывали сквозь листву платанов и играли на цветочных стендах, птичьих клетках, газетных киосках, фигурах людей… Невольно в памяти всплывали картины импрессионистов…
В двух шагах от Рамблас я оказалась на восхитившей меня небольшой, но очень красивой Королевской площади с пальмами и фонтаном, обрамленной аркадой идентичных четырехэтажных зданий. Несмотря на гордое название, здесь не было никакой помпы – на скамейках отдыхали простые люди. А поблизости, по ту сторону Рамблас, глаза разбегались при виде разнообразной морской живности на рыбном рынке…
У меня не было достаточно времени, чтобы детальнее осмотреть интересный Готический квартал Барселоны со строениями 14-го – 15-го веков, но я все же успела погулять по его узким улицам и закоулкам, полюбоваться некоторыми внутренними дворами с фонтанами и затейливыми архитектурными деталями лестниц и галерей, а также побывать в огромном древнем соборе. На площади перед ним в праздничные дни барселонцы снова танцевали сардану, популярный каталонский танец, запрещенный диктатором Франко, как был запрещен и каталонский язык…
Пока Густав общался в гостинице со своими испанскими товарищами, я носилась по Барселоне, пытаясь в немногие часы вместить как можно больше впечатлений. На второй день нашего пребывания там я посетила музей Пикассо, посвященный в основном раннему периоду его творчества и расположенный в старинном дворце на улице Монкада, которая сама по себе является настоящим музеем. Мне очень понравилось замечательное собрание картин, созданных художником в Барселоне и в Париже в 90-х годах 19-го века и в начале 20-го века, особенно портреты и картины голубого и розового периодов. Это интереснейшее собрание принадлежало другу Пикассо Хайме Сабартесу, завещавшему его музею. Впоследствии Пикассо передал музею в дар множество других картин.
В последний день нашего пребывания в Барселоне я увидела также удивительные творения барселонского архитектора Антонио Гауди, чья неисчерпаемая фантазия отразилась в формах, линиях, деталях, цветной композиции и материалах его зданий, сказочного оформления парка Гуэль, а также единственного в своем роде храма La Sagrada Familia (Святое Семейство), который через полвека после кончины великого архитектора еще строился. В деталях этого потрясающего храма Гауди воплотил образы своей родины, Испании, ее фауны и флоры. На прощание с Барселоной я поднялась на лифте на одну из высоких башен этого храма, откуда открывается широкая панорама города и далеких гор.
В сентябре 1981 года Густав вдруг почувствовал сильное недомогание. Опасаясь рецидива его болезни, рака, врач настоял на больничном обследовании. Оно еще не было закончено, как у Густава случился инфаркт, и он скончался. Мне очень трудно говорить об этих часах и днях. Я послала Эдгару заверенную врачом телеграмму, но пока оформлялись его документы, похороны уже прошли. Он все же увидел, где и как жил его отец, познакомился со старыми друзьями Густава, которые отнеслись к Эдгару очень тепло. Из Парижа приехала Мари-Луиза, у которой мы с Густавом побывали за несколько месяцев до этого трагического дня. Для нее известие о кончине старого друга тоже было большим ударом.
Эдгар в Шрисгейме после похорон Густава (1981 г.).
После отъезда Эдгара и Мари-Луизы я еще острее ощутила пустоту, образовавшуюся в моей жизни в тот момент, когда Густава не стало. Мне хотелось скорее вернуться в Ригу, к детям и внукам, с которыми я в мыслях никогда не расставалась, стараясь им всячески помочь. Оставаться в Западной Германии ради вдовьей пенсии, которую мне сразу же начислили, я не хотела, не мысля жизни без общения с близкими людьми, без заботы о семье.
Однако время шло, а советской визы не было. Я не находила себе места, хотя старалась себя чем-то занять. К Рождеству 1981 года пришло письмо от знакомой немки, очень милой и приятной женщины, звавшей меня в гости. Она жила в очень живописном уголке Южной Германии, у большого озера Бодензее (Констанс) на границе со Швейцарией и недалеко от австрийской границы. Я поехала к ней, и мы провели вместе несколько дней в прогулках и задушевных беседах, после чего, не желая вернуться на Новый год в пустой дом, я решила поехать в Вену и «окунуться» там в атмосферу высокого искусства, излучаемую замечательным собранием шедевров, хранящихся и венском художественном музее (Kunsthistorisches Museum) со времен Австро-венгерской Империи.
Я уже была в Вене в 1975 году, когда Верочка эмигрировала со своей семьей из Советского Союза. В этот период я была в гостях у Густава и, узнав из ее письма о планах ее мужа навсегда уехать из Риги, умоляла ее отложить решение вопроса об эмиграции до моего возвращения, и дать ее крохотному ребенку немного подрасти. Но ее муж с этим не согласился. Получив телеграмму, что они такого-то числа прилетают в Вену, я поехала их встретить, поселилась там в недорогой гостинице и несколько дней посвятила уходу за своей очаровательной 10-месячной внучкой Аннушкой в наполненной эмигрантами из Советского Союза квартире, которую австрийская хозяйка заселила до отказа.
В конце декабря 1981 года, приехав в Вену, я остановилась в той же гостинице, где в это время была большая группа туристов из Венгрии. В один из вечеров я разговорилась с венгром, владевшим немецким языком. «Почему бы вам не поехать в Будапешт, – сказал он, – это так близко». Подумав о том, что из Вены пора уезжать – денег оставалось немного, и что в Будапеште жизнь значительно дешевле, я решила провести там несколько дней. В венгерском консульстве уверяли меня, что с советским паспортом виза не нужна, и я спокойно села в скорый поезд на Будапешт. Прошло совсем немного времени, и поезд остановился на венгерской границе. Полистав мой паспорт, венгерский пограничник попросил меня выйти из вагона! У меня, мол, нет венгерской визы, и я должна вернуться в Вену. Никакие ссылки на консульство не помогли – раз я проживала в ФРГ, то несмотря на советский паспорт, виза все равно требовалась. Как видно, порядки в Венгрии тогда не отличались от советских, по крайней мере в этом отношении.
Мне пришлось покинуть поезд. На платформе было еще несколько человек, выдворенных из вагонов, среди них – элегантная немолодая пара, мужчина и женщина в дорогих одеждах. Они стояли со своими чемоданами в полной растерянности. Узнав, что я говорю по-французски, они обрадовались и попросили меня помочь им выяснить, что от них требовалось. Оказалось, что это итальянцы, собиравшиеся после Вены поехать на машине в Будапешт, но им отсоветовали: поездом, мол, гораздо удобнее.
Я разыскала начальника этого пограничного пункта, который нам по-немецки объяснил, а я переводила на французский язык, что венгерскую визу можно получить на пропускном пункте у автострады. Туда можно поехать на такси, что стоило бы около ста марок ФРГ, и успеть вернуться назад, к вечернему поезду на Будапешт.
У меня не было денег на такси, и я решила вернуться в Вену и поехать домой. Но итальянцы умоляли меня поехать с ними и им помочь. Они заранее заказали номер в гостинице в Будапеште и были готовы заплатить сколько угодно, лишь бы этот кошмар скорее кончился, и они попали бы в этот же вечер в свою гостиницу.
Такси нашлось сразу же – я подозревала, что тут не обошлось без договоренности между таксистами и пограничниками, поставлявшими им клиентов. Меньше чем через час мы уже были в пограничном пункте автострады. У окошек были очереди. Я попросила итальянца встать в одну очередь, а его супругу – в другую (чья скорее подойдет – тут пригодился советский опыт), и стала заполнять по нашим паспортам необходимые бланки. Нужны были фотокарточки, и мы по очереди снялись в будке – автомате. Когда, наконец, подошла очередь и виза была получена, мы вернулись бегом к ожидавшему нас такси. Мы примчались на железнодорожную станцию за несколько минут до отправления вечернего поезда. Итальянская пара поцеловала меня на прощание и побежала разыскивать свой вагон 1-го класса согласно купленным в Вене билетам, я же села в первый попавшийся вагон.
Как оказалось, в этом поезде не было ни первого, ни второго классов. Это был самый обычный пассажирский поезд с твердыми скамейками, который останавливался на каждой маленькой станции. Люди входили и выходили, вагоны набивались народом, спешившим домой после рабочего дня. Пассажиры громко приветствовали друг друга, видно, встречаясь в этом поезде изо дня в день. Стоял табачный дым, шум и гам, то и дело раздавались взрывы хохота. Я не понимала ни слова из того, что говорилось и вызывало у моих попутчиков гомерический смех, но все равно мне было интересно наблюдать за темпераментными, жизнерадостными венграми, хотя я порядочно устала за этот день, и очень хотелось пить.
Вместо двух часов скорым поездом, эта поездка длилась почти четыре часа. Когда мы, наконец, прибыли в Будапешт и вышли из вагона, я увидела еле плетущихся итальянцев, махавших мне рукой. Они подошли со смущенным видом, смертельном уставшие, и спросили меня, заказала ли я номер в гостинице. Услышав мой отрицательный ответ, они предложили поехать с ними. Очень тронутая, я сердечно поблагодарила, но отказалась. Еще в венской гостинице мой собеседник – венгр посоветовал мне обратиться на вокзале Будапешта в туристическое бюро, где мне найдут комнату в частном секторе, что намного дешевле государственных гостиниц.
Мне повезло: хотя было уже поздно, и туристическое бюро закрывалось, служащая, услышав мою просьбу, попросила немного подождать, и отвезла меня в свою трехкомнатную квартиру, которую она мне сдала за двадцать марок в сутки, что было в два-три раза дешевле комнаты в самой обычной гостинице. К тому же, я тут могла готовить себе еду, что было весьма кстати, так как деньги были на исходе. Сама хозяйка квартиры жила в другом месте. Получив плату за трое суток, она просила меня перед отъездом оставить ключ на столе и захлопнуть входную дверь. Так просто это было.
Весной 1982 года я, наконец, получила советскую визу и смогла вернуться в Ригу. В моей жизни начался новый этап, и хотя я еще в течение нескольких лет читала лекции в университете на правах преподавателя-пенсионера и опубликовала ряд статей, связанных со Стендалем, главным содержанием моей жизни теперь были мысли и забота о моих близких.
Эпоха гласности, начавшаяся во второй половине восьмидесятых годов, после прихода к власти Михаила Горбачева, вдохнула в нашу жизнь мощную струю свежего воздуха. Эти годы ярко запомнились мне всеобщим небывалым интересом к политике, к выступлениям молодых демократов экономистов, юристов и других, вдруг появившихся на политической арене.
Затаив дыхание, я наблюдала по телевизору за противостоянием Горбачева и Андрея Дмитриевича Сахарова, знаменитого академика – борца за права человека, которого Горбачев вернул в Москву из горьковской ссылки, но хотел обуздать. Депутаты – правоверные коммунисты, заполнившие зал заседаний Верховного Совета СССР, пытались заглушить высокий голос Сахарова непрерывными рукоплесканиями, Горбачев то и дело прерывал его и призывал покинуть трибуну, но Андрей Дмитриевич упорно продолжал свое выступление…
Личность Горбачева вызывала бурные споры, но в одном мы все были согласны: он выпустил дух свободы из бутылки и загнать его обратно уже не удастся.
Все, кто только мог, выписывали газеты и журналы, в условиях гласности открывшие шлюзы информации, хлынувшей широким потоком: о сталинском режиме, о сети Гулага, о плачевном состоянии экономики, о новых идеях и инициативах в разных областях. На страницах печати появлялись ранее запрещенные произведения художественной литературы. Тиражи периодических изданий непрерывно росли, но все равно их не хватало, и в библиотеках за ними выстраивались очереди. В Государственной библиотеке, где я проработала много лет, мне выдавали эти издания на дом на ночь или на выходной день с непременным условием вернуть их к моменту открытия библиотеки, и я никогда не подводила своих бывших коллег.
В 1990 году, в разгаре этих событий, когда противостояние старого, застывшего советского режима и новых демократических сил достигло своего апогея, я переехала к своей дочери в США, но ежегодно проводила часть времени в Латвии, вскоре славшей независимой – в Риге у меня оставались внуки и правнуки, а также в поездках по странам Американского континента, Европы, Ближнего Востока и Азии, благо мне возобновили немецкую вдовью пенсию, и это позволяло мне скромно путешествовать.
Во время одной из своих поездок я узнала о путче в Москве и о свержении Горбачева. В эти дни августа 1991 года я находилась в Амстердаме и 20 августа совершала однодневную экскурсию по Голландии. Во время обеда в ресторане в Роттердаме я вдруг услышала слова «путч», «Горбачев», доносившиеся с соседнего стола, где несколько голландцев обедали и что-то оживленно обсуждали. Из Роттердама наш экскурсионный автобус направился в Гаагу, где здание Министерства иностранных дел было оцеплено полицией. Не вдаваясь в подробности, наш гид сообщил, что там в это время проходило экстренное заседание министров иностранных дел Европейского сообщества в связи с событиями в Москве.
Я сгорала от нетерпения узнать побольше о случившемся СССР. Когда наш автобус вернулся в Амстердам, было уже поздно и газет нельзя было достать. В моей маленькой гостинице не было ни телевизора, ни радио. Дождавшись утра, я побежала за газетами и из немецкого издания «Die Welt» узнала подробности о государственном перевороте в Москве. На душе было очень тревожно. Весь день 21 августа был заполнен посещением большого музея Винсента Ван-Гога и дома-музея Анны Франк, где в очереди перед входом я разговорилась с американским туристом-бизнесменом, тоже очень обеспокоенным событиями в Москве. Как потом оказалось, в этот самый день путч провалился, о чем я позже узнала не только из газет, но также во время грандиозного концерта на канале Принценграхт, в центре Амстердама, состоявшегося 23 августа. В нем принимали участие большой симфонический оркестр Амстердама, выдающиеся солисты и певцы.
Этот потрясающий вечер начался концертом русского пианиста Андрея Гаврилова. Он-то и обратился к публике с краткой речью на английском языке, в которой сообщил о провале путча в Москве. Что тут началось! Многотысячная аудитория, заполнившая все пространство вдоль канала и почетные места на большом плоту, где стоял рояль и размещался оркестр, люди, сидевшие и стоявшие у открытых окон прилегающих зданий, – все бурно зааплодировали, вверх полетели пробки от бутылок с шампанским, припасенных вместе с корзинами с угощениями к этому ежегодному событию на канале. На фасаде гостиницы «Пулитцер», в центре этих событий, появился большой плакат, на котором от руки были начертаны слова: «Gorbatchev – Gavrilov – tov!», что означает «хорошо». Горбачев был в те годы в Европе самым популярным и всеобще известным государственным деятелем.
Красочный фейерверк, который в полночь, после окончания концерта, озарял небо, отражаясь в окнах зданий и в воде канала, как бы венчал также победу демократии над темными силами, пытавшимися в Москве и Ленинграде повернуть колесо истории вспять.
Эпилог
Тяга к познаванию мира, сопровождавшая меня с детства, не иссякла и в старости. Я по-прежнему много читаю и продолжаю свои странствия на студенческий манер – с минимальным количеством вещей, но с путеводителями по городам и странам, хотя после трагических событий 11 сентября 2001 года уже не так легко решаешься на полеты, особенно дальние, так как все это осложнилось, а возраст уже дает о себе знать. Остается только надеяться, что мое самое последнее путешествие будет и самым коротким, ибо возвращения не будет, а конечная цель любого путешествия в пространстве и во времени, как долго бы оно не длилось, это все же возвращение домой.
Январь – июль 2002 года. Январь – март 2003 года. Калифорния, США.




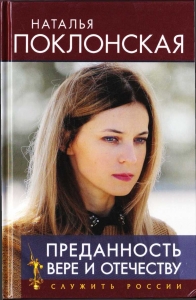

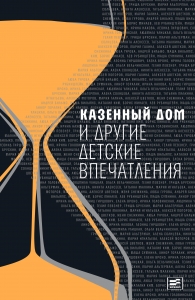



Комментарии к книге «Сплетение судеб, лет, событий», Татьяна Мюллер-Кочеткова
Всего 0 комментариев