Анатолий Бородин Петр Николаевич Дурново. Русский Нострадамус
© Бородин А. П., 2013
© ООО «Издательство Алгоритм», 2013
* * *
Суждение о политическом деятеле должно быть свободным.
И. И. ТхоржевскийДурново был из тех, кто в состоянии делать историю.
М. О. МеньшиковОт автора
При всем внимании нашей историографии к событиям в России начала XX столетия многие их активные участники, особенно из правительственной среды, их жизнь, взгляды, деятельность остаются малоизвестными даже узкому кругу причастных к исторической науке. Между тем это были люди выдающихся личных качеств, разносторонних и глубоких познаний, громадного служебного и жизненного опыта; роль их в нашей истории огромна.
Одним из них представляется нам Петр Николаевич Дурново – министр внутренних дел (октябрь 1905 г. – апрель 1906 г.) и лидер правой группы Государственного Совета в 1908–1915 гг. Современники связывали с его именем решающие удары по революции 1905–1906 гг. Руководимое им правое крыло Государственного Совета сыграло в событиях 1907–1917 гг. вполне определенную и немалую роль.
Однако даже у некоторых профессионально занимающихся историей России начала XX в. представления о нем весьма смутны. Его путают с его сыном Петром, с Иваном Николаевичем Дурново (1834–1903) – министром внутренних дел (1889–1895) и председателем Комитета министров (1895–1903), с Петром Павловичем Дурново (1835–1919), бывшим в 1905 г. московским генерал-губернатором[1].
Что уж спрашивать с публицистики: здесь он представлен и генералом от инфантерии, и генерал-адъютантом, и братом И. Н. Дурново, и тестем П. П. Скоропадского, и дядей его жены, и мужем графини М. В. Кочубей, и владельцем дачи на Полюстровской набережной Петрограда, захваченной в 1917 г. анархистами.
Вместо предисловия
Во внешнем облике Петра Николаевича Дурново ничего особенного не было. Тем не менее, в нем было много неожиданного, особенно для тех, кто сталкивался с ним впервые. Так, народоволец П. Л. Антонов, арестованный в мае 1885 г. и введенный в кабинет директора департамента полиции, «увидел за столом сидящего маленького человечка; лицо его было обрито и на стриженной голове волосы торчали как щетка». Осенью 1885 г. в камеру В. Н. Фигнер вошел «маленький, живой сановник с лицом, выражающим самодовольство <…>. На щеках Дурново горел румянец, от него пахло портвейном». М. И. Силина рассказывала: «Ниже среднего роста; <…> смотрел на меня с улыбкой, пронизывающим взглядом». А. И. Иванчин-Писарев впервые увидел П. Н. Дурново в его приемной в сентябре 1889 г.: «Дурново был в форменном фраке, без всяких знаков и отличий и в жилете темно-коричневого цвета. Он медленно продвигался вперед не сгибая головы».
В. И. Гурко, достаточно долго и тесно работавший с министром, вспомнил в эмиграции деталь: «маленький, весь из мускулов и нервов». В. М. Андреевский после приема у министра в конце 1905 г. записал: «Этот маленький, крепкий и живой человек, со своей скептической усмешкой и внимательным взором серьезных глаз, произвел на меня успокаивающее впечатление». И. Ф. Кошко, явившись на прием в качестве пензенского губернатора и ожидавший увидеть всесильного и грозного министра, констатировал: «Это был человек маленького роста, с небольшими бачками, одетый в вицмундирный фрак. Говорил он со всеми тихо, с приветливым видом». С некоторым удивлением отметил непритязательность министра в одежде и Д. Н. Любимов: «Петр Николаевич был в старом коротком пальто с потертым барашковым воротником и плоской барашковой шапке». Повседневно общавшихся с П. Н. Дурново министерских чиновников поражала необыкновенная «подвижность, несмотря на его немолодые уже годы»[2].
Совсем иначе повел себя П. Н. Дурново перед графом С. Д. Шереметевым, заехавшим в феврале 1906 г. к министру с явным намерением присмотреться: «Дурново любезен и прост – серьезен и сдержан – не вертляв и не суетлив – не суров и не тороплив – с достоинством и просто себя держит»[3].
И, наконец, П. Н. Дурново – член Государственного Совета: «Человек умный, несколько высокомерный, по внешнему виду – невзрачный: среднего роста, сутуловатый, лет около 70-ти; говорит хорошо, иногда остроумно, но не по-ораторски»[4].
Современники – друзья и враги, при жизни и после смерти – единодушны в оценке его интеллекта: «в высшей степени умный», «человек огромного ума», «замечательно умен», «очень умен», ум «очень тонкий», «немалая умственная сила»; обладает «государственным умом», «исключительным умом»; производит «впечатление вполне рассудительного человека, <…> с задатками художественного стиля, <…> что уже близко к таланту», «был, в полном смысле слова, блестящим самородком»; «замечательно умный и проницательный (равных ему я в этом отношении не видал в жизни)»; отмечали «врожденное у него чутье хода событий», «его ум и остроумие». М. А. Алданову, заинтересовавшемуся личностью П. Н. Дурново и собиравшему в начале 1920-х гг. о нем сведения, эмигранты, правые и левые, в один голос говорили: «Это был умный человек. Это был умница»[5].
В конце 1920-х гг. М. А. Алданов устами одного из своих персонажей охарактеризовал П. Н. Дурново следующим образом: «Умные люди, ученые люди думали о том, куда идет мир; думали и философы, и политики, и писатели, и поэты, правда? И все “провидцы” попали пальцем в небо. <…> А вот не ученый человек, не мыслитель и не поэт, скажем кратко, русский полицейский деятель все предсказал как по писаному. Согласитесь, это странно: в мире слепых, кривых, близоруких, дальнозорких, один оказался зрячий: простой русский охранитель! <…> Знал я его недурно, если кто-либо его вообще знал… Немного он мне напоминает того таинственного, насмешливого провинциала, от имени которого Достоевский любил вести рассказ в своих романах… Но умница был необыкновенный. <…> он имел репутацию крайнего реакционера и заслуживал ее <…>. Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо?»[6]
Более спокойной, но столь же однозначной и высокой является оценка исследователей. Правда, они имеют в виду одну лишь записку П. Н. Дурново, поданную Николаю II в феврале 1914 г. Так, М. А. Алданов писал: «По блеску прогноза я не знаю в литературе ни одного документа, который мог бы сравниться с этим. Вся записка Дурново состоит из предсказаний, и все эти предсказания сбылись с изумительной точностью. <…> Он предвидел то, чего не предвидели величайшие умы и знаменитейшие государственные деятели! <…> Я не знаю другого такого верного предсказания в истории»[7].
Сказано о ней и так: «Преисполненное чести и достоинства заявление Петра Дурново. <…> пророческий меморандум»[8].
Другие отмечают «мудрость» Записки, ее «пророческий характер», «недюжинный ум» ее автора; их «поражает» правильность анализа международного положения; «потрясает дальновидность» автора; характеризуют его как «замечательного теоретика крайней реакции», относят к числу «наиболее глубоких и творческих по своему духу и <…> наиболее дальновидных в своем понимании хода истории деятелей начала XX века»[9].
П. Н. Дурново развил в себе способность предвидения «необычайной силы и точности»[10]. В записке на имя Николая II он предсказал катастрофические для России последствия грядущей войны. Это был подлинно научный прогноз, основанный на глубоком понимании общественного развития. Революция была им предсказана в деталях[11].
П. Н. Дурново, справедливо заметил Д. Ливен, «совмещал большую оригинальность мысли и ясность взгляда с глубоким знанием военных, геополитических, экономических и политических реальностей»[12].
Обладал «широким государственным пониманием интересов страны». Его глубокий ум был «трезвым» и чрезвычайно скорым: он «быстро входил в существо вопроса», «быстро разбирался в самых трудных положениях», «налету схватывал суть дела». «Давно, – писал Л. А. Тихомиров, – я не выносил впечатлений такого ясного представления себе каждого вопроса, как встретил в нем. Теперь таких людей мало: старая школа видна»[13].
У него был твердый характер – «громадный», по выражению Л. А. Тихомирова. Е. Г. Шинкевич свидетельствует: «Я слышал часто его суровые распоряжения, но никогда не видел его раздражения – в этом чувствовался сильный характер этого человека». А М. О. Меньшиков усматривал тут «не только характер, но и нравственное обоснование для него, особую философию, которая могла постоять за себя». И ум, и характер были необыкновенно дисциплинированны: его отличали «полная гармония между умом и характером», «ясное понимание своей задачи», «определенность желания, воли – он знал, чего он хотел». При этом воля его была «сильною», «железной», «твердой» и «настойчивой», была «вполне адекватна силе его ума». «Умел выразить в случае надобности уверенность в том, что он сумеет превратить свои слова в действие». Это усиливалось выдающимися организаторскими способностями, «умением осуществлять власть», особым «даром управлять». Это был «человек крутой дисциплины».
Современников «поражала огромная работоспособность» П. Н. Дурново. Он был весьма энергичен, его не видели «уставшим и никогда без работы». «Трудолюбие и ясность изложения Д[урново] поразительны», – говорил С. Д. Шереметев царю[14]. К выступлениям он «подготовлялся самым тщательным образом», свои речи «по привычке» писал. Мудрено ли, что он «очень знал дело», «отлично знал дело», что его всегда отличали «опыт и здравый смысл», а за словами его «чувствовался громадный служебный и книжный труд, громадный умственный и научный капитал», к его мнению, по свидетельству политического противника, «привыкли прислушиваться все члены Государственного Совета, независимо от того, где они сидят».
По оценке М. М. Ковалевского, политического оппонента П. Н. Дурново, последний «говорит всегда неглупо, не подыскивая словечек и аргументируя сильно, <…> он умело и терпимо руководил прениями, <…> отличается, несомненно, доходящим до разума здравым смыслом, необыкновенной определенностью и ясностью мысли <…>. Он не столько оратор, сколько то, что англичане называют debater, то есть человек, умеющий разбить мотивы противников, разобрав их по косточкам»[15].
Хотя было и такое: «Петр Николаевич был блистателен. Когда он кончил свою арию, то внизу между сидящими, как в партере театра перед знаменитой певицей, раздавалось тихое “браво, браво”, что даже не в обычаях Государственного Совета»[16]. Петербургский корреспондент Daily Telegraph Э. Диллон о речи П. Н. Дурново в общем собрании Государственного Совета 19 марта 1909 г. по законопроекту о штатах Морского генштаба писал: «по сжатости, ясности, строгой логике и достоинству является единственною в летописях русских парламентских прений»[17].
Сильнейшей стороной Дурново-политика был его прагматизм, он ни в чем не был умозрителен. В своих решениях он был всегда определенен и ясен, «раз решив, не любил менять свое решение». Вместе с тем «редко с кем можно было так спорить <…> и доказывать правоту своего мнения. В споре он умел и отказываться от своего мнения». «Я никогда, – признавался он в общем собрании Государственного Совета, – не имею такого самомнения о своей работе, чтобы ежечасно не быть готовым сознаться в своих ошибках»[18].
Сослуживцам Дурново импонировало его «спокойствие и выдержка», «хладнокровие», «полное бесстрашие»[19] (во время приемов не позволял «никакой фильтровки посетителей», выходил в общий зал, куда «никогда не допускал агентов охранки»), решительность, «простота», оперативность («ко всем вопросам относился всегда практически-жизненно, чуждаясь формальностей, и при этом сразу – на лету схватывал суть дела и разрешал вопросы тотчас же»).
П. Н. Дурново выказал способность и смелость быть независимым министром: не пытался потрафить общественному мнению, противостоял чуть ли не всему Совету министров во главе с С. Ю. Витте, «оставлял без уважения» весьма высокую протекцию, «вплоть до великих князей». «Никогда, – утверждает А. Ф. Редигер, не стеснялся высказывать вполне откровенно свое мнение»[20].
Не позволял хлопать себя по плечу, не играл в «рубаху-парня», проходимцев держал на дистанции[21]. Не переводил принципиальные разногласия в плоскость личных отношений[22]. Помнил сделанное по его адресу добро, отвечал тем же[23].
Хорошо разбирался в людях. С. Д. Шереметев как-то разговорился с ним о Николае II, а затем записал: «Перешли на анализ личности и характера. Д[урново] рассказал несколько эпизодов из прошлого в связи с личными отношениями. Говорил умно, дельно; <…> Вижу, что у Д[урново] иллюзий никаких. И connait non homme»[24][25].
Был чужд подозрительности[26]. Умел подбирать себе достойных сотрудников, принимая во внимание прежде всего их деловые качества. При этом чувства сотрудника к нему или его – к сотруднику не имели большого значения. Так, управляющего Земским отделом МВД в высшей степени даровитого В. И. Гурко, имевшего, и не без основания, репутацию «нахала»[27], отличали «настойчивая энергия и редкий апломб»[28]. Его «отношения с Дурново еще при Плеве были по меньшей мере натянутые. При Мирском они испортились окончательно» (до степени, когда на сказанное «Я вам как товарищ министра приказываю» П. Н. Дурново услышал: «Руки коротки»). Поэтому, как только Дурново был назначен министром, Гурко подал прошение об увольнении от должности, сопроводив следующим: «Так как вы, Петр Николаевич, питаете ко мне столь же мало симпатий, как я к вам, то служить нам вместе, конечно, нельзя». «Каково же было мое удивление, – продолжает В. И. Гурко, – когда в ответ я услышал: “Ваши и мои чувства тут решительно ни при чем. Мы переживаем такое время, когда о чувствах речи быть не может. Я считаю вас полезным на том месте, которое вы занимаете и прошу вас на нем оставаться. Уходить при этих условиях, какие бы ни были ваши чувства ко мне, вы не имеете права”»[29]. Более того: 2 марта 1906 г. провел назначение В. И. Гурко своим товарищем (заместителем).
Тогда же он сделал своим товарищем и С. Е. Крыжановского, который «по своей неутомимой энергии, работоспособности, организаторскому таланту и знанию дела являлся в полном смысле слова человеком выдающимся, а по условиям своей личной жизни он обладал возможностью всецело отдавать себя интересам службы»[30].
При этом «всех своих ставленников П. Н. Дурново энергично отстаивал»[31]. Так, убедившись в правоте начальника петербургского охранного отделения А. В. Герасимова, «с первого своего свидания с Дурново» настаивавшего на необходимости больших арестов, П. Н. Дурново проникся большим уважением к нему и «начал всячески его выдвигать, открыто называя его самым крупным из деятелей политического розыска того времени»[32].
П. Н. Дурново заботился о судьбе своих сотрудников. Так, 25 апреля 1906 г. он, уже не министр, просит председателя Совета министров И. Л. Горемыкина исходатайствовать назначение в Сенат Э. И. Вуичу: «Директор департамента полиции Эм[мануил] Ив[анович] Вуич, приглашенный мною на эту должность из Прокуроров СПб[ургской] судеб[ной] палаты чувствует себя до такой степени утомленным, что не считает возможным оставаться Директором Департамента. Будучи старым судебным деятелем, он давно уже мог быть кассац[ионным] Сенатором, но по своим выдающимся познаниям призывался к более деятельной службе. Предместник его Гарин по моему ходатайству был назначен Сенатором с окладом в 10 т. рублей. Мне кажется, Вуичу нельзя, по справедливости, отказать в том, что сделано для Гарина, и я убедительно прошу Вас помочь этому делу»[33].
Просит о сердобском исправнике: «Еще раз позволяю себе свидетельствовать перед Вами об его выдающихся служебных достоинствах, честности и такте. Живя в Сердобске, он вынужден воспитывать сына в Пензе, что вызывает чрезмерные для него расходы. Вы меня несказанно обяжете, приняв участие в судьбе Г. Доброхотова»[34].
Упрекали его в беспринципности. Однако, «беспринципность Дурново, – утверждает В. И. Гурко, – не относилась до его политических взглядов. В этой области он имел весьма определенные и стойкие убеждения и к делу, которым заведовал, относился весьма вдумчиво, можно сказать, любовно, как безусловно любил Россию и болел о всех ее неудачах»[35]. О высокой принципиальности П. Н. Дурново и его единомышленников в отстаивании исповедуемых ценностей свидетельствует их отказ участвовать в чествовании памяти Л. Н. Толстого в Государственном Совете 10 ноября 1910 г. «Великое и всемирное значение покойного в области литературно-художественного творчества, – говорилось в их заявлении, – не устраняет тягостных впечатлений от его социально-политической деятельности, которая в течение свыше 30 лет была с неусыпной энергией направлена к разрушению Христианской Веры, Православной Церкви и русской Государственности. Настойчиво распространяемые последователями гр[афа] Л. Н. Толстого учения его вносили смуту в духовное миросозерцание нашего народа и расшатывали исконные устои общественного и семейного строя русской жизни. Поэтому, затрудняясь отделить личность Графа Толстого, гениального литератора и художника от его пагубной социально-политической и противорелигиозной деятельности, мы не можем присоединиться к упомянутому выше чествованию его памяти в высшем законодательном учреждении Империи»[36].
Некоторые из современников отмечали и негативные черты его личности: был «очень своенравный, вспыльчивый человек, абсолютно не терпевший противоречий, иногда самодур»; бывал «чиновным»; «далеко не щепетильный в делах нравственности», «весьма неразборчивый в средствах для достижения намеченной цели». Был человеком большой «ловкости, знавший все ходы и выходы, осведомленный обо всех интригах».
М. М. Ковалевский отмечал «цинизм его отношения к управляемым классам»[37]. Замечание, по-видимому, справедливое: сам П. Н. Дурново говорил о властных характерах, способных «вести людское стадо внушением сильной воли»[38].
Грубая форма выражений, «к сожалению, была свойственна» П. Н. Дурново «и так многих от него отталкивала»[39].
Л. А. Тихомиров ставил ему в упрек то, что в 80-е – начале 90-х гг. XIX в. «он не имел никаких великих целей жизни. Потом он переменился, но в том времени, конечно, не был религиозным. Он был очень либеральных взглядов. Едва ли он тогда сколько-нибудь понимал монархию. Но он служил монархам, был Директором полиции (и превосходным) и всегда деяния либералов пресекал. Он, как натура, м[ожет] б[ыть], полубезразличная, но глубоко государственная, был человеком порядка, и это, конечно, было его, м[ожет] б[ыть], единственное глубокое убеждение. Ничего идеалистического у него, мне кажется, не было. И так – будучи гениальных способностей, огромной силы, неподражаемой трудоспособности, и почти чудесной проницательности, – он большую часть жизни провел, не совершивши ничего, сколько-нибудь достойного его удивительных дарований. Это возможно себе объяснить только отсутствием каких-либо великих целей». Позднее он, – продолжает Л. А. Тихомиров, – «явился передо мной в новом свете. Это уже не был поверхностный “человек порядка”. Страшные развивающиеся события, грозившие разрушить не только монархию, но и Россию, как будто пробудили в нем дремавшего русского человека. Он уже не был ни весел, ни разговорчив, ни остроумен, а серьезен и вдумчив. Он увидел не простой “порядок”, а основы русского бытия и почувствовал их родными себе. Я увидел ту же могучую волю и энергию; он был полон сил; но это был государственный русский человек, проникший в самую глубину нашего отчаянного положения. Он был проникнут стремлением восстановить власть во всем ее могучем величии»[40].
Современникам было, по-видимому, непросто характеризовать П. Н. Дурново: впечатление он производил различное, в зависимости от обстановки, времени, настроения, да и личностью был противоречивой, исключавшей однозначные оценки. Многие пытались это схватить. Так, А. П. Извольский писал: П. Н. Дурново «являлся человеком столь же прямолинейным, сколь и честолюбивым; но, с другой стороны, он был очень интеллигентным и одарен редкой энергией»[41].
Некоторые из них, сравнивая П. Н. Дурново с другими выдающимися его современниками, предпочитали его. «По природным дарованиям, – считал С. Д. Сазонов, – Дурново должен быть поставлен выше [И. Г.] Щегловитова». Он же, сопоставляя его с С. Ю. Витте, заключал: «В отношении отсутствия воспитания и культуры они оба стояли на одном приблизительно уровне. Что касается твердости воли и практического смысла, я думаю, что Дурново заслуживает пальму первенства»[42]. К такому же выводу приходил и В. И. Гурко: «Если сравнивать этих лиц (С. Ю. Витте и П. Н. Дурново. – А. Б.) по их умственным силам, по степени их понимания событий и по их политической прозорливости, то преимущество должно быть, вне всякого сомнения, отдано Дурново. <…> Дурново оказался человеком более сильной воли, нежели Витте. <…> Дурново, несомненно, обладал прозорливым государственным умом и стоял в этом отношении неизмеримо выше Витте[43]. Скажу больше, среди всех государственных деятелей той эпохи он выделялся и разносторонними знаниями, и независимостью суждений, и мужеством высказывать свое мнение»[44].
Род. Родители. Семья
Русский дворянский род Дурново происходит от Индроса, упоминаемого впервые в родословной росписи Разрядного приказа 1686 г. По родословной легенде, этот Индрос, «муж честна рода», в 1353 г. выехал воеводой в Чернигов «из Немец, из Цесарския земли» с двумя сыновьями и с ними «дружина людей их 3 тысячи мужей»[45]. При крещении отец был назван Леонтием, старший сын Литвинос (Литвонис) – Константином, а младший Зимонтен (Зимантен) – Федором. Были они в Чернигове боярами. Федор умер бездетным.
Внук Константина, Андрей Харитонович, «приехал из Чернигова к Москве, к великому князю Василию Васильевичу всея Руси», и великий князь прозвал его «Толстым»; от него ведут род Толстые.
Василий Юрьевич Толстой, правнук Андрея (IV колено рода Толстых, 2-я половина XV века) «имел характер скверный, нрав необузданный и по любому поводу вспыхивал, аки порох». Отсюда и прозвище – «Дурной». Внук его Николай (Микула) Федорович уже официально значился как Дурново. От его шести сыновей (Тимофей, Петр, Дмитрий, Иван, Остафей/Астафий/Евстафий и Яков) и пошли дворяне Дурново[46].
В начале XX столетия Дурново значились в VI части дворянских родословных книг Вологодской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Петербургской, Тамбовской и Тверской губерний; были владельцами имений еще и в Вятской, Курской, Минской, Нижегородской, Плоцкой, Полтавской, Тульской, Черниговской и Ярославской; владели домами в Петербурге, Москве, во многих губернских и уездных городах; были в родстве с Акимовыми, Башмаковыми, Беклемишевыми, Бибиковыми, Веселовскими, Волконскими, Голицыными, Грибоедовыми, Гундоровыми, Дашковыми, Демидовыми, Ермоловыми, Жихаревыми, Кавелиными, Капнистами, Карауловыми, Кривцовыми, Левшиными, Львовыми, Милорадовичами, Мышецкими, Одоевскими, Петровскими, Раевскими, Савельевыми, Савеловыми, Савицкими, Симанскими, Скобельцыными, Скоропадскими, Хитрово, Хрипуновыми, Шеиными и многими другими.
Среди представителей рода встречаются стряпчие, воеводы, стольники, полицмейстер, военные моряки, офицеры гвардейских и армейских полков, придворные чины, губернаторы и генерал-губернаторы, министры, сенаторы, статс-секретари, члены Государственного Совета, уездные и губернские предводители дворянства, мировые посредники, деятели земского и городского самоуправлений, мировые судьи, прокуроры, присяжный поверенный, публицист, артист, преподаватели военных училищ, инженеры путей сообщения, члены правления акционерных обществ и банков, ученый, революционерка.
Дурново участвовали во всех войнах, какие вела Россия, прошли через Гражданскую, многие эмигрировали; немало погибло их в коммунистических лагерях; живут и в современной России.
Некоторые из Дурново стали достаточно известными. Так, двоюродный прадед П. Н. Дурново, Николай Дмитриевич (12.04.1733–3.11.1815), начал службу солдатом в л. – гв. Семеновском полку (1742), закончил ее генерал-аншефом (1770); занимал должности обер-штер-кригс-комиссара (с 1770), генерал-провиантмейстера (с 1771), генерал-кригс-комиссара (с 1775), сенатора (с 1783), управляющего Провиантским департаментом (1791–1797); Екатерина II уважала его за бескорыстие и честность, пожаловала ему 1828 душ в Плоцкой и Минской губерниях; имел награды до ордена св. Владимира I ст. вкл. (1794).
Его сын Дмитрий Николаевич (14.02.1768–11.12.1834) – участник войны со Швецией (1789), гофмаршал и командор Мальтийского ордена (1799), обер-гофмаршал и президент Гоф-интендантской конторы, петербургский губернский предводитель дворянства (1830).
Другой сын Николая Дмитриевича – Иван (20.01.1782–1.07.1850) – героический участник сражений с французами (1807, 1812–1814) и турками (1810), контуженный и дважды раненый, кавалер орденов св. Владимира IV ст. с бантом и св. Георгия IV ст., награжденный за храбрость золотой шпагой, генерал-майор (1814, за отличие под Лейпцигом)[47].
Василий Акимович (5.04.1777–30.01.1834) – восьмиюродный дядя П. Н. Дурново – капитан-лейтенант, «оставил после своей смерти большой капитал (свыше 300 тыс. рублей), который завещал использовать на воспитание бедных дворян в Морском корпусе, а также в Первом Московском кадетском сухопутном корпусе. На проценты с этого капитала, увеличившегося еще от продажи его четырех доходных домов в Москве и имения в Богородском уезде Московской губернии, были учреждены стипендии для платы за обучение шести воспитанников Морского кадетского корпуса и шести воспитанников Первого Московского кадетского корпуса ежегодно»[48].
Николай Дмитриевич (1792–1828) – четвероюродный дядя – «храбрый офицер» (Александр I), поручик свиты (1811), член тайного общества «Рыцарство» (1811), участник военных кампаний 1812–1814 гг., флигель-адъютант Александра I, был 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади вместе с Николаем I, когда тот вел Преображенский 1-й батальон к углу Адмиралтейского бульвара; участвовал в неудачной попытке уговорить декабристов; произвел арест К. Ф. Рылеева; в январе 1826 г. проводил в Киеве расследование восстания Черниговского полка; управлял канцелярией начальника Главного штаба И. И. Дибича. Участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг., убит при штурме Шумлы. Автор Дневника (РГБ), частично опубликованного (Вестник общества ревнителей истории. Вып. 1. 1914; Декабристы. Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 3. М., 1939)[49].
Елизавета Петровна (1855–1910) – десятиюродная сестра – дочь отставного ротмистра Петра Аполлоновича и Елизаветы Никаноровны, урожденной Посылиной (из купеческой семьи); окончила высшие курсы В. И. Герье; член – последовательно – «Земли и Воли», «Черного передела», партии эсеров, группы максималистов; дважды арестовывалась, заключалась в Петропавловскую крепость (1880) и тюрьму (1906); оба раза освобождалась под залог и вскоре скрывалась за границу; мать С. Я. Эфрона; повесилась после самоубийства младшего сына Константина.
Петр Павлович (6.12.1835–31.12.1918, Пг.; убит в очереди женщинами) – пятиюродный брат – окончил Пажеский корпус корнетом (1853), Николаевскую военную академию (1855). Службу начал в Кавалергардском полку (с 1853). Участник обороны крепости Свеаборг (1853–1856), боевых действий против горцев Кавказа (1859–1860). Харьковский (1866–1870) и московский (1872–1878) губернатор. Управлял департаментом уделов (1882–1884). Генерал-губернатор Москвы (1905). Генерал-адъютант (1905). Председатель Петербургской городской думы (с 1904). Крупнейший земле– и домовладелец. Предприниматель. Коллекционер произведений искусства и редких растений. Жена его, Мария Васильевна, урожденная княжна Кочубей, владела несколькими имениями в Полтавской губ. Их дочь Александра замужем за П. П. Скоропадским.
Их сын Павел (23.06.1874–22.01.1909, Пирей, Греция) – герой русско-японской войны. Окончив Морской корпус (1893), служил на судах Тихоокеанской эскадры. Командуя эсминцем «Бравый», участвовал в Цусимском сражении и прорвался во Владивосток (один из трех). Капитан 2-го ранга (20.05.1905, за отличие). Кавалер ордена св. Георгия IV ст. (18.09.1905).
Николай Николаевич (23.10.1876–27.10.1937) – четвероюродный племянник[50] – исследователь древнерусской письменности и диалектов русского языка, автор первого русского словаря лингвистических терминов (1924), член-корреспондент РАН (1924), затем АН СССР, действительный член АН Белорусской ССР (1928–1929), арестован по делу т. н. Российской народной партии (1933), осужден коллегией ОГПУ на 10 лет лагерей (1934). На Соловках, где отбывал заключение, особой тройкой УНКВД ЛО приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. Реабилитирован (1964). Оба его сына – Андрей (1910–1938) и Евгений (?–1938) – арестованы и расстреляны.
Среди прямых предков П. Н. Дурново (дед, прадед, прапрадед и т. д.) никто особо не выделился; один лишь Константин Евстафьевич – третье колено от основателя рода Микулы Федоровича – участвовал в Земском соборе 1613 г. и подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова.
Здесь уместно заметить, что утверждение С. Ю. Дудакова о еврейских корнях П. Н. Дурново («тоже из рода Веселовских»), основанное на том, что Павел Веселовский выдал одну из своих дочерей «за Дурново»[51], не находит подтверждения в поколенных росписях: Иван Иванович Дурново, женившийся на Пелагее Павловне Веселовской, приходится П. Н. Дурново пятиюродным прадедом[52].
* * *
Петр Николаевич Дурново (XI колено рода) родился в понедельник 23 ноября 1842 г.[53] в Твери в доме бабушки Веры Петровны Львовой.
Петр – имя деда (Львова), обоих прадедов (Львова и Лазарева) и прапрадеда (Львова) по материнской линии. По наблюдениям П. А. Флоренского, «горячее имя, с темпераментом и некоторою элементарностью»[54].
1842 год – по китайскому гороскопу – год водяного тигра[55].
Восприемниками при крещении были неслужащий статский советник и кавалер В. М. Фиглев и статская советница вдова Вера Петровна Львова, бабушка.
Петр был третьим ребенком, после Веры (1839–?) и Елизаветы (1841–?). До поступления его в Морской корпус родились еще три сестры – Мария (1843–?), Любовь (1845–?) и Варвара (1849–?) и два брата – Николай (1847–?) и Александр (1851–16.07.1857).
* * *
Отец Петра, Николай Сергеевич[56], был не без способностей, однако крайне легкомысленный, не развивший в себе привычки к повседневной систематической деятельности и совершенно, по-видимому, лишенный чувства долга. В самом деле, 22-летним корнетом, не став крепко на ноги (ни у него, ни у его родителей не значилось ни родового, ни благоприобретенного имения), он женится. Семья быстро растет (в начале 13-го года семейной жизни он – отец восьмерых детей), однако он никак не может найти себе дело по душе и закрепиться на каком-либо месте. За 22 года службы он сменил 10 мест, испробовав себя гусаром, жандармом, цензором, министерским чиновником, городничим, смотрителем училища, вице-губернатором. За это время он 5 раз был в отставке, что составило около 4-х лет (18 % всего времени службы).
В 1854 г. он сделал резкий карьерный рывок: был назначен и. о. саратовского вице-губернатора. Произошло это вследствие чрезвычайных обстоятельств. В марте 1853 г. 36-летний Н. С. Дурново был командирован в Саратов для производства следствия о двух пропавших мальчиках. Здесь судьба свела его с Н. И. Костомаровым[57]. Сосланный летом 1848 г. в Саратов, он был определен переводчиком при губернском правлении с жалованием 350 рублей в год. «Переводить было нечего, – вспоминал он, – и я только числился на службе».
Что произошло в Саратове в 1853 г. и каковы были последствия? Послушаем сначала Н. И. Костомарова: «С 1853 года начались для меня некоторые неприятности. В Саратове произошло замечательное событие: пропало один за другим двое мальчиков, оба найдены мертвыми с видимыми признаками истязания: один в марте на льду, другой – в апреле на острове. Всеобщее подозрение падало на евреев, вследствие старинных слухов о пролитии евреями христианской детской крови. Присланный из Петербурга по этому делу чиновник Дурново потребовал от губернатора чиновника, знающего иностранные языки и, кроме того, знакомого с историей. Губернатор откомандировал к нему меня. Прежде всего мне дали для перевода странную книгу: это были переплетенные вместе печатные и писанные отрывки неизвестно откуда на разных языках, заключавшие в себе официальные документы о необвинении иудеев в возводимом на них подозрении в пролитии христианской крови. Тут были и папские буллы, и декреты разных королей, и постановления сенатов, и циркуляры министров. Книгу эту нашли у одного еврея. После перевода этой книги меня просили составить ученую записку – опыт решения вопроса: есть ли какое-нибудь основание подозревать евреев в пролитии христианской детской крови. Так как для этого нужны были пособия, то при посредстве Дурново я и получил их от саратовского преосвященного Афанасия. Рассмотрев предложенный мне вопрос, я пришел к такому результату, что обвинение евреев хотя и поддерживалось отчасти фанатизмом против них, но не лишено исторического основания, так как еще до христианской веры уже существовало у греков и римлян подобное подозрение, как это показывают свидетельства Анпиона, говорившего, что Антиох Етифон, сирийский царь, нашел в иерусалимском храме греческого мальчика, приготовляемого иудеями к жертвоприношению, состоявшему в источении крови из жертвы, и Диона Кассия, по известию которого в городе Кирене, в Африке, греки перебили евреев за то, что последние крали греческих мальчиков, приносили их в жертву, ели их тело, пили их кровь. Я указал сверх того на то обстоятельство, что евреи еще в библейской древности часто отпадали от религии Моисея и принимали финикийское идолопоклонство, которое отличалось священным детоубийством. Наконец, я привел множество примеров, случавшихся в средние века и в новой истории в разных европейских странах, когда находимы были истерзанные дети и всеобщее подозрение падало на евреев, и в некоторых случаях происходили народные возмущения и избиения евреев. Множество папских булл и королевских декретов, которые евреи собирали и хранили так усердно, показывает, что было нечто такое, что вынуждало явление этих документов, тем более что значительная часть этих официальных памятников, которыми евреи себя оправдывали, давались тогда, когда дававшие их явно нуждались в деньгах и т. д.
Но когда губернатор узнал о том что я написал, то призвал меня к себе и начал грозить, что он меня засадит в острог и напишет куда следует о моей неблагонадежности, чтобы меня послали куда-нибудь подальше и в худшее место. Дело в том, что губернатор допустил противозаконно проживать евреям в великорусской губернии, где им не дозволялось жительствовать, опасался со стороны присланного чиновника под себя подкопа и не хотел, чтобы правительство признало подозрение на евреев сколько-нибудь основательным. В то же время он написал к Дурново отношение, в котором очернил меня и поставил ему в непристойность доверие ко мне как к лицу, дурно себя заявившему и находящемуся под надзором полиции. Я принужден был оставить еврейский вопрос.
На следующий год в саратовской администрации произошла большая перемена: губернатор был отставлен; за ним то же последовало со многими другими чиновниками; приехал новый губернатор Игнатьев и новый вице-губернатор; последним назначен тот же самый Дурново, который в предшествовавшем году производил следствие; к достижении этой должности ему, как я слышал, помогло мое сочинение, которое в министерстве признали за его собственное и сочли его ученым человеком. Но в должности вице-губернатора ему пришлось быть недолго: не более как через год он был замещен другим»[58].
Н. С. Дурново и в самом деле все приписал себе. Ни словом не обмолвившись о записке Н. И. Костомарова, он так описал все перипетии своей командировки в Саратов: «В 1853 г., состоя на службе при Министерстве Внутренних Дел, я был командирован в г. Саратов для производства следствия о пропавших двух малышках, которые впоследствии были найдены убиенными с необыкновенными знаками и с обрезанием по Еврейскому обряду. Несмотря на всевозможные интриги, препятствия, притеснения и противодействия, отвергнув все личные выгоды, после 9-месячного самоотверженного тяжкого труда, я открыл это важное преступление: дети были украдены и замучены Евреями для источения крови, которую они рассылали в разные места.
В 1823 г. для исследования подобного рода дел в г. Велиже наряжена была комиссия из нескольких членов под председательством флигель-адъютанта Шкурина; в Саратов же я был послан один, в то время Коллежский Асессор.
Совет Министерства Внутренних Дел и Комитет Гг. Министров, рассматривая произведенное мною следствие, признали мой труд усердным, добросовестным и дельным. За сим я был назначен Вице-Губернатором в Саратов»[59].
Существенно иначе объяснял это назначение министр внутренних дел С. С. Ланской: «Поручение сие он исполнил успешно, открыв не только следы тщательно сокрытого преступления, но и главных виновников онаго. Хотя впоследствии было дознано, что Дурново дозволял себе разные, превышающие его обязанность действия, нарушал следственные нормы, допускал пристрастие и натяжки, но как М[инистерст]во убеждено было из результатов произведенного следствия, что допускаемые отступления были направлены не к сокрытию преступления и не к затемнению дела, а, напротив, из усердного стремления к обнаружению зла, то и погрешность Дурново противу следственного порядка не была поставлена ему в вину. Министерство простерло свою снисходительность далее: желая вознаградить его за успешные действия по делу столь важному, навлекшему на него много вражды и мщения, бывший Министр Бибиков испросил Высочайшее соизволение на назначение его Вице-Губернатором в Саратове, имея еще и то в виду, что пребывание его там послужит с пользою к дальнейшему раскрытию обстоятельств совершенного преступления. Сообразно с сим Дурново было дано от Министра предложение содействовать в мере влияния его как Вице-Губернатора нарочно посланной и составленной из лиц разных ведомств Судебной Комиссии»[60].
Что касается его смещения с должности саратовского вице-губернатора, то Н. С. Дурново объяснял это царю так: «Во время следствия, предвидя важность и последствия этого дела, я неоднократно просил об отозвании меня из Саратова, присовокупляя при том, что, кроме злобы Евреев по столкновению и прикосновенности многих лиц, это сложное и важное дело оставит мне повсюду сильных врагов, погубит целое семейство и я один паду жертвою моей добросовестности. На это Начальство, постоянно уверяя меня в защите и покровительстве, приказывало непременно открыть виновных в преступлении.
Между тем противная партия, действуя в защиту Евреев, успела возбудить на меня доносы, жалобы и проч., так что люди самые добросовестные увлеклись этою партиею, дали веру голословным доносам и тем невольно и бессознательно обратились в защитников Евреев. Вследствие чего я был вызван из Саратова в Петербург и перемещен в Вильно»[61].
С. С. Ланской докладывал царю об этом иначе: «Начиная с сего времени (т. е. со времени назначения саратовским вице-губернатором. – А. Б.), Дурново действовал уже не только не благоразумно и с пользою, но желал присвоить себе власть и влияние на дело более, нежели ему приличествовало, – во многом препятствовал Судебной Комиссии своим напряженным и даже ложным направлением, подговаривая в иных случаях, призванных по делу свидетелей, делать ложные показания, от которых они потом отрекались, и поселяя из личных видов в других лицах, особенно купеческого звания, страх, что они будут привлечены к следственному делу.
Все это доходило до М-ва; получены были даже сведения, что Дурново не чужд лихоимства и ведет нетрезвую жизнь, – но и тут не было еще дано полной веры этим сведениям, и распространение их относилось к недоброжелательству и мстительности, возбужденных против него за открытие преступления. Министерство терпело и щадило сего чиновника сколько из сострадания к нему самому, столько же и из желания не подорвать значения самих фактов, им открытых. Так прошли год и два месяца.
В сентябре 1855 г. получено из III Отделения С. Е. И. В. канцелярии сообщение, в котором было указано, что во время бывшего в июле того года пожара в Саратове, Вице-Губернатор Дурново дозволил себе разных бесчинств, будучи совершенно пьяным. В это время я уже вступил в управление Министерством и признал нужным отозвать сего чиновника из Саратова»[62].
Отозванный из Саратова, Н. С. Дурново был назначен виленским вице-губернатором. Почему он туда не поехал – об этом пишет он глухо, делая вид, что не понимает: «Не получив однако ж в продолжении 9 месяцев отправления к месту нового назначения, я снова был перемещен в Петрозаводск»[63]. Ланской докладывал вел. князю: «Не желая лишить его службы вовсе, я испросил соизволения Государя императора перевести его тем же званием в Виленскую губернию, но узнав вскоре, что Дурново оставил там по себе дурную память по состоянию в 1844 году в должности городничего в Вилькомире, от которой был вслед за тем уволен, я испросил Высочайшее разрешение переместить его в Олонецкую губернию»[64].
31.01.1857 г. Дурново был уволен со службы. По его словам, это – акт высшей несправедливости: «Совершенно неожиданно, без дознания, без следствия и без суда, во время управления губерниею, <…> по прошению, которого я никогда не подавал; тогда, как в 8½ месяцев моей службы в Петрозаводске я управлял 4 месяца Губерниею и во все время на меня не было ни жалобы, ни просьбы, ни даже не получал ни одного замечания от Начальства»[65].
Министр опровергает Дурново и в этом: «Не долго и здесь оставался Дурново без нарекания: из Петрозаводска, так же как и из Саратова, стали доходить о нем невыгодные слухи. Оба губернатора: Саратовский Игнатьев, приезжавший сюда летом 1856 г., и бывший Олонецкий Муравьев, находясь здесь зимою, – оба самым неприятным образом отзывались лично мне о службе и действиях Дурново; главнейшим же против него обвинением служит произведенное, по моему поручению, особым чиновником негласное дознание о его правилах, образе жизни и служебных действиях в Саратове. Из дознания оказывается, что он в самом деле нетрезвого поведения, сомнительных правил и корыстолюбивый человек. К этому дознанию приложена даже ныне находящаяся у меня приходорасходная книжка одного торговца, где на имя Дурново выписаны в расход значительные денежные суммы. После столь убедительных фактов против Дурново я счел нужным испросить Высочайшее разрешение на увольнение его от службы»[66].
Не приходится сомневаться, что у начальства – губернского и министерского – были основания быть недовольным Н. С. Дурново: и элементарная лень, и пристрастия, и беспечность, и пьяные бесчинства, и выход за пределы своих обязанностей, и неправомерное вмешательство в дела судебной комиссии – все это, по-видимому, было. Однако надо согласиться и с Дурново, когда он пишет царю о «сильных врагах», их злобе, мстительности, интригах, ложных обвинениях, клеветнических жалобах и доносах, справедливо при этом замечая: «каким же иным способом эти лица могли бы поколебать доверие к человеку, обличавшему их действия? – как не доносами». Не за обвинение же евреев в убийстве саратовских мальчиков его уволили. Охваченный административным восторгом, склонный к горячности, прямолинейный и легкомысленный Дурново разворошил саратовское гнездо, и многие поплатились теплыми местечками.
В самом серьезном обвинении Дурново – лихоимстве – приходится усомниться. И не только потому, что «приходорасходная книжка» саратовского торговца весьма сомнительна: там много исправлений, разные чернила, и в чьих руках она побывала, пока, оставив своего владельца, дошла до министра? Туда вписать мог кто угодно и что угодно. Главное – в другом, и на это обращал Дурново внимание царя: «Настоящее мое положение еще более опровергает все возводимые на меня клеветы и обвинения: задолжав в Саратове д[енег] 5 т[ысяч] р[ублей] с[еребром], <…> я ныне, прослуживши почти 20 лет и около трех лет Вице-Губернатором, живу в двух комнатах, в подвальном этаже с 7-ю больными детьми, не имея даже средств на медицинское пособие для них (8-й дитя 16 числа сего месяца уже умер от нужды)»[67].
И. д. статс-секретаря по принятию прошений Решет, сообщая С. С. Ланскому о всеподданнейшем прошении Дурново, писал: «Из собранных сведений оказалось, что проситель действительно претерпевает крайнюю бедность и с семейством помещается в двух небольших комнатах, сам он в недавнем времени пользовался в Максимилиановской лечебнице для приходящих»[68].
В этом полуподвальном помещении на втором дворе дома Серапина (№ 38) на Царскосельском проспекте Петербурга он продолжал жить с семьей и весной 1858 г., когда обратился со слезной просьбой к министру принять его «снова на службу»: «Резолюция Вашего Высокопревосходительства по сему будет окончательным приговором для огромной семьи, которая буквально умирает с голоду»[69].
Что сталось с ним и с семьею?
К сожалению, мы располагаем разрозненными сведениями. В мае 1861 г. помещик Холмского уезда Псковской губ. А. И. Болотников запродал свое имение и выдал жене надворного советника Вере Петровне Дурново запродажную запись; до совершения купчей крепости имение поступало в полное ее распоряжение, и доходы с него она могла употреблять в свою пользу – помещик выдал ей на это доверенность. В июле 1862 г. она выступила доверительницей Болотникова при выкупе крестьянского надела в имении[70].
Н. С. Дурново остро, по-видимому, нуждался в деньгах и, занимая, не торопился отдавать: в 1865 г. за ним значился неплатеж 809 рублей и процентов по дате иска петербургскому 2-й гильдии купцу Амандусу Ф. Меллину по векселю от 28 декабря 1861 г., а в 1874 г. – неплатеж 2475 рублей витебскому купцу Фогельсону по условию, заключенному 3 июня 1868 г.[71].
В 1865 г. князь В. Ф. Одоевский помог Н. С. Дурново вернуться на службу[72].
После сказанного трудно, казалось бы, предположить какую-либо роль его в воспитании детей. Тем не менее отношения его с старшим сыном были, как можно судить по воспоминаниям В. В. Верещагина, близкими и доверительными[73].
* * *
Мать Петра – Вера Петровна, урожденная Львова (?.12.1817– не ранее 1886), росла в многодетной семье и была четвертым ребенком. 21-го года вышла замуж, будучи на неполный год моложе мужа. Мы ошиблись, утверждая, что В. П. Дурново унаследовала поместье с 153 крепостными в Вологодской губ.[74]. Оказалось: полная тезка Вера Петровна Дурново, урожденная Чирикова, помещица Кемской волости Никольского уезда Вологодской губернии, вдова поручика[75]; за матерью Петра Дурново никакой недвижимости не значилось.
Бабушка Петра по матери, Вера Петровна Львова, урожденная Лазарева (?–1867), почти свой человек в доме Г. Р. Державина, подолгу там жила; поэт хотел на ней женить своего любимца Александра Николаевича Львова, сына своего друга, мечтая передать ему свою фамилию. Вышла она, однако, за Петра Петровича Львова (1781 – ранее 1836), статского советника; это был его 2-й брак; от первого, с В. С. Березиной, у него был сын Петр (1804–?). Было у них 9 детей; старшая, Анна, была, по слухам, рождена до брака. Получая помощь от брата Михаила Петровича, помогала содержать большую семью Н. С. Дурново и занималась воспитанием своих внуков.
Некоторые из Львовых достаточно известны. Петр Петрович, прадед нашего героя, был Новоторжским уездным предводителем дворянства и владел родовым имением Арпачево; в его богатом доме в Твери несколько лет жил И. А. Крылов, тогда подросток, и учился «первым началам некоторых наук и языков <…> вместе с его детьми»[76].
В доме его сына, Федора Петровича (1766/1772?–1836/1835?), директора придворной певческой капеллы, И. А. Крылов «всегда был <…> самый близкий человек; <…> читал свои новые басни и любил часто <…> обедать»[77].
Николай Александрович Львов (1751/1753?–1803/1804?), троюродный дед Петра Дурново, – один из универсальных талантов русского «века Просвещения»: поэт, свояк и друг Г. Р. Державина, член державинского литературного кружка (В. В. Капнист, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев); художник, друг Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского; геолог, открыл Валдайский и Боровичский угольные бассейны; переводчик, перевел древнегреческого поэта Анакреонта; архитектор, перевел труд итальянского архитектора Палладио «Четыре книги по архитектуре», построил здание почтамта в Петербурге, соборы в Торжке и Могилеве, ряд усадеб в Новоторжском уезде, изобрел «земляное битое строение» и построил этим способом в Гатчине здание «Приората» Мальтийского ордена, составил проект устройства новых ванн при Горячих Водах в Кисловодске; исследовал летописи и собирал русские народные песни, издал Собрание русских народных песен с их голосами, положенными на музыку Иваном Прачем; музыкант; график; ботаник, инженер, краевед. Член Российской Академии и почетный член Академии художеств. Сторонник развития просвещения и отечественной промышленности. Его осиротевшие дочери воспитывались в доме Державина; старшая Елизавета записала «Объяснения» Державина на его сочинения, а младшая Прасковья ухаживала за больным поэтом до его смерти[78].
Алексей Федорович Львов (1798–1870), двоюродный дядя Петра Дурново, окончил Институт путей сообщения с отличием, инженер-путеец в военных поселениях А. А. Аракчеева; флигель-адъютант, генерал-майор свиты, обер-гофмейстер. Получил основательное музыкальное образование в доме отца; скрипач-виртуоз; композитор, автор музыки национального гимна на слова В. А. Жуковского и более 40 сочинений; дирижер; музыкальный писатель; общественный деятель; директор Придворной певческой капеллы; устраивал симфонические концерты в своем доме; основал Концертное общество в Петербурге. Был близок к семье императора: участвовал в домашних концертах, давал уроки пения, император бывал в доме Львова, был крестным отцом его детей.
Родные братья бабушки Петра по матери – знаменитые моряки. Три сына сенатора Петра Гаврииловича Лазарева (1743–1800), помещенные им в Морской кадетский корпус (1800), вписали яркие страницы в историю русского флота.
Старший, Андрей (1787–1849), участвовал в боевых действиях против французов в Средиземном море (1806–1807), в блокаде русско-английской эскадрой берегов Голландии (1812–1814); командуя бригом «Новая Земля», сделал попытку обойти Новую Землю (1819), однако из-за льдов и цинги удалось пройти лишь вдоль западных и южных ее берегов; командуя шлюпом «Ладога», совершил кругосветное плавание, посетив Камчатку и Русскую Америку (1822–1824); командовал на Балтике 12-м флотским экипажем (1825) и отрядом судов, перевозивших раненых из Данцига в Кронштадт (1832), 2-й бригадой 2-й флотской дивизии, 3-й бригадой 1-й флотской дивизии, 1-й флотской дивизией. Вице-адмирал (1842). Автор: «Плавание брига “Новая Земля” под начальством флота лейтенанта А. Лазарева в 1819 г.» (СПб., 1820), «Плавание вокруг света на шлюпе “Ладога” в 1822, 1823 и 1824 гг.» (СПб., 1832).
Средний, Михаил (1788–1851), в числе лучших выпускников Морского корпуса был отправлен в Англию и служил волонтером на английском флоте. С 1808 г. – на Балтийском. Участник русско-шведской (1808–1809) и Отечественной (1812) войн. Командуя шлюпом «Суворов», совершил кругосветное плавание (1813–1815). Открыл атолл, назвав его именем своего судна. В составе Антарктической экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, командуя шлюпом «Мирный», совершил свое 2-е кругосветное плавание (1819–1821). На фрегате «Крейсер», имея под своей командой шлюп «Ладога» брата Андрея, в 3-й раз обогнул землю (1822–1825). Командуя линкором «Азов» (с 1826) и будучи начальником штаба эскадры контр-адмирала Л. П. Гейдена, отличился в Наваринском сражении (1827). Командуя отрядом судов, блокировал Дарданеллы в ходе русско-турецкой войны (1828–1829). Начальник штаба Черноморского флота (с 1832). Экспедицией в Босфор способствовал заключению Ункияр-Искелессийского мира (1833). Командующий Черноморским флотом и командир Севастополя и Николаева (с 1834). Руководил десантными операциями против горцев на Кавказском побережье (1836–1840). Адмирал (1843). Ввел новую систему подготовки кадров, существенно усилил Черноморский флот новыми парусниками, пароходо-фрегатами и пароходами, построил Дом собраний в Севастополе, адмиралтейства в Севастополе, Николаеве, Одессе, Новороссийске, док, ремонтные мастерские, береговые батареи, реорганизовал Морскую библиотеку, открыл школу для детей матросов, воспитал плеяду выдающихся моряков, среди которых Г. И. Бутаков, В. И. Истомин, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. Кавалер всех российских орденов, в т. ч. и Андрея Первозванного (1850).
Младший, Алексей (1793–1851), начал службу на Балтике (1805). В составе Архипелагской экспедиции вице-адмирала Д. Н. Сенявина участвовал в русско-турецкой войне (1806–1812) и отличился в Дарданелльском и Афонском сражениях. Лейтенантом на шлюпе «Благонамеренный» под командой капитан-лейтенанта Г. С. Шишмарева совершил кругосветное плавание, дважды заходя в Чукотское море через Берингов пролив (1819–1822); оставил «Записки о плавании военного шлюпа “Благонамеренного” в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах, веденные гвардейского экипажа лейтенантом А. П. Лазаревым», обнаруженные и опубликованные в 1950 г. Ходил из Кронштадта к Исландии (1823). Капитан-лейтенантом участвовал в блокаде Дарданелл (1828). Адъютант вел. князя Николая Павловича (1824); участвовал в подавлении восстания на Сенатской площади (14.12.1825). Флигель-адъютант Николая I (1825). Отличился при осаде Варны в русско-турецкую войну 1828–1829 гг. С 1833 г. – на Балтийском флоте. Контр-адмирал (1839). Командир Астраханского порта и Каспийской флотилии (1839–1842). Керчь-Еникальский градоначальник (1850–1851).
* * *
П. Н. Дурново был женат на Екатерине Григорьевне Акимовой (1852–4.04.1927), дочери коллежского асессора Григория Алексеевича Акимова (1812–9.11.1884) и Надежды Никаноровны Топориной (? – не ранее 1854). Ее старший брат, Михаил (1847–1914) был товарищем прокурора Киевской судебной палаты, министром юстиции (1905–1906) и председателем Государственного Совета (1907–1914). Значительную часть года проводила в своем имении при селе Трескино Сердобского уезда. Часто болела, особенно сильно весной 1891 г. Перед смертью была разбита параличом.
У них было трое детей.
Первенец – дочь Надежда (1881–1882) – умер младенцем[79].
Сын Петр (1.03.1883, СПб. – 13–15.02.1945, Дрезден) окончил Александровский лицей (1903, однокашник поэта С. С. Бехтеева). Службу начал вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конном полку (28.08.1903). Выдержал офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище (1904). Определен корнетом в лейб-гвардии Гродненский конный полк (1904). Поручик (1908). Штабс-ротмистр (1912). Из полка поступил в Николаевскую военную академию и закончил ее в 1914 г. по 1-му разряду. Капитаном (1914) прикомандирован для испытания к штабу Петербургского военного округа. С началом мировой войны перемещен в Генеральный штаб и далее служил старшим адъютантом штаба 2-й кавалерийской дивизии (1915), старшим адъютантом штаба Гвардейского кавалерийского корпуса (1916), начальником контрразведывательного управления Особой армии (1917). Полковник (1917).
Через него командующий Восточным фронтом генерал Гофман вел переговоры с великим князем Павлом Александровичем (1918, до убийства Мирбаха). Организатор антисоветской группы, связанной с германским и австрийским посольствами (Петроград, лето 1918). В войсках фон дер Гольца в Прибалтике (1919). Перебравшись в Берлин, основал русскую контрразведку, связанную с немецкой политической полицией (1918–1919). Член Военно-политического совета Западной России и начальник его военного отдела, член «Берлинского правительства» и финансовой комиссии для помощи Западной армии (Берлин, 1919). И. д. квартирмейстера Западной армии (1919); организовал набор добровольцев в Западную армию из числа пленных солдат и офицеров. Начальник штаба русских войск в Германии (1919–1920).
В эмиграции (Белград, 1921). Член НТС (1930-е), по заданию последнего нелегально посетил СССР (1939). Устроился представителем германских фирм в Югославии, сотрудничал с германской разведкой. После захвата Югославии немцами в 1941 г. стал руководителем Абвера в Югославии (1941). Командир 1-й восточной группы фронтовой разведки особого назначения Генерального штаба ОКХ.
Погиб с семьей и сотрудниками во время бомбардировки союзной авиацией Дрездена.
Награжден орденами св. Станислава 3-й ст. (1910) и св. Анны 3-й ст. (1914)[80].
По свидетельству О. Палей, был «так же, как и его отец, большой германофил»[81]. Был женат на Марине Эриковне Пистолькорс (1890–1976), дочери княгини О. В. Палей, жены великого князя Павла Александровича. Разведен[82].
Их сын Кирилл (1908, СПб. – 1975, Нью-Йорк) окончил в Париже Высшую школу электричества и промышленной механики. Инженер-электрик. Уехал в США. Окончил Нью-Йоркский городской университет. После Второй мировой войны вице-консул США в Италии. Вернулся в США, заведовал контрактами телефонной компании. Работал в фирме Интернациональной телеграфной и телефонной компании в ее филиале в Чили, затем главным инженером и директором отделений Генеральной электронной компании в Италии и Швейцарии. Член Объединения воспитанников Высшей технической школы в Париже, член Общества французских инженеров-электриков. Женился на Софье Лисовской (1918, Харьков – ?); у них дочь Марина (р. 1944, Белград).
Младшая дочь П. Н. Дурново, также Надежда (13.07.1886, с. Трескино Саратовской губ. – ?), – фрейлина императрицы Александры Федоровны. Окончила гимназию, знала французский, немецкий, английский и итальянский языки; владела пишущей машинкой, русской и иностранной; в 1920 г. «прошла ускоренные курсы для библиотекарей при ГубПолитПросвете». После Октябрьской революции жила с матерью в Петрограде-Ленинграде (Моховая, 27, кв. 27). Не могла найти постоянной работы: ее увольняли как дочь царского министра. Жила частными уроками иностранных языков, техническими переводами. Тем не менее на вопрос – какое отношение имела к царскому министру? – с достоинством отвечала: «Я дочь Петра Николаевича Дурново». 11 месяцев служила в Эрмитаже машинисткой. С сентября 1920 г. по декабрь 1922 г. – помощником библиотекаря в Клиническом военном госпитале. «С 1922 года я безработная и никуда не могу поступить, – писала она С. Ф. Платонову. – Между тем, имея на руках совершенно беспомощную, разбитую параличом мать, я не могу существовать без определенного заработка»[83]. В 1925 г. работала кухаркой.
С. Ф. Платонов, хорошо знавший ее отца, привлеченный им в свое время к работе над историей министерства внутренних дел, поддерживал, когда мог, временной работой. В апреле 1927 г. была принята в библиотеку АН «в качестве иностранной машинистки» и сдельно выполняла «различные библиографические работы, требующие знания многих иностранных языков». С 1 февраля 1929 г. включена в состав сверхштатных сотрудников библиотеки для работы «по нецифрованному фонду с оплатой всего лишь в 40 р. в месяц». Это было поставлено в вину академику С. Ф. Платонову: «Зачем брать машинисткой дочь самого реакционного министра Дурново?»
В августе 1929 г. решением комиссии по проверке аппарата АН СССР, возглавляемой Я. И. Фигатнером, уволена как «не имеющая библиотечных познаний для занятия должности библиотекаря и чуждая и враждебная советской общественности». Н. П. Дурново просила пересмотреть решение, находя его «с юридической стороны совершенно необоснованным»[84].
18 февраля 1930 г. была арестована; проходила по делу «Оболенская Кира Ивановна и другие»; постановлением Тройки ОГПУ при Ленинградском военном округе от 10.02.1931 г. осуждена на 5 лет лагерей: «Все эти упоминаемые здесь Эльбен О. Р., Дурново Н. П. потенциально являются идеологической базой для недокорчеванной пока нашей внутренней и внешней контрреволюции, моментами проникающей даже на работу в наши культурные и учебные заведения, как, например, проходящая по данному делу б[ывшая] княжна Оболенская К. И., и там взращивающей в миропонимании подрастающего поколения вредную идеалистическую философию»[85]. На Соловках работала машинисткой. Освободившись, жила в Новгороде, давая уроки иностранных языков. 17 октября 1937 г. снова арестована и осуждена на 8 лет лагерей[86].
Морской кадетский корпус в 1850–1860 годы
В воспитании прежних дней, в традициях минувшего столетия почерпнул Петр Николаевич свою силу, свой необоримый закал.
Голос Руси. 1915. 14 сентябряУказом Петра Великого от 14 января 1701 г. была основана в Москве Навигацкая школа для подготовки специалистов для флота, армии и гражданской службы. 1 октября 1715 г. Петр учредил в Петербурге Морскую академию на базе старших мореходных классов Навигацкой школы, переведенных с частью учителей в столицу. Академия «была преемницею» Навигацкой школы и «по сравнению с нею должна считаться более высшею школою». 15 декабря 1752 г. по ходатайству Адмиралтейств-коллегии Елизавета Петровна преобразовала Морскую академию в Морской Шляхетный Кадетский корпус, который принято считать преемником и Морской академии и Навигацкой школы[87].
В связи с преобразованиями структуры и учебного процесса заведение переименовывалось: в 1802 г. – в Морской кадетский корпус (далее – МКК), в 1867 г. – Морское училище, в 1891 г. – Морской кадетский корпус, в 1906 г. – Морской корпус, в 1916 г. – Морское училище.
Любимое детище Великого Петра. Среди его воспитанников весь цвет русского флота: Г. А. Спиридов (1713–1890), Ф. Ф. Ушаков (1744–1817), Д. Н. Сенявин (1763–1831), Ю. Ф. Лисянский (1773–1837), В. М. Головнин (1776–1831), Ф. Ф. Беллинсгаузен (1778–1852), М. П. Лазарев (1788–1851), Ф. П. Врангель (1796–1870), П. С. Нахимов (1802–1855), В. А. Корнилов (1806–1854), В. И. Истомин (1809–1855), Г. И. Невельской (1814–1876), Н. О. Эссен (1860–1915) и многие-многие другие; целые военно-морские династии: Бутаковы, Веселаго, Епанчины, Мещерские, Мордвиновы, Римские-Корсаковы и многие другие. Из его стен вышли: этнограф и языковед В. И. Даль (1801–1872), историк Ф. Ф. Веселаго (1817–1895), авиаконструктор А. Ф. Можайский (1825–1890), физик Б. Б. Голицын (1862–1916), математик и кораблестроитель А. Н. Крылов (1863–1945), художники А. П. Боголюбов (1824–1896) и В. В. Верещагин (1842–1904), композитор Н. А. Римский – Корсаков (1844–1908), писатель К. М. Станюкович (1843–1903), инженер и предприниматель Н. И. Путилов (1820–1880).
Наряду с профессиональной подготовкой и физической закалкой здесь с Петровских времен уделяли большое внимание формированию личности и прежде всего воспитанию ее стержня – любви к Отечеству и чувства долга.
Пребывание в МКК – особая и во многих отношениях решающая пора в жизни его воспитанников. Кадетские годы Петра Дурново были и началом новой страницы в истории Корпуса. К. М. Станюкович, шедший в Корпусе на год младше Дурново, вспоминал: «Накануне шестидесятых годов, когда начиналась кипучая деятельность обновления, морское ведомство, имея во главе великого князя Константина Николаевича, первое вступило на путь реформ, давая, так сказать, тон другим ведомствам, и “Морской сборник” был в то время едва ли не единственным журналом, в котором допускалась сколько-нибудь свободная критика существующих порядков, поднимались вопросы, касавшиеся не одного только флота, и печатались, между прочим, знаменитые статьи о воспитании Пирогова. Несмотря на это, Морской корпус продолжал еще жить по-старому, сохраняя прежние традиции николаевского времени. Бо́льшая часть воспитателей и преподавателей оставалась на своих местах, и патриархальная грубость нравов еще сохранялась. Тем не менее новые веяния уже чувствовались»[88].
Это подтверждает М. К., поступивший в МКК 20.08.1856 года: «Там господствовали еще вовсю николаевский режим и порядки»: по субботам награждали яблоками прилежных и пороли ленивых, драли «и в будни: кара следовала без промедления, чтобы не забыть и не смягчиться»; существовал «обширный цикл общих и частных наказаний, выработанный многолетней практикой и опытом» (арест «на более или менее продолжительные сроки», «ставили под часы, оставляли без пирожного, второго и даже без обеда»); наказывали «дежурные офицеры, фельдфебель, старшие и младшие унтер-офицеры»; преследовали и истязали «старикашки»; преследовали за курение, проборы, неряшливость, неуспехи на фронтовом учении; царствовали «фронтовистика, шагистика, выправка»; «педагогических приемов воспитания не существовало; все зиждилось на беспрекословном повиновении»; «личный состав офицеров-воспитателей, за исключением очень небольшого числа, был, попросту говоря, низок и случаен»; «преподавательский персонал, система и методы преподавания были <…> отсюда и досюда; в случае просьбы объяснить – указывалось: в тетради написано»; отношения воспитанников к воспитателям и преподавателям были «враждебные»[89].
Обстановка в Корпусе традиционно была спартанской: «Изнеженности не было никакой; чаю и даже сбитню и в помине не было; поутру и вечером была только пеклеваная булка с водою, но ропота на это не было. Эти булки, равно как и ржаной хлеб и квас, славились в Петербурге, но обед из трех блюд и ужин из двух, с неизменною в числе их гречневою жидкою кашей <…>; питья вне обеда, кроме воды, не было, не было ничего. Лазарет был однако же в очень хорошем положении. <…> Шинели и фуражки были холодные; калош или теплой обуви, само собою разумеется, не было. На часах в карауле отстаивали по два часа»[90].
В марте 1855 г. директор Морского корпуса 44-летний Б. А. фон Глазенап был заменен 65-летним А. К. Давыдовым в связи с предстоящими преобразованиями в Корпусе. В рескрипте генерал-адмирала говорилось: «Алексей Кузьмич. В Бозе почивший Государь Император, отдавая справедливость вашим заслугам по управлению 1-м штурманским экипажем, постоянно оставался доволен этим заведением, особенно любил оное и нередко ставил в пример Морскому кадетскому корпусу. Обозревая Штурманский полуэкипаж, рассматривая ваши отчеты и выслушивая отзывы командиров кораблей о воспитанниках оного, бывающих в море, я еще ближе и подробнее видел, что с небольшими средствами вы достигали весьма полезных результатов и снабжали флот офицерами весьма достойными и способными. Желая, чтобы опытность ваша в высоком деле морского воспитания, испытанная благонамеренность и усердие в службе приносили флоту пользу на более обширном поприще, я испросил ныне Высочайшее соизволение назначить вас директором Морского кадетского корпуса. <…> Прошу вас принять в ваше управление Морской кадетский корпус и, как скоро ознакомитесь с этим заведением, изложить мне лично и вполне откровенно все положения ваши к тому, чтоб доставить корпусу всевозможные улучшения. Будьте уверены в полном содействии с моей стороны полезным трудам вашим»[91].
Началась перестройка учебно-воспитательного процесса, однако она не могла и, разумеется, не должна была изменить специального характера учебного заведения. Обстановка и атмосфера его по-прежнему оставались суровыми. Далеко не всем это было по плечу. «После наших отличных домашних учителей и воспитателей, – писал впоследствии А. Н. Мосолов, – вся учебно-воспитательная обстановка тогдашнего Морского корпуса (мемуарист поступил в 1855 г. – А. Б.) мне представлялась жалкой, полунищенской и отталкивающей. Везде было постоянно холодно. Вечный кашель, коклюш, корь – всем переболел я за три зимы моего там пребывания. Кормили плохо, только квас был всегда хорош. По утрам давали еще сбитень, которого я не мог взять в рот». В начале 1855 г., продолжает бывший кадет, «у нас в Корпусе произошла перемена, имевшая влияние на ход всей моей жизни. Вместо Глазенапа назначили вице-адмирала Давыдова, допотопного зверя. Неизвестно почему и для чего явились необычайные порядки. Стали публично сечь даже 20-летних гардемаринов. Раз высекли целый класс больших кадет поголовно за какую-то предерзость учителю английского языка. Наконец придумали каждую субботу собирать весь корпус в большом зале и выкликать вперед из всех классов кадет, получивших наибольшее за неделю число высших отметок и нулей и единиц. Первых ставили направо, вторых налево. Одним раздавали из больших корзин яблоки по числу полученных баллов, других тут же, спустивши им штаны, публично драли. Не раз, с яблоками в руках, взирал я на это необычайное для меня зрелище». Физически слабый и изнеженный, он не выдержал, и в апреле 1857 г. отец забрал его из Корпуса[92].
К. М. Станюкович вспоминает князя N, «бледного, худого, забитого и приниженного четырнадцатилетнего белокурого мальчика с красивым лицом и покорным, почти страдальческим взглядом больших серых глаз». Пытаясь найти защиту у воспитателей, он стал жаловаться на товарищей, стал доносчиком. «С ним никто не разговаривал, никто не обращался иначе, как с грубым словом, безмолвно переносил все эти пинки, удары и ругательства и только как-то беспомощно ежился и умоляющим взором просил о помощи. Но помощи ему не было». Корпус тут был ни при чем: «Изнеженный и избалованный, маленький князь из-под крыла матери и из атмосферы угодливости крепостной челяди богатой помещичьей усадьбы прямо попал в несколько спартанскую обстановку рассадника будущих моряков, по преимуществу детей из бедных, захудалых дворянских семей». Мать забрала его из Корпуса[93].
Подчеркнем, однако: за исключением таких вот, изувеченных домашним воспитанием, питомцы Морского корпуса выходили в жизнь хорошо подготовленными и профессионально, и физически, и духовно. Даже тем, кто ошибся поступив в Корпус, пребывание в нем не помешало крепко стать на ноги и выбрать дорогу по душе. Так, В. В. Верещагину пребывание в Корпусе с августа 1853 г. по апрель 1860 г. при интенсивных занятиях не только не помешало сформировать интерес к социальным, политическим и нравственным вопросам, но он имел возможность серьезно учиться живописи, посещать оперу, увлечься музыкой. «Во время пребывания в корпусе, – констатирует биограф, – формировались основные черты характера будущего художника – крепли его волевые качества, упорство, развивались прямота, гордость, неподкупная честность»[94]. Примечательно, что главным делом своей жизни он обязан Корпусу: все началось на обычных уроках рисования.
Н. А. Римский-Корсаков, обучавшийся в Морском корпусе с 1856 г. по 1862 г. в возрасте 13–19-ти лет, не оставлял занятий музыкой: брал уроки игры на фортепиано, посещал оперу, сочинял. При этом хорошо усваивал программу: был всегда среди первого десятка и окончил Корпус 6-м из 70-ти в выпуске.
Н. А. Римский-Корсаков подтверждает свидетельство А. Н. Мосолова: «Сечение было в полном ходу: каждую субботу, перед отпусками [к родителям или родственникам] собирали всех воспитанников в огромный столовый зал, где награждали прилежных яблоками, сообразно с числом десятков (баллов), полученных ими из разных научных предметов за неделю, и пороли ленивых, т. е. получивших 1 или 0 из какой-либо науки»[95].
О яблоках пишет и В. В. Верещагин, также связывая эту практику поощрения ими получивших за неделю 10, 11 или 12 баллов с А. К. Давыдовым: «Надобно думать, что заботливому директору захотелось дать из оставшихся у него экономий какое-нибудь лакомство прилежным кадетам»[96].
Однако и порка, и яблоки не были новшеством А. К. Давыдова: «Часто наказывали за самую малость. За более крупные провинности, как и во всех учебных заведениях того времени, наказывали розгами и притом во всякое время, в общей дежурной комнате, кроме воскресных дней. Правом этого рода наказания пользовались по положению не только ротные командиры, но и отделенные офицеры, относительно своих подчиненных. Ленивых же, т. е. получивших дурные отметки за учение в классах, наказывали еженедельно по субботам от 11 до 2 часов»[97].
Старое и еще не изжитое в 50-е годы в Морском корпусе не было однозначно дурным. Симпатичным был состав воспитанников. Традиционно это были дети небогатых дворян, для которых блестящая служба в гвардии была недоступна по ее дороговизне. «По смерти отца, – вспоминал А. П. Боголюбов, – мы остались сиротами заслуженного человека, что дало право поступить в Пажеский корпус, так и было сделано. Брату скоро подошел срок поступления в Александровский Царскосельский малолетний корпус, куда его и отвезла мать, поместив в Морскую четвертую роту. На кроватном билете его значилось “Паж”. Но вскоре судьба наша переменилась и, по совету А. А. Кавелина, бывшего воспитателя Александра II, друга отца, нас перевели в Морской, на том де основании, что без средств в гвардии служить плохо. В Морском же корпусе дают математическое образование, и директор И. Ф. Крузенштерн – человек ученый и умный. Так мне сказывала об этом мать, и тут показавшая, что она была умная женщина, не погнавшаяся для нас за видной карьерой гвардейского офицера без гроша в кармане с аристократическими аппетитами, к удовлетворению которых юношу невольно тянет богатенькое товарищество»[98].
Не изменилось это и в 50-е годы. Обучавшийся с декабря 1850 г. по август 1853 г. в Александровском малолетнем корпусе В. В. Верещагин пишет: «Нельзя было не заметить, что воспитанники первой роты принадлежали к более зажиточному и более чиновному классу общества. Во второй роте кадеты были тоже еще “белой кости”, но уже в 3-й, приготовительной к Павловскому корпусу, победнее, менее развиты и даже как будто менее красивые. Наша Морская рота [подготовительная к Морскому корпусу] была “середка на половине” – не аристократическая и не плебейская, так как в ней встречались имена и состояния разного класса дворян»[99].
Мало что изменилось в этом отношении и позже. «По сословному составу большинство моих товарищей принадлежало к детям служилого дворянства, – вспоминал В. А. Белли. – <…> Много было сыновей или внуков морских офицеров. <…> Детей богатых родителей я не припомню. Во всяком случае, имущественное положение родителей никак не подчеркивалось. Аристократические фамилии встречались редко. <…> Среди моих товарищей были и такие, чьи родители испытывали материальные затруднения и отдали своих сыновей в Морской Корпус потому, что там обучение было за казенный счет, солидная программа и диплом высшего специального учебного заведения»[100].
Это обстоятельство предопределило серьезное и настойчивое овладение профессией военного моряка: рассчитывать приходилось только на себя. Крепкие физически, умевшие постоять за себя, устраивавшие воспитателям злые каверзы и награждавшие их меткими кличками, они в большинстве своем учились хорошо. Образ такого смышленого сорванца встает со страниц воспоминаний А. П. Боголюбова. «Мне было тогда четырнадцать с половиной лет, – пишет он. – Ростом я был велик и такой же был отчаянной веселости. Любил кататься по галереям колесом, любил разные ломанья, скачки <…>. Бывало спуститься по водосточной трубе на нижнюю галерею Сахарного двора ничего не значило, отчего постоянно ходил оборванным и часто избитым, ибо и до драк был неглуп. Силы тогда у меня много не было, но была ловкость броситься в ноги сильнейшему, сбить его с ног и живо надавать лежащему оплеух и тумаков было делом пяти секунд. Здесь у меня было много невзгод с начальством, и раза два меня едва не выгнали из Корпуса. <…> Так как я имел при выпуске два нуля с минусом за поведение, что было ниже единицы, это ясно показывало, что моя резвость мне сильно портила в виду начальства. Подлого и безнравственного я никогда ничего не делал, но, так как был на дурном счету, всякая пакость, происшедшая в роте, рушилась на меня, и я становился ответчиком». Тем не менее с учебой все было в порядке. Экзамены выпускные «шли очень хорошо, везде я имел не менее 9 баллов математических. <…> Из главных предметов я получил 11 баллов! Но ноль с минусом за поведение подвели при выпуске порядочно. Я выпущен был из 75 человек – семнадцатым, хотя по науке был третьим».
При всем том он находил время и возможности удовлетворять свою «страсть к рисованию». Правда, эта страсть его «тоже губила»: «Я ударялся в часы досуга в карикатуры. Делал директора, учителей, офицеров мелом на досках, на столах, словом, где ни попало, что тоже умаляло мои баллы. Но зато у учителя Алексея Алексеевича Алексеева был на лучшем счету»[101].
Продуктивной учебе воспитанников и, особенно развитию их творческих способностей, во многом способствовала «своеобразная постановка учебного дела и распределение дня:
побудка: 6:30;
утренняя гимнастика: 7:15–7:30;
утренний чай: 7:30–7:45;
первый урок: 8:00–9:25;
второй урок: 9:30–11:00;
завтрак и свободное время: 11:00–11:30;
строевые учения: 11:30–13:00;
третий урок: 13:00–14:30;
свободное время: 14:30–15:30;
обед: 15:30–16:00;
свободное время: 16:00–19:00;
приготовление уроков: 19:00–21:00;
вечерний чай: 21:00–21:15;
желающие ложиться спать: 21:15;
всем ложиться спать: 23:00».
Так было, утверждает А. Н. Крылов, «чуть ли не со времен Крузенштерна <…> и продолжалось при Епанчине». «Время с 7 до 9 ч практически было также свободное, номинально оно предназначалось для “приготовления уроков”, т. е. надо было сидеть у своей конторки и не разговаривать, а заниматься чем угодно, не мешая другим, хотя бы решением шахматной задачи, чтением любой книги или журнала. <…> Это обилие свободного времени, не раздробленного на мелкие промежутки и не занятого чем-нибудь обязательным, способствовало развитию самодеятельности и самообразования, поэтому громадное большинство занималось по своему желанию тем, что каждого в отдельности интересовало: многие изучали историю, особенно – морскую, читали описания плаваний и путешествий, литературные произведения, занимались модельным делом или постройкой шлюпок и т. п. Я лично заинтересовался <…> математикой, изучая большею частью по французским руководствам университетские курсы, далеко выходящие за пределы училищной программы. <…> общее направление преподавания было при Епанчине: “как можно меньшему учить, как можно большему учиться самим”»[102].
Ярким пятном остались эти вечерние занятия и в памяти Д. Ф. Мертваго: «Придя от ужина, воспитанники расселись по своим пюпитрам; приготовляли уроки к следующему дню <…>. Лампы горели ярко, температура чудная и обитатели залы, после вкусного и здорового ужина, в отличном настроении духа, – каждый занимался своим собственным делом»[103].
В. В. Верещагин замечает: «Прилежные сидели за уроками часов до 11, до 12 и далее, да кроме вставали рано, иногда в 4, 3 даже в 2 часа, особенно к экзаменам»[104].
Имея в виду эту «роскошь свободного времени», А. Н. Крылов замечает: для «одаренного, любознательного и способного юноши <…> это был наиболее подходящий тип школы: она не заглушала его способностей, а давала им свободно развиваться и помогала выработке навыка самому искать посильного ответа на вопросы юного и пытливого ума»[105].
Очевидна, таким образом, атмосфера творчества, поиска. В такие часы избравшие военно-морскую стезю закладывали основы будущей блестящей карьеры, А. П. Боголюбов и В. В. Верещагин рисовали, К. М. Станюкович писал стихи (в 1859 г., будучи гардемарином среднего отделения, стал публиковаться в ж. «Северный цветок»), Н. А. Римский-Корсаков писал Первую симфонию, П. Н. Дурново переводил французских и английских авторов по заказу издательства.
В распоряжении воспитанников была библиотека (к концу первой четверти XIX в. в ней насчитывалось 8519 томов и 287 топографических и морских карт)[106].
Для некоторой части воспитанников, неважно подготовленных для учебы в Корпусе, но чрезмерно самолюбивых и честолюбивых, была характерна зубрежка. «Совершенно был поглощен ежедневными уроками, – писал о себе В. В. Верещагин, – которые приходилось старательно долбить, занимаясь до 12 часов ночи, вставая в 3–4 утра, чтобы не уступить своего места в классе. <…> Осмысливал я преподаваемое плохо, но что непременно нужно было учиться – это знал; знал, что без этого не быть офицером, а не быть офицером – срам!»
Эта борьба за место в классе производит впечатление ненормальности, какой-то болезни: «Здесь, в 1-й роте, поступил к нам сын известного адмирала Завойко, очень тихий, но чрезвычайно самолюбивый мальчик, еще более меня полагавший всю суть учения в выучивании уроков; он пошел сначала четвертым, потом был некоторое время третьим и употреблял невероятные усилия для того, чтобы, сбивши меня, сесть вторым (первым шел Петр Дурново. – А. Б.), хотя безуспешно. Бедный мальчик почти не спал из-за долбления уроков, ложился очень поздно, вставал рано, но я делал не только то же самое, а еще больше: слышишь, бывало, что Завойко велит будить себя в 4 часа, – велишь растолкать себя в 3 и 2. Встанешь, посмотришь: Завойко еще спит – идешь потихоньку в своему столу, зажигаешь свечу и начинаешь долбить. – А Завойко все спит – отлично – значит я выучу тверже его! <…> Я выдержал эту гонку, а он надломился и умер, как доктора засвидетельствовали, – прямо от истощения сил. <…> Жертвой такого же рвения к учению был еще один воспитанник – Бекман, шедший 6-м по классу. <…> Несмотря на все усилия директорского сынка сбить меня с места и сесть вторым – это ему не удавалось, так как и я не зевал, долбил за двоих». (Странно, что 40 лет спустя В. В. Верещагин писал об этом с нескрываемым удовлетворением.)
Естественно, толку от такого «долбления» было мало, и Верещагин признавался: «Если бы меня спросили то же самое, что я отвечал на экзаменах, неделю спустя – я ничего бы не ответил, до такой степени велико было желание “хорошо ответить” и мало старания усвоить себе суть выученного». Причина была еще и в том, что крен был явно не в сторону морской службы: «нравились из наук история, география», «танцевал с увлечением», «молился старательно», но «не люба была арифметика, алгебра, геометрия – вообще математика», делать вычисления «казалось трудным, скучным, незанимательным»[107].
По К. М. Станюковичу, продуктивно использовали свободное время немногие: «Прилежные готовили уроки и делали задачи, немногие читали; большинство бродило по коридорам, по ротной зале и собирались курить в ватерклозете, предварительно поставив часового. Близкие приятели и друзья ходили попарно и “лясничали”». Время для приготовления уроков будто бы даже раздражало кадетов: «Занимайся или нет, но сиди! Это принудительное сидение, разумеется, не по нутру было кадетам, и они то и дело перебегали один к другому или уходили в умывалку поболтать или покурить в своем излюбленном месте». И только время после ужина и до отхода ко сну «было самым любимым временем для разговоров и интимных бесед будущих моряков».
«Развитие кадет того времени было довольно слабое, – утверждает К. М. Станюкович, – чтение было не в особенном фаворе. <…> Очень малочисленный кружок, который читал и интересовался кое-чем, не пользовался никаким авторитетом, а на двух из нас, писавших стихи, смотрели с снисходительным сожалением, как на людей, занимающихся совсем пустым делом. <…> Разговоры и споры, которые велись, имели в большинстве случаев предметом: молодечество, удаль, самоотвержение. Многие закаливали себя: ходили по ночам на Голодай и на Смоленское поле. <…> Спорили и очень часто спорили о том, следует ли повесить двух-трех матросов, если взбунтуется команда, или следует их просто-напросто отодрать как сидоровых коз».
(Прервем Константина Михайловича и заметим: и 30 лет спустя либеральные шоры не дали ему понять, какой серьезный, жизненно важный для военного корабля вопрос обсуждали его юные товарищи. По сути, речь шла о способах обеспечить должную дисциплину. Бунт на военном судне ставил под угрозу его боеспособность, сохранение его как боевой единицы, сохранение его вообще. Разумеется, бунт должен быть подавлен, и речь, действительно, могла идти лишь о степени жесткости этого подавления: вздернуть двух-трех или хватит хорошей порки? Обсуждая способы подавления бунта, кадеты исходили из наличного набора средств, далеко, согласимся, не гуманных.
Позднее власть, поддавшись, к сожалению, либеральным веяниям, сделала именно эту ошибку: упразднила старую систему средств обеспечения должной дисциплины на военном корабле, не предложив ничего взамен. В результате офицер оказался без законных средств заставить себя слушаться и поддерживать свой авторитет. Мудрено ли, что в этих условиях матросы, в большей части непривычные к морю и боящиеся его, ленивые, видящие в корабле тюрьму, а в службе – каторгу, постоянно от нее отлынивающие или выполняющие ее спустя рукава, при любом удобном и неудобном случае напивающиеся до положения риз, наглые, всегда недовольные и без оснований требовательные, легко доступные разлагающей агитации, скоро превратились в «красу и гордость революции»[108].)
«Спорили, – продолжает К. М. Станюкович, – прилично ли настоящему моряку влюбляться или нет, рассуждали об открытии Северного полюса, но никто не говорил о карьере, о выгодных местах, никто не смотрел на плавание как на возможность получить лишнюю копейку, и никто не смел даже заикнуться о достижении успехов по протекции».
Беседы кадет, замечает К. М. Станюкович, не отличались отвлеченным характером и не имели в виду решение каких-нибудь общих вопросов, волновавших в то время общество. (Трудно разделить этот упрек: кадет Станюкович склонен был к отвлеченным беседам, питал интерес к общим вопросам, так он и сбежал с флота при первой возможности. И что это за «общество», которого не волнует внешняя безопасность страны и способность ее обеспечить? Куда тоньше в этом отношении нарисованный им батюшка: «“Не в попы тебе, свет, идти, а в морские офицеры”, – снисходительно говорил он, замечая нетвердость в текстах»[109].)
Почти то же пишет и Н. А. Римский-Корсаков, также не склонный к военно-морской службе и не любивший ее: «Вообще за все время 6-летнего пребывания моего в училище я не могу похвастать интеллигентным направлением духа в воспитанниках Морского училища. Это был вполне кадетский дух, унаследованный от николаевских времен и не успевший обновиться. Не всегда красивые шалости, грубые протесты против начальства, грубые отношения друг с другом, прозаическое сквернословие в беседах, циничное отношение к женскому полу, отсутствие охоты к чтению, презрение к общеобразовательным научным предметам и иностранным языкам, а летом в практических плаваниях и пьянство – вот характеристика училищного духа того времени. Как мало соответствовала эта среда художественным стремлениям и как чахло произрастали в ней мало-мальски художественные натуры, если таковые изредка и попадались, – произрастали, загрязненные военно-будничной прозой училища. И я произрастал в этой среде чахло и вяло в смысле общего художественно-поэтического и умственного развития. Из художественной литературы я прочитал, будучи в училище, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, но дальше их дело не пошло. Переходя из класса в класс благополучно, я все-таки писал с позорными грамматическими ошибками, из истории ничего не знал, из физики и химии – тоже. Лишь математика и приложение ее к мореплаванию шли сносно». Правда, «относительная грубость и низменность умственной жизни» были характерны для первых лет его пребывания в Корпусе, – замечает Н. А. Римский-Корсаков, – «на двух старших курсах почувствовалось все-таки некоторое повышение в этом отношении»[110].
В большинстве своем – и это признает К. М. Станюкович – это была физически и нравственно здоровая среда: в ней ценились доброта, справедливость, компетентность; не уважали несправедливых и взяточников; презирали фискальство и наушничество; «всякая трусость и слабость жестоко карались, и “непротивление злу” приносило плачевные результаты». Это была «чуткая брезгливая молодежь, по преимуществу дети и родственники моряков, которые даже и во времена самого наглого казнокрадства в большинстве своем гнушались такой наживой»[111].
Даже в обстановке начала XX столетия офицерский корпус флота оставался на высоте. Ф. Ф. Рейнгард, назначенный 30 мая 1917 г. в Постоянную комиссию для испытания вновь строящихся и ремонтирующихся судов военного флота, был удивлен своим большим жалованием – 1080 рублей золотом в месяц. Председатель комиссии на обращенный к нему вопрос ответил: «Чтобы вас никто купить не мог». «Это нас глубоко возмутило, – вспоминал Ф. Ф. Рейнгард. – Мы все происходили из слоев общества, где благородные традиции воспитывались поколениями, и никто нас ничем никогда подкупить не мог бы. Несмотря на наступившую демократизацию и вследствие опошление нравов, нас это не коснулось. Мы остались такими, какими были, ибо с молоком матери и в кадетских корпусах нам было внушено чувство долга и порядочности, поэтому и не надо было обставлять нас так, что мы бывали в затруднении, куда расходовать получаемые средства»[112].
В Корпусе строго следили за чистотой и здоровьем: «Белье меняли каждую неделю. В баню водили каждую неделю. Существовали постоянные медицинские смотры»[113].
Была отлично поставлена аттестация. «Экзаменовали не преподаватели, а экзаменационная комиссия из офицеров. В комиссии этой полная справедливость. Записки с фамилиями кадет опускались в особые урны и исключительно от воли судеб зависело у кого приходилось экзаменоваться. <…> Вообще положительной чертой Морского корпуса был, как общее правило, царивший в нем дух глубокой справедливости и полного беспристрастия. <…> Как в глазах начальства, так и среди товарищей, удельный вес каждого определялся личными его качествами. Ни знатность, ни связи, ни богатство не давали никаких привилегий. Существовало полное равенство.
<…> Чувство товарищества было очень сильно в Морском корпусе». По кадетским правилам, «с другом обязательно следовало делиться всем поровну»[114].
Среди воспитанников презиралось фискальство. «Это нехорошо», считали они. Начальство того времени, преподаватели и воспитатели не поощряли «жалобы кадет друг на друга», на доносы не реагировали, доносчиков прогоняли[115].
В. В. Верещагин подтверждает: «Товарищество понималось в этом [Морском корпусе] еще сильнее [чем в малолетнем Александровском], энергичнее: не говорить, кто накаверзил, не выдавать и под розгами, не выносить сор из избы не только офицеру, но и воспитаннику старшего класса – считалось святою, неоспоримою обязанностью, и с нарушителями расправлялись безжалостно; даже перед полной очевидностью надобно было говорить “нет”, когда то требовалось классом».
Ему, индивидуалисту, это не нравилось: «В противоположность многим, вероятно, большинству моих сверстников, я не любил товарищества, его гнета, насилия, каюсь – теперь это можно, – что я только молчал, притворялся, только показывал вид, что доволен им, так как иначе меня защипали бы». И 40 лет спустя не понимал, что культивируемый в Корпусе дух товарищества – одно из условий выживания в боевых условиях, и говорил «обдуманно, что принудительное, казарменное товарищество, действительно закаляя дух в известном направлении, не формирует характеров, а скорее сравнивает, нивелирует их, что оно уничтожает такое драгоценное качество, как наивность, самобытность и в значительной мере совестливость, – сколько чудовищно безнравственного по отношению к каждому отдельному лицу, каждой отдельной совести – в товариществе уважалось как высоконравственное, как молодечество, доблесть».
Единственное, что он принимал, находя справедливым, – это строгое преследование ябедничества, фискальства: «Это была, кажется, единственная разумная, симпатичная черта кадетского самоуправства».
«О милое товарищество, – заключает Верещагин, – перед которым многие так преклоняются, – власть нахальства, невежества и заскорузлости не умерла в вас; пройдохи и плуты пользуются вами для своих целей в корпусах, в училищах и далее в жизни»[116].
Конечно, В. В. Верещагин заблуждался. Куда ближе к истине мнения других воспитанников Корпуса. Между нами, – утверждал М. А. Пещуров, – «существовал тот esprit de corps[117], который так блистательно проявил себя при обороне Севастополя, где на одном и том же месте безропотно умирало 30 и более офицеров, сменяя друг друга, и все были воспитанниками того же Морского кадетского корпуса»[118]. Эта сплоченность, этот дух товарищества, по мнению А. С. Горковенко, составляли «моральную силу нашего общества. <…> Мы были в точном смысле однокашниками и остались ими до старости. <…> Сойдясь с остатками товарищей на 35-й годовщине нашей службы, мы обрадовались друг другу, как дети одной разрозненной семьи»[119].
Было и негативное. После домашней обстановки и даже Александровского малолетнего корпуса Морской поражал новичков грубостью. «В новом месте, – вспоминал В. В. Верещагин, – все было казарменное и более грубое – обращение, грубый язык и грубые шутки. <…> Обращение офицеров с детьми и самих воспитанников между собою было очень резкое и грубое. С самого начала нашего приезда старые кадеты стали обращаться к нам с речами, расспросами и шутками до того казарменными и циничными, что в нашем прежнем Царскосельском обществе, очевидно, были только слабые отголоски этой загрубелости»[120].
По Д. И. Завалишину, «это была тогда общепринятая и даже как бы обязательная система. Убеждение в необходимости ее поддерживалось отчасти грубостью нравов значительной доли воспитанников». Поступали «преимущественно дети дворянства мелкопоместного, где более, нежели у кого-либо, развиты были все привычки и злоупотребления крепостного права»[121].
Естественно, своеобразной была и шкала ценностей: «Вообще солгать, обмануть, даже и своих домашних, не считалось в корпусе грехом – на то мы были “не бабы”. Нежность, вежливость, деликатность подвергались осмеянию, а ухарство и сила, напротив, очень ценились и уважались»[122].
Атмосфера в Корпусе была в известном смысле и нездоровой. «Я должен сознаться, – писал В. В. Верещагин, – что меня, которого мамаша старательно оберегала от всего мало-мальски неприличного, что можно было бы услышать от крестьян или дворовых людей, – долго коробило от грубости кадетских нравов. Кое-что из подробностей ужасных пороков, оскверняющих юное общество таких закрытых военно-учебных заведений, я видел здесь [в Александровском корпусе] впервые мельком и, не понявши хорошо, как-то инстинктивно отшатнулся; только уже в Морском корпусе, где вся молодежь была буквально охвачена тайными пороками, и я от ежедневного примера частию поддавался, частию боролся, снова поддавался, пока, наконец, выход из корпуса не развязал меня с этой ужасной, заразительной атмосферой»[123].
Руководство Корпуса признавало, что нравственное воспитание «не вполне достигает» желаемых результатов, и ссылалось при этом на нехватку воспитателей («число кадет в каждой роте так значительно и несоразмерно с числом воспитателей», что последние при всем старании не имеют возможности «внимательно изучить особенности характера и наклонностей каждого») и просчеты в приеме («в корпус поступают иногда мальчики, нравственное воспитание которых, как оказывается впоследствии, было в детстве ведено весьма небрежно»)[124].
«По скудости средств Морского корпуса, преподаватели, за исключением преподавателей математических и специальных наук, были, в общем, плохие»[125]. Другие в своих оценках учителей корпуса ярче и конкретнее. По Верещагину, состав «из пришлых был не очень плохой, как вообще в военно-учебных заведениях того времени». «Симпатична память учителя русского языка [В. И.] Благодарева», однако мотивы этой симпатии к русскому языку и словесности отношения не имели: «он благоволил ко мне, <…> у него прорывались иногда не учительские отношения к нам. Он критиковал довольно прозрачно некоторых лиц и некоторые порядки нашего управления; к литературным знаменитостям он относился сурово: поэта Лермонтова, напр[имер], называл болваном, неизвестно на что обозлившимся, Пушкина ставил ниже Державина». «Добр и терпелив» был учитель географии. Один преподаватель английского языка – «порядочный, милый, вежливый, умевший себя держать» англичанин; другой – также англичанин – дрался с кадетами. Худо было с французами: один, по ходившим по Корпусу слухам, был «на родине кучером», другой – «из мальчиков-барабанщиков», попавший в Россию с армией Наполеона, – «не учил кадет, а воевал с ними». Учителя из офицеров – ниже всякой критики: «Н. преподавал арифметику и в высших классах аналитическую геометрию, преподавал непонятно: как все дурные учителя, он заботился не о развитии учеников своим предметом, а о поимке не знавших заданного и вклеивании им единиц и нулей». «О. <…>, малограмотный офицер <…> тоже начал “читать лекции” несчастной арифметики, тоже без смысла и разумения»[126].
По Станюковичу, в значительной части они были неудовлетворительны: пьяницы, ремесленники, рутинеры и даже развращенный циник, «ставивший хорошие баллы кадетам не столько по степени их знания, сколько за смазливость их физиономий». Отсюда – низкий уровень преподавания общеобразовательных дисциплин. «По совести – замечает К. М. Станюкович, – нельзя сказать, чтобы и преподавание специальных предметов стояло на надлежащей высоте и чтобы большинство господ наставников отличалось большим педагогическим умением и любовью к своему делу. Они были почти “несменяемы” и все почти из одной и той же маленькой “привилегированной” среды корпусных офицеров. Занятые и воспитанием, и образованием в одно и то же время, они обыкновенно дальше книжек, заученных в молодых годах, не шли и преподавали до старости с ремесленной аккуратностью и рутиной, без всякого “духа живого”»[127].
Вместе с тем в Корпусе немало было и таких, кого вспоминали с уважением и благодарностью. У А. П. Боголюбова – А. А. Алексеев и А. И. Зеленой, у К. М. Станюковича – М. Н. Сухомлинов, И. П. Алымов, Ф. И. Дозе, корпусной батюшка В. Д. Березин – «заступник и предстатель обиженных кадет», у Д. Ф. Мертваго – географ и статистик Христофоров и другие.
Далеко не все офицеры-воспитатели были на должной высоте. Правда, В. К. Пилкин выделяет офицеров Корпуса: среди них «было, вообще, много весьма замечательных лиц. <…> В тогдашние времена нигде состав офицеров не был так хорош, единодушен и соединен, как в Морском корпусе»[128].
Однако в памяти В. В. Верещагина остались другие. Лучшая характеристика у лейтенанта барона де Риделя: «Полунемец родом, но россиянин в душе, красный от постоянно возобновляющихся возлияний, вспыльчивый, крикливый, но добрый; близорукий, подслеповатый». Любопытно сравнить эту аттестацию с официальной: «Был одним из любимых воспитателей юношества, готовившегося во флот. <…> Ридель умел внушить молодежи такое уважение к себе и такую любовь, что легко поддерживал строгую военную дисциплину и тот благородный дух сознания долга, который составлял лучшую черту тогдашних гардемаринов»[129].
«Н., – продолжает В. В. Верещагин, – маленький, писклявый, постоянно удивший своим мизинцем в носу, положительно неистощимом, и прозывавшийся “Мазепой”, <…> не брезговал и подарками, принимал приношения». «О. <…> Этот офицер ходил окруженный толпой подслуживающихся кадет, наушников и был прозван атаманом. Он завел целую систему шпионства из плохо учившихся старых кадет, знавших все и продававших товарищей за помощь при переходе из класса в класс»[130].
Воспитатели-взяточники особенно возмущали. Вот и у К. М. Станюковича один из ротных командиров «не гнушался ничем: брал деньгами, вещами и съестными припасами. <…> Многие родители высылали ему из деревень всякую провизию. За взятки он ставил хорошие баллы, смотрел сквозь пальцы на дурное поведение»[131].
Это было новым. «Мы не знали примера, – писал Д. И. Завалишин, – чтобы кадеты делали подарки кому-нибудь из корпусных офицеров, да это при общей справедливости и честности ни к чему бы и не повело»[132].
«Нещадная порка, служившая едва ли не главным элементом воспитания будущих моряков», по Станюковичу, процветала. Ротный Z, «сам до мозга костей “старый кадет”, рыцарь чести и справедливости, он нещадно порол своих питомцев, глубоко убежденный, что порка – отличное и единственное педагогическое средство»[133]. Здесь К. М. Станюкович, кажется, переборщил. Сорванец Боголюбов был «за кадетство выпорот только два раза», а в гардемаринской роте, куда он перешел в 1839 г., «уже не пороли розгами»[134]. Хотя порка по субботам «за дурные отметки» была правилом[135].
Д. Ф. Мертваго, «яблочник», не видел порки за плохую учебу, но был свидетелем порки «двух кадет в присутствии всей роты» за проступок, ему не известный: «Две пары барабанщиков раскладывали “пациентов” на деревянной скамейке лицом книзу и потом попарно садились держать ноги и руки обреченного, тогда как третья пара отворачивала часть одежды заинтересованного от телесных мест, которые человечество в своей мудрости признавало именно назначенными для хлестания более или менее длинными прутьями. Та же третья пара барабанщиков по знаку присутствовавшего старшего начальника, в данном случае батальонного командира, начинала хлестать розгами по оголенным перед тем местам. С каждым ударом на теле оставался рубец: белый по гребню и красно-багровый на окраинах. Процедура продолжалась довольно долго»[136].
В 1854 г. кадету малолетней роты Воронцову за вторую кражу папирос у инспектора классов, к которому он был вхож в квартиру по родству, присудили дать сто розог. «С первого удара и крика Воронцова стойкость пошатнулась, я и многие другие отвернулись от отвратительной сцены. Послышалась команда фельдфебеля: “Не отворачиваться!” <…> После сильных немного более десятка ударов оравший во все горло Воронцов затих. Ротный командир попросил доктора освидетельствовать <…>. Воронцова в обмороке отнесли в лазарет»[137].
Телесные наказания были злом неизбежным: «между воспитанниками встречались личности, на которые можно было действовать одним страхом»[138]. «Иногда из провинции привозили детей совершенно невоспитанных, грубых нравом и с дурными наклонностями. <…> Немудрено, что корпусное начальство для исправления безнравственных принуждено было прибегать к самым строгим мерам»[139].
В начале 20-х годов, по свидетельству Д. И. Завалишина, «систему телесных наказаний поддерживало неимение другого рода наказаний. Не было даже карцера, и для крупных проступков помимо телесного наказания не было другого исхода, кроме исключения из корпуса, что однако ж было равнозначительно совершенной потере карьеры». При этом, споря с В. И. Далем, Д. И. Завалишин подчеркивает: «Но это право [наказывать телесно], казавшееся столь естественным не только по понятиям воспитанников, но и вообще по понятиям того времени, именно в Морском Корпусе подлежало значительным ограничениям. <…> Кроме нравственной узды, право телесного наказания ограничивалось еще многими и другими условиями». Старшие воспитанники «наказывались только с разрешения директора», «наказание при целом корпусе могло быть произведено только по письменной резолюции директора», «наказание воспитанников чужой роты и чужой части считалось неправильным действием и возбуждало протест», дежурный по корпусу мог наказывать «только в случае какого-либо грубого проступка и притом когда для сохранения дисциплины казалось необходимым немедленное наказание, учителя не имели права наказывать телесно – только инспектор классов и те из преподавателей, что были и кадетскими офицерами»[140].
В. В. Верещагин, отмечая, что «наказания употреблялись очень строгие», указывает на следующие: стояние “под часами” «иногда в продолжение многих дней, даже недель»; оставление без обедов и ужинов, без отпуска домой; арест («сажали за всякую шалость, и две арестантские каморки, нечто вроде собачьих конур, были расположены в таком темном, лишенном воздуха углу, что кадеты, просидевшие под арестом несколько дней, выходили из них побледневшими, с мутными взглядами – ослабленные нравственно и физически»), сечение[141].
Разумеется, наказания – по крайней мере в понимании руководства Корпуса – должны были соответствовать «возрасту и степени вины воспитанников» и «заставить провинившихся понять свой проступок и раскаяться в оном»[142].
Спектр наказываемых проступков был достаточно широк: ослушание офицера и унтер-офицера, курение папирос, порча казенных вещей, нерадение к фронту и службе, уход без спросу из роты, беспечность, шалость в лагере, фронте, классе, дурное поведение в классе, драка, невежливость, игра в карты, неприличные поступки в лагере, постоянная леность, отлучка из классов, дерзость против учителя, обман, грубость против фельдфебеля, побои каптенармуса и служителя, беспорядок в роте, отделении, столовой зале, лазарете, уклонение от учения, ветреность, невежливый ответ.
«Особенные» права старших воспитанников по отношению к младшим[143]. «Традиционно старшее отделение должно было воспитывать в кратчайший срок новичков, внушив им сознание важности ношения формы Морского училища и приобщения, таким образом, к семье моряков, правам товарищества или дружбы, взаимной поддержки и т. п. Эта традиция, нося в себе хорошие начала, зачастую давала повод к возмутительным поступкам юношей старшего отделения к своим младшим товарищам, переходящим всякие границы допустимого. Как всегда, лучшие из воспитанников имели мало времени уделять надзору за младшими, и это возлагали на себя добровольно худшие элементы, доставляя себе этим своего рода развлечение и занятие»[144]. Это привело к так называемому «старикашеству».
«В каждой роте, каждом отделении было по нескольку кадет особенно уважаемых или по учению и поведению, или по силе и нахальству, называвшихся “старикашками”, – вспоминал В. В. Верещагин, – очевидно, одного хорошего учения не было достаточно – оно должно было быть все-таки поддержано силою. Против старикашек, как против рожна, “трудно было прати” не только новичкам, но и всем другим; они требовали почтения, внимания, а часто – дележа, так что, наприм[ер], мои крендели я не всегда съедал один – приходилось отделять “другу”»[145].
Авторитет «старикашек» опирался не только на силу. Они «хвалились искусством озлоблять начальников и хвастались нечувствительностью к наказаниям, подвергаясь им иногда совершенно добровольно и безвинно, только из одного молодечества»[146].
Иногда «старикашество» принимало уродливые формы. «Старый, засидевшийся долго в одном классе воспитанник первенствовал, главенствовал, называясь старикашком, обижал слабых, а иногда даже равных по силе, заставляя себе служить и т. п., – свидетельствовал Н. А. Римский-Корсаков. – При мне в нашей 2-й роте таковым был некий 18-летний Балк, позволявший себе возмутительные вещи: он заставлял товарищей чистить себе сапоги, отнимал деньги и булки, плевал в лицо и т. д.»[147].
Тут «дурно действовала система смешения между собой выпусков, откуда при общей грубости нравов того времени происходили общие драки, злоупотребления силой и т. п. Этому способствовало здание Корпуса того времени, темные коридоры, переходы и закоулки, затруднявшие наблюдение и способствовавшие укрывательству». Однако, уверяет В. К. Пилкин, «обычай требования услуг со стороны младших» хотя иногда и появлялся в Морском корпусе, но не привился главным образом потому, что офицеры всеми силами противодействовали этому[148]. «К счастию, – замечает А. С. Горковенко, – с переходом в гардемаринскую роту нравы смягчались и облагораживались и молодые люди, готовившиеся в офицеры, уже не походили на старикашек кадетских рот»[149].
Имели место «показные суматохи» в ожидании почетных посетителей, их развращающее действие на воспитанников[150].
После Крымской войны многое менялось и в Морском корпусе. К. М. Станюкович отмечает, что многое из негативного исчезало на его глазах: француз Лефоша «был едва ли не единственным» и через год был удален; «старикашка» «представлял собой любопытный, уже вымирающий в то время, тип закоренелого “битка” – кадета пятидесятых годов, последнего по классу»; ротный-взяточник, «впрочем, был недолго» – отправили в отставку; порка «прекратилась еще при мне в старших ротах, а в младших практиковалась далеко не с прежней расточительностью и не иначе, как с разрешения директора»[151]; вышел в отставку батальонный командир, «перепоровший на своем веку несколько поколений кадет с бессердечием и жестокостью грубого и озверелого человека», – его заменил «необыкновенно добрый, любимый воспитанниками»; издано общее распоряжение по корпусу «обращаться к воспитанникам старших классов с местоимением “вы”»[152]; старшие гардемарины «в значительном большинстве добровольно отказались от прав гегемонии и таким образом притеснения [младших] значительно смягчились»[153].
М. К. связывает эти перемены с приходом в Корпус новых наставников и преподавателей: «Это – резко обозначившийся перелом, в корень изменивший условия нашей жизни и существования. Это были наставники, совершенно иначе воспитанные, образованные и проникнутые великим гуманитарным учением Белинского, Грановского и профессорского кружка Московского университета 30-х и 40-х годов». К 1858 г. таких в Корпусе было «уже не мало; они своим влиянием и совершенно иным отношением к кадетам воздействовали умиротворяющим образом и с каждым годом влияние их росло». Особенно выделялись И. П. Алымов, П. П. Вальронд, Н. Н. Зыбин, А. Н. Макаров, Ф. Д. Изыльметьев, Ф. К. Кульстрем, А. И. Харзеев «и многие другие. <…> Это были какие-то особенные люди, они парили и возвышались над всем остальным ничтожеством, которое само собою провалилось, так как ему не было места среди людей нового порядка»[154].
Порка сохранялась долго. «Когда я в 1892 году поступил в Корпус, то еще существовала порка розгами, но с согласия родителей, которое родители давали всегда. Порка была исключительно редким наказанием. Кадета, подлежащего порке розгами по решению учебно-воспитательного совета, приводили в баню. Туда же приводили всех кадет плохого поведения из всех рот и выстраивали во фронт перед скамейкой, на которую клали раздетого наказуемого. Его держали два горниста, а барабанщики драли. Ротный считал удары. За все мое пребывание в корпусе я помню только три случая наказания розгами, которое вскоре было отменено. Основными наказаниями были следующие: кадета ставили к столу дежурного офицера по стойке “смирно” на два часа, лишали отпуска в субботу и воскресенье, сажали в обыкновенный карцер до 8 суток с посещением уроков и занятий или строгий на хлебе и воде. Самым тяжелым наказанием было лишение погон. Погоны срывались, и наказанный ходил в строю на левом фланге. Он лишался на время воинского звания. После одобрительного отзыва погоны и воинское звание возвращались»[155].
Стали хорошо кормить: на завтрак – кружка чая и свежая булка («вкусная, горячая»); в 11 – два тонких ломтя черного хлеба; обед из трех блюд: суп, щи с кашей или горох, жареная говядина или котлета, слоеный пирог (с мясом, капустой и вареньем) по праздникам прибавлялось четвертое блюдо, черный хлеб и превосходный квас; на ужин – суп и макароны или каша. «Кормили нас в Морском корпусе вообще недурно», – пишет К. М. Станюкович[156].
Отличившихся «нравственно и успехами в науках» поощряли не только яблоками: заносили их имена на «красные доски», покупали билеты в театр, назначали на суда, идущие в заграничное плавание, производили в фельдфебели, унтер-офицеры и ефрейторы, увольняли в отпуск с бо́льшими льготами сравнительно с другими, нанимая для них ложи в театрах, трижды в год – январе, мае и сентябре – раздавали книги по военно-морской тематике, дважды в год составлялись особые выписки со всеми баллами за учебное полугодие, при этом хорошие выдавались на руки, «дурные» отсылались родственникам[157].
Кое-что, к сожалению, ухудшалось. Из воспоминаний К. М. Станюковича можно заключить, что на воспитанниках Корпуса стало сказываться имущественное неравенство их родителей. «Большинство кадет нанимало дневальных, которые чистили платье, сапоги и наводили блеск на медные пуговицы курток и мундиров и содержали в порядке амуницию. Меньшинство все это делали сами». С окончанием второго урока в 11 часов воспитанники получали по два ломтя черного хлеба. «Счастливцы, имевшие деньги или пользовавшиеся кредитом в мелочной лавочке, обыкновенно в это время уписывали за обе щеки булку или пеклеванник с сыром, колбасой или вареньем, заблаговременно заказанные дневальному. <…> В понедельник и вообще послепраздничные дни завтраки были и обильнее, и роскошнее, и кадеты “кантовали” на широкую ногу, уничтожая принесенные из дома яства»[158]. Затем это стало обычным. «Тетя Соня часто приезжала в корпус в приемные дни и всегда привозила много всяких лакомств, чуть не на всю роту»[159]. Совсем еще недавно «между кадетами не допускалось оскорблять равенство открытым пользованием такими вещами, какие менее достаточные не могли иметь. Запрещалось носить свое платье и белье; запрещалось есть в роте что бы то ни было кроме казенной пищи». И это имело, конечно, глубокий смысл[160].
Годы учебы Петра Дурново в Морском кадетском корпусе приходятся на директорство А. К. Давыдова и контр-адмирала С. С. Нахимова.
При назначении А. К. Давыдова были приняты во внимание его продолжительная педагогическая деятельность и образцовое состояние Штурманского полуэкипажа (позднее – Кронштадтское штурманское училище), которым он управлял более 16-ти лет. Однако в Морском корпусе он успел немного: учредил воспитательный комитет из корпусных офицеров и преподавателей и с его помощью существенно улучшил воспитательную часть, упразднил годовые экзамены, и испытания производились в течение года своими преподавателями во время своих занятий под общим наблюдением инспектора классов (против экзаменов выступал Н. И. Пирогов: они занимали 1,5–2 месяца), ввел преподавание ситуационного черчения, заменил в приготовительном классе преподавание истории уроками русского и иностранных языков, стали составляться и издаваться методические руководства, физический кабинет пополнен новыми приборами, заказаны были модели частей пароходного механизма, в музее появились новые модели судов, составлены каталоги в корпусной библиотеке, приняты меры к устранению тесноты жилых и классных помещений[161].
К. М. Станюкович вспоминал его как «справедливого и доброго человека, кое-что сделавшего для корпуса и желавшего, быть может, сделать более того, что сделал, но болезненного, престарелого и не имевшего достаточно энергии, чтобы основательно вычистить эти воистину Авгиевы конюшни»[162].
С иронией пишет о нем Д. Ф. Мертваго, шедший на год старше П. Дурново: «Воспитанники Морского корпуса между собой звали его “Кудимкой”. <…> Его педагогия, по-видимому, заключалась в принципе немедленного воздаяния, в известных формах и приемах, за все совершенное воспитанниками, как за хорошее, так и за дурное. Относительно классных распорядков, насколько помнится, ежемесячно производилась перекличка в классах и посадка воспитанников по скамьям по их относительным учебным отметкам. Для каждого из воспитанников вычислялся его средний балл в течение прошедшего месяца. Ученик с высшим средним баллом садился на правом фланге самой задней скамейки; самый неспособный или самый ленивый ученик занимал место на левом фланге самой передней скамьи.
К разряду немедленных официальных воздаяний воспитанникам за содеянное ими во время недели при Алексее Кузьмиче Давыдове относились раздачи кому следует – яблок и кому следует – розог.
Часам к трем по субботам классная канцелярия подготовляла общие для всех воспитанников корпуса недельные списки учеников, получивших отметки в 10, 11 и 12 баллов, с постановкою во главе списка фамилий получивших наибольшее число таких отметок. <…> В 4-м часу по субботам <…> десяточники и выше, т. е. двух, трехдесяточники и т. д., выстраивались в обеденной зале от входа направо. Таким же порядком, но только от входа в залу налево, выстраивались шеренги “нулевиков”, т. е. получивших в продолжении последней недели за свои ответы в классах по одному или по нескольку нулей. “Нулевиков”, конечно, было всегда неизмеримо меньше “десяточников”.
<…> О готовности “парада” давали знать директору, и он прибывал в залу самолично, с лентою и звездами на виц-мундире; из кухонных же дверей служители тащили бельевые корзины, полные великолепнейших яблок. Торжество начиналось приветственною речью директора, обращенною к “десяточникам”, и продолжалось раздачею яблок. Яблоки были крупные, наливные.
<…> по отделении, на этот раз во всех отношениях “правых”, батальонный командир корпуса капитан I ранга Терентьев командовал яблочникам: “Налево. По ротам. Шагом марш”. “Десяточники” уходили из залы, по совершенной очистки которой от яблочного аромата, и по затворе входных дверей как можно-накрепко, начинался парад с “нулевиками”. Директор и им говорил речь, но, вероятно, уже без улыбок и по содержанию укоризненную. Далее, смотря по обстоятельствам, передней шеренге приказывалось приготовиться к порке».
«Однажды, – продолжает Д. Ф. Мертваго, – <…> произошло “восстание” против преподавателя английского языка, англичанина Сакса, которому “повстанцы” начали кричать, что он “булочник” и, нажевав бумагу, бомбардировали жвачками беззащитного иностранца, заставив его» бежать из класса. «Весь класс» перепороли, в т. ч. и скромного и благовоспитанного Владимира Буняковского, сына известного математика академика В. Я. Буняковского (1804–1889). «Алексей Кузьмич оправдывался тем, что если бы в классе находился его собственный сын, то он и его бы высек».
Летом 1857 г. на учебном корабле «Прохор», где были гардемарины среднего курса и назначенный к ним мичман фон Дек, возник конфликт и «практиканты-воспитанники нанесли своему офицеру какую-то, крайне недисциплинарную, обиду. Фон Дек, по обязанности службы, донес об инциденте по команде, а потом дошло дело и до директора Морского корпуса». А. К. Давыдов в полной парадной форме прибыл на корабль и «всех выпорол»[163].
А. К. Давыдов был сын своего времени. Н. А. Энгельгардт (поступил в МКК в апреле 1822 г. и был определен в 3-ю кадетскую роту, где были В. А. Корнилов, В. И. Истомин; начальником отделения был лейтенант А. К. Давыдов) свидетельствует: «В то время самым обыденным наказанием было сечение кадетов, и, дай им Бог царствие небесное, пользовались им наши наставники всласть». При этом справедливо замечает: «Нисколько не защищая дурного, надо отдать справедливость и хорошему; как теперь выражаются, из прежних корпусов фабриковались офицеры; может быть и так, но никак ни анархисты, ни нигилисты, а верные слуги государю и отечеству! Кто были главные защитники Севастополя? Старые кадеты: Нахимов, Корнилов, Истомин, Хрулев и многие другие»[164].
Вместе с тем лейтенант А. К. Давыдов был уважаем и любим «и воспитанниками его роты, и учениками его класса»[165].
Больше, конкретнее и с явной симпатией пишет о нем В. В. Верещагин: «Толстый, неуклюжий, очень некрасивый, но толковый, разумный и деятельный, <…> завел совсем иные порядки. <…> стал обходить корпус во всякое время, чем заставил всех быть настороже. Увидавши массу пеклеванных хлебов, валявшихся по всем углам рот, он велел спросить кадет, не желают ли они получать в 11 часов по куску черного хлеба, а по утрам иметь чай не через день, т. е. не вперемежку со сбитнем, а каждый день? Все с радостью согласились, и с этих пор стали ходить пить чай в столовый зал, да и черный хлеб не бросали как “пеклеванный”, а ели, да еще с аппетитом. Пища тоже заметно улучшилась. Даже преподаватели подтянулись, стали лучше заниматься, перестали “манкировать”, так как заведены были вычеты из жалования за неявку, без особо уважительных причин.
Кажется, я до сих пор с закрытыми глазами могу нарисовать портрет “Кудимыча” – как прозвали нового директора: нос картошкой, с большими круглыми очками на нем, нависшие над губами большие щетинистые усы, и под ними кусок жирного подбородка с мешочком; череп лысый с немногими, зачесанными на него прядями волос. Талии и помина не было; огромная голова на сильно сутоловатой спине и коротеньких ножках, целый день безустанно носивших этого доброго, хорошего человека, честного заправителя наших голов, душ, сердец и желудков. Мы стали лучше одеты; обращено внимание на то, чтобы меньше бранились дурными словами; сечь ротным командирам, не посоветовавшись с директором, позволено было только в самых крайних случаях». Над ним «все мы подтрунивали, но которого я искренно любил, потому что видел его всегда и справедливым начальником, и добрым покладистым папашей, у него дома – ходя часто к сыну, моему товарищу, я нередко встречался с отцом в его домашней обстановке»[166].
Успеху дела много способствовал инспектор классов А. И. Зеленой, «умный, образованный, во всех отношениях достойный человек. <…> умел держать преподавание на довольно высоком уровне, несмотря на небольшие сравнительно средства. <…> глаз его поспевал всюду, все замечал, исправлял: все его уважали и любили. <…> Некоторые из плохих дурно учивших и бравших взятки <…> были выжиты» им[167].
С. С. Нахимов, бывший помощник А. К. Давыдова, продолжал начинания предшественника: совершенствовалась система экзаменов (теперь преподаватели проводили их не по билетам, а по программе, в своем классе и в свои часы); улучшилось преподавание иностранных языков (были приглашены преподаватели французского и английского для занятий и разговоров вне классного времени); обновлена обсерватория; оборудован особый физический класс для производства опытов; устроены два отдельных кабинета с моделями по практической механике, корабельной архитектуре, морской артиллерии и инструментами по навигации, астрономии, гидрографии; приобретены модели локомотива, паровой машины и канонерской лодки; гардемарины стали обучаться стрельбе в цель в стрельбище лейб-гвардии Финляндского полка; улучшилась система летних практических занятий: гардемарины стали плавать на судах дивизий, совершавших обычные крейсерства в Балтийском море, а кадеты – ежегодно – на фрегатах особой эскадры под флагом директора Корпуса[168].
Брат великого флотоводца, «почти всю свою жизнь проведший в стенах корпуса на неответственных и незначительных должностях, человек очень мягкий и добрый, но, кажется, и сам никогда не мечтавший о таком важном посте, требующем больших и особенных способностей, не говоря уже о знаниях»[169]. «Новый директор не отличался ни как педагог, ни по учености или развитию», – подтверждает В. В. Верещагин и утверждает: «Назначением этим он был обязан своему имени и дружбе с тогдашним управляющим Морским министерством Краббе»[170].
Ситуацию серьезно осложнял новый инспектор классов, ремесленник и «дипломат», «державшийся при выборе учителей правила “хоть и дерет, но в рот хмельного не берет”»[171]. Последствием этого было то, что «множество корпусных офицеров, до тех пор только дежуривших и наблюдавших за фронтом, теперь было призвано к преподаванию; живя в самом корпусе, они меньше манкировали, да и к тому же стоили дешевле приходящих извне. <…> всплыли всякие бездарности». Уровень преподавания снизился, да и «во всех порядках» имел место упадок[172].
Преобразование всей системы воспитания в духе новых начал связано с именем В. А. Римского-Корсакова, заменившего С. С. Нахимова в декабре 1861 г.
* * *
Важнейшей частью учебно-воспитательного процесса в МКК были летние плавания на судах корпусной эскадры. «Этим способом, – писал А. П. Боголюбов, – невольно смолоду изучались все снасти, вооружение фрегата и даже архитектура, компас и направление румбов. Так что в 12 лет я уже знал все морские мелочи твердо и любознательно»[173].
«Приходилось с 6 часов утра и до 6 часов вечера проводить на воздухе и почти все время на мачте, накладывая такелажи, проводя снасти, привязывая паруса и т. п. Руки целый день были вымазаны в смоле или краске, так как весь такелаж “тировался” жидкой смолой, а все дерево и железо красилось для предохранения от ржавчины и гниения. Кроме работы, мы воспитанники стояли вахты наравне с командой. Вахты распределялись следующим образом: с 12 дня до 6½ вечера, с 6½ вечера до 12 ночи, с 12 ночи до 4 утра, с 4 утра до 8 утра, с 8 утра до 12 дня. <…> Тогда служба во флоте была сплошным спортом, так как плавали почти всегда под парусами, разводя пары только в исключительных случаях. И в море, и на якоре беспрерывно шли парусные учения, захватывающие весь судовой состав стремлением обогнать в скорости исполнения маневра другие корабли отряда. Придумывались всевозможные ухищрения и приспособления, изобретались новые способы все только для этого соревнования. Часто люди жертвовали или рисковали своей жизнью, только чтобы не осрамить свой корабль перед соперником. Все это невольно сплачивало состав команд кораблей, и между офицерами, унтер-офицерами и рядовыми матросами общность интересов порождала крепкую спайку»[174].
Практически осваивая морское дело (гребля на шлюпке, плавание под парусами, такелажные работы и т. п.), кадеты крепли физически, развивали силу, ловкость, выносливость, решительность, терпение. «Парусное учение я любил, – вспоминал Н. А. Римский-Корсаков, – и с удовольствием, довольно смело лазил по мачтам и реям. Я был охотник до купания и вместе со Скрыдловым и другими товарищами оплывал вокруг корабля без остановки и отдыха до двух с половиной раз»[175].
Море приучало к строгой дисциплине, вырабатывало самостоятельность, твердость, трудолюбие.
Совместная жизнь в продолжение нескольких лет и «в особенности во время летних плаваний на прежних судах вырабатывала», по мнению А. Н. Крылова, «доброжелательное отношение к окружающим». Плавание и морская служба приучали «считать, что скорое решение вопроса, решение, может быть, и не вполне совершенное, но зато принятое вовремя, лучше медлительной нерешительности, что особенно важно в делах практических»[176].
Заграничные плавания знакомили с иными странами, народами, порядками – расширяли кругозор, будили мысль.
Возведенная в культ чистота корабля, безукоризненность его внешнего вида, лихое исполнение любого маневра формировали чувство гордости от сознания своей причастности к морской семье. «Морской дух, благодаря которому были Лазаревы, Нахимовы и Корниловы, приобретался на корабле, а не в Корпусе», – утверждал К. М. Станюкович[177].
Усваивалось – естественно, в разной степени – и то негативное, что было тогда на кораблях. «У нас на корабле, – вспоминал К. М. Станюкович, – дрались почти все офицеры, дрались, конечно, боцманы и унтер-офицеры; а самая невозможная и отборная ругань, свидетельствующая о виртуозной изобретательности моряков по этой части, стоном стояла во время учений и авралов»[178]. «То было время – время линьков и битья по морде, – подтверждает Н. А. Римский-Корсаков. – <…> Командиры и офицеры, командуя работами, ругались виртуозно-изысканно, и отборная ругань наполняла воздух густым смрадом. Одни из офицеров славились пылкою фантазией и изобретательностью в ругательствах, другие зубодробительным искусством»[179]. И позднее «на старых парусных судах, – по свидетельству А. Н. Крылова, – процветала “словесность” старших офицеров, вахтенных начальников и боцманов; училищные офицеры, столь вежливые и корректные в стенах корпуса, ступив на палубу корабля, беспрестанно подкрепляли, стоя на вахте, всякую команду, каким-нибудь затейливым ругательством “в третьем лице”, и хотя это официально воспрещалось, но унаследованный со времен Петра обычай был сильнее всяких приказов»[180].
«Повышенное радостное настроение на корабле по временам, однако, омрачалось тяжелыми сценами телесных наказаний. <…> Большинство офицеров того времени бравировало своей черствою властью, наказывая матросов за самые ничтожные провинности, выкрикивая вахтенного боцмана и величаво командуя дать такому-то 15 или 20 линьков, приказывая нашему брату гардемарину или кадету присутствовать при экзекуции. <…> Команда, вызванная наверх, стоит фронтом. На шканцах вызван караул. Господа офицеры стоят на правой стороне в линию, раздается команда “Смирно!”. Читается постановление суда, присудившего матросу 200 розог; выводят присужденного, раскладывают, и начинается продолжительная, отвратительная “порка”. Осужденный от сильнейших ударов начинает орать во все горло, прося пощады, а командир, в сущности не злой человек, наставительно говорит: “хорошенько его, хорошенько”. Двести ударов! Это вечность… Дерут с паузами, старший врач щупает пульс, слышен счет ударов, те, которые бьют, из опасения за слабый удар быть в свою очередь выдранными, силятся в своих взмахах, и утомленные сменяются другими невольными палачами; наказуемый все слабеет, падающий голос замирает, доктор свидетельствует, и если силы у несчастного еще есть, то продолжают добивать число назначенных ударов»[181].
Сходя на берег, много пили. Напивались и некоторые гардемарины, иногда – до положения риз; предавались разврату. Приведем без комментариев письмо командира корабля «Орел» капитана 1-го ранга Д. И. Кузнецова директору МКК А. К. Давыдову от 5 сентября 1856 г.:
«Ваше Превосходительство Алексей Кузьмич!
При сем честь имею представить аттестацию 20 Гардемарин, бывших в кампании на командуемом мною корабле “Орел”, и считаю долгом приложить в этом письме дополнение к аттестации.
Несмотря на то, что при гардемаринах был превосходный наставник барон Мирбах, который ставил себе священным долгом обучать их и быть им лично превосходным примером во всем, присмотреть за ними по обстоятельствам было почти невозможно: корабль “Орел”, имея ныне большею частию отдельное плавание, часто был при береге для освежения команды; гардемарины, посылаемые по службе на гребных судах по крепости ветра долго оставались при береге, также увольняемые к родственникам или для прогулки, выходили совершенно из-под надзора; они дозволяли себе заходить во все публичные дома, где предавались всему непозволенному, особенно в товариществе с непорядочными офицерами. Гардемарин Болотников был болен болезнию, полученною в развратном доме в Кронштадте, Огилева и Трофимовский были также предосудительно больны. Я не хочу называть настоящим именем бесстыдно-безнравственное поведение гард[емарин] Ивашинцева, Всеволожского и Брянчанинова. Не могу умолчать о дерзком и невежественном поступке гард[емарина] Трубникова: по поручению своего брата кап[итан]-лейт[енанта] Трубникова он скрытным образом накупил в Гельсингфорсе 18 бутылок наливки. Это на корабле открылось, и все закупки гардемарина (табак, папиросы и спички) были по моему приказанию отобраны. По окончании кампании на “Орле”, когда их назначили на корабль “Память Азова”, я выбросил все за борт и выдал за наливку деньги барону Мирбаху. Гард[емарин] Трубников, получивши деньги, два раза приходил ко мне на квартиру с требованием 18 бутылок наливки и деньги за них бросил у меня на столе по приказанию своего брата!
Вообще поведение Гардемарин на берегу со всех кораблей было предосудительно. Гардемарины с “Орла”, будучи под сильным влиянием своего превосходного наставника, были из лучших по поведению.
С глубочайшим почтением имею честь быть
вашего Превосходительства покорнейшим слугою
Дм. Кузнецов»[182].
В походах, несмотря на запрещение, играли в карты.
Случалось, что отдельные гардемарины оказывались жертвой антиправительственной пропаганды, попадали в крепость и под суд.
* * *
Итак, каков же итог семилетнего пребывания в Морском кадетском корпусе?
Разумеется, многое зависело от самого воспитанника, его способностей, целеустремленности, воли, характера, домашних воспитания и подготовки.
Очевидно, однако, что в Морском корпусе были созданы условия для получения хорошей профессиональной подготовки и не только.
Так, в 1859–1860 учебном году в Корпусе была 22-часовая неделя во всех семи отделениях – от приготовительного до старшего гардемаринского; преподавалось 29 предметов.
Из них на изучение специальных предметов (теоретическая механика, навигация, астрономия, теория кораблестроения, корабельная архитектура, морская съемка, практическая механика, морская артиллерия, военно-морская история, физическая и морская география, фортификация, морская практика) отводилось 32 часа в неделю.
На математику (арифметика, алгебра, геометрия, плоская и сферическая тригонометрия, аналитическая геометрия, начертательная геометрия) – 35 часов.
Языки изучались на протяжении всех лет обучения: русский – 16 часов, французский и английский – по 15 часов.
География изучалась 5 лет – по 9 часов.
История – 4 года – по 8 часов.
На физику, законоведение и черчение – по 2 часа.
Рисование преподавалось первые 4 года – по 6 часов.
Закону Божию отводилось по часу в неделю на протяжении всех лет обучения – 7 часов.
И на чистописание в первые 2 года отводилось по 5 часов[183].
В Корпусе была библиотека, музей, обсерватория, модели кораблей; хранились реликвии и трофеи русского флота; мраморные доски увековечивали имена воспитанников, погибших в Крымскую войну; бережно сохранялись корпусные традиции; его стены украшали картины А. П. Боголюбова и И. К. Айвазовского.
Воспитанники, оставившие воспоминания, с благодарностью отмечают, что Корпус приучил их к строгой дисциплине, выносливости, к чрезвычайной экономии своего времени, к точности в работе, к доброжелательному товарищескому отношению к людям, что в Корпусе закалилось их здоровье, развивалось и укреплялось мышление, дисциплинировалась воля, развивались трудолюбие, работоспособность, бо́льшая производительность, копились силы для жизненной борьбы, формировались решительность, твердость, самостоятельность в решениях, желание бескорыстно служить Отчизне.
«Мне казалось, да и теперь кажется, – писал А. С. Зеленой – что не было и нет учебного заведения в России лучше прежнего Морского кадетского корпуса моего времени… Были в нем недостатки, например, держание 20-летних юношей с тою же строгостью и за таким же присмотром, с каким содержатся 10-летние институтки; грубость нравов и обычаев воспитанников, постоянные драки и взаимные побои их между собою, результат принципа “задорства”; скученность в одной роте, а в походах на одном фрегате, слишком большого числа кадет, – но эти недостатки тонули, так сказать, в хороших сторонах воспитания, в особенности в том военно-морском духе воспитанников, который господствовал в Морском корпусе в мое время и который, как мне кажется, породил впоследствии покрывших себя вечною славою севастопольских героев»[184]. Так считали многие из воспитанников Корпуса.
Исследователь духовной атмосферы и быта кадетских корпусов России конца XVIII – первой половины XIX вв. приходит к вполне обоснованному, на наш взгляд, выводу: «Нельзя сказать, что кадеты были менее начитаны, чем студенты, менее интересовались вопросами общественной и культурной жизни, но у них был специфический круг чтения, определенный “Журналом для чтения воспитанников военно-учебных заведений”. С другой стороны, богатый состав корпусных библиотек во многом расширял кругозор воспитанников и помогал им стать достаточно образованными людьми». И, процитировав отзыв современника об одном из них («это были, люди пламенно любившие свою Родину, твердо верившие в ее высокое предназначение, смотревшие на свои обязанности как на священный долг, который надлежало нести бескорыстно, безропотно и безупречно»), заключает: эти слова «в полной мере соотносимы с комплексом личностных черт, свойственных типу бывшего кадета в целом»[185].
Значит, справедливо утверждал А. Н. Крылов, Корпус указывал «каждому молодому офицеру его настоящую дорогу»[186].
Кадет Петр Дурново
Мотивы помещения дворянских недорослей в МКК были различны. М. А. Пещурова записал отец «только потому, что Директором этого питомника был тогда <…> европейский человек, знаменитый русский мореплаватель, Адмирал Иван Федорович Крузенштерн»[187]. Для Д. Ф. Мертваго «важно было только одно, что его уже приняли учиться на казенный счет. Приняли в преддверие государственной службы, и притом еще такой почетной, какою была в то время служба в военном флоте»[188]. А. Н. Крылов сам мечтал о морской службе под влиянием подвига лейтенантов Ф. В. Дубасова и А. П. Шестакова[189].
Решение отца И. И. Чайковского определила «геройская в то время боевая служба наших черноморских моряков в Севастополе»[190]. В. В. Верещагин полагал, что «только, пожалуй, сильно развитым между дворянами желанием относить возможно больше расходов по воспитанию на “казенный счет” можно объяснить то, что мы [с братом], как и все дети наших соседей, сдавались в военно-учебные заведения тотчас по выходе из младенческого возраста».
Его весьма состоятельный отец не захотел тратиться на «знающего гувернера», чтобы «приготовить хоть в средние классы корпуса или гимназии», и восьмилетний Вася был помещен в декабре 1850 г. в Александровский малолетний корпус настолько неподготовленным, что после трехлетнего пребывания в нем из-за плохого знания арифметики был зачислен в подготовительный класс Морского корпуса, «тогда как многие из товарищей попали в первый кадетский».
Выбор Морского корпуса был обусловлен тем, что «из новгородских и вологодских дворян было много моряков, власти в корпусе задобрены, и чуть не каждый год папаша получал весточку от кого следует: “подавайте просьбу, вакансия есть”»[191].
Мотивы родителей Петра Дурново поместить его в МКК – в прошении его матери на имя великого князя Константина Николаевича:
«Ваше Императорское Высочество!
Просьбу эту повергает к стопам Вашим родная племянница Михаила Петровича Лазарева – его крестная дочь: других прав на Всемилостивейшее воззрение Ваше я не имею!
Родительница моя, единственная сестра Адмирала, с его помощью занималась воспитанием детей моих; со смертью Михаила Петровича прекратилась эта помощь, и я не имею никаких средств ни взрастить восьмерых детей, ни дать им приличное воспитание: муж мой состоит без жалования при Министерстве Внутренних дел.
Сердце матери порукою в том, что сыновья мои пойдут по стопам дяди и памяти его не помрачат!
Дозвольте же им вступить на казенный счет в то Учебное заведение, которое выведет их на стезю, пройденную столь славно Адмиралом!
В память его же заслуг даруйте приют в одном из Институтов и дочерям моим.
Мы все вместе не престанем возсылать мольбы за благоденствие Ваше!
С чувством глубочайшего уважения и совершенной преданностью имею счастье быть Вашего Императорского Высочества верноподданная Вера Дурново, урожденная Львова, жена Надворного Советника.
Января 27 дня 1854. С.-Петербург.
Жительство имею в 6 роте Измайловского полка в доме Воскресенской»[192].
5 февраля 1854 г. великий князь приказал «зачислить сыновей Надворного Советника Дурново кандидатами для поступления в Морской Кадетский Корпус, ежели они, по происхождению, имеют на то право»[193].
4 марта 1854 г. канцелярия Корпуса запросила у В. П. Дурново метрические свидетельства и копии с протоколов дворянского депутатского собрания: «без коих нельзя определить, подходят сыновья Ваши под Высочайше утвержденные правила приема дворян на воспитание в Морской Корпус»[194].
5 марта ординатор Петербургской детской больницы коллежский асессор Христиан Денкер осмотрел Петра и нашел «совершенно здоровым и неодержим[ым] никакими болезнями, физическими или умственными недостатками, могущими препятствовать принятию его в казенное учебное заведение»[195].
Документы о Петре были представлены, он имел право и был зачислен в кандидаты[196].
18 октября 1855 г. капитаны I ранга В. Алымов и инспектор классов Корпуса А. И. Зеленой проэкзаменовали 13-летнего Петра. Оказалось: «По-русски, по-французски и по-английски читает очень хорошо, предметы младшего кадетского курса знает очень хорошо». Петр был зачислен сразу в средний кадетский класс[197].
А дальше было, может быть, так, как у И. И. Чайковского, поступившего в 1854 г. в малолетнюю роту приготовительного класса и шедшего двумя годами младше П. Дурново: «Постригли, одели в куртку без погон, которые давались только по изучении строевых приемов, и выпустили в роту. Войдя робко в толпу кадет, я тотчас же подвергся экзамену, каждому должен был говорить свою фамилию, и когда мне надоело отвечать, получил несколько подзатыльников. Заревел. Нашлись защитники, привели “старикашку”, он отпустил две плюхи моему обидчику, и кадетская жизнь началась»[198].
На черных мраморных досках в церкви Корпуса с именами убитых и умерших от ран бывших выпускников Морского корпуса Петр нашел имена дяди своего лейтенанта Алексея Петровича Львова и четвероюродного брата мичмана 34-го флотского экипажа Василия Александровича Дурново, погибших при защите Севастополя. А всего до Петра Морской корпус окончили десять Дурново, один учился вместе с ним и четверо – после него.
* * *
Из однокашников П. Н. Дурново по МКК, по-видимому, лишь В. В. Верещагин оставил воспоминания. Четыре учебных года – с октября 1855 г. по май 1859 г. – они были в одной роте, сидели на одной скамье и три летних месяца 1858 года плавали на одном судне. Можно подумать, что Дурново был одним из наиболее близких товарищей Верещагина: в записках художника он упоминается чаще других. Представляется, однако, что дело было в другом: Петр Дурново оказался единственным, кого болезненно самолюбивый Верещагин не смог, несмотря на невероятные усилия, превзойти в успехах.
Первое из упоминаний о П. Дурново – следующее: «В классе я теперь (1855–1856 учебный год, средний кадетский класс. – А. Б.) шел уже не первым: к нам поступил очень развитой и хорошо подготовленный кадет Дурново, скоро севший на мое место, а я пошел вторым».
«Я знал, – продолжает В. В. Верещагин, – что на среднем кадетском курсе начинается уже серьезное учение, развивается математика, начинаются некоторые специальные науки, но пуще всего боялся сочинений – как я буду писать сочинения, когда не чувствую к этому ни малейшей способности! В предвидении этой беды, я уже раньше заговаривал с Д[урново], которого считал обладающим всевозможными способностями, чтобы он помогал мне. “Смотри же, – говорил я ему, – показывай!” – что со всегдашней немножко ядовитой усмешкой он и обещал и нет, уверяя, что сам еще не знает, как будет справляться. Если не покажет, думалось мне, я пропал, ну где мне справиться с сочинением!»
Верещагин справился: «Учитель нашел, что мое сочинение лучшее в классе, работу же Д[урново] забраковал».
Задали сочинение на тему «О значении Александра I». «Д[урново], должно быть, задетый за живое, прибег к помощи хрестоматии Галахова, не рассчитавши, что такой опытный учитель, как Благодарев, знает эту книгу чуть не наизусть. Придя в класс с поправленными сочинениями, Василий Иванович положил перед собой нарочно захваченную хрестоматию и листки с сочинением моего товарища, затем стал читать из одной и из других – целые тирады были взяты целиком без перемен. Класс смеялся, а бедный Д[урново] краснел и горел со стыда. “Возьмите же от меня это бесстыжее сочинение”, – разразился, наконец, наш почтенный наставник и бросил через скамьи измятые листы бумаги.
Василий Иванович часто обрывал моего талантливого товарища, не в пример большинству других учителей, очень его жаловавших, но и тот с своей стороны давал ему сдачи. Так, когда раз Б[лагодарев], по обыкновению выражаясь энергично, на досадливый вопрос ответил Д[урново]: “Плюньте вы в рожу тому, кто вам это сказал”. Тот ответил: “Не могу, Василий Иванович, это сказал мне мой отец!”
Вышло, что роли переменились; теперь уже Д[урново] спрашивал меня: “Как это ты сочиняешь? научи меня… у нас всех так тяжело, а у тебя вон как легко – точно у Карамзина”». (Хорошо, видимо, знал кадет Дурново Н. М. Карамзина! Спасибо бабушке Вере Петровне.)
В отличие от Верещагина, Дурново строго следовал правилам товарищества. Одно из них запрещало выносить сор из избы. «Один из грубых воспитанников нашего класса, костромич К., – рассказывает В. В. Верещагин, – ударил помянутого товарища моего Д[урново] так сильно, что разбил в кровь лицо; я не стерпел, чтобы не выразить негодования ходившему в это время со мной приятелю Боилю, старшего курса, – отсюда загорелся сыр-бор. Сейчас же этим совершенно невинным, в сущности, случаем воспользовались некоторые недоброжелатели мои, <…> и лозунг “не говорить” был отдан <…>. Только четверо из всего класса не пожелали присоединиться к заговору – это были Давыдов, Врангель, Леман и Тобулевич <…>. Обиднее всего мне было то, что даже Д[урново], из-за разбитых зубов которого вышла вся история, присоединился к шельмовавшим меня.
Как это не покажется смешным, но и теперь, через 40 лет, не могу забыть этой обиды» (Верещагину и через 40 лет не пришло в голову, что у Дурново могла быть обида на него: что бы не вступиться?!).
Командир 1-й кадетской роты оказался, по утверждению В. В. Верещагина, большой взяточник. «Кажется все что-нибудь да дарили ему, исключая, конечно, самых бедных. Он ни мало не преследовал тех, которые ничего не давали, но зато и не отказывался, когда что-нибудь приносили; некоторые унтер-офицеры первой роты прямо были из дурно учившихся, задаривших его, гардемарин.
Я поднес чернильницу – папаша очень неохотно купил какую-то за 5 рублей – после того, впрочем, что меня назначили ефрейтором. Товарищ мой Д[урново] принес оленьи рога, данные ему его отцом, и так трусил нести их, что я довел его до квартиры Г. и почти впихнул туда».
«Немножко моей гордостью было то, – вспоминает В. В. Верещагин, – что наш класс был образцовый по ученью и по поведенью; сначала ко мне посадили выдающегося по способностям мальчика Дурново, потом с годами в наше общество стали подсаживать детей известных во флоте деятелей, которых корпусное начальство хотело обставить порядочными воспитанниками.
<…> Класс всегда был доволен, когда мы, лучшие воспитанники, “заговаривали” таким образом учителей, меньше спрашивавших уроки, меньше клеивших единиц в списки. Мой товарищ Дурново был особенно мастер по этой части, к нему обыкновенно обращались все лентяи и не приготовившие уроки: Дурново, ты, пожалуйста, заговаривай его сегодня, авось не дойдет до меня».
Оказывается, уже в младшем гардемаринском классе 15-летний Петр Дурново настолько хорошо знал французский язык, что зарабатывал переводами популярных французских сочинений для издательского дома Струговщикова, Похитонова, Водова и Кº. «Он советовал и мне, – рассказывает В. В. Верещагин, – взять перевод хотя бы с английского, так как я недурно знаю этот язык. Он знал наверное, что переводы с английского требуются, так как его спрашивали, не может ли он взяться за них». Верещагин взялся и, сделав кое-как, получил 10 рублей. «На следующей неделе, – продолжает он, – я пошел опять за работой вместе с Дурново, но тут случилось нечто обидное для моего самолюбия: в то время, как товарища попросили войти и дали ему работу, меня продержали в приемной и выслали сказать, что перевода для меня нет».
Верещагин, став унтер-офицером, решил воздействовать на подчиненных только словами, не наказывать. Товарищи его, унтер-офицеры, не были столь наивны и, замечает Верещагин, «относились к гуманности моей насмешливо, особенно Д[урново]»[199].
Официальные данные подтверждают свидетельства В. В. Верещагина: Петр Дурново учился хорошо. Лишь в декабре 1855 г. он был 4-м на Красной доске класса, затем прочно занял 1-е место[200]. Симпатично он смотрится и по кондуитным спискам[201]:
24 августа 1857 г. П. Дурново произведен в гардемарины и унтер-офицеры[202].
27 августа 1858 г. приказом директора МКК С. С. Нахимова младший унтер-офицер П. Дурново «за хорошие поведение и успехи в науках» назначен на должность старшего унтер-офицера во 2-й кадетской роте (вместе с В. Верещагиным и Ф. Врангелем)[203].
Средний класс гардемаринской роты весной 1859 г. П. Дурново закончил 1-м со средним баллом 11,2[204].
* * *
Лето 1856 и 1857 гг. кадеты провели в лагере МКК за Ораниенбаумом. Здесь, размещенные в 5-ти бараках, они купались, учились плавать, занимались гимнастикой и фронтовыми учениями, лазали через салинги, изучали компас, направление румбов, названия членов корабля, рангоута и снастей, учились ставить и убирать паруса, брать рифы, менять марсели, спускать и поднимать реи и стеньги, управлять парусами.
23 мая 1858 г. 15-летний Петр Дурново в группе из 9-ти гардемарин уходит в свое первое заграничное плавание на паровом фрегате «Камчатка»[205] под командой капитан-лейтенанта В. М. Гейкинга. Это было «красивое судно по линиям и пропорции, имел[о] три мачты, все с реями, сильно, но красиво поднятыми, заостренный нос, круглую корму, которую всецело покрывал громадный золотой орел. Скорость <…> 12 узлов»[206].
В. В. Верещагин оставил любопытное описание этого плавания.
«Еще с весны стало известно, что 12 человек нас, лучших учеников, пойдут на пароходе-фрегате “Камчатка” за границу. Почти все мы были одного курса, одного класса, даже одной скамейки, так что, хотя при переезде в Кронштадт, в размещении нас на судне и в распределении по обязанностям для всех нас было немало нового и необычайного, все мы держались вместе, составляя как бы одну семью. Офицеры фрегата были замечательно добры и гуманны; только старший офицер добряк Павел Петрович Папафидин, выходя из себя, бил иногда матросов по зубам – вообще же драка, как и линьки, были не в чести; обращение с нами было доброе, снисходительное и довольно внимательное.
Капитан наш, остзеец Гейкинг, высокий солидный брюнет, держался ровно и, обыкновенно молчаливо прохаживаясь по своей правой, аристократической части шканцев, зорко следил за службой и порядками на судне, в общем – не дурными.
Судно, колесный фрегат, построенный за границей еще в 30-х годах, <…> приходило в ветхость. Когда-то адмиральский пароходо-фрегат, он имел большие, хорошо отделанные помещения, так что расположены мы были недурно. При всей наружно сохранявшейся дисциплине нас “жалели”, не особенно рано будили, всегда дозволяли съезжать на берег, не муштровали, не наказывали, исключая очень редких случаев, – не задавались мыслью обращать нас в морских волков»[207].
Кадеты знакомились с морем, с матросскими обязанностями, что им, может быть, как и в свое время М. А. Пещурову, «подчас и сильно надоедало, но все-таки нравилось, в особенности катание на шлюпках, и под веслами, и под парусами». «Я уже тогда, – признавался он, – ощущал что-то особенное в груди и во всем своем внутреннем человеке, когда бывало порядочно скрепчает ветерок, фрегат ляжет на бок, начнет и скрипом, и, так сказать, подпрыгиванием, заявлять о своей борьбе, как бы живого существа, с волной и ветром; брызги волн станут обдавать как бы дождем, а ветер, пробираясь между рангоутом, снастей и парусов, свистит и воет и вообще задает такой концерт, какого на суши не услышишь никогда»[208].
Не всем, однако, морская служба пришлась по сердцу. Василия Верещагина и Василия Давыдова «укачивало более всех», и над ними «офицеры очень потешались». Позднее Верещагин признается, что морская качка окончательно отвратила его «впоследствии от мысли посвятить себя морю».
«Насколько мне интересно было познакомиться с Кронштадтом, морем и морскою жизнью, – продолжает Верещагин, – настолько же неприятны и даже неинтересны были морские учения. Раздается команда, <…> дудки боцманов свистят, и мы бежим, ползем по веревочным лестницам до первой, а то и до второй площадки на мачте <…>. Работенка, нечего сказать! Кажется, какую хочешь, хоть каторжную работу справил бы на берегу, взамен этой, производимой между небом и землей.
Само взбегание по веревочным лестницам куда как неприятно, особенно при ветре и качке; о том, чтобы бежать впереди матросов, как это следует, и думать нечего – цепляешься за ванты, прижимаешься к ним, чтобы не отделиться, не оторваться и не бухнуть в море. В то время, как взбираешься вверх – смотреть вниз на палубу жутко; – я никогда не любил глядеть с высоты, смотреть же на море волнующееся, пенящееся и ревущее – еще хуже; joli metier![209] можно сказать. К этому надобно прибавить, что на ученьи или в плаваньи, в пылу команды перепадало и гардемаринам немало жестких замечаний, а о матросах и говорить нечего – их награждали иногда преобидною бранью, только, так как она на вороту не висла, за нее как-то никто не сердился»[210].
Первые 1,5 месяца, во время стоянки на якоре на малом Кронштадтском рейде, кроме двухдневного перехода в Ревель и обратно, гардемарины изучали судно, его вооружение и машины; участвовали во всех парусных и артиллерийских учениях и авральных работах; ездили иногда в порт, в ремонтное заведение, на военный завод, на пильную, в шлюпочную мастерскую; осматривали доки и запасные материалы; были на многих военных и на некоторых купеческих судах; учились управлять шлюпками, содержание которых в порядке возложено было на их ответственность.
Во время перехода из Кронштадта в Бордо и обратно гардемарины вели шканечный журнал, делали счисления, определяли широту по полуденной высоте, записывали все замечательное в исторический журнал; следили за чистотой судна, за постановкою и уборкою парусов; по двое вместе с офицером несли вахты.
В Бресте осмотрели порт и Морскую школу, побывали на корабле «Наполеон». В Бордо ходили на вооружение и отделку строящихся там фрегата «Светлана» и яхты «Штандарт». Ежедневно с 9 до 11 занимались науками. Были прогулки по городу и окрестностям: знакомились с жизнью и обычаями французов.
За время плавания испытали два шторма в Северном море и сильную качку в Бискайском заливе[211].
Возвращаясь, зашли в Копенгаген, где их ждали письма из России и корпусные вести: бо́льшая часть группы, в т. ч. и Петр Дурново, были произведены в унтер-офицеры.
29 октября 1858 г. «Камчатка» вернулась в Петербург. Капитан Гейкинг рапортом директору МКК от 27.11.1858 г. за № 402 аттестовал Фердинанда Врангеля и Петра Дурново лучше всех – «весьма хорошо», других – «очень хорошо», «хорошо» и «посредственно»[212].
В Корпусе по возвращении гардемаринов констатировали, что плавание «значительно содействовало их умственному развитию», сделало их много развязнее и находчивее[213]. Сказанным последствия пятимесячного плавания, разумеется, не исчерпывались – они были куда более значительны, и, очевидно, признать их однозначно позитивными нельзя.
Замечательно, конечно, что гардемарины возмужали и под руководством отлично подготовленных и опытных наставников заметно продвинулись в профессиональном отношении. Но было и другое.
«Несмотря на то, что при нас офицеры старались быть сдержанными, – пишет В. В. Верещагин, – все-таки же мы слушали и даже сами говорили многое такое, что в Корпусе было для нас запретным плодом… Нельзя сказать, чтобы это было особенно хорошо для нашей нравственности: при понятной юношеской пытливости, мы испробовали в Кронштадте то, что по закону развития следовало бы отложить до более зрелых годов. Я лично сначала увлекся, затем удерживался, но большинство наших юношей шибко пошло по дорожке свободной жизни, благо надзор был слаб…» То же повторилось и в Бордо: «большинство гардемаринов, офицеров и матросов окунулось во всевозможные удовольствия»[214].
Определенную роль тут сыграло то, что с выходом за границу содержание гардемаринов значительно увеличивалось (по Верещагину, раз в пять), и за вычетом за стол в кают-кампании, на руках у них оставались деньги.
Была еще пагуба и не только для гардемаринов лично. «Сочинения известного эмигранта Г[ерцена] пользовались тогда большим авторитетом, – свидетельствует В. В. Верещагин, – и офицеры “Камчатки” часто громко читали их в кают-кампании. Мы, гардемарины, совершенно зачитывались этими книгами»[215].
Не у всех хватало иммунитета. Почти открытая проповедь либеральных и революционных идей в 50–60-е годы XIX столетия разлагающе сказалась на офицерском корпусе. «Много было таких офицеров, которые с цинизмом отвергали основные принципы военной службы и, нося военный мундир, отзывались с пренебрежением о военном звании. Некоторые из них сами приняли на себя пропаганду революционных идей, даже между нижними чинами». В 1862 г. за политические преступления подверглись формальному следствию и суду до 130 офицеров[216]. Позднее напасть не обошла и однокашников П. Дурново. 13 июня 1862 г. на возвратившихся в Кронштадт из заграничного плавания фрегатах «Олег» и «Громобой» специальная комиссия произвела по доносу «повальный обыск». У гардемарина Владимира Дьяконова обнаружили 9 экземпляров воззвания «Что нужно народу», полное переплетенное издание «Колокола» за 1857–1859 гг., три выпуска «Колокола» за 1861 г., многие экземпляры за 1862 г. и другие нелегальные издания; запрещенные книги и журналы были найдены у гардемаринов Алексея Давыдова и Николая Дирина. Дьяконов был арестован и «за распространение возмутительных сочинений, враждебных общественному порядку в России», приговорен судом (3.11.1862) к заключению в крепости на 3 месяца и обойден к производству в офицеры»[217].
* * *
13 июля 1859 г. группа гардемаринов была назначена в заграничное плавание на паровых судах отряда, направлявшегося в Средиземное море; унтер-офицер П. Дурново в составе 13 гардемаринов попал на корабль «Гангут» под командой капитана 1-го ранга М. О. Дюгамеля[218].
В конце февраля 1860 г. гардемарины были переименованы в кадетов, а 3 апреля приказом генерал-адмирала произведены в гардемарины флота (о причинах этих перемен – ниже), так что вторую половину плавания они пребывали в новом качестве.
Что же такое – гардемарин флота и каково его положение на корабле?
По воспоминаниям Н. А. Римского-Корсакова, окончившего МКК в апреле 1862 г., «тогдашнее звание гардемарина [флота] получалось по окончании училищного курса. Гардемарины [флота] были свободные люди; офицерский чин получался после двухлетней службы гардемарином [флота]. Гардемарин [флота] обыкновенно назначался в двухлетнее плавание для практики. <…> На клипере нас было четверо гардемаринов [флота], товарищей по выпуску, и несколько кондукторов-штурманов и инженер-механиков. Мы помещались в одной небольшой каюте и в офицерскую кают-кампанию не допускались. Нам, гардемаринам [флота], не давали больших, ответственных поручений. Мы стояли по очереди на вахте, в помощь вахтенному офицеру. За всем этим свободного времени было довольно. На клипере была порядочная библиотека, и мы довольно много читали. Подчас велись оживленные разговоры и споры. Влияние 60-х годов коснулось и нас. Были между нами прогрессисты и ретрограды. <…> Читался Бокль, бывший в большом ходу в 60-х годах, Маколей, Стюарт Милль, Белинский, Добролюбов и т. д. Читалась и беллетристика. Мордовин (гардемарин-«прогрессист». – А. Б.) накупил в Англии массу книг английских и французских, между ними были всевозможные истории революций и цивилизаций. Было о чем поспорить. Это время было временем Герцена и Огарева с их “Колоколом”. Получался и “Колокол”»[219].
Нет сомнения, что и на «Гангуте» гардемарины читали то же и спорили так же. Петр Дурново был «ретроградом» (этим он, скорее всего, обязан был своей бабушке Вере Петровне и Н. М. Карамзину). Он серьезно готовился к военно-морской службе и столь же серьезно всматривался в окружающую его жизнь.
Примечательны в этом отношении его «Письма гардемарина с корабля “Гангутъ”», опубликованные за подписью «П[етр] Д[урново]» в Морском сборнике[220]. «Письма» эти отлично характеризуют семнадцатилетнего воспитанника Морского корпуса. Он умен, наблюдателен; впечатления его глубоки; ему интересна не только профессионально близкая сторона жизни англичан, но и общественные отношения, этнические особенности; умеет не просто фиксировать увиденное, но и достаточно интересно описывает, объясняет, сравнивает, оценивает; не зашорен – вполне объективен, хотя, быть может, несколько юношески категоричен, и чувствуется влияние «Писем русского путешественника». Если последнее верно, то это отлично характеризует пристрастия гардемарина.
Так, в Портсмуте: улицы «узкие и неправильные, <…> но очень хорошо вымощены. <…> Дома большею частью высоки и очень чисты снаружи, магазинов множество, а церквей мало, хотя Англичане народ очень набожный: в воскресенье <…> не найдете отпертого магазина, запрещены все игры, и церкви с утра до вечера полны народом. Все кипит здесь деятельностью: на улицах в простые дни гуляющих вы не увидите – все торопится и бежит куда-то, совершенно как у нас в Светлый праздник или Новый год, но с тою только разницею, что у нас бегут с пустою целью – поздравить начальника, а здесь совсем другое: как же не торопиться Англичанину, когда если он опоздает, то какое-нибудь важное коммерческое предприятие решится не в его пользу? И так для каждого существует своя цель, о которой он заботится, лелеет ее как своего ребенка. На улицах встречается очень много красных мундиров и также не мало скромных и вежливых полисменов в синих кафтанах и высоких шляпах».
Иностранцам жить в Портсмуте «страшно дорого; например, вы садитесь в коляску, и вдруг какая-то невидимая рука подсадив вас очень вежливо, чего однако ж вы не заметили, полагая, что это дело кучера, протягивается к вам и вы слышите слова: “two pence”; неизвестный господин уже не просит их – он требует, основываясь на том, что ничего не делается даром. <…> И много можно еще встретить подобных случаев – two pence с невыразимою быстротою летят из кармана, и все это потому, что вы здесь новичок и не знаете ни прав, ни обычаев расчетливых Англичан. <…> Но несмотря на все это, Портсмут великолепный город».
При осмотре строящегося корабля «Victoria» удивился тому, «что здесь еще до спуска судна набиты все кафель-планки и даже врезаны шкивы; это доказывает верность и точность, с которою составляются здесь чертежи вооружения, потому что иначе многие снасти не пришлись бы по назначенным им шкивам».
В блоковой мастерской поразила «невероятная быстрота», с которой делались там блоки, шкивы и прочее «на станках, приводимых в движение паровою машиною». Подробно описав процесс, заключает: «Подобная система делать блоки имеет только то преимущество, что при большой потребности в них, как, например, в английском флоте, не может быть нехватки ни в рабочих, ни во времени, но что касается до крепости и прочности подобных блоков, то о них хорошего сказать нельзя: все они делаются из сырого дерева, отчего, без сомнения, служат не в пример менее, нежели блоки из сухого дерева; о крепости же их и говорить нечего: очевидно, что блок на заклепках не так скоро даст трещину, как блок из целого куска».
Выделил машинное отделение, «которое по разнообразию и отчетливости производимых в нем работ, показалось нам лучшим из всех виденных нами до сих пор в этом роде».
Столярная, парусная, такелажная и малярная мастерские не произвели впечатления: «особенного в них ничего нет, то же, что и у нас».
Рассматривая чертежи строящегося корабля, заметил: «Шпангоуты, особенно носовые и кормовые, не имеют никакой постепенности в отводах, от самого киля до верха надводной части; напротив же, имеют совершенно скулистое образование наподобие латинской буквы S, что, по моему мнению, отнимает у судна плавучесть, качество столь необходимое для спокойного, успешного и более безопасного плавания. При килевой качке судно с таким образованием шпангоутов получает сильные удары волн в свои скулы, чрез что потрясается весь корабельный состав, в особенности рангоут».
О рабочих адмиралтейства: «в мастерской рабочие все вольные и, смотря по знанию и усердию, получают от 15 шиллингов до 2 фунтов в неделю; они обязаны являться в порт на работу в 6 часов утра, в 11 часов их распускают по домам обедать до 12½ часов, а в 5 пополудни шабаш, и рабочие расходятся по домам».
Под конец Портсмут надоел: «Здесь нет ни порядочного театра, ни гуляний, ни балов – одним словом, скука страшная. <…> вытянутые, серьезные физиономии Англичан до такой степени надоели, что больше уж не хочется съезжать на берег».
* * *
В связи с введением на флоте строевого звания «гардемарин флота»[221], в МКК название «гардемарин» было упразднено, а роты переименованы. Гардемаринская стала 1-й кадетской, ее старшее отделение было в 1860 г. выпускным. Высочайшим повелением от 29 февраля 1860 г. воспитанников Корпуса стали выпускать не в офицеры, а в гардемарины флота. Они должны были прослужить (непременно плавая) 2 года до мичманского чина.
3 марта приказом Генерал-адмирала была сформирована экзаменационная комиссия под председательством адмирала Ф. П. Литке. К выпуску подлежало 59 воспитанников, однако 37 из них находились в заграничном плавании (в их числе и П. Дурново)[222]. Сообщая об этом в Инспекторский департамент Морского министерства, и. д. директора МКК ответил положительно на заданный ему вопрос о возможности произвести в гардемарины флота находящихся в плавании теперь же, без особого экзамена, «на основании имеющихся в Корпусе данных». Мотивировал он это тем, что «они по наукам были большею частью лучше оставшихся здесь и, как из рапортов начальствующих на заграничных эскадрах лиц видно, что все они отлично старательны и с успехом занимаются науками». При этом предложил определить старшинство «всех составляющих старший курс» по «общему экзаменационному их списку, составленному в прошедшем 1859 году перед отправлением находящихся за границею в кампанию». Список этот приложил, предложив лишь две поправки: 6-го по списку Льва Елагина «понизить при производстве 20-ю человеками» за «строптивость характера» и 50-го Ивана Пеллегрини «поставить последним» «по нестрого удовлетворительному поведению».
П. Дурново в этом списке стоял первым, «со средним выводом экзаменационных баллов 1859 года» – 11,2. Однако в приказе Генерал-адмирала о производстве кадетов старшего курса 1-й роты в гардемарины флота от 3 апреля 1860 г. 1-е место отдано В. Верещагину, набравшему на выпускных экзаменах 210 баллов (в списке 1859 г. он был 4-м), а П. Дурново – 4-е место (153 балла). Очевидно: к определению старшинства подошли формально, не усматривая различия между суммой баллов 1859 г. и суммой баллов на выпускных экзаменах. Есть все основания предполагать, что П. Дурново не уступил бы 1-го места, имей он возможность сдавать выпускные экзамены.
Так П. Дурново окончил МКК 4-м из 59-ти.
«Хотя производство в гардемарины, вместо прежнего производства в мичманы, – писал И. И. Чайковский, выпущенный в 1862 г., – несколько и умаляло наше настроение, но сознание, что мы перестали быть кадетами и становились наряду с офицерами, получали офицерскую форму без эполет, но зато с аксельбантами, все-таки это новое самостоятельное положение нас занимало»[223]. Так, наверное, было и с П. Дурново, хотя несправедливое распределение мест в выпуске не могло не огорчать самолюбивого юношу.
22 апреля 1860 г. он был назначен в 19-й флотский экипаж; жалование – 300 рублей в год[224].
По-разному сложились судьбы воспитанников МКК 107-го выпуска. Не повезло Илиодору Белаго: гардемарином умер от туберкулеза и похоронен на английском кладбище 5 января 1863 г. Сошел с ума, выбросился за борт и утонул в 1886 г. Карл Миллер, будучи капитаном II ранга и командиром клипера «Джигит». Умер от чахотки Александр Юнг, успев стать кавалером ордена св. Георгия IV ст. и капитаном II ранга. Многие дослужились до высоких чинов. Четверо стали широко известными: Василий Верещагин, Фердинанд Врангель, Яков Гильтебандт и Петр Дурново.
Морская служба Петра Дурново
Почти 16 с половиной лет (22,5 %) жизни П. Н. Дурново было связано с военно-морским флотом: неполных 13-ти лет он был помещен в МКК и на 30-м году определен был «к статским делам». Собственно военно-морская служба П. Дурново – от окончания МКК и производства в гардемарины флота 3 апреля 1860 г. и до причисления 6 октября 1870 г. к Главному военно-морскому судному управлению – длилась 10,5 лет, из них в плаваниях прошло около 8-ми (около 75 %); при этом более 4-х лет – с 17 октября 1860 г. по 31 октября 1864 г. – П. Дурново плавал без перерыва, переходя с одного судна на другое.
Суровая служба закаляла не только физически – формировался характер решительный, твердый, властный; крепла воля; вырабатывалась способность быстро принимать решения; приходило умение руководить людьми и разбираться в них.
Было море, которое влюбляло в себя. «Когда я служил во флоте, – признавался М. А. Пещуров, – то вполне наслаждался жизнью моряка, любил и восхищался и стихиею, и той борьбой, которую частенько приходилось вести с рассвирепевшим морем и ветром»[225]. Было то, что вспоминалось и манило молодого С. О. Макарова во время его первого деревенского отпуска: «Забываются все дурные стороны <…>. Представляется только одна светлая сторона: туго натянутые паруса, марсели в один риф, брамсели, фок, грот, кливера и бизань, педантичная чистота, ловкая, веселая команда, великолепные шлюпки с роскошными парусами, вымытыми лучше дамских манишек, и звонкая гармоническая команда вахтенного лейтенанта»[226].
На склоне лет, выступая в общем собрании Государственного Совета, П. Н. Дурново скажет: «Лучшие годы моей жизни прошли на палубе военного корабля в дальних плаваниях почти по всем морям земного шара. <…> Тесная жизнь на корабле среди постоянной опасности, среди беспрерывной борьбы с грозными и капризными морями развивает в плаваниях между командиром, и офицерами, и матросами почти семейное общение и духовную связь. Эта духовная связь, основанная на взаимном доверии, воспитывая военную доблесть, и есть фундамент всей морской службы. Без этой духовной связи, без взаимного доверия военный корабль жить не может. <…> Мы, мичмана и лейтенанты старого времени, сознавали, что капитан наш носит в своей часто суровой голове что-то верное и важное, тот опыт, до которого нам еще далеко. Мои дорогие товарищи вместе со мною сознавали и верили в опытность наших дорогих командиров. Конечно, в кают-кампании не обходилось иногда без скромной критики, но старший офицер добродушно и живо приводил критика в порядок»[227].
Образовательный и культурный уровень морских офицеров был весьма высок. Здесь всегда много читали. Значительные книжные собрания были у знаменитых адмиралов (Д. Н. Сенявина, М. П. Лазарева, В. А. Корнилова и др.), у многих командиров кораблей. Много богатых библиотек было в учреждениях Морского министерства (Русская морская библиотека в Петербурге, Севастопольская офицерская и Севастопольская морская библиотеки, Читальня кондукторов флота в Петербурге, библиотека Гельсингфорсского морского клуба и др.; библиотека Кронштадтского морского собрания по числу книг была 9-й в империи; были библиотеки и в других военно-морских базах). Не плохими были многие судовые библиотеки. Атмосфера напряженной духовной жизни благотворно сказывалась на развитии от природы способного молодого офицера.
Каждое судно имело свою историю, П. Дурново плавал на 14-ти – это целая страница военно-морской истории России. Каждый корабль – это коллектив людей энергичных, волевых, мужественных, нередко – высокообразованных. Что ни командир – то личность, нередко – выдающаяся. Их у П. Дурново было 11.
Военно-морская служба П. Дурново проходила на фоне исторических перемен в Отечестве: готовилась и была осуществлена отмена крепостного права, разрабатывались и осуществлялись реформы практически во всех областях общественной и государственной жизни – начиналась новая страница в истории России.
Ряд конкретных проблем пришлось решать и морякам.
Крымская война со всей очевидностью показала, как опасно отстала Россия в военном судостроении. Была осознана необходимость замены деревянного парусного флота паровым броненосным, и, хотя Россия продолжала (до начала 60-х годов) строить деревянные паровые винтовые суда, начинается расширение металлургической и металлообрабатывающей отраслей промышленности; утверждается новый штатный состав флота; преобразуются адмиралтейства, верфи, магазины, портовые сооружения; резко активизируются морские агенты, информируя о новинках в судостроении и вооружении; инженеры, механики, офицеры командируются за границу стажироваться для осмотра заводов, портов, судов. В начале 60-х начинается строительство полностью железных броненосных кораблей.
В 1850–1860-е годы продолжалось освоение Дальнего Востока. Большую роль в этом сыграли военные моряки. В 1858–1859 гг. морская экспедиция Н. Н. Муравьева-Амурского вдоль побережья Уссурийского края открыла и назвала многие заливы и острова. В 1859 г. началось изучение побережья Японского моря кораблями Тихоокеанской эскадры капитана I ранга А. А. Попова. В 1860 г. гидрографическая экспедиция В. М. Бабкина составила навигационно-гидрографическое описание бухт и островов залива Петра Великого. Исследовались реки и озера, был основан Владивосток, разрабатывался уголь для судов, началось судостроение, основывались селения, строились порты. Экипажи военных кораблей рубили просеки – будущие улицы, производили съемку побережья, делали промеры глубин, перевозили различные грузы, составляли карты, называя улицы, острова, бухты, полуострова, мысы именами кораблей и офицеров.
На плечи моряков легла и защита дальневосточных владений России: корветы и клипера Балтийского флота должны были посменно нести службу в Тихом океане. В 1857 г. из Кронштадта в Николаевск-на-Амуре ушел 1-й Амурский отряд судов под командованием капитана I ранга Д. И. Кузнецова. В 1858 г. – 2-й Амурский отряд капитана I ранга А. А. Попова. В 1860 г. – 3-й Амурский отряд капитана I ранга И. Ф. Лихачева. Моряки основывали посты на материковом побережье и на острове Сахалин, формировали их команды.
В начале 60-х резко обострилась международная обстановка. В 1861–начале 1862 гг. началась военная интервенция Испании, Англии и Франции в Мексику: последняя прекратила выплату долгов. Испанцы и англичане, натолкнувшись на народное сопротивление, оставили Мексику; французы же остались и в 1863 г. взяли Мехико.
Англия и Франция почти открыто вмешались в Гражданскую войну в Северо-американских соединенных штатах, поддержав южан: последние поставляли им дешевый хлопок, а промышленность северян успешно конкурировала с английской и французской. Южане одерживали победы, их рейдеры жгли и топили торговые суда северян. Реальной оказывалась угроза вторжения из Мексики 40-тысячного французского экспедиционного корпуса.
Восстание поляков в январе 1863 г. быстро переросло в настоящую войну. Их тут же поддержали Англия, Франция и Австро-Венгрия; к ним присоединились Швеция, Италия и Испания. Наполеон III предложил восстановить Польшу в границах до ее 1-го раздела, что означало перекройку политической карты Европы; предполагалось также отторжение от России части Северного Кавказа для удовлетворения Турции. Угроза новой войны с европейской коалицией оказывалась вполне реальной.
Освещение всех этих проблем в русской и иностранной прессе, обсуждение и анализ их в кают-кампаниях, непосредственное участие в событиях – все это способствовало гражданскому становлению офицерской молодежи, осознанию ею геополитического положения Отечества, проблем его безопасности и развития и существенно облегчило постижение ею капитального факта мировой истории – борьбы народов за существование, господства силы на международной арене.
* * *
17 октября 1860 г. П. Дурново назначен на клипер «Гайдамак», шедший под командованием капитан-лейтенанта А. А. Пещурова на Дальний Восток[228]. Переход был долгий, трудный, опасный (от «желтой горячки» умерли мичман Меньшиков и унтер-офицер Недович), но и интересный: почти на две недели задержались в Плимуте (клипер вооружался, отделывался; загружали уголь, живность, зелень), заходили в Порто-Гранде, Рио-де-Жанейро, Гонконг и порты Китая. 31 июля 1861 г. «Гайдамак» бросил якорь в заливе Посьета.
В заливе Петра Великого клипер нес крейсерскую службу, экипаж участвовал в описных и гидрографических работах. 27 июля 1861 г. дожди и туманы не позволили команде описывать бухту Врангеля и вести астрономические наблюдения, и клипер укрылся в бухте, еще не обозначенной на карте; ее исследовали и назвали в честь своего судна – «Гайдамак».
26 августа «Гайдамак» пришел к посту Дуэ[229] за углем, когда с ним произошла катастрофа. Вот как она описана А. К. Де Ливроном: «Через 2 дня после прихода “Гайдамака” в Дуэ, слабо дувший дотоле NW стал ночью вдруг крепчать, и клипер должен был по указаниям лоции немедленно сняться с якоря и уходить в море; пока он собирался, стали налетать жестокие шквалы, разведшие сразу огромное волнение. Клипер немного подрейфовало к берегу, и вследствие этого, в ожидании возвращения баркаса с командой, ездившей в баню, приказано было бросить второй якорь; шквал за шквалом налетал с неимоверной силой, и канаты вытягивались в струну, между тем как якоря понемногу ползли. Наконец баркас возвратился, его подняли, а к этому времени поспели и пары. Чтобы удержаться на месте, дали полный ход машине, но ничто не помогало. Клипер наконец коснулся камней, и от сильных ударов о грунт ему вышибло с места раму с винтом; руль также получил повреждение. У одного из становых якорей, равно как и у запасного, лопнули цепи, и тогда капитан, предвидя неизбежную гибель судна, решился прибегнуть к последнему средству – выброситься на берег. А. А. Пещуров выказал в этом случае полное хладнокровие и мужество. Взяв рупор, он лично скомандовал: “Паруса ставить!”, “марсовые на марс!”, “живо!”. Стакселем заворотил клипер, отклепал канат и направил нос судна в небольшую песчаную лощину и под зарефленными марселями врезался в мягкий берег рядом с небольшою каменною грядою, несколько выступавшей из общего очертания береговой линии»[230].
На следующий день разобрали машину, разгрузили судно. «Люди работали лихо, предвидя, что их скоро вывезут с этого негостеприимного, каторжного острова. Офицеры и команда были помещены в бараках местного гарнизона, а для хранения выгруженных с судна предметов возле самого клипера был выстроен большой дощатый сарай».
Через 3 дня в Дуэ зашел адмирал И. Ф. Лихачев на пароход-корвете «Америка». Был составлен акт, «которым “Гайдамак” признавался уже совершенно непригодным для дальнейшей службы судном, причем предполагалось превратить его в блокшив и оставить на этом месте догнивать свой бесславный век. В таком смысле было составлено и донесение в Петербург».
П. Дурново оставался на «Гайдамаке» до 4 октября 1861 г., когда был переведен на транспорт «Японец». Все это время – с 28 августа по 4 октября – он активно участвовал во всех работах по спасению судна: 22 сентября была предпринята неудачная попытка сняться с помощью «Америки», 23-го клиперу удалось сняться самому, и он оставался на вольной воде до 25-го, надеясь на буксире следовать в Кастри, однако «Америка» ушла еще 22-го; потеряв надежду уйти из Дуэ, клипер при полной воде “должен был опять втянуться на отмель”; стали готовиться к зимовке: строить помещение для команды, вытаскивать судно далее на берег и делать ограждение его.
Сменивший тут И. Ф. Лихачева А. А. Попов «решил во что бы то ни стало стащить его на вольную воду и, снова включив его в списки флота, пустить в плаванье по морям». 31 мая 1862 г. «Гайдамак» стащили с мели, отвели на буксире в де Кастри, а затем – в Шанхай, и через 1½ месяца клипер, «как возродившийся феникс, уже красовался на рейде чистеньким и обновленным»[231].
Полтора месяца плавал гардемарин флота П. Дурново на транспорте «Японец»[232] под командой капитан-лейтенанта Н. Я. Шкота у берегов Восточной Сибири. Здесь он, возможно, встретился с К. Станюковичем: 2 ноября 1861 г. последний, выписавшись из Владивостокского лазарета, был приписан к транспорту.
18 ноября 1861 г. П. Дурново переведен на клипер «Наездник»[233] под командой капитан-лейтенанта Ф. Н. Желтухина. Здесь он впервые встретился с юнкером А. А. Бирилевым, ставшим впоследствии его сочленом по Совету министров и Государственному Совету.
С 6 мая по 16 августа 1862 г. П. Дурново на корвете «Посадник»[234] под командою флигель-адъютанта Н. А. Бирилева в плаваньи у берегов Китая и Японии.
С 16 августа по 7 ноября 1862 г. П. Дурново на лодке «Морж»[235] под командою лейтенанта А. М. Линдена в плавании у берегов Китая и Японии. 27 августа приказом по флоту 19-летний П. Дурново произведен в мичманы (он стал получать 340 рублей жалования и 114 руб. 30 коп. квартирных). Здесь он познакомился с мичманом Ф. К. Авеланом, будущим адмиралом (1905) и членом Государственного Совета (1914).
7 ноября 1862 г. мичман П. Дурново назначен вахтенным офицером на корвет «Калевала»[236] под командой капитан-лейтенанта Ф. Н. Желтухина. Здесь он снова встретился с юнкером А. А. Бирилевым. Корвет заходил в Нагасаки, на два месяца его ставили в док в Шанхае. В таких случаях команда сходила на берег.
«Нагасаки, – пишет А. К. Де Ливрон, – был всегда нашим излюбленным портом. Близ этого города через залив, в углу рейда, находится небольшая японская деревня Инаса, куда обыкновенно свозились команды на прогулку. Там все, не исключая детей и женщин, довольно сносно объяснялись по-русски. В Инасе еще жил тогда старик Сига, бывший бонза местного храма, и наши поставщики».
Атмосфера среди офицерской молодежи была непринужденной. «В каютах, – вспоминал А. К. Де Ливрон, – мы обыкновенно обсуждали разные повседневные служебные вопросы судовой жизни, а также рассказывали анекдоты, строили планы на будущее и, наконец, вспоминали свои береговые похождения. Это были вполне невинные собрания, и они всегда носили характер взаимных дружелюбных отношений, которые не имели ничего общего с служебными интересами. В то счастливое время морской ценз еще не существовал, так что мы были совершенно свободны от тисков зависти, карьеризма и заискивания перед начальством»[237].
После Шанхая «Калевала» ушла во Владивосток, а весной 1863 г. команда корвета в составе экспедиции подполковника корпуса флотских штурманов В. М. Бабкина занималась исследованиями залива Петра Великого. На карте появились гидрографические названия по именам судов Тихоокеанской эскадры и в честь ее офицеров. Поздравил и Ф. Н. Желтухин своих офицеров: три рядом стоящих из островов Римского – Корсакова получили имена мичманов, служивших тогда на «Калевале» – Я. А. Гильтебранта, А. К. Де Ливрона и П. Н. Дурново. (Легко представить, какие чувства переполняли молодых офицеров от сознания своей причастности к большому русскому делу – закреплению и освоению обширного богатого края.)
Вскоре грозные события отвлекли моряков от мирных занятий. 22 января 1863 г. в Варшаве восстали поляки. Англия, Франция и Австрия предъявили России ноты. «Вероятность войны, – вспоминал позднее И. И. Чайковский, – признавалась настолько возможною и близкою, что приходилось задумываться над всем нашим флотом, в то время сосредоточенным в Финском заливе. Пока дипломатические переговоры шли усиленным темпом, на столбцах газеты “Голос” появилась дельная статья, подписанная буквою “К”, рекомендовавшая во избежание повторения участи затопления кораблей нашего Черноморского флота в Севастополе в 1855 году выслать эскадру из лучших наших судов в Атлантический океан, которая, имея базу у берегов Америки, могла бы крейсировать по океану, в случае войны с Францией и Англией, мешать их внешней торговле, захватывать их суда торгового флота. Статья эта была доложена государю императору, который, признав эту идею вполне отвечающей настроению политического положения, приказал узнать, кем написана эта статья. Автором ее оказался недавно вышедший в отставку капитан-лейтенант (окончивший курс офицерских классов) Н. В. Копытов. <…> Кроме государя, генерал-адмирала, управляющего морским министерством и Н. В. Копытова, никто в план действий посвящен не был. Выполнение всей задачи было экстренно-спешное и строго-секретное. Каждый из командиров должен был получить секретный пакет за печатями, на вскрытие которого будет дано особое приказание»[238].
Подлинный смысл происходившего в мире не составлял тайны и реакция молодых офицеров Тихоокеанской эскадры была вполне адекватной. Вот как об этом писал А. К. Де-Ливрон: «В июле 1863 г. до нас из России стали доходить тревожные слухи о неладах среди правительств европейских государств и о намерениях Франции и Англии заступиться за будто угнетаемых нами поляков, а кроме того, неподалеку от нас, через океан, в то же время разгорелась междоусобная война северных и южных штатов Америки из-за рабовладельческих прав на негров. Южным, отделившимся от Союза штатам, сочувствовали те же французы и англичане, что заступились за наших поляков. Пока дипломаты переписывались умными нотами, наше правительство решило оказать нравственную поддержку законному правительству президента Линкольна, и в виду этого секретно отправило в Нью-Йорк целую эскадру наших лучших крейсеров под флагом адмирала Лесовского. <…> Одновременно из Петербурга также и адмиралу Попову была передана шифрованная телеграмма с приказанием со своею эскадрой отправиться к берегам Калифорнии». Обе эскадры «должны были, в случае надобности, принять совместное с американцами в их крейсерской войне против Франции и Англии».
18 июля 1863 г. «Калевала» вышла из Хокодате в море с полными запасами угля и продовольствия. В середине августа корвет был уже в Гонолулу, где простоял целый месяц, а 6 октября пришел в Сан-Франциско. Здесь уже были корвет «Богатырь» под флагом контр-адмирала А. А. Попова и клипер «Гайдамак», через неделю подошли корвет «Рында» и клипер «Абрек».
А. А. Попов стал готовиться к крейсерской войне: вычистил личный состав, отправив многих в Россию, суда перевел в Mare Island, где занялись ремонтом и перевооружением – «все суда перебывали в доке, и починки эти обошлись казне в общем в 88 000 долларов, т. е. около 130 000 рублей»[239].
В Сан-Франциско пробыли почти 10 месяцев. Для правительства Линкольна это было существенной поддержкой – военной, дипломатической, моральной.
«Северные же американцы приход наш объяснили по-своему, – вспоминал И. И. Чайковский, – <…> Жители Нью-Йорка, к немалому нашему удивлению и смущению, приход наш объяснили, что Россия прислала свою эскадру в помощь им, северным американцам, против южан. <…> Дать отчет, почему и какие основания послужили американцам для проявления к нам, русским, чувств дружбы, никто не мог, но она зародилась и окрепла в своей искренности»[240]. «Шесть дней не мог писать вам, – писал родителям Л. П. Семечкин, – потому что эти шесть дней были рядом разнообразных обедов, пикников и оваций, которыми американцы не перестают нас чествовать. Такого радушного приема я никогда не увижу более. Это какая-то былинная симпатия к русским, которая выражается на каждом шагу, каждую минуту, повсюду и людьми всех состояний»[241].
То же было и в Калифорнии: американцы приняли русских «дружелюбно, даже до крайности» (свидетельство гардемарина Н. А. Римского-Корсакова). Власти были внимательны, гостеприимны и предупредительны – русские моряки осматривали порты, укрепления, побывали в воинских частях. Среди общественности распространились слухи о тайном союзе Соединенных Штатов и России, что русские прибыли на случай вмешательства Англии и Франции в Гражданскую войну на стороне южан. Напряженная подготовка к крейсерским операциям сопровождалась балами, приемами, манифестациями в честь русских моряков в различных городах американского побережья. «Нам лично, – продолжает А. К. Де Ливрон, – это приносило только одну пользу, так как, оставаясь долго в стране, мы имели громадную практику в английском языке, но, с другой стороны, сильно страдали наши карманы; мы спустили все свои сбережения и понаделали кучу долгов в казенный сундук. Все эти бесконечные обеды, пикники, балы и вечеринки нас не только разоряли, но страшно под конец надоели; на всякое новое приглашение куда бы то ни было мы смотрели уже не иначе, как на наказание. Кроме этого, надо заметить, что в Америке как стране долларов артисты в театрах не довольствуются банальными, ничего не стоящими аплодисментами, а требуют существенных поощрений. Тут мы также поплатились нашими карманами. В Америке на сцену бросают либо печеные яблоки и яйца всмятку, либо деньги и разные ценные вещи. Офицеры наши между прочим очень симпатизировали одной миловидной актрисе по имени Miss Lotta и каждый вечер ее забрасывали либо золотыми 20-долл[аровыми] свинчатками (26 руб[лей] 40 коп.), или кусками японской и китайской шелковой материи, шарфами, шалями, платками и т. п. вещами; словом, все, что молодежью раньше предназначалось в подарок сестрам и невестам на родине, теперь щедро выбрасывалось на сцену»[242].
Очевидно, не все проводили время в Америке подобным образом. Так, несколько иначе описывает свое пребывание в Америке Н. А. Римский-Корсаков: «В чем состояло препровождение нашего времени в Америке? Присмотр за работами, стояние на вахте, чтение в значительном количестве и довольно бестолковые поездки на берег чередовались между собой. При поездках на берег, по приходе в новую местность обыкновенно осматривались кое-какие достопримечательности, а затем следовало хождение по ресторанам и сидение в них, сопровождаемое едой, а иногда и выпивкой. Больших кутежей между нами не было, но излишнее количество вина стало потребляться частенько. <…> Чтение меня значительно увлекало в то время. Кроме исторических, критических и литературных произведений отчасти интересовали меня география, метеорология и путешествия. Находясь в Америке, я выучился немного и английскому языку»[243].
Америка полюбилась русским: «Янки славные люди. Положим, они не нравятся обитателям Старого Света своею грубостью, бесцеремонностью, тем, что жуют табак и вечно плюются, но за то какая лихорадка деятельности в них, сколько энергии в труде и жизни, какая изобретательность, не говоря уже о том, что народ этот имеет самое доброе сердце». Осознавалась необходимость и возможность сближения великих народов. «Я полагаю, – продолжал Л. П. Семечкин, – что идея, которую вырабатывает Русская земля есть порядок и уважение к власти, без чего движение к идеалу невозможно, а Соединенные Штаты развивают понятие свободы, общей и частной, без которой человеку невозможно понять идеал. Дай Бог, чтобы оба народа поделились результатами своих трудов и гражданской жизни и переняли бы друг у друга то, что им нужно для полного развития. Общих черт у нас очень много; даже многие национальные привычки те же, как ни странно это кажется; значит, возможность сближения уже существует в самом корне. Главное, в чем мы сходимся – это грандиозность; в Америке все делается крупно, широко, в огромных размерах. Не то же ли самое у нас?»[244]
Русские моряки помогали тушить пожары, частые тогда в американских городах; особенно сильный в Сан-Франциско в ночь на 23 октября 1863 г., когда только помощь русских моряков (высадилось более 400 матросов с офицерами, захвативших с собой пожарный инвентарь) позволила справиться с огнем. Начальник пожарного департамента Сан-Франциско письмом благодарил адмирала А. А. Попова, а жители города, собрав по подписке деньги, отчеканили золотые медали морякам, получившим ожоги.
Экспедиция русских эскадр к американским берегам имела большое значение: предотвратив интервенцию Англии и Франции в Соединенные Штаты, способствовала победе Севера в Гражданской войне; главное же – расстроила их планы вмешательства в русские дела, к весне 1864 г. польское восстание было успешно подавлено.
Были и потери: корвет «Новик» погиб в результате навигационной аварии у мыса де-Лос-Рейес 14 сентября 1863 г. (корвет во время тумана разбился о скалы, команда спасена и расписана по другим судам эскадры, судовые деньги и платье команды спасены, остатки корвета проданы с аукциона за 1700 долларов); да сбежали поляки (офицер, доктор и 7 матросов).
1 августа 1864 г. эскадра, уже под командой контр-адмирала И. А. Ендогурова, покинула берега Калифорнии.
* * *
10 февраля 1864 г. мичман П. Дурново был переведен на корвет «Богатырь»[245] под командованием капитан-лейтенанта К. Г. Скрыплева. Корвет нес флаг командующего эскадрой.
Плавание в составе эскадры и особенно пребывание на флагмане имело для П. Дурново большое значение. Здесь он не мог не испытать влияния А. А. Попова, «плодотворная деятельность которого, – по словам А. Н. Крылова, – принесла огромную пользу русскому флоту. Командуя эскадрой, Попов был истинным учителем офицеров флота». Передавая слышанное от помощника начальника Балтийского завода, капитана II ранга Н. А. Быкова, бывшего мичманом на «Богатыре» три года, А. Н. Крылов пишет: «Попов отвел салон адмиральского помещения для занятий офицеров, предоставив им свою богатую библиотеку. Когда корвет шел в какой-нибудь порт, адмирал предлагал офицерам ознакомиться по литературе с этим портом и отметить его экономическое, военное и промышленное значение. Пока корвет стоял в этом порту, он отпускал офицеров на берег, приказывая кошельки оставить на корабле, а ревизору – дать денег на расходы. Офицеры должны были сверить сведения, полученные из книг, с действительностью, а один из них – сделать в назначенный день доклад в присутствии остальных офицеров корвета и приглашенных с эскадры. После доклада происходили прения, в которых принимал участие и сам адмирал. Чтобы лучше познакомиться с офицерами, Попов часто переводил их на флагманский корвет с других кораблей эскадры. Таким образом, офицеры не только учились на эскадре Попова морскому делу, но и пополняли свое общее образование»[246].
А. А. Попов «считался отличным морским офицером Лазаревской школы; он и сам в свою очередь воспитал во флоте целую плеяду бравых и знающих офицеров. <…> Андрей Александрович был очень требователен по службе и никому ни одного промаха никогда не спускал. Подчас горячился и кричал на виноватых, но потом все снова сглаживал и мирился, как будто сам чувствовал себя виноватым. Более нерадивые и не любившие морскую службу или штатские, как их называли, никогда не прощали ему его горячности и всегда заочно называли его брызгасом. <…> Попов был добрый, отзывчивый и очень справедливый начальник. <…> Такого начальника нельзя было не любить и глубоко не уважать»[247].
Эту характеристику А. А. Попова подтверждает, несколько дополняя, адмирал Д. С. Арсеньев: «Андрей Александрович Попов был добрый и сердечный человек, но страшно горяч и большой фантазер и с подчиненными держал себя очень неровно, то по доброте своей допуская излишнюю фамильярность, то в припадках гнева жестоко оскорбляя людей. Но тем не менее он был замечательный эскадренный начальник и доводил суда своей эскадры до высшей степени боевой готовности и подвижности и образовал многочисленную школу бравых и лихих офицеров»[248].
А. А. Попов обладал качествами вождя: «был всей душой предан делу и умел воодушевлять к работе и своих подчиненных; <…> был бесспорно человек выдающегося ума, железной воли и непоборимой настойчивости. Командуя эскадрой в Тихом океане, он сумел вызвать в личном составе дух лихой отваги, любовь к морскому делу и пытливость, готовую бороться с мертвящею рутиной. Морское дело он знал в совершенстве»[249].
Будучи требовательным, А. А. Попов ценил смелых и толковых подчиненных, берег и умел прощать им их ошибки. Так, Морской генерал-аудиториат, рассмотрев обстоятельства гибели корвета «Новик», «нашел командира капитан-лейтенанта Скрыплева виновным» и полагал, что он «подлежит исключению из службы», но должен был принять во внимание «весьма хороший отзыв начальника эскадры» и рекомендовал отрешить от должности командира. Царь стал на сторону командующего и положил Скрыплева «никакому взысканию не подвергать». А. А. Попов назначил его командиром «Богатыря»[250].
А. А. Попов хорошо разбирался в людях и любил опекать талантливую молодежь. Так, обратив внимание на одаренного кадета С. Макарова, «отнесся к воспитаннику с отеческой заботливостью» (А. Н. Крылов).
Благотворное влияние командующего не исчерпывалось его личностью. «При старшем офицере С. П. Тыртове и при непосредственном влиянии выдающейся личности Андрея Александровича Попова на “Богатыре” выработался дух искренней, можно сказать, страстной преданности морскому делу, охвативший в особенности молодых офицеров и корабельных гардемарин, в числе которых были выдающиеся по своим дарованиям и любознательности личности. Некоторые из них приняли молодого кадета [Макарова] под свое особое покровительство, учили его морскому делу и давали уроки по английскому и французскому языкам и т. п. В памяти С. О. Макарова корвет “Богатырь” на долгие годы оставался идеалом военного корабля, и он о каждом из тогдашних сослуживцев своих всегда вспоминал с особой любовью и благодарностью»[251].
Мичман П. Дурново и кадет С. Макаров были на «Богатыре» одновременно более двух месяцев (с 10.02. по 21.04.1864).
21 апреля 1864 г. П. Дурново переведен на клипер «Гайдамак» под командованием старого знакомого А. А. Пещурова, а гардемарин А. Бирилев – с «Гайдамака» на «Богатырь»: здесь он сдаст экзамен и 1 июня будет произведен в мичманы. На «Гайдамаке» П. Дурново плавал у берегов Северной и Южной Америки до конца июня. Здесь он снова встретился с Ф. К. Авеланом, теперь уже лейтенантом.
27 июня 1864 г. П. Дурново перешел на корвет «Рында»[252] под командованием лейтенанта Н. А. Фесуна и вернулся в Кронштадт и с 25 ноября ушел в первый, шестимесячный, отпуск с сохранением содержания; вернулся из отпуска раньше срока.
1 января 1865 г. П. Дурново награжден орденом св. Станислава III ст., а 4 апреля произведен в лейтенанты (получать он стал 400 руб. жалования и 171 руб. 60 коп. квартирных).
С 8 апреля по 16 августа 1865 г. лейтенант П. Дурново плавает в Балтийском море на мониторе «Ураган»[253] под командою Н. А. Фесуна, затем по 1 января 1866 г. – на берегу (Кронштадт, 2-й флотский экипаж).
С 18 августа 1866 г. по 14 июля 1867 г. П. Дурново в плаваниях по Атлантическому океану и Балтийскому морю на фрегате «Светлана»[254] под командою капитан-лейтенанта Я. М. Дрешера. Фрегат был знаком: 8 лет назад П. Дурново в группе гардемарин, будучи в Бордо во время своего первого заграничного плавания, ходил на вооружение и отделку строящегося там фрегата.
Плавание было учебным: кроме 99 гардемарин и кондукторов в состав команды фрегата было послано из разных экипажей 90 рядовых нижних чинов, отобранных по способностям, нравственным и служебным качествам для подготовки из них унтер-офицеров для флота; программы не было, разработать ее было поручено Я. М. Дрешеру.
Эти 189 человек были разделены на отделения – 4 гардемаринских и 4 матросских. Начальником одного из отделений гардемарин был лейтенант П. Дурново. Среди гардемарин старшего выпуска был Григорий Чухнин (1848–1906), будущий Главный командир Черноморского флота и портов Черного моря.
По расписанию П. Дурново должен был стоять на вахте, при авралах и при снятии с якоря – быть на баке, в бою – при заделывании пробоин, командовать вельботом № 2, при абордаже – 1-м взводом стрелковой партии, при пожаре – 9-м дивизионом, заниматься 3-м отделением молодых матросов. Назначался членом комиссий, создаваемых по различным поводам (утонул матрос, пьяный матрос обругал боцмана и т. п.).
10 июня 1867 г. П. Дурново был награжден орденом св. Анны III ст.
16 сентября 1867 г. лейтенант П. Дурново идет в такое же учебное плавание с корабельными гардемаринами и снова под командою Я. М. Дрешера, но уже на фрегате «Дмитрий Донской»[255] по маршруту Кронштадт – Нибург – Плимут – острова Зеленого мыса – Рио-де-Жанейро – мыс Доброй Надежды – Плимут – Киль – Кронштадт. Я. М. Дрешер привлек П. Дурново к разработке программы подготовки гардемарин. В приказе от 10 октября 1868 г. он писал: «Предвидя еще в прошлом плавании ныне последовавшие перемены, я тогда же предложил лейтенанту Дурново, как уже две кампании плававшем на фрегате и, следовательно, более других имевшем возможность ознакомиться с сущностью дела и со всеми его слабыми сторонами, представить мне письменно его мнение как о возможных изменениях в существующем порядке, так и об изменениях в судовом быте гардемарин и в программе занятий с ними. Лейтенант Дурново сочувственно исполнил мою просьбу, и я, соглашаясь с ним в общем характере предложенных им изменений, а также в программе занятий морским делом, думаю, однако же, что опыт и время вызовут некоторые изменения и улучшения»[256].
П. Дурново этого времени характеризуется как «очень сведущий и умный офицер»[257]. Среди его подопечных – старый знакомый С. Макаров, произведенный 14.07.1867 г. «за выслугу лет и по экзамену» в гардемарины с назначением в Балтийский флот.
Во время плавания проходили экзамены. С. Макаров получает высшие оценки по всем предметам. Командиры отделений характеризовали гардемарин. П. Дурново дал С. Макарову следующую: «Морское дело знает очень хорошо; по службе очень исправен и распорядителен. Поведения отличного. Знает английский язык». Я. М. Дрешер: «Вполне согласен с отзывом начальника отделения и считаю долгом присовокупить, что желательно бы было видеть всех гардемарин столь много обещающими в будущем»[258]. 9 июля 1868 г. П. Дурново награжден годовым окладом (400 рублей; Дрешер объявил полученную телеграмму).
По окончании плавания фрегат стал в док, команда разместилась в казарме; лейтенанты посуточно дежурили; П. Дурново еще и член комиссии по контролю за заготовкой провизии (засолка мяса, квашение капусты, выпечка сухарей и т. п.) и ее приему.
И еще одно учебное плавание лейтенанта П. Дурново в качестве начальника отделения гардемарин на том же фрегате «Дмитрий Донской» под командой Я. М. Дрешера, теперь уже капитана II ранга, с 17 сентября 1868 г. по 28 мая 1869 г. по маршруту: Кронштадт – Киль – Шербур – Лиссабон – Мадейра – острова Зеленого мыса – Бахия – Рио-де-Жанейро – Плимут – Киль – Кронштадт. Среди гардемарин – ставшие в будущем известными А. С. Кротков, М. О. Меньшиков, З. П. Рожественский, П. П. Ухтомский, С. О. Макаров (начальство нашло, что прошлого плавания недостаточно).
В конце этого плавания, на переходе в Плимут, по вступлении в северный тропик, был произведен экзамен гардемаринам обоих выпусков. В приказе командира фрегата от 15 апреля 1869 г. говорилось: «Гардемарины старшего выпуска выдержали испытание это столь удовлетворительно по всем частям, как еще ни один старший выпуск не выдерживал такового экзамена в три года командования мною учебным фрегатом. Особенно выдавались гардемарины 2-го отделения, не отказавшиеся ни от одного вопроса билетов <…>. Их записки из морского дела свидетельствуют также и о добросовестном труде в занятиях, и время свободное, предоставленное им в нынешнюю кампанию в некотором избытке против предшествующих, не было упущено без пользы в разрешении тех задач, которые были им задаваемы начальником отделения. Как за таковые успехи в отделении, так и за окончание программы, следовательно – совершенное выполнение приказа, и вообще за полное и сочувственное содействие принесть возможную пользу делу – на нашу долю выпавшему, не могу не изъявить полной признательности моей Лейтенанту Дурново.
Далеко не такими результатами увенчался экзамен младшим гардемаринам, из 33 человек которых только 9 выдержали экзамен удовлетворительно; остальные затем поразили экзаменационную комиссию своими слабыми познаниями; <…> я допустил переэкзаменовку этим гардемаринам и назначил время <…> – последний переход в Кронштадт»[259].
В этом старшем выпуске был и С. Макаров; средний балл его – 3,1, это – третье место, у первого – 3,6, у второго – 3,3. П. Дурново дает ему блестящую аттестацию: «Примерным знанием дела, расторопностью, усердием, исправностью резко выделяется из среды прочих гардемарин. Начитан, любознателен и обещает много в будущем. Знает английский язык». Я. М. Дрешер подтвердил: «С отзывом об этом отличном молодом человеке вполне согласен»[260]. С. Н. Семанов в связи с этим справедливо замечает: «Лейтенант Петр Дурново умел разбираться в людях»[261].
В 1868 г. П. Дурново аттестован следующим образом: «Все, относящееся до своего звания, знает прекрасно и к службе вполне достоин. Усерден и справен». Нравственности – «отличной». В 1869 г.: «Сведущий и любящий службу и дело офицера. Очень усерден и исправен». Нравственности – «отличной»[262]. 9 июня 1869 г. П. Дурново награжден орденом св. Станислава II ст.
12 августа 1869 г. лейтенант П. Дурново откомандирован на Черное море для учебных плаваний с гардемаринами. С 1 октября 1869 г. по 22 апреля 1870 г. он в плавании по Черному и Средиземному морям на корвете «Память Меркурия»[263] под командою капитан-лейтенанта Д. Ф. Юрьева.
6 июля 1870 г. П. Дурново возвратился из командировки; 15 июля награжден годовым окладом жалования (400 рублей). С 15 июля по 29 августа был в отпуске.
В прокуратуре
В августе 1870 г., выдержав с успехом одновременно вступительный, переходной и выпускной экзамены в Военно-юридической академии, 27-летний лейтенант I флотского экипажа П. Дурново был постановлением Конференции Совета академии занесен в списки окончивших академию по первому разряду и получил права и преимущества окончившего курс академии и право на ношение установленного академического знака[264].
Это был блестящий итог целеустремленной работы на протяжении ряда предшествующих лет. В данном случае П. Дурново реализовал возможности, созданные военно-судебной реформой, когда было признано необходимым назначать постоянных членов военных судов из числа офицеров, получивших юридическое образование. По Положению, в Военно-юридическую академию стали принимать офицеров в чинах не выше штабс-капитана гвардии или капитана других родов войск, прослуживших не менее 4-х лет в офицерском звании.
Изучаемые в академии предметы делились на главные (уголовное, гражданское, государственное и военно-уголовное право, уголовное и военное судопроизводство, военно-административные законы) и вспомогательные (энциклопедия права с историей философии права, история русского права, финансовое, полицейское, церковное и международное право, гражданское судопроизводство, политическая экономия, судебная медицина с анатомией и физиологией, психология и логика, история русского военного законодательства и военно-уголовные законы других государств); изучались также русский, французский и немецкий языки; предусмотрены были практические занятия по военному судопроизводству. К концу курса слушатель обязан был подготовить и доложить письменную работу на заданную тему по одному из главных предметов, которая оценивалась профессорской комиссией.
Окончившие по I разряду производились в следующий чин или – вместо производства в капитаны гвардии и подполковники других родов войск – получали годовой оклад жалования и причислялись к Главному военно-судному управлению с последующим назначением на должность. Окончившие академию по II разряду возвращались в свои части.
Статус Военно-юридической академии был высок: в нее принимались офицеры, окончившие юридические факультеты университетов, а также другие военные академии; ее выпускники приравнивались по положению к выпускникам академии Генерального штаба.
Среди профессоров академии были знаменитости: Н. А. Коркунов, В. Д. Кузьмин-Караваев, С. А. Бершадский, Н. Д. Сергеевский, ставший позднее сочленом П. Дурново по Государственному Совету, и другие.
8 сентября окончившие курс Военно-юридической академии были приняты императором в Царскосельском дворце.
6 октября 1870 г. П. Дурново был причислен к Главному военно-морскому судному управлению с прикомандированием к 8-му флотскому экипажу, а 21 ноября назначен помощником прокурора при Кронштадтском военно-морском суде (он стал получать 900 рублей жалования, 900 столовых и 450 квартирных)[265].
Что касается причин, побудивших П. Н. Дурново оставить военно-морскую службу, то они очевидны: во-первых, жалование офицеров флота всегда было «весьма ограниченное»[266] (Семья А. П. Нордштейна, пишет Д. Ф. Мертваго, была «истинно флотская, т. е. всю свою жизнь нуждавшаяся в средствах к жизни. Рядовая служба во флоте крайне скудно оплачивалась государством»[267]), во-вторых, «тугость карьеры в морской службе (даже М. П. Лазарев был в 30 лет еще только лейтенантом»[268]) – честолюбивый П. Дурново не мог с этим смириться.
Военно-морской прокурор Кронштадтского военно-морского суда имел двух помощников. Их задача состояла в наблюдении за производством предварительного следствия, составлении заключения, затем – обвинительного акта и поддержании обвинения в суде. В большей части дела были малоинтересные: побеги со службы, несвоевременная явка на мобилизационные пункты, неисполнение приказаний, оскорбление начальников и т. п.
Дела у П. Дурново шли неплохо (1.01.1872 г. награжден 400 рублями), однако, не проработав и полутора лет помощником прокурора, П. Дурново был уволен 1 апреля 1872 г. по прошению, с награждением чином коллежского асессора, для определения к статским делам.
3 апреля 1872 г. приказом по министерству юстиции П. Н. Дурново назначен товарищем прокурора Владимирского окружного суда.
«Переход Дурново на гражданскую службу совпал с введением в действие судебных уставов 1864 года, – пишет В. И. Гурко. – Вместе с целой плеядой талантливых сверстников он содействовал, состоя в рядах прокуратуры, созданию нашего нового суда, отличавшегося твердой законностью и независимостью от воздействия административной власти. <…> Теория Монтескье о разделении властей представляла в то время для суда нечто совершенно непреложное. Гр[аф] Пален, вводивший в действие новые судебные уставы, стремясь высоко поднять знамя судейской беспристрастности, доходил до того, что даже требовал, чтобы представители прокуратуры и суда не имели сколько-нибудь близких отношений с представителями других отраслей государственного управления и даже местным обществом. В прокуратуре Пален видел недремлющее око правосудия, бдительно следящее за всякими отступлениями от строгого соблюдения действующих законов, а тем более – за личными правонарушениями, совершенными представителями власти. По мнению гр[афа] Палена, такое беспристрастие и постоянное наблюдение возможно было осуществить лишь при отсутствии личной приязни между представителями власти надзирающей и привлекающей к ответственности, т. е. прокуратурой, с органами власти управляющей – администрацией»[269].
В этих условиях П. Н. Дурново, надо полагать, не выбивался из общей колеи, сделав относительно быструю карьеру: с 1 июня 1873 г. он переведен товарищем прокурора Московского окружного суда (приказ по министерству юстиции от 4.06.1873 № 28), 28 августа 1875 г. назначен прокурором Рыбинского окружного суда (приказ от 7.08.1875), 27 ноября 1875 г. переведен прокурором Владимирского окружного суда (приказ от 27.11.1875), а 4 июня 1880 г. назначен товарищем прокурора Киевской судебной палаты; дважды награждался орденами (св. Анны II ст. 31.12.1876 г. и св. Владимира IV ст. 1.01.1880); произведен (за выслугою лет) в надворные (26.07.1876) и коллежские (2.07.1880) советники.
«Я сам, – пишет С. Ю. Витте, – несколько раз слышал от графа Палена, который был министром юстиции в самые лучшие времена новых судебных учреждений, в первое десятилетие после их постепенного введения, что он уже тогда, в семидесятых годах, хорошо знал судебного деятеля Дурново и ценил его способности и энергию»[270].
Однако далеко не все разделяли взгляды и политику К. И. Палена. «Наш новый суд, – полагал В. И. Гурко, – в течение продолжительного срока после его образования, несомненно, действовал вне условий времени и пространства, преследуя лишь один идеал отвлеченной справедливости». «При всей возвышенности этого идеала, – продолжает В. И. Гурко, – доведенный до крайности, он представлялся в интересах общегосударственных спорным. Само собою разумеется, что пока дело идет о неуклонном привлечении представителей власти за всякие правонарушения, совершенные ими ради каких бы то ни было личных, в особенности корыстных, целей, идеал этот не подлежит ни малейшей критике. Иное представляется, когда надзор этот приобретает характер придирок к администрации и систематического ее развенчания в глазах общества за несоблюдение ею всех требований закона при обеспечении в стране спокойствия и порядка. Оторванность прокуратуры от общего государственного управления проявилась в особенности при рассмотрении преступлений политических». К. И. Пален, внедряя «в судебных деятелей мысль, что они не часть одного государственного механизма, а представители общественной совести, парящие в области отвлеченной справедливости и обязанные совершенно отречься от практических соображений реальной действительности и общих видов государственной власти», переступил основы теории Монтескье о разделении властей: они стали противоположны и антагонистичны[271].
«Наиболее дальновидные, обладающие широким государственным пониманием интересов страны судебные деятели это вполне понимали. К их числу, несомненно, принадлежал П. Н. Дурново». В. И. Гурко допускает тут и личные мотивы: «Возможно, содействовало ему в этом и правильное понимание собственных выгод, так как в конечном счете отмежевание судебных деятелей в особую касту ограничивало их дальнейшую службу скудно оплачиваемой и крайне медленной судебной карьерой. Путь этот не сулил Дурново удовлетворения присущих ему в широкой мере властолюбия и честолюбия, а потому он и не замедлил при первой возможности покинуть судебную должность»[272].
Вместе с тем служба по судебному ведомству дала немало: он основательно познакомился с провинциальной жизнью, приобрел бесценный практический опыт. Позднее, уже в Государственном Совете, делился своими прокурорскими впечатлениями: «У нас в России иногда происходит странное явление. Рядовой крестьянин <…> пока он живет честно и трудолюбиво работает, он никакого понятия не имеет о том, что в европейском смысле называют удобством: ютится он с семьей в тесной избе не более 5 квадратных сажен, четверть или треть этой избы занимается печью, под лавками воспитываются куры, в углу где-нибудь лежит теленок, спят все на полу или на лавках, все начальство говорит этому крестьянину “ты”, все не стесняются ни в словах, ни часто в жестах при объяснениях. Но стоит ему только украсть, сейчас начальство начинает ему говорить “вы”, затем архитекторы начинают измерять, сколько кубов воздуха в той камере, в которой его запрут, все беспокоятся о пище. Еще на моей памяти, когда я был товарищем прокурора, я помню, осматривал массу тюрем и там спрашивал арестантов: “довольны ли вы всем?” и многие мне отвечали: “вот, говорят, дают нам одни щи, а следовало давать и щи, и кашу”. <…> Я помню, на своем веку объехал все тюремные замки Московской и Владимирской губерний и везде содержали арестантов иногда даже вдвое больше, чем полагалось по штату и чем простор тюрем это дозволял. Арестанты, разумеется, спали и на полу, и на нарах. Никаких заразительных болезней, никаких усиленных побегов не замечалось»[273].
В Министерстве внутренних дел
28 октября 1881 г. 39-летний П. Н. Дурново был назначен управляющим Судебным отделом МВД, созданном при Департаменте государственной полиции для ведения дел по дознаниям о государственных преступлениях. Сделано это было в русле проводимой директором Департамента политики обновления личного состава[274].
Директором Департамента полиции был В. К. Плеве[275]. «Это был человек далеко не заурядный, широко образованный, проведший лучшие свои годы на службе по судебному ведомству вплоть до должности прокурора Петербургской судебной палаты. Обязанный в своей служебной карьере только своим способностям, В. К. Плеве был назначен директором Департамента полиции одновременно с упразднением III отделения с. е. и. в. канцелярии, ведавшего до тех пор всею деятельностью Корпуса жандармов. Таким образом, на долю В. К. Плеве выпала задача полной реорганизации всего полицейского дела в России»[276]. При этом он «проявил способности, приведя в порядок и наладив сыскную часть, до того времени находившуюся в хаотическом состоянии; создал охранные отделения и более действенную постановку политического розыска»[277]. Начал он с привлечения в департамент молодых юридических сил «для внедрения в нем начал законности»[278].
П. Н. Дурново и В. К. Плеве были почти ровесники (первый старше на 3,5 года); в одно время служили в прокуратуре (Плеве – с 1867 г., Дурново – с 1870); географически близко, а иногда – в одних и тех же местах (Москва, Владимир, Киев), правда – в разное время; прошли одни и те же ступени служебной лестницы (товарищ прокурора, прокурор) и, хотя пути их не пересекались, они, несомненно, знали друг о друге и, возможно, были знакомы лично. К началу их совместной службы Плеве был действительным статским советником, Дурново же – коллежским советником.
Плеве в этот период его деятельности, по свидетельству современника, «совмещал в себе немало достоинств – значительный ум, громадную память и способность работать без отдыха; не было такого трудного дела, которым он не в состоянии был бы овладеть в течение самого непродолжительного времени. Нечего, следовательно, удивляться, что он быстро сделал карьеру, на всяком занимаемом им месте он считался бы в высшей степени полезным деятелем, а для графа [Д. А.] Толстого был настоящей находкой. <…> Но это хорошая сторона медали, была и обратная. Государь [Александр III] с своим здравым смыслом выразился однажды о Плеве очень верно. Граф Толстой, отправляясь на лето в деревню, просил, чтобы дозволено было Плеве являться в Гатчину с докладами, причем отозвался с похвалами об его отличных убеждениях. “Да, у него отличные убеждения, – возразил государь, – пока вы тут, а когда не будет вас, то и убеждения у него будут другие”. <…> Можно усомниться, чтобы Плеве относился с сердечным участием к чему-либо, кроме своих интересов. От этого человека, со всеми отменно вежливого, невозмутимо спокойного, не способного проронить в разговоре ни одного лишнего слова, никогда не возвышавшего интонацию голоса, как-то веяло холодом. Всякий инстинктивно сознавал, что было бы опасно довериться ему; со всеми старался он быть в одинаково хороших отношениях, чтобы не закрывать самых разнообразных путей для своей карьеры. Несмотря на свои недостатки – повторяю еще раз – он приносил на службе значительную пользу и оказался бы еще несравненно полезнее, если бы направляла его более сильная рука. Стоял он высоко, особенно по сравнению с другими лицами, окружавшими Толстого»[279].
«В начале восьмидесятых годов <…> Плеве, – утверждал С. Ю. Витте, – еще не износил свою либеральную шкуру, в которой он преклонялся перед графом Лорис-Меликовым, хотевшим положить начало народного представительства, и затем перед графом Игнатьевым, носившимся с идеей Земского собора»[280].
Другие современники подтверждают свидетельство Е. М. Феоктистова, правда, имея в виду уже Плеве-министра.
И. И. Янжул: «Он много читал, наблюдал и думал и, к моему большому удовольствию, оказался очень начитанным в произведениях <…> Салтыкова-Щедрина. Зная его лично за много лет и притом на деле <…> за очень умного и способного человека и вовсе не такого прямолинейного консерватора, каким был <…> Н. П. Боголепов, а способного на уступки, где это требовалось временем или вызывалось необходимостью, я надеялся, что Плеве может сделать для России много добра и пользы. <…> Россия, я убежден, лишилась через это [убийство Плеве] мирного и благополучного разрешения многих трудных вопросов»[281].
Напутствуя П. П. Заварзина, назначенного начальником охранного отделения в Кишинев, В. К. Плеве говорил: «Еврейские беспорядки в Кишиневе дискредитировали местную власть и осложнили положение в центре. Такие явления совершенно недопустимы. Губернатор и вы должны работать согласованно и всячески ограждать население от всяких насилий». «Многие недолюбливали Плеве, – продолжает П. П. Заварзин. – Не говоря уже о левых кругах, преувеличенно считавших его олицетворением реакции; не любили его и придворные и высокочиновный Петербург за то, что он не принадлежал к их среде и был неумолимым врагом какой бы то ни было протекции. Кроме того, он представлял собой полный контраст своему предшественнику Сипягину, человеку с большими родственными связями в петербургском свете, которого называли “русским барином”. Плеве для большого света был только бюрократом, не считавшимся с его обычаями и ревниво оберегавшим свое министерство от посторонних вмешательств и влияний. Плеве твердо стоял на том, что с революционерами надо бороться, беспощадно нанося удары верхам партий, но вместе с тем считал необходимым вводить в жизнь назревшие изменения законодательным порядком»[282].
«Действительно, – подтверждает В. И. Гурко, – первой мыслью Плеве при вступлении в управление Министерством внутренних дел было ввести в состав Государственного совета представителей высших слоев общественности. <…> Плеве принялся за изучение возникавших в прежнее время предложений о привлечении выборного элемента к участию в законодательстве страны. Он извлек с этой целью из архивов проекты Валуева, Лорис-Меликова и гр. Н. П. Игнатьева, последовательно разрабатывавшие образование высшего законосовещательного учреждения, включающего элементы общественности. С присущей ему осторожностью и постепенностью знакомил он с этими проектами государя, не вводя при этом в свои планы своих сотрудников. <…> Одновременно постарался он войти в ближайшие сношения с земскими лидерами в лице наиболее в то время видного из них, а именно Д. Н. Шипова»[283].
Да и С. Ю. Витте, при всей своей неприязни к Плеве, признавал: «Несомненно, очень умный, очень опытный, хороший юрист, вообще человек очень деловой, в состоянии много работать и очень способный. <…> Каковы в действительности мнения и убеждения Плеве – об этом, я думаю, никто не знает, да, полагаю, что и сам Плеве этого не знает. Он будет держаться тех мнений, которые он считает в данный момент для него выгодными и выгодными для того времени, когда он находится у власти. <…> Плеве – несомненно даровитый и чрезвычайно способный человек; он имеет очень большой опыт как по своей судебной карьере, так и по административной»[284].
«Это был самый выдающийся по уму и твердой воле человек из всех современных сановников, – делился с женою А. В. Кривошеин. – <…> Как начальник он часто бывал труден, но зато при нем была полная уверенность, что когда нужно, он не даст в обиду и не обидит сам»[285].
В Департаменте государственной полиции (с 18.02.1883 г. – Департамент полиции) дела П. Н. Дурново сразу пошли успешно: менее чем через год, в августе 1882, он остался за директора Департамента, ушедшего в отпуск, и был произведен по докладу министра за отличие в статские советники (высочайший приказ по МВД за № 36 от 30.08.1882 г.).
Вот одно из конкретных его дел. «Обнаружилось, – рассказывал П. Н. Дурново четверть века спустя, – что людей отдавали под полицейский надзор без всяких правил, без всяких регламентаций все министры, до Министра Государственных Имуществ включительно, все губернаторы, все Генерал-Губернаторы, и, наконец, все начальники жандармских управлений. Таким образом, накопилось число поднадзорных 12 000–15 000, и никто не знал, состоит ли или не состоит под надзором. Когда, после очень тяжкой работы, все дела были разобраны и около 10 000 человек были совершенно отброшены как не подлежащие надзору, 2000 оставлены под надзором, то тогда были изданы подробные правила о гласном полицейском надзоре». Было это в 1882 г. Надзор этот был весьма суровый, однако было покончено с произволом: теперь, по Положению, гласный полицейский надзор учреждался по представлению губернатора, губернатор рассматривал те данные, которые ему доставляли полицейские или жандармские чины, затем дело поступало в Совещание при МВД, где присутствовали по два представителя от министерства юстиции и от МВД, председательствовал товарищ министра. «Я сам, – вспоминал П. Н. Дурново, – в этих совещаниях много раз председательствовал и десять лет состоял членом и по совести могу сказать, что дела в этом совещании рассматриваются настолько добросовестно, насколько вообще в административных учреждениях наших рассматриваются и разрешаются всякие дела»[286].
Через полгода, 18 февраля 1883 г., П. Н. Дурново назначен вице-директором Департамента полиции с окладом в 5 тыс. рублей и тут же, 22 февраля, по предложению министра на него возложено исполнение юрисконсультских обязанностей по Министерству внутренних дел (исполнял до 3.12.1884). 15 мая 1883 г. произведен по докладу министра, «за отлично усердную службу», в действительные статские советники и получил бронзовую медаль в память коронования Александра III.
В 1883 г. министр возложил на вице-директора Департамента полиции «обозрение настоящего состояния и деятельности С.-Петербургской полиции». Поручение это было «исполнено им вполне успешно».
26 апреля 1884 г. П. Н. Дурново командирован в государства Западной Европы «для ознакомления с устройством полиции в многолюдных городах <…> и с теми приемами, путем которых достигается в них надзор за беспокойными и вредными элементами населения, дабы эти приемы применить у нас с соответственным изменением в устройстве полиции» (Ордер министра внутренних дел от 7.04.1884 г. за № 1426). Результатом было обозрение полицейских учреждений Парижа, Берлина и Вены при рапорте от 12 июня 1884 г. При этом обозрение учреждений Парижа, подчеркнул П. Н. Дурново, «составлено на основании моих личных наблюдений».
«Весьма признателен Г. Дурново за этот основательный труд, – написал министр на рапорте. – Прошу сделать из него извлечение о численном составе и стоимости содержания полицейских чинов в этих трех городах и сравнение с таковыми в Петербурге и Москве, а также составить соображение о том, во сколько, следуя примеру других столиц, надлежало бы усилить полицию в Петербурге и Москве и что это стоило бы»[287].
С уходом В. К. Плеве в Сенат (21.7.1884) П. Н. Дурново вступает в должность директора Департамента полиции, а 23.08 назначается и. д. директора Департамента[288] и быстро закрепляется на этом месте: с 1 января 1885 г. он директор. В связи с этим, по распоряжению тов. министра, из секретных сумм Департамента ему выдано 3 тыс. рублей на наем и содержание квартиры. П. Н. Дурново шел 42-й год, для бюрократа такого уровня – возраст молодой.
Департамент полиции был важнейшим в министерстве внутренних дел. Это определялось как стоящими перед ним задачами (охрана общественной безопасности и порядка, предупреждение и пресечение преступлений), так и все более усложняющейся внутриполитической ситуацией в империи (образование и деятельность «Народной воли», распространение марксизма, зарождение организованного рабочего движения). Объектом его деятельности были политические организации, партии, общества, культурно-просветительские учреждения, российские подданные за границей. Департамент ведал полицией (городской, уездной, речной, фабричной), охранными отделениями, адресными столами, пожарными командами; тесно взаимодействовал с Отдельным корпусом жандармов. Курировал работу Департамента товарищ министра, бывший одновременно и командиром корпуса жандармов.
В Департаменте было пять делопроизводств: первое (распорядительное) ведало личным составом полиции и занималось общеполицейскими делами; второе (законодательное) разрабатывало законопроекты, инструкции, циркуляры, а также ведало делами об изготовлении и хранении взрывчатки; третье (секретное) занималось политическим розыском, руководило внутренней и заграничной агентурой, обеспечивало охрану императора, наблюдало за деятельностью революционеров, ведало финансовые дела; четвертое наблюдало за производством жандармскими управлениями дознаний по государственным преступлениям; пятое готовило доклады для Особого совещания по административной ссылке политически неблагонадежных и осуществляло гласный и негласный надзор.
Структура Департамента полиции при П. Н. Дурново «не претерпевала сколько-нибудь существенных изменений»; основное внимание «уделялось “отлаживанию” деятельности Департамента в том виде, в котором его оставил Плеве, а также приспособлению ее к решению новых задач», обусловленных «выходом на общественно-политическую арену новых социальных сил»[289]. Обновление личного состава Департамента за счет представителей суда и прокуратуры было продолжено. Реорганизована русская полицейская служба в Европе. Повышена эффективность деятельности всех звеньев Департамента полиции.
6 октября 1884 г. удалось арестовать в Петербурге Г. А. Лопатина и Н. М. Салову, а 16 ноября в Харькове – И. Л. Манучарова, в Харькове 1 мая 1885 г. – П. Л. Антонова, а 2 мая – С. А. Лисянского, 27 января 1886 г. в Петербурге – членов группы «Рабочий», 22 февраля в Екатеринославе – Б. Оржиха, 1–2 марта 1887 г. в Петербурге – готовивших покушение на Александра III, обнаружить динамитную мастерскую и типографию, в 1890 г. – Ю. Раппопорта и главу поволжских народовольцев М. В. Сабунаева[290].
В 1886 г. была ликвидирована в Женеве подпольная типография «Народной воли». В Париже обнаружена конспиративная квартира Л. А. Тихомирова и установлено за нею наблюдение. П. И. Рачковский «разработал» Л. А. Тихомирова и он порвал с революционной деятельностью, обратившись к Александру III с прошением о помиловании.
П. И. Рачковский организовал эффективную дискредитацию русской революционной эмиграции во французской прессе.
Были раскрыты планы покушения на Александра III и французских министров – «бомбисты» были арестованы французской полицией и осуждены французским судом (1890)[291].
Об энергии, оперативности, напористости и жесткости Дурново-директора департамента полиции свидетельствует история разгрома революционного кружка в Ярославле в июне 1886 г.[292]. Получив сведения о принадлежности студента Ярославского лицея П. П. Бессонова к революционной партии, П. Н. Дурново 4 июня распоряжается через начальника Московского охранного отделения «о немедленном производстве обыска у Бессонова». Обыск дал результаты, и студент был арестован. 13 июня начальник Ярославского жандармского управления получает телеграмму директора департамента полиции: «Прошу содержать под стражей Бессонова и немедленно арестовать Жирянову, Введенского, Чумаевского и, безусловно, всех, имевших с Бессоновым подозрительные отношения, укрывавших нелегального и на которых падает хотя бы малейшее подозрение в знакомстве с ним; в случае отсутствия достаточных данных к аресту сих лиц по формальному дознанию, содержите их под стражей на основании 33 ст. об усиленной охране и без разрешения департамента полиции никого не освобождайте. Дурново».
17 июня, соглашаясь с предложением прокурора Московской судебной палаты передать дознание по делу Бессонова для дальнейшего производства в Московское губернское жандармское управление, П. Н. Дурново пишет: «Предшествовавшие аресту Бессонова обстоятельства приводят меня к убеждению о нахождении в Ярославле значительного числа лиц, способствовавших укрывательству нелегальных, избравших означенный город своим притоном. Вследствие сего и в видах пресечения членам преступного сообщества возможности находить себе впредь безопасный приют в Ярославле, мною сделано распоряжение об аресте всех лиц, на которых падает хотя бы малейшее подозрение в сношениях с Бессоновым и Цыпенко и в укрывательстве последнего».
Поскольку время было каникулярное и студенты успели разъехаться по родным местам или поступили на службу, то аресты были произведены в Московской, Ярославской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Новгородской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Уфимской и Тульской губерниях и коснулись лиц, уже больше года покинувших Ярославль. Было арестовано «около 50 человек» и среди них, кроме студентов, 3 уже окончившие лицей, 2 офицера, 2 народные учительницы, 2 бывших семинариста, 3 бывших гимназиста, 5 служащих различных учреждений, помощник присяжного поверенного, шляпница, содержательница столовой, 2 нелегальных.
Одновременно с ярославским делом производились дознания по делу Рыбинского кружка, по делу Муханова и по делу Беневольского в Москве.
«В первые годы своей деятельности департамент полиции стремился работать в пределах законности и строго преследовать всякое проявление поползновений подчиненных органов заняться провокацией, т. е. искусственным созданием громких дел в целях выслужиться перед начальством, к тому же личный состав департамента полиции состоял, по преимуществу, из лиц в высшей степени порядочных и честных. <…> департамент полиции, в целях контроля деятельности подведомственных органов, стремился организовать собственную центральную агентуру не только в пределах России, но и за границей. Названной агентурой лично руководили ныне покойный П. Н. Дурново и Г. К. Семякин, решительно никому не доверяя свои тайны. <…> Отношение к расходованию денег из секретных сумм было самое корректное, и даже накопилась экономия в 3 миллиона рублей, но иногда, под сильным давлением, приходилось производить расходы на посторонние надобности; так, например, из секретного фонда было выдано 5 тысяч рублей на приданное дочери В. К. Плеве, занимавшего в то время должность государственного секретаря»[293].
Плодотворная деятельность П. Н. Дурново была по достоинству оценена и вознаграждена: 1 января 1886 г. он получил орден Станислава I ст.; 9 марта 1887 г. ему назначено «вместо аренды»[294] по 2 тыс. рублей ежегодно с 05.04.1887 г. в продолжение шести лет; 19 марта 1887 г. объявлено «Высочайшее Е.И.В. благоволение за отлично примерное исполнение лежащих на нем служебных обязанностей»; 1 января 1888 г. он произведен за отличие по службе в тайные советники; 1 января 1890 г. награжден орденом Анны I ст.; 12 июля 1890 г. объявлена монаршья благодарность «за отличное руководство им настоящим (т. е. «парижским». – А. Б.) делом и весьма дельное ведение его»; 1 января 1892 г. пожалован орденом Владимира II ст.; 7 августа 1892 г. французское правительство наградило его Большим офицерским крестом ордена Почетного Легиона.
На посту директора департамента полиции П. Н. Дурново «своим несомненным умом очень быстро обратил на себя внимание» (Л. М. Клячко), «проявил в полной мере свои административные способности, и перед ним открылась широкая дальнейшая карьера»[295]. Он был привлечен к решению ряда важных и сложных проблем внутренней жизни страны. 19 февраля 1885 г. назначен членом Особой комиссии для пересмотра действующих постановлений Устава о фабричной и заводской промышленности; 25 февраля – уполномоченным от МВД в Совещание для обсуждения способов к прекращению обращения купонов; 3 октября – членом Особой комиссии для разработки вопроса о мерах к прекращению наплыва иностранцев в западные окраины; 25 ноября – членом Комиссии для всестороннего обсуждения проектов об управлении одесским портом; 3 ноября 1886 г. – членом комиссии министерства финансов для разработки проекта паспортных правил; 20 ноября 1892 г. – представителем от министерства в Особое совещание по поводу обнаруженных среди студентов высших учебных заведений империи землячеств и прочих тайных кружков.
Власть П. Н. Дурново как директора Департамента полиции была значительна, влияние – огромно. Так, он приказал выдать А. И. Иванчину-Писареву паспорт в Твери. Тверской губернатор колебался: у Иванчина-Писарева, кроме проходного свидетельства, не было никаких документов. «Если вам недостаточно одного распоряжения П. Н. Дурново, – заявил Иванчин-Писарев, – то я телеграфирую ему об этом». «Нет, подождите, – возразил губернатор. – Я скажу полицмейстеру». Иванчин-Писарев замечает: «По тону, каким были произнесены эти слова, можно было заключить о громадном влиянии Дурново»[296].
Своей властью освобождал арестованных. Так, по просьбе высокопоставленной дамы восстановил в правах кавказца, сосланного по политическому делу на 10 лет каторжных работ и в конце 80-х годов бывшего на поселении[297]; по ходатайству великосветских знакомых освободил в 1885 г. без исключения из института арестованного князя В. А. Кугушева[298].
Что же представлял собою директор департамента полиции П. Н. Дурново с близкого расстояния?
«Лица, имевшие сношения с Дурново, – вспоминал А. И. Иванчин-Писарев, – изучили до тонкости его привычки, слабости и могли дать ряд указаний, как я должен вести себя в разговоре с ним и чего добиваться в пределах его самостоятельных решений.
– Теперь он принимает по четвергам, – говорили мне. – Займите в приемной второе кресло от двери его кабинета, чтобы по его отношению к первому просителю судить, в каком он настроении. Если начнет с отказа – плохой признак! В разговоре с ним не употребляйте “ваше превосходительство”: он любит, чтобы называли его по имени… Он прямой, резкий и упорный человек. Если скажет “нельзя”, то никакие доводы не изменят его решения. При его отказе – боже вас избави употребить фразу: “может быть, министр разрешит”, – он рассердится и прекратит разговор. Он – враг обнадеживаний, обещаний и либеральных заигрываний. Если на просьбу он ответит “хорошо-с”, считайте ее исполненной.
В ближайший четверг я отправился в департамент полиции и прибыл туда одним из первых. В первом часу дня стали пускать просителей в приемную.
Здесь каждый подходил к чиновнику, сидевшему за особым столом, и сообщал о себе нужные сведения и цель свидания с директором. Другой чиновник, записав ряд фамилий, уходил в канцелярию разыскивать соответствующие им “дела” и доставлял их в кабинет директора “для ознакомления”.
Просители в ожидании приема располагались в креслах вдоль трех стен. Тут были люди всех возрастов: мужчины, женщины, студенты, курсистки. Передо мной уселся какой-то молодой человек в смокинге и в перчатках.
Часовая стрелка приближалась к часу. Откуда-то явилось трое жандармских чинов с резиновыми подошвами на сапогах и вытянулись в струнку. За ними пришли два-три чиновника в виц-мундирах и тоже расположились в ряд. Тихие разговоры просителей, слышавшиеся раньше, прекратились. Все предвещало скорое появление могущественного директора…
Ровно в час раздался звонок. Вслед за ним отворилась дверь кабинета, и на пороге показался П. Н. Дурново в сопровождении чиновника, державшего в руках список просителей и карандаш для отметок резолюций директора. Дурново был в форменном фраке, без всяких знаков и отличий и в жилете темно-коричневого цвета. Он медленно продвигался вперед, не сгибая головы.
– Вам что угодно? – спросил он молодого человека в смокинге. Тот назвал себя по фамилии и изложил просьбу.
– Хорошо-с! – ответил Дурново и приблизился ко мне.
– Ваша фамилия? – спросил он, смотря на меня в упор своими проницательными глазами.
Я сказал.
– Подождите. Я приму вас отдельно, – произнес он и пошел дальше.
В приемной стояла абсолютная тишина. То и дело слышалось: “Вам что угодно?”, “хорошо-с!”.
Раз я уловил резкий ответ:
– Напрасно шляетесь: ведь я сказал – нельзя!
Вот он подошел к какой-то даме, изысканно одетой во все черное. Она быстро говорила что-то ему, упомянув раза два министра.
– Ну, что вам может сделать министр, когда я не хочу! – раздался властный голос директора, и, не дослушав объяснений дамы, Дурново двинулся дальше.
Опять доносилось ко мне: “вам что угодно?”, “хорошо-с!”.
– Были у Делянова? – спросил директор, когда подошел к студенту, уволенному из университета.
– Был, но он отказал.
– Сколько раз были?
– Два раза.
– Мало. Сходите пять, шесть раз… Решительно отказать Делянов не может.
Последней к выходной двери стояла невзрачная, молодая особа, бедно одетая, со страдальческим выражением лица.
– Вам что угодно? – спросил Дурново.
– Разрешите мне повенчаться с N. Он приговорен к административной ссылке в Восточную Сибирь и сидит в пересыльной тюрьме.
– Обратитесь к священнику: это его дело, а не мое.
– В тюремном управлении мне сказали, что без вашего разрешения нельзя повенчать нас, так как у него нет удостоверения, что он холостой.
– Так вы хотите, чтобы я удостоверил это?.. Человек десять лет шляется по России… да, может быть, у него пять жен, а вы шестая?
С этими словами он отвернулся от просительницы и скрылся за дверью»[299].
«Я очень мало, даже почти совсем не знаю деятельности Дурново как директора Департамента полиции, – признавался С. Ю. Витте, – имел лишь несколько раз случай слышать от лиц, имевших несчастье поделом или невинно попасть под ферулу этого заведения, что Дурново был директором довольно гуманным»[300].
На этот счет есть свидетельство, которое не следует ни пересказывать, ни комментировать – я его просто перепишу.
«Порядки в этом учреждении, в период его управления Петром Николаевичем Дурново в качестве директора, были образцовые. Такое суждение я высказываю не как специалист, понимающий механизм чиновничьей машины, а только как человек, которому приходилось нередко обращаться в учреждения, имеющие целью, как говорилось тогда на официальном языке, уничтожение крамолы или искоренение неблагонадежных элементов. Только в департаменте полиции, начальником которого был в то время П. Н. Дурново, можно было скоро добиться необходимых сведений, только в этом учреждении не прибегали к ненужным обманам родственников арестованных или осужденных за так называемые политические преступления. В остальных учреждениях этого рода без церемонии прибегали к совершенно бесцельным обманам, что страшною болью отзывалось в сердцах людей, близких осужденному, уже и без того измученным его печальною участью. Так, например, получается известие, что арестованный будет отправлен в ссылку через столько-то времени, нередко с точным обозначением дня отправки. Несчастных родителей ради этого случая очень часто выписывали из отдаленной провинции. Бросив все дела, они приезжали в назначенный срок, надеясь повидать своего сына или брата, а то и для того, чтобы проститься с ним навсегда перед вечной разлукой, между тем сына или брата уже отправили в ссылку за несколько дней до назначенного родственникам срока. Но директор департамента полиции П. Н. Дурново не прибегал к таким бессмысленным средствам, и чиновники держались при нем корректно, наводили надлежащие справки даже тогда, когда родственникам политических случалось приходить за ними в неприемные дни директора. Что Дурново держал их всех в струне, видно из того, что, как только он ушел из департамента, все порядки в нем сразу изменились к худшему для родственников политических.
Петр Николаевич, поскольку мне приходилось сталкиваться с ним в этом учреждении, был человек вспыльчивый, но отходчивый, относился к нам, родителям, с непоколебимою прямотою, доходящей нередко до невероятной грубости, но характер его в известной степени не лишен был своего рода благородства. Правда, он нередко утешал убитую горем старуху-мать такими словами: “Ваше сведение вполне справедливо о том, что вашего сына хотели отправить в ссылку на три года, а я подал голос за пятилетний срок, – за содеянное им и этого еще мало…” Но напрасно заставлять терять время за какой-нибудь справкой, давать заведомо облыжное указание – это не водилось при нем в департаменте полиции.
Петр Николаевич был таким же врагом ненужной жестокости, хитрости и двоедушия, каким он был врагом “политических авантюристов”, как он называл арестованных и осужденных по политическим делам. Если враг был у него в руках и “сидел смирно”, как он выражался, он не прочь был исполнять маленькие просьбы его родственников: дозволял им иногда лишнее свидание, давал разрешение двум, а то и трем лицам в экстраординарных случаях ходить на свидания к заключенным, допускал с воли врача к сильно занемогшему и дозволял кое-что другое в таком же роде.
Конечно, он был всегда на страже, чтобы его даже и такая снисходительность не переходила границ. Иногда во время приема, строго соблюдая очередь, он подходил к девушке, которая просила его разрешить ей свидание с таким-то арестованным, так как она его невеста. Директор тут же приказывал немедленно справиться, сколько лиц приходит на свидание к такому-то политическому. Если оказывалось, что их уже двое или трое, он обращался к девушке с словами вроде следующих: “Невест-то у него еще много будет! Я не могу дозволить переполнять приемную”. Если же к заключенному приходило мало посетителей, он обыкновенно не отказывал в просьбе желающим. Бывали и такие случаи: смотритель спрашивает нас, ожидающих свидания с заключенными, не может ли кто-нибудь из нас найти для такого-то политического товарища или знакомого, который пожелал бы его навещать: “Директор дал знать, что он дозволит свидания”. Когда мы расспрашивали смотрителя о заключенном, которого никто не навещал, он рассказывал нам, что его родные в провинции, а он заскучал и мало ест. Неизвестно, конечно, вытекало ли это из чувств человеколюбия или из боязни все большей смертности в тюрьмах».
Е. Н. Водовозова, автор этих строк, смогла добиться для сына, арестованного в 1887 г. за нелегальное издательство и высланного в административном порядке в Архангельскую губернию на 5 лет, после ряда поблажек (сын отдыхал на даче, жил в деревне) разрешения ему «на время приехать из ссылки», чтобы «держать государственный экзамен». «Мой сын, – продолжает Е. Н. Водовозова, – приехал в марте 1890 г. держать экзамены, которые растянулись на весьма продолжительный срок: некоторые из них происходили до лета, остальные – после его окончания. Таким образом, мой сын, приехав из ссылки, прожил в Петербурге и его окрестностях до девяти месяцев»[301].
А вот свидетельство одного из «политических авантюристов». С. Л. Чудновский, народник, будучи под гласным надзором полиции в Енисейске, «задумал переселиться в Томск». Нужно было разрешение департамента полиции. «Во главе департамента полиции, – вспоминал он, – стоял в то время столь прославившийся впоследствии Петр Николаевич Дурново. В кругу тогдашних ссыльных известно было, что влияние и значение последнего были обширны в ведомстве Министерства внутренних дел вообще, а в особенности при решении вопросов, находившихся в непосредственном ведении этого департамента. Ходатайствовать прямо о переводе в Томск значило бы сразу и наверняка проиграть дело. Я обратился поэтому к министру внутренних дел с прошением о разрешении мне временной отлучки в г. Томск для лечения глаз. <…> Одновременно с этим прошением я отправил конфиденциальное письмо на имя П. Н. Дурново, в котором просил его непосредственного содействия в скорейшем удовлетворении моего ходатайства. <…> Не дольше, как недели через три (а в то время почтовое сообщение в оба конца между Енисейском и Петербургом требовало приблизительно столько времени) получено было уже распоряжение департамента полиции о разрешении мне временно переселиться в Томск для излечения глаз – и переселения не на казенный счет в этапном порядке, а, по моему усмотрению, на свой счет. Я опять воспрянул духом. Стало быть, поживем еще!» В марте 1883 г. Чудновский выехал в Томск. «Путешествие <…> на положении почти свободного человека, с “проходным свидетельством”, но без конвоиров, доставило мне очень большое удовольствие»[302].
Что стоит за этим? Не была ли это «личина добродушия», которую, по мнению В. Н. Фигнер, П. Н. Дурново, «хвастливо говоривший, что он “луч света в темном царстве”», набрасывал на себя «в целях политического сыска»[303].
Трудно разделить это мнение В. Н. Фигнер и вот почему. Известно, что В. К. Плеве практиковал по преимуществу расправу не судебную, а административную. Широко использовал административный арест и административную высылку и П. Н. Дурново. Мера эта, кстати, была вполне законной: примечание к ст. 1-й Устава уголовного судопроизводства допускало ситуации, при которых «административная власть принимает в установленном законом порядке меры для предупреждения и пресечения преступлений и проступков».
А. И. Иванчин-Писарев, добиваясь разрешения жить в Петербурге, часто наведывался в департамент полиции. В одно из таких посещений, вспоминал он, «Дурново поднял вопрос об административной ссылке.
– Меня упрекают, – говорил он, – что я широко практикую административную ссылку. Для политических дел суды хуже… Сколько талантливых людей сохранила административная ссылка! Ваш приятель Клеменц вряд ли стал бы известным ученым, если бы лишить его прав и отправить на поселение… Или Короленко, Анненский (я беру людей ближайшего времени)… Они приобрели популярность, каждый в своей области… Сосланные в Сибирь, без прав, они едва ли пользовались бы теперь известностью…
– Мне кажется, – заметил я, – суды оправдали бы многих из сосланных административным порядком.
– Что же, вы думаете, судьи застрахованы от всяких влияний? Они такие же люди, как все… Поверьте, они расправлялись бы строже, чем мы…»[304].
Можно, конечно, предположить, что П. Н. Дурново (хорошо знавший личный состав тогдашнего суда) ошибался в отношении судейских. Но разве в его позиции не может быть резона? Почему бы не увидеть здесь совершенно естественной боли за искалеченные судьбы нередко весьма одаренных молодых людей? Почему бы не допустить искреннее желание помочь им выбраться из революционной трясины? Ходатайствовал же П. Н. Дурново в июне 1890 г. перед Александром III об «облегчении участи Тихомирова», жившего под гласным надзором полиции в Новороссийске, и освободили Л. А. Тихомирова от надзора, и разрешили ему «повсеместное в империи жительство», и перебрался он в Москву[305]. Никакого интереса для политического сыска он уже не представлял.
«Я, – записал в дневник Л. А. Тихомиров на следующий день после смерти П. Н. Дурново, – <…> много ему обязан. Именно он выручил меня из нелепой административной ссылки в Новороссийск, в которой я прямо чахнул, нажил там начало болезни, меня изнурявшей много лет, и был поставлен в тяжкую необходимость объедать со всей семьей свою мать… Не говорю уже о том, что не мог почти заниматься публицистикой. После бесчисленных оскорблений, нанесенных мне болваном екатеринодарским приставом, я не выдержал и обратился к П. Н. Дурново с письмом, прося избавить меня от этого бессмысленного тяжкого положения. И он чутко отозвался и быстро снял с меня надзор, так что я стал свободен ехать куда угодно.
С тех пор я ежедневно не упускал молиться о нем и могу сказать, что не было дня, когда бы я его не помянул в молитве. Пошли ему Господь Царство Небесное, оставляя все его прегрешения вольные и невольные!
Этот добрый и также умный поступок, спасший меня <…> тем лучше рисует гуманность П. Н. Дурново, что я в это время был с ним едва знаком»[306].
Или вот сцена, описанная «непреклонной» В. Н. Фигнер (речь идет о посещении П. Н. Дурново Шлиссельбургской тюрьмы в 1887 г.): «Он вошел, как всегда, с двумя жандармами по обе стороны его особы и целой свитой из коменданта, смотрителя, его помощника и нескольких офицеров крепости. Такова из предосторожности была обстановка при всяком обходе нашей тюрьмы высокопоставленными посетителями.
– Нет ли заявлений? Как здоровье? – задал он обычные официальные вопросы и затем вышел. И вдруг сейчас же снова дверь отворилась, и, оставив всю свиту в коридоре, Дурново вошел в камеру уже один.
В эту минуту я стояла в своем халате, прислонившись спиной к стене, взволнованная и расстроенная, как всегда мы бывали взволнованы и расстроены при вторжениях в наше одиночество. Быстрыми шагами он приблизился ко мне, интимно положив руку на рукав моего халата и, ласково заглядывая в глаза, тихо молвил:
– Скучно вам здесь?
Глаза, наверное, выдавали меня, но я выговорила:
– Нет!
Рука с халата тотчас поднялась, и уже совсем другим, официальным тоном, указывая на пучок овощей, лежавших на железном столе, Дурново спросил:
– Это из огорода? – и исчез»[307].
Что тут? Тоже «личина добродушия»? Или движение сердца, не утратившего способности сочувствовать и жалеть заблудших?
Выступая в общем собрании Государственного Совета 10 декабря 1908 г. он говорил: «На людей, которые привлекались в мое время по государственным преступлениям, я всегда смотрел как на людей, которые рано или поздно, в более или менее близком будущем, будут такими же, как и я сам, т. е. наказания и их последствия – все это нужно постепенно, тихонько с них снимать, потому что иначе, если мы будем говорить, что последствия эти вредны, мы можем остановиться только на одном выходе, довольно прямолинейном, но единственно по моему правильном, т. е. что наказание должно быть вечное, а так как вечного наказания не признавали даже в 1881 году, то и я не думаю, чтобы можно было его признавать теперь. Я вижу, что люди, которые в мое время попадались по государственным преступлениям, в громадном большинстве занимают теперь места и должности, которым в России многие могут завидовать и которые считаются почетными. Поэтому о вечных наказаниях не может быть и речи»[308].
Разумеется, П. Н. Дурново должен был заниматься политическим сыском. «Во всякое время, – говорил он как-то в Государственном Совете, – у меня были чиновники, которые <…> собирали сведения, какие люди и каких категорий попадаются в политических преступлениях. Совершенно ясно, что я должен был знать, в какой степени оказывают влияние то или другое образование, то или другое учебное заведение, на многократность привлечения за государственные преступления»[309]. Обязанный раскрывать замыслы противников существующего строя, он, естественно, желал знать, что происходит в молодежной, рабочей и прочих средах. При этом он искал не продажных предателей и шпионов, а сотрудников и был логичен: если вы разочаровались в революции, осознали весь вред революционной деятельности, желаете блага Отечеству, то как вы можете не оказывать помощь тем, кто противостоит революционерам? Однако нередко наталкивался на ложный стыд прослыть в общественном мнении «предателем» и «шпионом».
Так закончилась попытка получить сотрудницу в лице слушательницы Рождественских фельдшерских курсов М. И. Силиной. Арестованная на одной из студенческих сходок, она после освобождения была приглашена в департамент полиции и проведена в кабинет П. Н. Дурново. Он, рассказывала она А. И. Иванчину-Писареву, поднялся с кресла, подал руку и пригласил сесть против него и предложил сотрудничать: «Я знаю, что вы – одна из серьезных учениц на Рождественских курсах. У вас в голове нет этой блажи, как у других, чтобы путаться со студентами и замышлять борьбу с правительством <…>. Скажите, вы хотите учиться и успешно окончить курс?
– Очень хочу, – ответила я.
– В таком случае вам должно быть неприятны товарищи, бьющие баклуши. Своей болтовней, подговорами не слушать лекций того или иного профессора, протестовать против распоряжений директора они отнимают у вас дорогое время для занятий.
– Я не могу отвечать на ваши вопросы, – сказала я, – вы требуете доносов.
Дурново саркастически улыбнулся.
– К вам подкрадывается девица с целью облить вас серной кислотой… Разве постыдно указать на нее, чтобы спасти вас?.. Очевидно, вы еще не уяснили себе различия между доносом и содействием успехам занятий на курсах… Вы подумайте об этом. По своей должности я обязан знать, чем интересуется молодежь, что читает, из-за чего происходят волнения <…>. Я очень доброжелательно отношусь к молодежи и не допускаю арестов по пустякам»[310].
Либеральные предрассудки крепко засели не только в головке юной курсистки, но и в седой голове Л. А. Тихомирова. Ожидая, что Тихомиров «свой переход на сторону правительства ознаменует <…> раскрытием всех сторон революционной организации», Дурново устроил «у себя званный обед» с участием Тихомирова. Последний «сидел мрачный <…> и молчал». «Когда впоследствии завязался между ними разговор о раскрытии тайн, известных Тихомирову, Петр Николаевич был потрясен его заявлением:
– Я подавал прошение на высочайшее имя не для того, чтобы быть шпионом»[311].
Правда, сам Л. А. Тихомиров вспоминал об этом несколько иначе: «На меня произвело превосходное впечатление то, что он даже не пытался о чем-нибудь “допрашивать” меня, что-нибудь выпытывать о революционерах. Один только был случай, уже чуть не на последнем свидании. “Вы видите, – сказал он, – как мы себя держали корректно в отношении Вас, веря Вам, забывая прошлое, я ни одного факта из революционных дел не спрашивал, не старался выпытать… Но вот еще маленький пустяк. Это дело не пользы, п[отому] ч[то] все эти лица давно поарестованы и дела их покончены. Но это дело самолюбия. Мы не могли разобрать одного шифра. Дело небывалое, обидно. И что это за шифр, такой неразрешимый? Вы бы могли это сказать, потому что никого этим не выдадите”.
Тяжкая была для меня эта минута. Полиция была действительно рыцарски щепетильна, безусловно, благородна. И в то же время я ее обременял просьбами об услугах мне. Однако я – благодарю Господа, – помявшись в тяжелом молчании, сказал… “Ваше Превосходительство, позвольте мне остаться честным человеком!” Его всего передернуло, но он сдержал себя и сухо и торопливо сказал: “Ах, пожалуйста, как хотите, оставим это”»[312].
Прежде чем подвергнуть политического преступника тому или иному наказанию, П. Н. Дурново нередко делал попытку вызволить его из цепких революционных объятий. Вот как это выглядело по воспоминаниям П. А. Антонова, рабочего-народовольца, арестованного в 1885 г. в Харькове и привезенного в кандалах в Петербург: «Он попросил меня садиться и выслал лишних из кабинета; подали чай, и у нас началась беседа. Говорил, впрочем, почти он один, и мне только изредка приходилось вставлять слово. <…> Поболтавши о пустяках, он обратился ко мне с такого рода речью: “П[етр] Л[еонтьевич] я вызвал вас, чтобы поговорить с вами об очень серьезных вещах. Я прочел ваши показания: меня сильно заинтересовало то, что вы не стали бесполезно отпираться от очевидных вещей <…>. Для вас, я думаю, не тайна, что революционное движение кончилось, что с провалом Лопатина все, что могло бороться, – у нас в руках. Вам может быть известно, что правительство само жаждет поскорее дать стране самые широкие реформы, которые устранят и самую необходимость в революционном движении; но беда в том, что те ничтожные остатки революционеров, которые еще существуют, руководимые 2–3-мя человеками, могут надолго затормозить эти реформы, ибо правительство ни в коем случае не приступит к ним, пока в стране не наступит полное спокойствие, чтобы не казалось, что реформы есть результат давления революционеров. Очень печально, 2–3 фанатика могут отодвинуть Россию назад лет на 20. Всякий человек, который поможет парализовать их деятельность, окажет громадную услугу родине, и правительство сумеет отблагодарить его за это. Прошу верить мне, что речь идет вовсе не о предательстве <…>. Дело вот в чем: у вас найдены бомбы с № № 3, 9 и 10 и т. д., значит, существуют и первые номера. Они могут сделать много зла и не только бесполезного, с чисто революционной точки зрения, но прямо вредного, ибо перевешают без всякой пользы несколько человек, с чем, я думаю, и вы в душе согласитесь со мной. Вот эти-то бомбы и нужно как можно скорее разыскать, чтобы спасти людей от виселицы. Нужно также спасти от виселицы и тех 2–3 человек, которые неминуемо будут повешены, если пробудут ½ года на свободе. Вот и все, что надо сделать как можно скорее»[313].
А. И. Бычков, сосланный в 1883 г. по решению Киевского военно-окружного суда на поселение в Верхоленск, бежал и в 1887 г. в Москве был арестован, но уже под другой фамилией. П. Н. Дурново, присутствовавший на его допросе в 1881 г. в Киеве, по фотокарточке узнал его. Бычкова доставили в Петербург. Дурново предложил Бычкову рассказать, как ему удалось бежать, обещая вернуть на место ссылки без последствий, т. е. без наказания за побег. Бычков отказался, и Дурнов удивлялся: «Не понимаю, к чему вы упрямствуете? Я говорю все это для вашей же пользы… Не подумайте, что я не имею средств для восстановления вашей личности»[314].
Закоренелые в своей революционности, естественно, видели в этом лишь подлость, попытку склонить их к предательству. П. Н. Дурново производил на них «впечатление “щедринского удава”, который старается прикинуться добрым малым» (П. Л. Антонов).
К таким у П. Н. Дурново не было желания быть снисходительным: это были враги, и он был суров, даже жесток. Так, шлиссельбуржца Л. Ф. Яновича департамент полиции одновременно известил о смерти семи близких его родственников. Женатому узнику П. Н. Дурново сообщил, что жена его вышла замуж за другого. В 1889 г., увидев в камере С. А. Иванова «Историю Великой французской революции» Минье, он приказал изъять из тюремной библиотеки «все, имеющее какую-нибудь связь с общественными и политическими взглядами заключенных»[315].
О П. Н. Дурново-директоре Департамента полиции Л. А. Тихомиров вспоминал: «Он мог быть добр и даже старался быть добр, например, к политическим преступникам, уже пойманным и обезвреженным. Он легко давал льготы ссыльным, и с этой стороны его многие хвалили и благодарили. Но когда нужно было сломать человека, – он не останавливался перед этим. Это была натура бойца»[316].
В заключение приведем мнение М. А. Алданова: «Из людей революционного лагеря, которых я спрашивал о Дурново, ни один не говорил мне, что он был человек злой и жестокий. Напротив, все (сходясь с сановниками) признавали, что он был человек скорее благожелательный, с легким (а может быть, и не “легким”) циничным уклоном. Когда он мог без труда оказать кому-либо услугу, он ее оказывал. По службе он совершал немало беззаконий и, в частности, твердо веря в человеческую продажность, усердно склонял неопытных революционеров к тому, чтобы они, продолжая свою работу, в действительности служили Департаменту полиции и занимались “внутренним освещением” своих организаций: это было нечто среднее между провокационной деятельностью и тем, что делает полиция в большинстве стран, даже стран культурных и передовых. Никакой ненависти к революционерам у него не было. Он к ним относился благодушно-иронически, а тем из них, кого считал людьми умными и талантливыми, как, например, писателям Короленко и Анненскому, ученому Клеменцу, даже старался быть полезным, поскольку это от него зависело. Если его просили о незначительной административной услуге, как, например, о разрешении на жительство высланным, он обычно в этом не отказывал и даже помогал советом, когда дело зависело не от него или не только от него.<…> Видных революционеров он, впрочем, охотно приглашал в свой кабинет, сажал их и вступал с ними в политические беседы, причем некоторых усиленно убеждал писать мемуары. <…> Все же отдадим ему должное: на фоне нынешних полицейских методов, на фоне того, что делают всевозможные Гиммлеры из всевозможных гестапо и ГПУ, он и в этом отношении выделяется чрезвычайно выгодно. В денежный подкуп он верил, но ему и в голову не могло прийти, что можно вынуждать у человека показанья пыткой и мучениями. Ни единого подобного факта за ним не значится, в этом его никто никогда не обвинял. В смысле же ума с ним, конечно, смешно и сравнивать разных европейских Гиммлеров»[317].
* * *
В начале 1893 г. блестящая карьера была прервана скандалом: женолюбивый[318] П. Н. Дурново, подозревая любовницу в измене, приказал своим агентам доставить ему изобличающие ее письма – последовало бурное объяснение; та пожаловалась возлюбленному, секретарю бразильского посольства, последний обратился в министерство иностранных дел; история дошла до Александра III, и П. Н. Дурново убрали в Сенат. Жалование было сохранено, арендное производство после этого дважды продолжено, однако перспектив служебного роста он лишился. Как говорил он сам, «с этого места в министры не попадают»[319].
П. Н. Дурново был возмущен. «Удивительная страна! – говорил он. – 9 лет я заведовал тайной полицией, поручались мне государственные тайны, и вдруг какой-то растакуэр, бразильский секретаришка, жалуется на меня, и у меня не требуют объяснения и увольняют! Какая-то девка меня предала, и человека не спросят! Я не о себе – мне сохранили содержание, дали сенаторство, <…> но что это за странная страна, где так поступают с людьми – в 24 часа!»[320]
Возможно, опала имела другую основу. В дневнике князя В. М. Голицына читаем: «П. Дурново удален из Д[епартамен]та полиции в Сенат; не без значения это новое торжество сплетни»; через неделю: «Падение полицейского Дурново находится в связи с какими-то данными им льготами поднадзорным. Говорят, что вследствие этого и положение одноименного министра поколебалось»[321]. Есть некоторое подтверждение этим слухам в воспоминаниях А. И. Иванчина-Писарева: «По рассказам современников драмы в жизни П. Н. Дурново, в начале 1887 года к нему явилась на прием изумительная красавица, сестра одного мичмана, арестованного вместе с другими по политическому делу. Она пришла просить директора смягчить участь брата. Большой любитель женской красоты, Петр Николаевич сразу потерял равновесие в обществе красавицы и стал все чаще и чаще назначать ее свидания. Сначала под влиянием забот о брате (впоследствии, вместо ссылки, он получил дальнюю командировку по службе), а потом из интереса сношений с высокопоставленным, оригинальным человеком красавица не уклонялась от частных встреч… Скоро у них завязалось близкое знакомство с обменом мыслей и чувств не только в разговорах, но и путем переписки». Это была племянница А. М. Евреиновой, издательницы журнала «Северный вестник»[322].
По званию сенатора П. Н. Дурново было положено содержание в 10 тыс. рублей в год и 2 тыс. рублей «вместо аренды», назначенные ему в 1887 г. на 6 лет (15 марта 1893 г. «аренда» была продолжена еще на 4 года). При этом излишне выданные столовые «за время с 3 сего февраля по 1 будущее марта, в количестве 228 руб. 66 коп. по расчету из 3000 руб. годовых», были удержаны из жалования его как сенатора[323].
По-видимому, П. Н. Дурново был задет. «Милостивый Государь Иван Николаевич, – писал он министру внутренних дел, – при назначении меня 3 февраля сего года Сенатором я лишился большей половины получаемого мною по должности Директора Департамента полиции содержания, а именно вместо 22 400 руб., не считая аренды, я в настоящее время вынужден ограничить свои расходы до суммы 10 000 руб. (не считая аренды). Признавая вполне, что назначенное мне содержание доказывает высокую милость Государя и доброе участие ко мне Вашего Высокопревосходительства, я очевидно не смею ни малейшего права просить о каком бы то ни было улучшении моего финансового положения, ибо совершенно сознаю, что для меня при данных обстоятельствах было сделано, быть может, гораздо больше, нежели я мог ожидать. Но тем не менее необходимость продолжать воспитание детей так же, как оно было начато, побуждает меня обратиться к Вашему Высокопревосходительству с усерднейшей просьбой, не изволите ли Вы признать, что мое долголетнее управление Департаментом полиции может служить оправданием моему ходатайству о пожаловании мне ежегодного пособия на воспитание детей в размере 2000 рублей, не раздельно впредь до достижения дочери моей совершеннолетия или выхода в замужество. Не мне подобает свидетельствовать о своих служебных качествах и заслугах, – я могу лишь ссылаясь на официальные сведения привести в подкрепление моей просьбы справку о продолжительности управления бывшим III отделением и Департаментом полиции, моими предшественниками, начиная с 1856 года: А. Е. Тимашев – 4 года 10 месяцев, Граф Шувалов – 8 месяцев, А. А. Потапов – 2 года 7 месяцев, Н. В. Мезенцев – 6 лет 10 месяцев, А. Ф. Шульц – 6 лет 11 месяцев, Н. К. Шмидт – 1 год 5 месяцев, Барон Велио – 1 год, В. К. Плеве – 3 года 4 месяца и, наконец, я – 8 лет 6 месяцев»[324].
Переход в Сенат после столь успешной карьеры дался нелегко.
17 февраля П. Н. Дурново просит заграничный отпуск с сохранением содержания на 2,5 месяца «сверх вакационного в сем году», а всего с 15-го марта по 15-е августа «вследствие расстроенного здоровья». Царь согласился. 26 августа П. Н. Дурново просит министра юстиции Н. А. Манасеина исходатайствовать «по семейным обстоятельствам продолжение отпуска до 1-го октября, с сохранением причитающегося» ему содержания. Александр III согласился и на это. И только 13 октября 1893 г. П. Н. Дурново был назначен присутствовать в 5-м департаменте Сената.
Через полгода, 21 апреля 1894 г., П. Н. Дурново просит министра юстиции исходатайствовать отпуск с сохранением содержания с 15 мая на месяц «для лечения минеральными водами». Была удовлетворена и эта просьба. Видимо, Александр III внял предупреждению К. П. Победоносцева, когда тот писал ему, уговаривая принять М. Д. Скобелева: «Люди до того измельчали, характеры до того выветрились, фраза до того овладела всем, что уверяю Вас честью, глядишь около себя и не знаешь на ком остановиться. Тем драгоценнее теперь человек, который показал, что имеет волю и разум, и умеет действовать: ах, этих людей так немного! Обстоятельства слагаются к несчастию нашему так, как не бывало еще в России, – предвижу скорбную возможность такого состояния, в котором одни будут за Вас, другие против Вас. Тогда, если на стороне Вашего Величества будут люди, хотя и преданные, но неспособные и нерешительные, а на той стороне будут деятели, – тогда может быть горе великое и для Вас, и для России»[325].
Возможно, что этот перманентный отпуск обусловлен отчасти и тем, что назначение П. Н. Дурново «вызвало в то время большое негодование в сенатских кругах», «разгорелся новый скандал, уже внутренний – страшно обиделись все сенаторы!» Но время шло, он и в Сенате «обнаружил свои выдающиеся способности и государственный ум», и держал себя «так умно и так либерально, что понемногу с собой там примирил»[326]. «И все время, – подтверждает и С. Ю. Витте, – отличался между сенаторами разумно-либеральными идеями; <…> являлся в Сенате сенатором, на которого обращали внимание и с логикой и знаниями которого считались»[327].
П. Н. Дурново пробыл в Сенате 7 лет; 15 декабря 1893 г. он был переведен в I департамент, в 1894 г. и 1895 г. временно присутствовал в соединенном присутствии I и Кассационного департаментов. Это было время политического «небытия» П. Н. Дурново, «даже о нем мало и говорили»[328]. Вместе с тем опыт деятельности в Сенате и шестилетнее сотрудничество с Сенатом в качестве товарища министра позволили П. Н. Дурново весьма компетентно и с большой пользой участвовать в законодательной работе Государственного Совета.
* * *
Назначенному в октябре 1899 г. управляющим министерством внутренних дел, а затем и министром бездарному и ленивому Д. С. Сипягину[329] нужен был помощник, толковый, работоспособный, хорошо знакомый с делами министерства внутренних дел и в то же время не опасный, без шансов занять его место. Для П. Н. Дурново открылась возможность продолжить карьеру: 1 января 1900 г. он награждается орденом Белого Орла, а 25 февраля, с учреждением должности третьего товарища министра внутренних дел, его назначают на эту должность с оставлением сенатором. Ему положили 12 тыс. рублей содержания, 3 тыс. рублей столовых и казенную квартиру; через год аренда, при возобновлении, была увеличена до 3-х тыс. рублей. В этой должности П. Н. Дурново останется и после убийства Д. С. Сипягина – при министрах В. К. Плеве (04.04.1902–15.07.1904), князе П. Д. Святополк-Мирском (26.08.1904–18.01.1905) и А. Г. Булыгине (20.01.–22.10.1905).
Д. С. Сипягин, вознамерившись взять П. Н. Дурново в товарищи, советовался с С. Ю. Витте. «На это я ему ответил, – пишет С. Ю. Витте, – что Дурново должен отлично знать министерство, что ему – Сипягину – необходимо умного и дельного, и опытного товарища, но я ему, Сипягину, не советовал бы поручать Дурново дела полиции и вообще такие дела, в которых есть вещи неконтролируемые, делаемые не на белом свете. На это мне Сипягин ответил: “Это я знаю”»[330]. На П. Н. Дурново было возложено управление Департаментами общих дел и духовных дел инославных исповеданий и Главным управлением по делам печати, а также и участие за министра в Сенате по делам этих управлений.
П. Н. Дурново был снова привлечен к решению ряда вопросов внутренней жизни империи: вторую половину 1900 г. временно управлял министерством (возвратившийся из Ливадии в декабре Д. С. Сипягин благодарил от имени царя «за блестящее управление»); он – член от МВД в комитете Попечительства о домах трудолюбия и работных домах (1901), председатель Особого совещания по еврейскому вопросу (1901), председатель Особого совещания для установления хода и размеров дальнейшей разработки материалов переписи 1897 г. и определения размеров необходимых к доассигнованию сумм (1901), член комитета Главного попечительства детских приютов (1902); под его руководством создается исторический обзор деятельности МВД по случаю столетия его существования.
Д. С. Сипягин, по свидетельству С. Ю. Витте, «с ним советовался тогда, когда нуждался в том или другом совете», и П. Н. Дурново вел себя «совершенно корректно»[331]. Хотя порученной ему частью министерства правил, по утверждению В. И. Гурко, «бесконтрольно»[332]. И, видимо, не только частью. «Главную роль в М[инистерст]ве играет г. Дурново!» – с некоторым раздражением замечает князь В. М. Голицын[333]. Однако после личного свидания проникается к нему уважением. «П. Н. Дурново <…> долго меня продержал и что-что не наговорил он мне про наш московский режим, который здесь им всем оскомину набил; он дал мне несколько ценных указаний и советов. <…> Справедливо говорил мне П. Н. Дурново, что здесь все основано на бумаге, что вся правительственная деятельность сводится на это. Сочиняются правила, регламентации, теории, и дальше ничего нет, и все таким образом созидаемое ниспровергается практикой. Я никак не ожидал такого взгляда от него, думал, что он более других заразился общепетербургским, чиновничьим духом или недугом. Побольше бы таких взглядов, и дело у них пошло бы гораздо лучше»[334].
Самолюбивый и честолюбивый, он не мог не думать о министерском кресле: основания к тому были. «По природному уму, по ясному пониманию всего сложного комплекса обстоятельств времени, по врожденным административным способностям и, наконец, по твердому и решительному характеру П. Н. Дурново был, несомненно, головой выше остальных лиц, занимавших ответственные должности в центральном управлении министерства»[335].
В эти годы о нем, по свидетельству П. М. Кауфмана, «говорят разно: одни его считают не чистым на руку, другие – честным. Все знают, что он юбочник, и никто не отрицает, что он умный и знающий. Последними двумя качествами вместе не обладают ни Сипягин, ни Стишинский, ни Оболенский. При теперешнем безлюдьи, пожалуй, он был бы лучшим мин[истро]м вн[утренних] дел»[336].
После убийства Д. С. Сипягина он назывался одним из кандидатов на должность министра внутренних дел, наряду с министром юстиции Н. В. Муравьевым и В. К. Плеве[337].
В. К. Плеве, назначенный министром внутренних дел 4 апреля 1902, уже 10-го выехал в Полтаву и Харьков, оставив министерство на П. Н. Дурново, а в июне закрепил за ним дела Департамента общих дел и Главного управления почт и телеграфов.
С В. К. Плеве они хорошо знали друг друга по прежней совместной службе, однако «вполне хороших личных отношений» между ними, утверждает В. И. Гурко, «никогда не было. <…> Почитая себя самого за знатока полицейского дела, Плеве вообще не хотел иметь никакого посредника между собою и директором департамента полиции. Ввиду этого он предложил Дурново <…> вполне самостоятельно заведовать Главным управлением почт и телеграфов, представлявшим по своей обширности целое министерство. Этим делом и ведал Дурново при Плеве, и ведал им с несомненным умением и даже любовью. Постановка почтово-телеграфного дела у нас была, несомненно, образцовая, и если она не получила того быстрого развития, которого требовала развивающаяся народная жизнь, то лишь за отсутствием надлежащих для сего денежных средств. При Дурново, с умением, стойкостью и жаром отстаивавшем в Государственном совете сметные ассигнования почтово-телеграфному ведомству, темп развития этого дела, несомненно, ускорился, и общая постановка значительно усовершенствовалась. Тем не менее ни честолюбие, ни самолюбие Дурново, конечно, не были удовлетворены присвоенным ему Плеве положением. Будучи по времени назначения и по чину старшим товарищем министра внутренних дел, т. е. тем из них, кто в случае отсутствия министра или его ухода должен временно исполнять его должность, Дурново фактически был совершенно устранен от всякого участия в собственно политической деятельности этого министерства. Разрабатываемые в министерстве законодательные предположения, равно как вообще общие намерения и политическая программа самого министра, были ему даже неизвестны, что его в высокой степени раздражало. Неудивительно поэтому, что он под рукой критиковал деятельность Плеве и даже завязал близкие сношения с политическим противником Плеве – Витте, причем, вероятно, снабжал его материалом, могущим служить для опорочивания действий Плеве. Материал этот был ему доступен, ибо если официальной связи с другими, кроме Главного управления почт и телеграфов, отделами Министерства внутренних дел он не имел, то личные сношения его со многими из служащих в них бывшими его подчиненными он, конечно, сохранил.
<…> От устранения от политической стороны деятельности этого министерства Дурново в конечном результате, несомненно, выгадал. Это дало ему возможность с переменою министра <…> не только удержаться на занимаемой должности, но даже вновь принять деятельное участие в управлении всем ведомством. В это время он настолько отмежевался от реакционной политики Плеве, что даже приобрел репутацию либерала-прогрессиста»[338].
П. Н. Дурново не только отмежевался. А. С. Суворин у Богдановичей утверждал, что «Витте и Мещерский крепко работают, чтобы провалить Плеве», а хозяйка салона констатировала: «Отовсюду доходят слухи, что Дурново тоже топит Плеве»[339].
После гибели В. К. Плеве П. Н. Дурново заведовал текущими делами министерства в течение месяца, однако, по утверждению В. И. Гурко, «он лишен был возможности деятельно продвигать свою кандидатуру, так как главная его опора того времени – Витте не пользовался благоволением свыше и к тому же находился вне Петербурга, на Кавказе»[340].
С назначением министром внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского[341] были, в соответствии с курсом на сотрудничество с «обществом», уволены товарищи министра Н. А. Зиновьев и А. С. Стишинский, командир корпуса жандармов В. В. Валь, директор департамента общих дел Б. В. Штюрмер. Положение же П. Н. Дурново резко изменилось: он, отметила А. В. Богданович, «является у Мирского persona grata – он у Мирского и завтракает, и обедает, наставляет, руководит его». Минчагин, бывший курьер В. К. Плеве, рассказывает у Богдановичей: «П. Н. Дурново часто бывает у Мирского, сидит долго, по 3–4 часа». Минчагин возмущен: «Дурново – взяточник, а теперь он первый человек в министерстве, всем орудует». Правые возмущены либеральным министерством; Н. А. Зверев пророчит: «Мирский еще недели 2–3 останется министром»; А. А. Мосолов, зять Треповых, «ждет нетерпеливо метлу, которая бы смела трех лиц из Министерства внутренних дел – Мирского, Лопухина и Дурново»[342].
Действительно, при П. Д. Святополк-Мирском роль П. Н. Дурново становится более заметной, а его либерализм ярче. Так, он замещает министра в Комитете министров, обсуждавшем меры по исполнению указа 12 декабря 1904 г., и высказывает «мысли разумные и либеральные». По свидетельству И. И. Тхоржевского, он «вообще производил впечатление самого умного, наиболее живого и самого независимого из всех тогдашних коллег Витте»[343]. По словам С. Ю. Витте, «он с большой компетентностью выяснил все отрицательные стороны» Положений о чрезвычайной и усиленной охране, «заявив, что в результате они принесли для правительства гораздо более вреда, нежели пользы. Они способствовали революционизированию России»[344]. В. И. Гурко нашел, что П. Н. Дурново «рисует целую картину русского бесправия и произвола администрации»[345].
Действительно, П. Н. Дурново, выступая по 5-му пункту указа, подверг жесткой критике способы применения на местах правил об усиленной охране: полномочия, предоставляемые чинам местной администрации и полиции, истолковываются последними «в расширительном смысле», что неизбежно ведет к росту произвола на местах: воспрещение пребывать в данной местности, административная высылка политически неблагонадежных под гласный полицейский надзор, аресты, обыски, наложение административных взысканий за нарушения обязательных постановлений местных властей – все это весьма часто без достаточных на то оснований. В результате – распространение противоправительственной пропаганды на местности, где ее прежде не было; обыватели Восточной Сибири оказываются под влиянием туда сосланных; рост числа выселенных под гласный полицейский надзор (с 830 в 1893 г. до 6000 в августе 1905 г.); переполненные тюрьмы; глухое раздражение в обществе против распоряжений правительственных властей. В заключение П. Н. Дурново приходит к выводу о необходимости безотлагательно пересмотреть действующие законы о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия наряду с Положением о гласном полицейском надзоре. При этом находил желательным, во-первых, «в общегосударственных видах <…> если не совсем вычеркнуть высылку из списка карательных мер, налагаемых административным порядком на политически неблагонадежных лиц, то по крайней мере всемерно ограничить применение оной»; во-вторых, «введение у нас для рассмотрения правонарушений <…> особого упрощенного порядка судебного разбирательства, по примеру некоторых западных государств, где на сей предмет выработаны специальные приемы, применяющиеся на практике с несомненным успехом»[346].
Вообще тогда П. Н. Дурново, по свидетельству В. И. Гурко, «выказывал определенный либерализм. Он громко заявлял, что так дольше государство жить не может, что правительство представляет каких-то татар, живущих в вооруженном лагере»[347].
Председательствуя в особой комиссии для пересмотра паспортного устава 1894 г., П. Н. Дурново, по словам В. И. Гурко, «предлагал отменить запрещение выезжать за границу без особых паспортов и даже отстаивал право членов крестьянской семьи начиная с восемнадцатилетнего возраста получать отдельные виды на жительство без согласия на то, как этого требовал закон, главы семьи»[348]. Проект комиссии оказался весьма либеральным: «бессрочная паспортная книжка должна была служить только удостоверением личности»[349].
Либерализм П. Н. Дурново был продиктован не только соображениями карьеры. Его позиция по конкретным вопросам внутренней политики всегда была результатом трезвого анализа ситуации и определялась интересами государства, как он их понимал. В. И. Гурко справедливо замечает: «Если высокими принципами П. Н. Дурново не отличался и не был разборчив в средствах, могущих обеспечить его служебные и вообще частные интересы, то все же простым карьеристом его признать отнюдь нельзя: судьбы русского государства составляли предмет его постоянных мыслей и забот»[350]. Так, когда «Новое время» опубликовало фельетон М. О. Меньшикова, где он заявил, что «у нас нет флота», и великий князь Алексей Александрович пожаловался своему племяннику, П. Н. Дурново, от которого Николай II потребовал доклад, принял сторону газеты[351]. В это время он заведовал текущими делами МВД после убийства В. К. Плеве, и желанный пост был, казалось, совсем близко. Что бы не потрафить?
Не терял здравого смысла П. Н. Дурново и накануне 9 января 1905 г. Провокационный характер затеваемой демонстрации был для него очевиден. На совещании у П. Д. Святополк-Мирского 8 января он «поднял, было, вопрос о том, известно ли властям, что рабочие вооружены, но этот весьма важный по существу вопрос, даже самый кардинальный вопрос, лишь скользнул по собранию и как-то затушевался. Растерявшийся градоначальник ничего толком не знал и ничего разъяснить не мог. Было решено, наконец, рабочих ко дворцу не допускать, при неповиновении действовать оружием, Гапона же арестовать». П. Н. Дурново же предлагал «обойтись нагайками» или «рассеиванием толп кавалерией»[352].
Во главе Министерства внутренних дел
Перед судом истории усмирители 1905 года окажутся более правы, чем те, кто из самых самоотверженных побуждений начал восстание, ему содействовал и радовался, что власть попала в тупик. <…> Пока мы не посмеем это признать, мы еще не можем объективно судить наше прошлое.
В. А. МаклаковНазначение
Возвращение П. Н. Дурново к активной деятельности связано с С. Ю. Витте. Впервые они встретились в конце 1899 г. или в начале 1900-го (С. Ю. Витте пишет: «в начале министерства Сипягина»): сенатор просил приема у министра финансов. «Я его принял, – вспоминал С. Ю. Витте в августе 1909 г., – и он сразу, в первый раз меня увидавши, отрекомендовавшись мне, просил меня выручить его из большой беды. Он играл на бирже и проигрался; чтобы его выручить, ему нужно было безвозвратно шестьдесят тысяч рублей. Я ему ответил, что сделать это не могу и не имею никакого основания просить об этом Его Величество. Он спросил, а как я поступлю, если ко мне обратится с подобною просьбою м[инистр] в[нутренних] д[ел] Сипягин. Я ему ответил, что, несмотря на наши добрые с Сипягиным отношения, я ему откажу и советую ему, если он – Сипягин – обратится к Его Величеству, тоже меня оставить в стороне, ибо я буду противиться и государю. На другой день я встретился с Сипягиным, и он меня спросил, как я отношусь к П. Н. Дурново; я ему сказал, что к деятельности его в Сенате я отношусь с уважением, как к деятельности толкового и умного человека, а так, вообще, я Дурново не знаю. Он меня спросил, что я думаю, если он его, Дурново, пригласит в товарищи; на это я ему ответил, что Дурново должен отлично знать министерство, что ему – Сипягину – необходимо умного и дельного, и опытного товарища». П. Н. Дурново был назначен товарищем министра, а деньги ему были выданы из сумм департамента полиции[353].
В действительности произошло, по-видимому, нечто большее, чем позволил себе сказать об этом С. Ю. Витте. П. Н. Дурново, с его умом, опытностью, энергией, трудоспособностью и одновременно безвыходным положением, не мог не найти места в планах С. Ю. Витте прибрать к рукам министерство внутренних дел. Состоялся сговор: Витте проводит Дурново в товарищи к С. Д. Сипягину, а тот – служит министру финансов верой и правдой. Отсюда (не бывает дыма без огня!) и слухи о том, что своим назначением на должность товарища министра при Сипягине Дурново обязан Витте.
В начале 1905 г. С. Ю. Витте, по свидетельству С. Д. Шереметева, настойчиво выдвигал «свою креатуру, Петра Дурново» в министры внутренних дел, «при условии своего личного верховного надо всем главенства»[354]. Это подтверждает княгиня Е. А. Святополк-Мирская: «17 января 1905 г. <…> Вечером Дурново опять приезжал сказать, что Витте его вызывал. <…> разговор о том, о сем, и между прочим он спросил: “Что, если вас назначат министром внутренних дел, вы будете идти со мной рука об руку?” Дурново говорит, что смазал ответ, но очень возмущен, но вместе с тем и смущен. Уйти он не может, а боится, если назначат министром, скоро прогонят. Одним словом, и хочется и колется»[355]. Подтверждает это и С. Ю. Витте, правда, косвенно: суждения Дурново по указу 12 декабря 1904 г. «обратили мое на него внимание»; они «отличались знанием дела, крайней рассудительностью и свободным выражением своих мнений»[356].
Со временем, однако, соотношение сил менялось. П. Н. Дурново в качестве товарища министра «заведовал ближайшим образом почтами и телеграфом, а следовательно, и всей перлюстрацией, потому знал многое из того, что другие не знали»[357]. В. К. Плеве, по словам графа С. А. Толя, «не терпел Витте и собирал материалы об его вредности и в день, когда был убит, вез царю документальные данные об изменнике Витте»[358]. Портфель Плеве при взрыве не пострадал и был осмотрен П. Н. Дурново[359]. После В. К. Плеве П. Н. Дурново полтора месяца управлял министерством внутренних дел, разбирал бумаги убитого и рассказывал, что «он разбирает кабинет третьего министра и что нельзя себе представить, что было у Плеве: все полно перлюстрацией и доносами на разных людей, в особенности на Витте, а что доклад, который он вез, когда был убит, был весь наполнен такого рода сведениями»[360]. В результате в руках П. Н. Дурново оказался материал, способный уничтожить С. Ю. Витте. Теперь уже ставил условия П. Н. Дурново.
После возвращения С. Ю. Витте из Америки (16.09.1905) П. Н. Дурново «одним из первых» прислал ему поздравительную телеграмму, был у него «несколько раз», интригуя против Д. Ф. Трепова («главная причина происходящего развала заключается в Трепове», если он «не уйдет, то мы доживем до величайших ужасов») и выказывая себя сторонником либеральных преобразований и противником исключительных положений[361].
А. В. Бельгарду, бывшему 18 октября в кабинете А. Г. Булыгина, последний сообщил, что «пока его оставляют совершенно вне того, что делается и предпринимается в высших правительственных сферах, но что от товарища министра П. Н. Дурново он уже знает, что Дурново определенно намечен его преемником». А в телефонном их разговоре 19-го октября П. Н. Дурново назывался как «фактически назначенный уже» заместитель А. Г. Булыгина[362].
На следующий день после увольнения А. Г. Булыгина, 23 октября 1905 г., П. Н. Дурново был назначен «временно-управляющим МВД с оставлением в занимаемой должности» товарища министра. «Это дело Витте, уже давно этого желавшего», – прокомментировал С. Д. Шереметев[363].
С. Ю. Витте, формируя свой «кабинет», уже понимал, что ошибся: с помощью манифеста 17 октября «перескочить» через революцию не удалось. «Вопреки наивному ожиданию Витте, Манифест 17 октября не только не внес успокоения в страну, а, наоборот, усилил повсеместное общественное и народное брожение»[364]. «Этим думали успокоить страну, больно переживавшую поражение на Дальнем Востоке. Как известно, результат получился обратный. Либеральные реформы только подзадорили революционные элементы и толкнули их на активные действия», – справедливо заметил В. В. Шульгин[365]. А. В. Бельгард свидетельствует: «В население сведения о Манифесте проникли только поздно вечером, и тотчас же начались во всем городе шумные манифестации, которые продолжались затем во все последующие дни. Необходимо заметить, что и самые манифестации, и статьи, вышедших на другой день газет, и общее настроение толпы на улицах отнюдь не утратили своего антиправительственного характера, а скорее даже наоборот, под влиянием возвещенных свобод приобрели значительно более агрессивный оттенок»[366]. «Все помнят, – писал граф И. И. Толстой, – дикий взрыв политических страстей, последовавший по всей России вслед за 18 октября, громкое заявление недоверия правительству, которое заподозривалось в фальшивой игре, грубые манифестации, дошедшие до вооруженных восстаний и до всеобщей забастовки, в которую были вовлечены даже агенты правительства. Даже акт трогательного в другое время милосердия – амнистия 21 октября, освободившая массу политических заключенных и эмигрантов, подлила масла в огонь, так как огромная часть освобожденных, очутившись на свободе, моментально пристала к революционному движению, не чувствуя ни малейшей благодарности к правительству, так что и эта благая сама по себе мера тоже повернулась против него»[367]. Это было очевидно для всех. Признавал это и С. Ю. Витте: «К этому времени уже выяснилось, что крайние левые не успокоились Манифестом 17 октября и вообще буржуазной конституцией, что вообще смута в умах так распространилась, что еще придется переживать большие эксцессы с их стороны, но что было самое серьезное – это то, что Конституционно-демократическая партия (кадеты) <…> не решилась явно порвать свои связи с крайними революционерами, исповедующими революционные насилия, до бомб включительно»[368].
Стало ясно, что революции надо противопоставить силу. В беседе с князем С. Д. Урусовым 26 октября 1905 г. С. Ю. Витте «очертил положение дел в стране, упомянул об ожидаемых сопротивлениях созыву Думы со стороны крайних партий, недовольных манифестом, который далеко не соответствовал их радикальным программам; указал на ряд показателей, грозящих возобновлением беспорядков, и высказал решительное мнение относительно предстоящей необходимости поневоле принять ряд принудительных, а затем и карательных мер в отношении противников нового строя, желающих сорвать Думу и заменить мирное развитие государственной жизни крутым переворотом»[369]. А это предполагало опытного, энергичного и, главное, способного взять на себя ответственность за непопулярные в обществе репрессии министра внутренних дел. Таковым, по мнению С. Ю. Витте, был П. Н. Дурново, человек «твердый, решительный и знающий организацию русской секретной полиции», давно ему известный и ценимый за ум, опытность, работоспособность и в эти дни быстро и умело взявший в руки министерство. При этом, отстаивая кандидатуру Дурново перед общественными деятелями, С. Ю. Витте подчеркивал и гуманность Дурново-директора департамента полиции, и разумно-либеральные идеи Дурново-сенатора, и корректность Дурново-товарища министров Сипягина, Плеве, Мирского и Булыгина, и взаимную ненависть Дурново и Плеве, и критическое отношение Дурново к Д. Ф. Трепову, и то, что он видел «единственный выход из создавшегося положения вещей <…> в широких либеральных преобразованиях и в уничтожении исключительных положений»[370].
Возможно, было еще одно обстоятельство, побуждавшее С. Ю. Витте с такой энергией проводить П. Н. Дурново в министры. «Говорили, что Дурново заставил Витте дать ему министерский портфель, угрожая в противном случае предать огласке имевшиеся в его руках письма Витте, которые будто бы могли окончательно скомпрометировать Сергея Юльевича в глазах Государя»[371]. Видимо, и в этом случае дым был не без огня. Сам С. Ю. Витте писал, что инициатива исходила от П. Н. Дурново: «еще до 17 октября» и «немедленно после 17 октября» он, посещая С. Ю. Витте, «намекал, что единственно, кто мог бы удовлетворить требованиям для поста министра внутренних дел, это он»[372]. Может быть, «намекал» – не то слово? В. И. Гурко утверждал, что С. Ю. Витте обещал П. Н. Дурново пост министра внутренних дел еще до своего назначения председателем Совета министров и что «обещание это было, несомненно, вынужденное, <…> дано оно было вследствие какой-то таинственной его зависимости от Дурново. <…> Сам Дурново был настолько уверен в своем назначении, что мысленно распределял свою мебель в присвоенной министру внутренних дел квартире и даже послал на эту квартиру, еще занимаемую Булыгиным, снять точную мерку одной из комнат с целью выяснить, может ли в ней поместиться какой-то исключительных размеров шкап»[373].
Однако провести П. Н. Дурново на пост министра оказалось делом непростым и не потому, что против его кандидатуры решительно выступали общественные деятели, с которыми в это время С. Ю. Витте вел переговоры (П. Н. Дурново воспринимался ими как человек, тесно связанный со старым режимом, с весьма сомнительной к тому же моральной репутацией[374]). Теперь, когда ни манифест, ни всеподданнейший доклад не сработали, это обстоятельство уже мало волновало С. Ю. Витте. Тем более что П. Н. Дурново заявил: вступить в энергичную борьбу с революцией он может лишь будучи совершенно самостоятельным. И С. Ю. Витте, по свидетельству Д. Н. Любимова, проводил П. Н. Дурново «со свойственной ему страстностью, <…> жертвуя общественными деятелями и Урусовым»[375].
Против был царь[376]. Смущала подмоченная репутация. Даже в конце ноября, когда стало ясно, «что самый надежный человек (способный на энергию) среди правительства – Дурново», царю не хотелось «его назначать окончательно, потому что он грязненький (история выслеживания португальского посланника у его любовницы правительственными агентами, когда он был директором Департ[амента] полиции)»[377]. Как предполагал С. Ю. Витте, настораживал царя и либерализм П. Н. Дурново, выказанный им в Комитете министров при обсуждении вопросов по указу 12 декабря 1904 г. и в бытность товарищем у Булыгина, когда он «либеральничал и соперничал с [Д. Ф.] Треповым». Противился назначению П. Н. Дурново и влиятельный тогда дворцовый комендант Д. Ф. Трепов, «видя в нем ставленника Витте». «Такое отношение к Дурново в Царском Селе, – пишет С. Ю. Витте, – служило мне также одним из доводов именно в пользу назначения Дурново, так как я уже тогда инстинктивно понимал, что Трепов стремится управлять министерством внутренних дел или, вернее, полицией»[378].
Только после троекратного ходатайства С. Ю. Витте удалось получить согласие Николая II, да и то условное: «Хорошо, но только не надолго»; и не министром, а лишь управляющим министерством[379].
Революция оказывалась сильнее всех противников П. Н. Дурново. «Нужны были те затруднения во внутренней политике, которые возникли после 17 октября 1905 г., чтобы забыть все это и призвать к управлению Министерством П. Н. Дурново, который был известен как человек твердой воли, дисциплины и умевший осуществлять власть», – справедливо заметил Е. Г. Шинкевич[380]. «Лишь бы дело делал», – махнул на прошлое П. Н. Дурново и генерал А. А. Киреев[381].
Несколько иначе объясняет назначение П. Н. Дурново управляющим МВД В. И. Гурко. С. Ю. Витте, понимая, что П. Н. Дурново, в силу своего характера, не будет ему безоговорочно послушен, и «всемерно желая вовлечь» представителей общественности в свой кабинет, «формально представил Дурново государю в качестве своего кандидата на должность министра внутренних дел, но при этом так его охарактеризовал, что государь на назначение не согласился». В этой ситуации П. Н. Дурново, рассчитывал С. Ю. Витте, должен был согласиться остаться товарищем князя С. Д. Урусова, кандидатура которого на пост министра была приемлемой для общественности: не уходить же ему снова в Сенат.
Однако, продолжает В. И. Гурко, «провести Дурново было не так легко. Он сразу понял, что отказ государя был ему подсказан самим Витте. Мне случилось видеть Дурново почти тотчас после получения им от Витте записки, извещающей его о решении государя. Он был положительно в ярости. Как зверь в клетке бегал он по своему кабинету, повторяя десятки раз те же слова: “Я ему покажу! Нет, я ему покажу!” И он действительно ему показал».
«Что именно Дурново сказал Витте, – заключает В. И. Гурко, – чем он ему пригрозил, я в точности не знаю, но было оно, во всяком случае, в связи с какими-то не то документами, не то перлюстрированными письмами самого Витте, которые, будучи представлены государю, могли его окончательно погубить в глазах Николая II. Словом, так или иначе, но Витте окончательно сдался, и притом настолько, что, получив вторичный отказ государя назначить Дурново, счел себя вынужденным “всеподданнейше” доложить, что без привлечения Дурново к руководству всем имперским полицейско-административным аппаратом он не может ручаться за охранение существующего строя от революционного натиска»[382].
Этим предположениям есть некоторое подтверждение в воспоминаниях А. И. Гучкова: в ходе переговоров с общественными деятелями С. Ю. Витте, под угрозой обнародования в левой прессе компрометирующих Дурново материалов, отказался от его кандидатуры; однако «за ночь передумал и нам заявил, что <…> он вынужден вернуться к кандидатуре Дурново». А. И. Гучков замечает: «Значит, какое-то воздействие было»[383]. Кто же мог оказать воздействие в этом смысле на С. Ю. Витте, кроме П. Н. Дурново?
Вместе с тем следует принять во внимание и мнение И. И. Тхоржевского, близко наблюдавшего события, – он был дежурным секретарем при Витте-премьере: С. Ю. Витте, «во-первых, хотел, чтобы политическая полиция находилась в испытанных и верных руках, а, во-вторых, хотел еще втайне, чтобы “одиум” политических репрессий падал не на него, Витте, а на другое лицо; он же сам мог рисоваться “налево” своим конституционным либерализмом. Поэтому он продолжал настаивать и умолять Государя согласиться на назначение Дурново министром внутренних дел. <…> Таким образом, легенда о том, что Дурново был назначен помимо и вопреки Витте, сущий вздор»[384].
Очевидно, что объективные обстоятельства в октябре 1905 г. «поборствовали» П. Н. Дурново, однако главной пружиной развития событий был он сам: энергичный, компетентный, инициативный и властный, П. Н. Дурново оказался на месте и не ждал, пока его позовут. Вот как рисует возвращение его к власти Д. Н. Любимов, тогда директор канцелярии министра. После манифеста 17 октября С. Ю. Витте был занят «организацией» правительства. Между тем, «существовавшая государственная власть как-то совершенно стала стушевываться, по крайней мере в главнейшей отрасли внутреннего управления – в министерстве внутренних дел, где она была сведена почти на нет. Д. Ф. Трепов был назначен дворцовым комендантом <…>, А. Г. Булыгин демонстративно показывал, что он уже более не министр и только и ждет, чтобы передать дела своему преемнику[385] <…>. В эти тяжелые дни всеобщей разрухи стало быстро выдвигаться одно лицо, так сказать захватным правом, и сразу стало властью среди крушения всякой власти».
А началось это в ночь на 18 октября. Прочитав в прибавлении к «Правительственному вестнику» манифест, П. Н. Дурново около 12 часов ночи позвонил А. Г. Булыгину. Министр «уже легли почивать». П. Н. Дурново потребовал, чтобы его разбудили, и спросил, посылаются ли губернаторам телеграммы о манифесте и текст манифеста, так как в виду продолжающейся почтовой забастовки «Правительственный вестник» не мог быть доставлен на места. А. Г. Булыгин стал сноситься с Д. Ф. Треповым и С. Ю. Витте[386]. «Наконец, все было поручено Дурново». Он поехал на главный телеграф и организовал рассылку телеграмм губернаторам и градоначальникам. С 18 октября, свидетельствует Д. Н. Любимов, П. Н. Дурново «стал проявлять особую деятельность по министерству, в которую влагал много энергии. Он вызывал к себе директоров департаментов, делал распоряжения по всем департаментам <…>. В начале распоряжения делались “по указанию министра”, а затем “за министра” <…>. Витте по всем делам ведомства внутренних дел обращался исключительно к Дурново»[387].
Таким образом, назначение П. Н. Дурново 30 октября управляющим МВД было результатом резко обострившейся революционной обстановки и его личных усилий, вопреки желаниям Николая II и, по-видимому, С. Ю. Витте.
До 30 октября П. Н. Дурново, чувствуя себя калифом на час, а «отчасти, быть может, и нарочно, – подозревает В. И. Гурко, – дабы вернее принудить совершенно растерявшегося к тому времени Витте настоять перед государем на его назначении на министерский пост, никаких планомерных действий к водворению порядка не предпринимал»[388]. Как только назначение состоялось, так П. Н. Дурново «тотчас смело, решительно и толково принялся за подавление революции»[389].
Положение в стране
Как глава МВД П. Н. Дурново начинал в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Во-первых, почти неподвластная правительству обстановка в стране: стачка почтово-телеграфных служащих, всеобщие политические стачки в Петербурге, Ростове-на-Дону, Харькове, Риге, забастовка в Донбассе; бунты и восстания воинских частей (в Кронштадте, Владивостоке, Свеаборге, Ташкенте, Ашхабаде, Баку, Севастополе, Батуме); беспорядки запасных в Иркутске и Чите; революционные эксцессы в провинции (многолюдные манифестации – в Оренбурге и Перми во главе с захваченными губернаторами Цехановецким и Наумовым, захваты тюрем, освобождение арестованных, требования передать полицейскую власть милиции); крестьянские волнения в Московской, Тверской, Нижегородской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Екатеринославской, Минской, Пензенской и других губерниях, на Дону, в Прибалтике, Закавказье – крестьяне жгут и грабят помещичьи усадьбы, захватывают скот и хлеб, рубят леса и фруктовые деревья, отказываются платить подати, исполнять повинности, возникают крестьянские комитеты; в Петербурге с 14 октября действует Совет рабочих депутатов (обращается непосредственно к председателю Совета министров, уведомляет градоначальника о незаконных действиях полиции, учреждает в рабочих районах милицию, проводит почтово-телеграфную забастовку, организует помощь забастовщикам через городскую думу, открыто собирает деньги на вооруженное восстание), возникают Советы рабочих депутатов в Москве, Твери, Луганске, Саратове, Самаре, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Киеве, Одессе, Николаеве, Новороссийске, Красноярске, Чите и других городах; сепаратистское движение в Прибалтике (латышские вооруженные отряды), Царстве Польском (стачки, уличные беспорядки, убийства чинов полиции и земской стражи); в Россию возвращаются политические эмигранты, выпущены из тюрем почти все политические, идет открытая продажа нелегальных изданий, возникают революционные издания в России, издаются легальные революционные газеты, хлынула волна революционных плакатов, листков, брошюр, сатирических журналов, высмеивающих всех и вся; появляются признаки проникновения разложения в армию; повальные грабежи (лавок, касс, имений, почты) и нарастающий ком убийств представителей власти; 2 ноября Петербургский совет рабочих депутатов объявляет всеобщую забастовку: столица без света, телефона, газет, трамваев, хлеба; бастуют рабочие, парикмахеры, прислуга ресторанов и гостиниц, разносчики газет, приказчики магазинов; в учебных заведениях – митинги[390].
Во-вторых, «правительство бездействовало», оно «совершенно утратило сознание своей силы и настоятельной необходимости при помощи оставшегося ему верным войска восстановить порядок. <…> Оно все еще по-прежнему продолжало надеяться на примирение с общественностью»[391]. Оно «явно потеряло государственный курс, и власть у всех на глазах выпадала из его рук», – свидетельствует Д. Н. Любимов[392]. «Растерянность власти, которая имела место еще перед 17 октября и дошла до небывалых размеров после этой исторической даты. Ведь это было нечто прямо невообразимое, никто из властей предержащих не разбирался в происходящем и никто не знал, что ему делать», – подтверждает И. И. Толстой[393]. Жандармы перестали работать: «Общая растерянность, разноречивые толкования и непонимание направления правительственной политики привели в конце концов к тому, что наше жандармское управление мало по малу прекратило всякую деятельность. Находившиеся в производстве дознания оказались за амнистией ненужными, новых не возникало, хаос был всеобщий. Нашлись офицеры в нашем управлении, которые попросту уничтожили свои дознания. Мы собирались, обсуждали слухи и… ничего не делали!»[394] «Прежде всех забастовало само Самодержавие, устранив от себя должные репрессии, т. е. практическое обуздание начавшегося буйства и убийства высоко поставленных лиц», – справедливо заметил И. Е. Забелин[395]. Более того, началось разложение власти: «Правительственные чиновники стали высказывать свое несогласие с мнением начальства, а суды стремились выказать свою независимость, присуждая лиц, замешанных в освободительном движении, к самым легким наказаниям, а то и вовсе их оправдывая. Полиция усмотрела в происходивших событиях основание для усиления взяточничества»[396].
В-третьих, развращение общественных нравов достигло невиданных прежде масштабов: открылось множество кафе, «кишевших темными дельцами, альфонсами и дешевого разбора уличными Венерами»; горы порнографической литературы; в газетах – объявления с предложением интимных услуг; в кафешантанах – циничные песенки полуголых девиц; расцвели игорные дома – «всеобщая распущенность захватила самые разнообразные круги»[397].
В-четвертых, дряблость, пассивность, безропотность и покорность русской обывательской массы поражала: с нее собирали деньги на забастовщиков, на вооруженное восстание, на ее глазах поругали ее святыни.
В-пятых, со всей силой проявились аморальность леволиберальной общественности, отсутствие у нее патриотизма и государственности. «Эта общественность последовательно продолжала начатую ее вождями непримиримую борьбу за власть, не желая отмежевываться от революции»[398]. «Всяческое мало-мальски патриотическое настроение или действие толпы, враждебной радикалам революции, немедленно осмеивается или обругивается Черною сотней. Газеты старательно пользуются всяким случаем, чтобы привести все русское в омерзение. Вся Русь, ее история, а тем паче современный быт изображается в самых отвратительных картинах», – свидетельствует И. Е. Забелин[399].
В-шестых, недоброжелательное отношение общества к самому министру, против него предубежден царь, не любили его и чины министерства («это чувство разделялось между прочим и мною», – признается Д. Н. Любимов).
Наконец, положение осложняли свойства «главы правительства, с которым, как ни на есть, Дурново приходилось, хотя бы и в ничтожной степени, считаться или же вести борьбу»[400].
«Было отчего в отчаяние прийти. Время было прямо ужасное», – справедливо заключает Д. Н. Любимов.
Начало деятельности
Однако П. Н. Дурново, «которого я близко наблюдал, – продолжает Д. Н. Любимов, – особенно первое время, нисколько не был этим угнетен. Напротив, он как-то сразу воспрял духом <…>. Он стал говорить как-то громче, как-то даже выпрямился, так что это производило впечатление, – по крайней мере на меня – точно он стал выше ростом». Сразу стал подтягивать все подразделения министерства. Сам работая «с раннего утра до поздней ночи», жестко потребовал работы других[401].
«Первые недели после назначения министром он положительно не отходил от своего письменного стола, и его телефонный звонок не раз будил меня даже ночью, но зато все служащие знали, что и его в случае необходимости можно потревожить во всякое время»[402].
Начал он с главного: надо было во что бы то ни стало поднять авторитет власти. «В этих видах, – вспоминал В. И. Гурко, – он сразу прекратил издание таких распоряжений, которых власть по обстоятельствам времени не была в состоянии исполнить, а принялся бить по местам наименьшего сопротивления. Здесь он выявил ту последовательность и даже беспощадность, которые должны были внушить населению уверенность, что власть не играет словами и осуществляет принятые ею решения до конца».
Первое время, до непосредственного ознакомления с общим положением страны, «Дурново не отдавал себе отчета о степени опасности, угрожавшей государству», чем и объясняется, по мнению В. И. Гурко, его отрицательная реакция на предложение А. В. Герасимова произвести массовые аресты в столице. Когда же командиры воинских частей гарнизона столицы, кроме Г. А. Мина, заявили на собранном им совещании, что не ручаются за свои части «в случае их привлечения к подавлению народных волнений», а городовые и околоточные одной из частей Петербурга отказались исполнять свои обязанности, он осознал масштаб угрозы[403].
«Тем не менее, – продолжает В. И. Гурко, – Дурново не растерялся и без излишней торопливости и нервности продолжал идти по избранному пути. Сильная власть главного руководителя как-то сразу почувствовалась ее исполнителями, как столичными, так и провинциальными, и каким-то магнетическим током передалась им. <…> Выказывает в это время Дурново и умение лично импонировать на людей и внушать им веру в непреклонность своих решений»[404].
Вот одно из многих подтверждений: «Во главе Министерства внутренних дел, – вспоминал А. П. Мартынов, – стал Петр Николаевич Дурново, маленький сухонький старичок с ясным умом, сильной волей и решимостью вернуть растерявшуюся власть на место. Несколько ясных и твердых распоряжений – и сонное царство ожило. Все заработало, машина пошла вход. Начались аресты, запрятали вожаков, и все стало, хотя и понемножку, приходить в норму. Наше управление тоже проснулось от спячки, и мы, как никогда, погрузились в производство громадного числа новых дознаний»[405].
Произвел ряд новых назначений: директором департамента общих дел – А. Д. Арбузова, бывшего до этого вице-директором, по отзыву С. Д. Урусова, «очень порядочного и спокойного человека»[406]; директором департамента духовных дел – В. В. Владимирова. Отправил в Сенат директора департамента полиции Н. П. Гарина, «по своему характеру и почти болезненным странностям большого оригинала и в то же время идеального канцелярского исполнителя, но человека без всякой самостоятельной инициативы»[407], и полицией «ведал непосредственно сам». При этом «всех своих ставленников П. Н. Дурново энергично отстаивал»[408].
П. Н. Дурново развернул формирование полицейских команд; увеличил оклады полицейским, отличившимся в борьбе с революционными изданиями (обнаружение, конфискация) околоточным надзирателям ввел ежемесячные надбавки в 10–15 рублей; отличившихся при переводе в провинцию повышал в чинах.
Были увеличены силы и средства полиции в ряде городов; в Москве кроме конного жандармского дивизиона была образована коннополицейская стража; отличившиеся полицейские получили награды «на общую сумму 5 000 000 рублей»[409].
Скоро он получил мощную поддержку со стороны дворцового коменданта. «Увидев энергию, с которой П. Н. Дурново принялся за дело, – пишет Д. Н. Любимов, – Трепов, со свойственной ему прямотою, стал постоянно его поддерживать. Сношения между ними происходили главным образом через Вл. Ф. Трепова, который почти ежедневно бывал у того и другого. Это было очень важно для Дурново, так как значение Трепова было исключительно»[410].
Скоро он приобрел и доверие Николая II. «Отношение Государя к Дурново к концу ноября сильно изменилось к лучшему». «Помню, – продолжает Д. Н. Любимов, – как Дурново волновался, когда ехал на свой первый всеподданнейший доклад». Это было 2 декабря. «Но вернулся чрезвычайно довольный – видимо, доклад был успешный. Это окрылило Дурново. <…> С этого дня Дурново, заслоняя собою Витте, стал распоряжаться еще более властно и решительно, особенно в тяжелые дни первой половины декабря»[411].
П. Н. Дурново в составе «кабинета Витте»
В начале своей деятельности в качестве управляющего МВД П. Н. Дурново в разговоре с В. И. Гурко об общем политическом положении согласился с последним в том, «что всякие послабления власти при охватившем общественность революционном психозе могут способствовать лишь его дальнейшему развитию, а отнюдь не успокоению». Хотя, замечает В. И. Гурко, он «вполне в это время сознавал, что весьма решительные реформы во всем государственном строе безусловно необходимы. <…> Но идти сейчас в порядке полного осуществления провозглашенных свобод – это значит заменить одну тиранию другой, безмерно худшей, от которой неминуемо погибнет государство»[412].
Однако поддержки в коллегах по Совету министров он не находил[413]. Состав «кабинета» С. Ю. Витте был, по свидетельству А. Ф. Редигера, «крайне пестрый: наряду с членами либерального и даже левого направления, как Кутлер, граф Толстой, князь Оболенский (Алексей), в нем заседал совсем консервативный Дурново; консерваторами были также Бирилев и я, но мы в политические вопросы не вмешивались. В самом трудном положении был Дурново. Его Министерство имело тогда наибольшее значение, и все обсуждавшиеся в Совете вопросы относились именно к нему, – и заседания были заполнены резкими спорами Дурново с председателем и сочленами по Совету»[414]. Положение П. Н. Дурново осложнялось еще и тем, что он был только «управляющим министерством», что подчеркивало, по мнению И. И. Толстого, «возможность замены его другим лицом во всякую минуту»[415].
Попытки найти поддержку оказывались неудачными. «Чуть ли не первым коллегою, встретившим меня в Совете, – вспоминал И. И. Толстой, – был П. Н. Дурново: мы были с ним давно знакомы, хотя и не близко. Он встретил меня восклицанием: “Как я рад, граф Иван Иванович, что вижу Вас здесь! Уверен, что найду в Вас поддержку, а то тут собрались фантазеры, Вы увидите, какие тут проповедуются теории”. Через несколько недель тот же Дурново говорил, что я хороший человек, но часто расхожусь с ним во взглядах, а через несколько месяцев заявил <…>, что в моем лице заседает в Совете министров представитель “кадетской” партии и притом самых крайних воззрений»[416].
С членами кабинета П. Н. Дурново был «в отношениях довольно сухих, с некоторыми даже в натянутых. Исключение составлял новый министр юстиции М. Г. Акимов. <…> По всем вопросам Дурново и Акимов держались вместе в Совете министров»[417].
Держался П. Н. Дурново в Совете корректно: не вмешивался в дела коллег, но и не допускал их вмешательство в свои. «Погруженный с головой в заботы о прекращении массовых беспорядков, возникавших чуть ли не ежедневно в ряде губерний и, наконец, в Москве, [он] принужден был силою обстоятельств принимать меры, далеко не соответствующие тому строю управления, который обрисовался в умах либеральной части общества <…>. Его занимали не отвлеченные вопросы, а практические задачи текущего дня, которые он в круге порученных ему обязанностей старался разрешить успешно <…>. В данном случае перед ним стояла задача прекратить охватившие страну пожары, грабежи и всякого рода насильственные действия. Он эту задачу и выполнял в полной уверенности, что поступает правильно, и совершенно не интересуясь тем, как относятся к его действиям и распоряжениям не только общественное мнение, но и вновь организованный под председательством С. Ю. Витте Совет министров, членом которого он состоял. Как с председателем Совета, так и с прочими его членами П[етр] Н[иколаевич] вскоре перестал совещаться и считаться»[418]. Такую позицию П. Н. Дурново в Совете министров С. Д. Урусов объясняет следующими предположениями: «Укрепив свое положение у царя, которому его смелый и самостоятельный образ действий, очевидно, нравился, он, конечно, предчувствовал, что его министерская карьера окончится с началом деятельности Государственной думы, и потому мало интересовался последней. Он, вероятно, считал, что весной прилетят новые птицы и запоют новые песни, а ему, обеспеченному в служебном отношении креслом в Государственном совете, а в материальном отношении щедрым царским подарком, можно будет спокойно взирать критическим оком на комедию, которая будет разыгрываться идеологами-политиканами. При этом он в случае надобности смог бы, и не без основания, утверждать, что его стараниям Россия обязана тем, что Дума могла собраться и приступить к занятиям в нормальных условиях, обеспеченных восстановленным в стране порядком»[419].
Разумеется, отсутствие понимания и поддержки со стороны коллег по кабинету осложняло и без того непростое положение министра внутренних дел. «Мое положение в области непосредственного управления министерством, – писал он С. Ю. Витте 20 марта 1906 г., – в высшей степени тяжелое и я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь выдержал, один, в течение 5 месяцев то, что пало на мою долю»[420]. Тем не менее трудно согласиться с С. Д. Урусовым: не такой был человек П. Н. Дурново, чтобы мечтать о покое и быть готовым отойти в сторону.
Замена С. С. Манухина М. Г. Акимовым
Более других неготовым к борьбе с революцией оказалось судебное ведомство. С мест потоком шли жалобы военных и полицейских на то, что их усилия в борьбе с революцией не находят поддержки судебной власти. «Главный военный суд почти сплошь состоял из лиц, уже не способных к работе; в числе председателей окружных судов были тоже устарелые лица и один даже полуслепой»[421]. Министр юстиции С. С. Манухин, по словам П. Н. Дурново, был теоретичен, не умел и даже не хотел «внушить не только судьям, но и прокуратуре нужную строгость и быстроту в преследовании и наказании лиц, замешанных в политические и аграрные преступления и проступки». Более того, С. С. Манухин брал под защиту «своих судейских», доказывал неосновательность обвинений в их адрес, протестовал против произвольных будто бы мер представителей МВД. П. Н. Дурново удалось убедить Николая II в том, что С. С. Манухин «слишком мягок, недостаточно энергичен, а потому не соответствует потребностям времени»[422].
В заседании Совета министров 18 ноября 1905 г. под председательством Николая II С. Ю. Витте поддержал П. Н. Дурново: «Правительство не находит поддержки в судебной власти, которая освобождает политических преступников от всякого преследования»; прокуратура стала бы «более энергичною, если бы министр юстиции побуждал ее к этому»[423].
Министром юстиции, вместо С. С. Манухина, был назначен М. Г. Акимов. «Говорят, – пометил в дневнике Г. О. Раух, – человек сильно консервативных взглядов и очень энергичен, beau frère[424] Дурново; это победа последнего, ибо Витте ни за что не хотел»[425]. В. И. Гурко «охотно» допускал, что назначение М. Г. Акимова «состоялось не без давления со стороны Дурново», указывая на «весьма дружеские отношения между ними»[426]. С. Ю. Витте, однако, утверждал, что это он, без чьей-либо подсказки, по официальной справочной книжке подобрал М. Г. Акимова как «профессионала», а П. Н. Дурново «не очень радостно встретил это известие», опасаясь – по предположению С. Ю. Витте – «конкуренции на поприще реакционного консерватизма»[427].
С первых дней управления министерством М. Г. Акимова, вспоминал один из его подчиненных, «все почувствовали, что твердая рука прикоснулась к власти»[428]. Остался доволен и Николай II: «Мне очень нравится новый министр юстиции Акимов <…>. Он, к сожалению, немолод, но замечательно бодрый и энергичный, с чистыми взглядами, и начал сильно подтягивать свое поганое ведомство»[429]. Высокую оценку получила деятельность М. Г. Акимова в этой должности и в среде Объединенного дворянства[430].
Правовая основа борьбы с революцией
Борьба с революцией была развернута на основе закона 14 августа 1881 г., который позволял министру внутренних дел и генерал-губернаторам вводить состояние «усиленной охраны», что существенно расширяло пределы власти административных и полицейских органов, а правительству – состояние «чрезвычайной охраны», что позволяло прибегать к «исключительным мерам». Генерал-губернаторы могли предавать преступников военному суду, а в губерниях, где первых не было, предание военному суду могло быть по соглашению министров внутренних дел и юстиции.
По инициативе С. Ю. Витте и отдельных министров правовая база борьбы с революцией была существенно расширена. Так, по предложению П. Н. Дурново Совет министров принял дополнения Правил об охране государственного порядка и общественной безопасности и Правил о полицейском надзоре, что позволило существенно усилить репрессии со стороны полиции и местной власти. Министерство внутренних дел разработало специальное разъяснение местным властям и после одобрения его Советом министров циркулярно разослало в губернии и уезды – местные власти должны были оказывать «решительное противодействие нарушителям законного порядка»: наказывать государственных служащих, виновных в бездействии и небрежении своими обязанностями. Министерство внутренних дел предписало военным губернаторам, губернаторам и градоначальникам следить за благонадежностью служащих, доносить в департамент общих дел о тех из них, кто поддерживает противоправительственное движение, увольнять их[431].
Забастовка служащих почты и телеграфа
22 октября 1905 г. на митинге почтово-телеграфных служащих в Москве было решено создать профсоюз, избрано Центральное бюро союза и сформулированы экономические требования. П. Н. Дурново приказал оповестить всех служащих ведомства, что образование союза незаконно и что вступившие в союз будут уволены. Служащие пригрозили забастовкой.
14 ноября по приказанию П. Н. Дурново были уволены члены Центрального и Московского комитетов союза, а 15-го – в ответ – стачка, охватившая многие города империи. Собравшийся в Москве съезд делегатов от местных союзов почтово-телеграфных служащих объявил забастовку. Противоправительственная печать поддерживала требования бастующих[432]. Правительство осталось без связи[433]. Обыватели ныли[434].
Забастовщики использовали телеграф для дезорганизации правительства, для усиления паники. Так, инспектор почт и телеграфов Довяковский, командированный в Сибирь, связался по телеграфу из Иркутска с П. Н. Дурново. «От Дурново он услышал, что царь убит, царица с наследником бежала, провозглашена республика, Витте – президент, на Казанской площади – бунт и т. д., а Дурново по телеграфу читал, что в Иркутске – резня, армия взбунтовалась и т. д. Оказалось, что весь этот разговор был сочинен самарскими телеграфистами»[435].
Многие ответственные чиновники ведомства растерялись и готовы были идти на уступки забастовавшим. Так, начальник Иркутского почтово-телеграфного округа Пономарев признавал, что брожение среди чинов ведомства «принимает уродливые формы и крайности в прямое нарушение закона», а «петиции чинов, разбираемые по частям, вызывают к ним отрицательное отношение». Тем не менее П. Н. Дурново призывал отвлечься «от частностей», вникнуть «в дух их» и возвестить, что все заявленное бастующими «представляет неотложную реформу, что этим займутся теперь же, что этому всему придано значение». Уверял, что «тотчас же начнется умиротворение, что чины ведомства <…> терпеливо будут ждать результатов»[436].
П. Н. Дурново, по наблюдениям И. И. Толстого, «был крайне смущен забастовкой своих подчиненных»; ранее долгое время управлявший почтой и телеграфом, он не ожидал ее. С. Ю. Витте, продолжает И. И. Толстой, «решил предоставить Дурново полную свободу действий в этом деле, полагаясь на его административную опытность»[437].
П. Н. Дурново энергично принялся за наведение порядка: арестовал главарей московского съезда делегатов; наладил телеграфное сообщение с главными центрами страны при помощи специальных воинских частей; по его телеграмме от 19 ноября были одновременно арестованы организаторы стачки во всех городах; организовал разборку и доставку почты силами добровольцев; 21 ноября оповестил служащих ведомства, что те, кто не приступит к работе с 22 ноября, будут тотчас уволены; принял меры по ограждению возвращающихся к работе от насилий революционеров; на основании указа от 11 ноября 1905 г.[438] помещения почт и телеграфов были заняты полицией и войсками; забастовщики были выселены из казенных квартир.
25 ноября был опубликован циркуляр, написанный в основном «рукою самого Дурново», который произвел «громадное впечатление, всюду показав, что с забастовкою чиновников правительство шутить не намерено». Главнейшие его положения были следующие: «никаких соглашений или условий с чиновниками, дерзнувшими, в переживаемое государством тяжелое время, нарушить данную ими присягу, допущено быть не должно. Потому – как общее правило: все самовольно, скопом, оставившие занятия увольняются без прошения от службы. Местному начальству разрешается разобраться: кто из них подчинился угрозам подстрекателей по малодушию и из страха и кто действовал, отдавая себе отчет в последствиях нарушения служебного долга. Лишь относительно первых может быть вопрос о принятии их вновь на службу»[439].
Его распоряжения на места были конкретны и жестки. «Депешу вашу получил. Признаю необходимым: 1) главных виновников и производивших насилия по почтово-телеграфному мятежу немедленно судить военным судом за бунт против верховной власти и привести в исполнение приговор о тягчайшем наказании; 2) второстепенных почтовых мятежников немедленно посадить в тюрьму и держать, согласно военному положению, не менее 3-х месяцев; 3) главных революционеров, а равно всех членов стачечных комитетов судить военным судом (слово не разб. – А. Б.) по обвинению в бунте против верховной власти и приговоры исполнить; 4) никаких митингов, собраний и шествий не дозволять, а собравшихся разгонять без всякого снисхождения силою оружия; 5) все предыдущее распространяется на лиц всех званий; 6) чиновников, дозволивших себе революционные действия, устранять от службы; 7) вообще подавить мятеж самыми суровыми мерами»[440].
Результаты не заставили себя ждать. «Я вернулся в Минск в момент почтовой забастовки, – вспоминал бывший минский губернатор. – <…> Через несколько дней из С.-Петербурга стали поступать определенные телеграммы: не допускать никаких нарушений порядка и немедленно покончить с почтовой забастовкой, предложив нежелающим приступить к работе подать в отставку, и очистить находившиеся в их распоряжении казенные квартиры. Твердость приказаний произвела немедленное действие: забастовка прекратилась, и о никаких публичных антиправительственных выступлениях не было и речи[441].
П. Н. Дурново победил. Стачка прекратилась. «Это был несомненно поворотный пункт революции 1905 г. <…> дело революционеров с этого момента ими проиграно»[442]. Либеральный И. И. Толстой, констатируя «успех, увенчавший меры строгости Дурново по отношению к почтарям», заметил: «Хотя “сознательная” публика и распространяла слухи о возмутительной строгости в этом деле управляющего министерством внутренних дел и об увольнении чуть ли не половины почтарей и телеграфистов, в действительности жертв начальнической строгости оказалось сравнительно немного в процентном отношении к массе служащих»[443].
Успех, известно, редко прощают. Не удержался и И. И. Толстой: «Забастовка прекратилась, отчасти вследствие нелепости самой затеи, сравнительно скоро и, можно сказать, довольно радикально. Этот результат был приписан главным образом умению Дурново и много содействовал укреплению его престижа в глазах консервативных элементов. Сам он довольно ловко воспользовался этим настроением для усиления своего влияния»[444].
Борьба с революционным движением
В октябре – ноябре 1905 г. власть была растерянна, правительство не прибегало к арестам, опасаясь ухудшить ситуацию. Осторожничал и П. Н. Дурново. «С первого своего свидания с Дурново, – вспоминал А. В. Герасимов, – я настаивал на необходимости больших арестов и в первую очередь ареста Совета рабочих депутатов. Дурново ездил к Витте и возвращался с ответом, что предлагаемые мною меры совершенно немыслимы. Единственное, на что они давали согласие, – это на конфискацию отдельных, наиболее возмутительных изданий или на арест отдельных лиц. <…> Решение каждого вопроса, каждый арест или конфискация, давались тогда с трудом»[445].
26 ноября был арестован по личному распоряжению П. Н. Дурново председатель Петербургского Совета рабочих депутатов Г. С. Хрусталев-Носарь за подстрекательство и руководство почтово-телеграфной забастовкой[446]. Арест Хрусталева вызвал открытый призыв готовиться к вооруженному восстанию.
2 декабря был опубликован «Финансовый манифест»[447], рассчитанный на то, чтобы посеять панику среди обывателей, вложивших свои деньги в сберегательные кассы. Это была серьезная угроза. По мнению В. И. Гурко, «исполнение, хотя бы частичное, населением этого приказа могло бы иметь самые тяжелые последствия и поставить правительство в безысходное положение, тем более что одновременно подрывало наш международный кредит». П. Н. Дурново, продолжает В. И. Гурко, «конечно, сразу это понял и решил, не ожидая дальнейшего развития событий и вящего укрепления престижа власти, нанести революционному центру окончательный удар. 3 декабря он производит арест этого центра, который все еще представляется населению обладателем некоторой революционной силы и принципов, которого оно почти не смеет ослушаться. Оцепив полицией во время его пленарного заседания Совет рабочих депутатов, он его целиком заключает в тюрьму»[448].
С. Ю. Витте приписывает это себе: «После ареста Носаря я распорядился арестовать весь Совет, что Дурново исполнил лишь 3 декабря. Дурново опасался, что если он начнет арестовывать членов Совета порознь, то они разбегутся, и ожидал собрания. Совет же боялся собраться, а как только он собрался 3 декабря в Вольно-экономическом обществе, он был арестован»[449].
В. И. Гурко рисует иную картину: «В день этого ареста в Совете министров обсуждался проект правил о союзах. Дурново, невзирая на всю важность этого вопроса, в Совет не поехал, а командировал туда в качестве своего представителя чиновника департамента общих дел, наказав ему не обмолвиться ни единым словом о предстоящем в тот же вечер аресте. <…> Не успел, однако, Совет министров окончить обсуждение упомянутого проекта, как Витте доложили, что его просит к телефону министр внутренних дел. <…> Возвращение Витте не способствовало успокоению присутствующих. С буквально белым лицом и с прерывающимся от дрожи голосом он в величайшем волнении сказал: “Все погибло. Дурново арестовал Совет рабочих депутатов”. Слова эти произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Некоторые члены Совета даже вскочили со своих мест, а управляющий делами Совета Н. И. Вуич затрясся как осиновый лист»[450].
Итак, не С. Ю. Витте. Однако и не П. Н. Дурново.
«Вопрос об этом аресте, – вспоминает А. В. Герасимов, тогда начальник Петербургского охранного отделения, – я ставил с самого начала. Но его все время отодвигали, отодвигали <…>. [П. Н. Дурново] опасался, что за арестом Совета последует революционный взрыв. <…> Ввиду моих настояний Дурново решил устроить совещание для решения вопроса об аресте Совета рабочих депутатов». В совещании под председательством И. Г. Щегловитова А. В. Герасимова поддержал только П. К. Камышанский.
«Я чувствовал, – продолжает А. В. Герасимов, – что продолжение прежней политики грозит большой катастрофой, и отправился еще раз к Дурново». Во время доклада А. В. Герасимова в кабинет зашел министр юстиции М. Г. Акимов и молча слушал соображения Герасимова и сомнения Дурново. Когда П. Н. Дурново, заключая, заявил, что он склоняется «к мнению большинства совещания», в разговор вмешался Акимов. «А я, – заявил он, – целиком согласен с полковником. И если вы как министр внутренних дел не считаете возможным принять предлагаемые меры, то это сделаю я». И взяв лежавший на столе блокнот, тут же уполномочил А. В. Герасимова произвести арест. П. Н. Дурново «не возражал, – пишет А. В. Герасимов. – И у меня было впечатление, что он даже рад тому, что мера, которая и ему представлялась необходимой, решена не им».
Получив в свое распоряжение войска, А. В. Герасимов оцепил помещение Вольно-Экономического общества и произвел арест.
«Как это ни странно, – замечает А. В. Герасимов, – но и этот арест еще не решил окончательно вопроса о перемене курса правительственной политики. Совет рабочих депутатов был арестован, но аресты вообще не производились»[451]. В. И. Гурко поясняет: «Шаг этот был решительный и, по имевшимся тогда у правительства представлениям, рискованный: признавалось, что последствием его явится немедленное возобновление всеобщей забастовки и выступление всего рабочего населения Петербурга. <…> Не сопровождавшийся никакими выступлениями толпы арест первого состава Совета разрушил тот ореол, которым организация эта была окружена, и притом не только в глазах населения, но и в представлениях правительства и самого Витте»[452].
Перелом наступил через несколько дней. П. Н. Дурново решился перейти в наступление ночью на 7-е декабря, узнав о решениях московского железнодорожного съезда. «Вы правы, – сказал он вызванному тут же А. В. Герасимову, – мы сделали ошибку, что так долго тянули. Надо действовать самым решительным образом. Я уже говорил с Царским Селом. Царя разбудили, и он примет меня в 7 часов для экстренного доклада. К 9-ти я буду обратно. Ждите меня. Все ли готово для ареста?» П. Н. Дурново «был совсем иной, – свидетельствует А. В. Герасимов. – Никакого колебания у него не было. Видно было, что человек уже решился»[453].
С этого времени борьба с революционными эксцессами резко активизируется по всем направлениям.
С. Ю. Витте инициировал карательные экспедиции П. К. Ренненкампфа, А. Н. Меллер-Закомельского по транссибирской магистрали и капитана I ранга О. О. Рихтера в Прибалтику[454].
П. Н. Дурново телеграммой просил командующего Сибирским военным округом генерал-лейтенанта Н. Н. Сухотина подавить мятеж «самыми решительными мерами, с применением военной силы, без всякой пощады и колебаний», арестовать «всех руководителей и подстрекателей железнодорожной и почтово-телеграфной забастовок»[455].
В Петербурге вырабатывается диспозиция на случай вооруженного восстания: «все караулы занимаются военными училищами», у дворца – Павловский полк с артиллерией[456].
На случай повторения забастовки на железных дорогах вел. кн. Николай Николаевич приказывает сформировать 4 поезда-тарана; в составе каждого – рота л. – гв. Стрелкового полка, 2 орудия, 2 пулемета, взвод кавалерии, жандармы, саперы, рабочая команда; задача – «пробивать путь и возобновлять движение»[457].
Декабрьское вооруженное восстание в Москве
Среди современников бытовали подозрения, что правительство спровоцировало вооруженное восстание в Москве, чтобы запугать среднего обывателя. Об этом писал П. Н. Милюков, ссылаясь на письмо в «Matin» петербургского корреспондента Пьера Леру, взявшего интервью у Ф. В. Дубасова[458]. Г. М. Катков связывал это с П. Н. Дурново: о нем-де «говорили, что в 1905 году он спровоцировал рабочее восстание, чтобы подавить его силой оружия»[459].
По-видимому, это не так. С. Ю. Витте утверждал, что П. Н. Дурново «действительно не знал, что там (в Москве. – А. Б.) творится»[460]. По мнению С. Е. Крыжановского, московское восстание – «прямой плод колебаний политики Витте»[461]. В. И. Гурко также считал московское восстание результатом политики С. Ю. Витте: «Удачная ликвидация Петербургского Совета рабочих депутатов окрылила Витте, и он задумал покончить с революцией одним ударом, а именно позволить Московскому восстанию выступить наружу, <…> и затем дать предметный урок населению и одновременно расправиться со всеми наиболее деятельными главарями революции. Некоторым из своих ближайших сотрудников по Министерству финансов, как, например, А. И. Путилову, на выраженное им изумление, почему власть допускает открытую на глазах у всех подготовку вооруженного выступления в Москве, он именно это и объяснил»[462]. Если к этому принять во внимание явный перевес сил на стороне восставших в начале восстания, то следует заключить: П. Н. Дурново не мог его провоцировать.
Что касается подавления московского восстания, то здесь роль П. Н. Дурново была, без сомнения, решающей. Правда, С. Ю. Витте утверждал, что «во всем деле восстания в Москве управляющий Министерством внутренних дел П. Н. Дурново не принимал никакого участия». В. Ф. Джунковский полагал, что в Москве «единственно спасли положение» Ф. В. Дубасов, «его мужество и политическая честность»[463].
В это невозможно поверить. Во-первых, Ф. В. Дубасов, каким его охарактеризовал В. Ф. Джунковский, не мог обойтись без опытного в таких делах руководства. «Это был человек с железной волей, – пишет В. Ф. Джунковский, – это был честный, благородный солдат, он не был администратором, дела он не знал, но у него был здравый смысл и он умел различать честное от нечестного. В душе он был добрым человеком и гуманным, но вспыльчивость его не знала границ, он в эти минуты забывал все и бывал очень неприятен, так как переходил должные границы. Часто эта вспыльчивость бывала от недовольства самими собой, когда ему что-нибудь докладывали, и он не мог схватить сути дела. Тогда он начинал сердиться, и тут ему противоречить нельзя было, так как он выходил из себя. Такими поступками он наводил панику на подчиненных, которые робели, а робости он также не переносил. <…> Во время вооруженного восстания он ни на минуты не терялся, сохраняя полное присутствие духа»[464].
Во-вторых, не таким был П. Н. Дурново, чтобы упускать из своих рук дело, к которому приставлен. Сразу, по назначении генерал-губернатором в Москву, Ф. В. Дубасов получил от П. Н. Дурново конфиденциальное письмо с планом подавления забастовки почтово-телеграфных служащих[465]. Советуя «непосредственно по прибытии в Москву» обратить внимание на почтово-телеграфный мятеж, П. Н. Дурново подчеркивал: мятеж является «при настоящих обстоятельствах величайшим государственным вопросом, от правильного разрешения которого зависит судьба всей государственной службы в России». Его распоряжения сводились к следующему: «1) Арестовать всех зачинщиков забастовки, председателя, членов и делегатов мятежнейшего “союза” и передать их для обвинения в судебном порядке прокурорскому надзору, причем подвести их действия под ст. 344 и 384 Улож[ения] о нак[азаниях] и ни под каким видом не выпускать из тюрем <…>. 2) Всех забастовавших уволить от службы и принимать только тех из них, которые, по мнению начальства, действовали по слабости и неведению, повинуясь угрозам и насилию. До разбора дела часть уволенных будет считаться уволенной без прошения. 3) Жалование 20 ноября выдать только тем, которые не покидали службы; затем все дни забастовки вычисляются из жалования тех, которые могут быть приняты вновь. 4) После того как личный состав таким образом очистится от забастовщиков, проверяются все по отношению к вступлению в “союз”, что им было категорически запрещено три раза. До проверки все те из принятых, которые были сознательно членами “союза”, увольняются от службы без прошения, и 5) Все начальники <…>, проявившие слабость, трусость и бездействие, увольняются от службы».
«От этих распоряжений, – заключал П. Н. Дурново, – я ни при каком случае отступить не могу, ибо считаю, что малейшая уступчивость погубит почтовое дело в России навсегда. <…> повторяю, что Москва, в моих глазах, есть центр мятежа, и он должен быть подавлен в Москве же».
Вследствие распоряжения П. Н. Дурново были арестованы главные руководители забастовки почтово-телеграфных служащих; были проведены обыски. Были арестованы и руководители «Всероссийского крестьянского союза».
В-третьих, дневник Ф. В. Дубасова[466] свидетельствует, что московский генерал-губернатор, при всех его широких полномочиях, действовал в тесном контакте с министерством внутренних дел, докладывая о:
положении в первопрестольной (8 декабря – о забастовке всех железных дорог кроме Николаевской, 11-го: «Положение становится очень серьезным. Кольцо баррикад охватывает город все теснее. Войск для противодействия становится явно недостаточно. <…> Дело скверно. Кольцо баррикад все суживается. Борьба становится бессильной. <…> Толпы небольшие, но во всех местах»);
ходе подавления восстания (10-го – о действиях пехоты и артиллерии; 12-го: «Работа идет очень деятельно. Стража действует превосходно, разобрали баррикады. Вчера ночью Сытинская типография вся погребена развалинами здания»);
действиях войск (10-го: «Войска работают превосходно, с примерной стойкостью»; 17-го: «Ведет Мин очень толково и доведет до конца. Уничтожил общежитие и столярную фабрику Шмидта»);
своих планах (12-го: «Сегодня ночью предполагаю взять очаг революции – студенческое общежитие. <…> План оцепления тщательно разрабатываем»; 17-го: «Отряд для занятия Пресненского квартала остался на ночь. <…> Операция будет закончена завтра полным очищением квартала»);
потерях (17-го: «У нас 1 убит (нижний чин) и 4 ранено»);
успехах (17-го: «На Московско-Курской ж. д. открыто движение. Все мятежники бежали. Гучков пришел сказать о телеграмме, составленной Союзом Союзов или стачечным комитетом условным ключом о том, что они постановили прекратить забастовку»);
просил (8-го – ходатайствовать о присылке «из Петербурга железнодорожной команды в необходимом составе»; 10-го – доложить императору, «что все обойдется благополучно»; 11-го – просить вел. князя Николая Николаевича о присылке бригады; 12-го: «Петр Николаевич, у меня есть к Вам важная просьба: “Дайте мне Рачковского”»[467]);
не соглашался (15-го: «Надо вести борьбу не с мертвыми домами, а с живыми людьми. Колоть и расстреливать.<…> Дело Фидлера военному суду я не согласен. Непопулярное учреждение, лучше мы переколем. Не связывайте мне рук, я по совести поступлю»).
Есть другие свидетельства руководящей роли П. Н. Дурново в подавлении вооруженного восстания в Москве. Он «очень беспокоился, благополучно ли пройдет отправка [Семеновского] полка из Петербурга в Москву. Были приняты экстренные меры охраны. Все опасные места были заняты железнодорожными батальонами и жандармскими командами – как это полагается при проезде царя». По совету А. В. Герасимова предоставил генералу Мину, по сути, свободу рук: «Не допускайте, чтобы на улице собирались группы даже в 3–5 человек. Не останавливайтесь перед применением артиллерии. Артиллерийским огнем уничтожайте баррикады, дома, фабрики, занятые революционерами»[468].
«Севастьянов присутствовал при разговоре Дурново с Дубасовым по телефону насчет начавшихся беспорядков в Москве. Дурново, узнав, что 12 тыс. революционеров заперлись в “Аквариуме”, приказывал Дубасову никого оттуда не выпускать, а если их нельзя взять живьем, то чтобы истребить огнем, 4 тыс. войска окружили “Аквариум”, но не сумели распорядиться, чтобы они все были взяты: пока по два человека выпускались из “Аквариума” и попадали в руки полиции, остальные все успели бежать другими ходами. Дурново требовал их всех уничтожить»[469].
По мнению С. Е. Крыжановского, подавление вооруженного восстания в Москве, как и в других местах, – заслуга П. Н. Дурново, именно он «рядом энергичных действий быстро ликвидировал бунты, как Московский, так и в других местах вспыхнувшие»[470].
А. В. Герасимов утверждает, что Николай II к П. Н. Дурново «очень хорошо относился после того, как он справился с декабрьским кризисом в Москве»[471]. Очевидно, что Герасимов и Николай II нисколько не сомневались в том, что П. Н. Дурново, а никто другой, «справился с декабрьским кризисом в Москве».
Не сомневался и Л. Д. Троцкий: «Дурново разгромил рабочих в декабре»[472].
И после подавления вооруженного восстания П. Н. Дурново внимательно следил за положением в Москве, периодически предупреждая Ф. В. Дубасова о возможных осложнениях и необходимых в таких случаях мерах. Так, в марте 1906 г. телеграфирует в Москву: «Здесь имеются сведения на возможность забастовки Московского железнодорожного узла. Необходимо при малейшей агитации в этом направлении принять самые решительные меры и немедленно арестовать всех основательно подозреваемых в подстрекательстве». Неделей позже пишет: «По имеющимся агентурным сведениям, в Москве весьма неблагополучно независимо [от] всеобщей забастовки, которая будто бы последует на днях, в Москве все готово к безотлагательному вооруженному восстанию. Означенные сведения обязывают принять необходимые меры предосторожности и быть готовым при малейшей попытке к учинению беспорядков подавить их самым решительным образом»[473].
Что касается их личных отношений, то они были, по-видимому, натянутыми. Ф. В. Дубасов был назначен московским генерал-губернатором по настоянию С. Ю. Витте. Так утверждают многие современники[474]. П. Н. Дурново к этому назначению, по словам С. Ю. Витте, «отнесся как-то равнодушно». Ф. В. Дубасов же относился к П. Н. Дурново, по утверждению С. Ю. Витте, «не то что недоверчиво, но как-то несимпатично, если не употребить более энергичного выражения “гадливо”, не уважал, отзывался о нем “довольно кисло”» и даже поставил будто бы условием согласия на назначение в Москву «непосредственные отношения» с Витте, желая «иметь поменьше дела с Дурново»[475].
Скорее всего, эта неприязнь, если она была, связана с их кадетскими годами: Дурново шел на три года старше и, будучи унтер-офицером, возможно, «муштровал» кадета Дубасова.
После подавления московского восстания между П. Н. Дурново и Ф. В. Дубасовым возникло разногласие: последний просил императора, «чтобы виновных судили обыкновенным порядком, <…> Дурново же хотел, чтобы виновные были судимы военными судами[476]. Однако попытка противопоставить «кровожадному» Дурново «гуманного» Дубасова не выдерживает критики: современники упрекали Ф. В. Дубасова «в излишней жестокости при подавлении восстания»[477], и военный суд он отвергал как «непопулярное учреждение», предпочитая «переколоть»[478].
В. Ф. Джунковский утверждал, будто под влиянием П. Н. Дурново, желавшего приписать себе заслугу подавления восстания в Москве, Дубасов «не получил никакой награды. <…> и только 17 января как бы между прочим» был назначен членом Государственного Совета[479]. Однако П. Н. Дурново никогда не был столь влиятельным, чтобы определять решения царя, а в Государственный совет Ф. В. Дубасов был назначен по ходатайству С. Ю. Витте как раз за «заслуги» в деле подавления «московского мятежа»[480].
Борьба с революционным террором
Терроризм как важнейшее в арсенале средств борьбы революционеров был обоснован основоположниками марксизма: «Существует лишь одно средство сократить, упростить и сконцентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство – революционный терроризм»[481]. «Только при помощи самого решительного террора <…> можем мы <…> оградить революцию от опасности»[482]. В. И. Ленин в июне 1905 г. писал о необходимости разделаться «с монархией и аристократией “по-плебейски”, беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление», а в октябре призывал «учиться у японцев», которые, преуспев в производстве и применении взрывчатых веществ, «перешли также к ручной бомбе, которой они великолепно пользовались против Порт-Артура». Тогда же он считал, что «каждый отряд революционной армии» должен быть немедленно готов к таким операциям, как «убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств для обращения их на нужды восстания»[483].
Так что революционный террор в России в 1905–1906 гг. не был «навязан» революционерам, они развернули его вполне сознательно, как загодя заготовленное оружие. Почва для этого – тот «гнилой и пунцовый туман, из которого сами собою выползают жабы террора»[484], – была подготовлена и всячески удобрялась «прогрессивной» прессой.
Жертвами революционного террора с февраля 1905 г. по май 1906 г. стали: городовые (346 человек – 27 % от общего числа жертв), стражники (257 – 20,2 %), околоточные надзиратели (125 – 9,8 %), гражданские чины (85 – 6,7 %), приставы и их помощники (79 – 6,2 %), урядники (57 – 4,5 %), жандармские нижние чины (55 – 4,3 %), фабриканты и старшие служащие на фабриках (54 – 4,2 %), представители сельской власти (52 – 4,08 %), землевладельцы (51 – 4 %), банкиры и крупные торговцы (29 – 2,27 %), полицмейстеры, уездные начальники и исправники (21 – 1,65 %), агенты охраны (18 – 1,4 %), духовные лица (12 – 0,95 %), жандармские офицеры (8 – 0,63 %), генерал-губернаторы, губернаторы и градоначальники (8 – 0,63 %), строевые офицеры (7 – 0,55 %), вице-губернаторы и советники губернских правлений (5 – 0,4 %), генералы (строевые) – 4 (0,31 %), – всего 1273 человека[485].
Сам П. Н. Дурново был объектом постоянной охоты террористов, «революционеры травили его как дикого зверя»[486].
С точки зрения П. Н. Дурново, терроризм – «это очень ядовитая идея, очень страшная, которая создала силу из бессилия»[487]. Что он мог противопоставить этой напасти? Арсенал средств был невелик.
В декабре 1905 г. были проведены аресты главнейших революционных деятелей, при обысках в их помещениях были изъято большое количество оружия и взрывных устройств[488].
Циркуляром от 24 декабря 1905 г. П. Н. Дурново, ссылаясь на ст. 17 Положения об охране и п. 1-й указа от 29 ноября 1905 г., обязал губернаторов и градоначальников все дела о лицах, изобличенных в убийстве и покушении на убийство должностных лиц, «передавать на рассмотрение военного суда для суждения виновных по законам военного времени с применением наказания по ст. 279 Устава о наказаниях»[489].
Однако аппарат МВД оказался неготовым эффективно бороться с террористами. Его агенты – в центре и на местах – не имели нужного опыта, были терроризированы антиправительственной прессой, скованы физическим страхом. Борьбу правительства с террористами тут же окрестили «правительственным террором» и организовали вокруг него свистопляску. Резкое его осуждение раздавалось иногда и с амвона[490].
Из министерства приходилось подсказывать и подталкивать: «Убийца полицмейстера и покушавшийся на убийство вице-губернатора должны быть преданы военному суду. Имейте в виду, что Иркутск с уездом объявлены на военном положении»[491].
Приходилось обращать внимание местных властей на опыт эффективной борьбы с террористами: «Сообщаю, что варшавский генерал-губернатор, руководствуясь ст. 12 правил о местностях, объявленных на военном положении, подверг смертной казни расстрелянием одиннадцать лиц, изобличенных в принадлежности к анархическому сообществу, проявившему свою деятельность изготовлением снарядов, террористическими актами, вымогательством, грабежом и насилием»[492].
Личный состав министерства юстиции почти поголовно страдал «судебным формализмом», был настроен либерально, а в части – и революционно. Приходилось подсказывать местным властям, как если не преодолеть сопротивление прокуратуры, то хотя бы его минимизировать: «В виду разномыслия с прокурорским надзором, следует по меньшей мере иметь настояние, чтобы никто из арестованных не был освобожден и чтобы виновные подвергались самому строгому наказанию по статьям, примененным прокуратурою»[493].
Среди коллег по кабинету П. Н. Дурново не находил должного понимания и поддержки. Так, в заседаниях Совета министров 20 и 23 декабря 1905 г. и 10 и 13 января 1906 г. обсуждался вопрос «Об уголовной репрессии по делам об убийстве чинов войск и полиции и других должностных лиц, падающих жертвами честного соблюдения принятой ими присяги на верность службы». Поскольку в действительности однородные преступления могли, в зависимости от начальствующих, «влечь смертную казнь или же не влечь ее», решили, по предложению министра юстиции М. Г. Акимова, поставить решение в зависимость от закона, а не усмотрения. Однако только часть министров высказалась за «применение смертной казни ко всем лицам, посягнувшим на жизнь должностных лиц по политическим целям»; другая часть была против такого закона. Пришлось идти на уступки: во-первых, закон должен был «действовать лишь в пределах крайней необходимости и относиться только к опаснейшим видам преступлений»; во-вторых, суду предоставлялось ходатайствовать о замене смертной казни бессрочной каторгой.
П. Н. Дурново предложил дополнить Положение об усиленной охране постановлением о наказании за изготовление и хранение взрывных снарядов и веществ с целью употребления их для преступлений против жизни должностных или других лиц или для уничтожения сооружений. Мотивы его были серьезными: участились случаи употребления разрывных снарядов, выросли хищения взрывчатки из складов, нарастало производство снарядов вследствие простоты их изготовления. Министр настаивал на предании «виновных во всех таковых случаях военному суду и смертной казни». Однако и в этом случае некоторые из членов кабинета настаивали на том, чтобы «выделить из всех прочих категорий метание разрывных снарядов, которое не может быть подведено под понятие покушения на убийство должностных лиц»[494].
Разошелся П. Н. Дурново с коллегами и по вопросу о замене военного положения положением усиленной и чрезвычайной охраны. Совет министров в заседании 5 марта 1906 г. признал такую замену «крайне желательной». Министр внутренних дел находил, что «военное положение, как и другие исключительные меры, являясь действительным оплотом против революционных посягательств, отнюдь, однако, не стесняют в чем-либо благонадежную часть населения». Ссылаясь на ходатайства частных лиц и общественных организаций о сохранении военного положения и на высочайшее повеление военному министру от 18 января 1906 г., он полагал невозможным отменять военное положение «без ходатайства местных властей»[495].
Тем не менее П. Н. Дурново справился и с этой проблемой. Вот свидетельство из Привислинского края, где «вообще террор процветал <…>, особенно в городах и местечках, и жертвами его были исключительно чины полиции. <…> С приходом к власти П. Н. Дурново и с принятием твердого правительственного курса революционный пожар стал понемногу утихать, чему весьма способствовало введенное военное положение и обретенная наконец военными властями решимость к энергичному подавлению еврейского и рабочего террора. Военные суды работали быстро и уверенно, и казни захваченных террористов скоро образумили обнаглевших революционеров. Край быстро успокоился, а назначение выборов в Государственную думу привлекли к себе все внимание населения»[496].
Борьба с революционной печатью
Важнейшим направлением деятельности Дурново-министра была беспощадная борьба с революционной печатью.
После манифеста 17 октября, по свидетельству А. И. Гучкова, «царствовала самая широкая, <…> необузданная свобода печати»[497].
С 14 по 20 октября газеты не выходили: всеобщая забастовка. 20-го вышел № 3 «Известий Совета рабочих депутатов». Затем стали выходить газеты: «Наши дни», «Северный голос», «Наш голос», «Набат», «Рабочий голос», «Начало», «Новая жизнь», «Сын Отечества», «Русь», «Наша жизнь», «Русская газета», «Буревестник», «Радикал», «Голос среднеучебных заведений», «Молодая Россия», «Голос молодой России», «Наша мысль», «Известия крестьянских депутатов», «Трудовая Россия», «Крестьянский депутат», «Дело народа», «Народный вестник», «Голос», «Мысль» и многие другие.
«В декабре начался ливень из сатирических журналов. Они сыпались одни за другими, как звезды в августовскую ночь, одни остроумные и язвительные, другие пошлые и тупые»: «Зритель», «Журнал», «Маска», «Пулемет», «Стрела», «Пламя», «Нагаечка», «Митинг», «Сигнал», «Сигналы», «Бурелом», «Буря», «Буревал», «Пули», «Жупел», «Фонарь», «Волшебный фонарь», «Свобода», «Девятый вал», «Дятел», «Клюв», «Молот», «Вампир» и др. – всего 84! Появились сатирические журналы на еврейском языке.
Развивалась нелегальная печать: С. Р. Минцлов приводит названия 11 эсеровских изданий, 13 социал-демократических и 2 анархистских[498].
Хлынул мутный поток порнографических изданий.
Закрытые издания возрождались через два-три дня под другими названиями.
«За последнее время в одном Петербурге вышло новых, по словам “Петербургской газеты”, 35 политико-сатирических журналов одним, двумя и самое большое – семью номерами. <…> Первое место в карикатурах занимал граф Витте – 427 карикатур, затем – Дурново, Победоносцев, Дубасов и др.»[499]
Современник свидетельствует: «Книжный рынок сразу наполнился небывалой до того времени литературой двух сортов: порнографической и революционной, одинаково бесстыдной, бьющей на инстинкты неразвитой, но жадной на впечатления толпы. <…> Не было той гадости, не было той брани, которые не печатались бы в этих листках по адресу правительства, которому приписывались такие гнусности, какие только мог придумать человек, не знающий стыда и уверенный в безнаказанности»[500].
Исследователь подтверждает: «Поток антиправительственных публикаций хлынул с конца 1905 года. Наибольшей ядовитостью отличались сатирические произведения. Сотни писателей, художников и редакторов <…> напустились на правительство, императора, царскую фамилию, порой яростно и разнузданно. Многие изображения правительственных чиновников, а также символические изображения государства доходили до бесчеловечности, отличались леденящей кровь жестокостью. <…> По своей грубой физиологичности эти материалы подобны изображению работы прозектора в анатомическом театре; стремление приучить к бесчеловечности напоминает пропаганду зверств времен первой мировой войны»[501].
Бюллетени официального Петербургского телеграфного агентства передавали «подряд все известия, получаемые с мест, в том сыром и часто недоброжелательном по отношению к правительственным властям тоне, который вполне гармонировал в то время с общим настроением огромного большинства антиправительственно настроенных повременных изданий»[502].
В салоне Богдановичей констатировали: «Каждый день Витте все больше и больше теряет почву под ногами, никто ему не верит. Пресса всех оттенков его ругает. Страшно достается и Дурново, даже больше, чем Витте»[503].
Разумеется, никакое правительство подобного терпеть не могло. Борьба с печатью оказывалась объективно необходимой: невозможно было признать естественной безграничную свободу печатать все, что угодно (распространение порнографических литературы и рисунков доказывало это со всей очевидностью); надо было восстановить пошатнувшееся значение правительственной власти и прекратить безудержное злоупотребление провозглашенными 17 октября свободами.
Однако борьба эта оказалась нелегкой потому, прежде всего, что «русское правительство того времени, при всех его недостатках, все же всегда стремилось оставаться в рамках хотя бы относительной законности»[504]. А законы, как на грех, были хуже некуда.
Вследствие манифеста 17 октября Главное управление по делам печати отменило 19-го октября все циркулярные распоряжения, изданные на основании ст. 140-й Цензурного устава, по которой министр внутренних дел мог запрещать касаться любого вопроса в печати. Временные правила о периодической печати, утвержденные 24 ноября, заменили предварительную цензуру карательной (последующей). Отменялись: предварительная цензура для изданий, выходивших в городах; административные взыскания; денежные залоги; ст. 140 Устава о цензуре. Ответственность за преступления посредством печати определялась судом. Вводился явочный порядок основания периодических изданий. Редактором мог быть российский подданный, достигший 25-ти лет и обладающий общей гражданской правоспособностью и не лишенный избирательного права. О замене ответственного редактора или изменении условий выпуска следовало сообщить цензору в течении трех дней. Номер должен был доставляться в местный цензурный комитет одновременно с выпуском из типографии и, если в нем обнаруживались «признаки преступных деяний», мог быть арестован только с одновременным возбуждением судебного преследования. Суд мог приостановить издание до судебного приговора.
Обыкновенные меры борьбы с революционной печатью были «почти совершенно бесцельны и не имели ни малейшего смысла», – справедливо считал начальник Главного управления по делам печати. По его совету П. Н. Дурново распорядился закрывать типографии, печатавшие красные юмористические журналы. Это оказалось весьма действенным средством борьбы с революцией[505].
С 13 ноября, когда вышел и был конфискован первый № сатирического ж. «Пулемет»[506], «полился безудержный поток конфискаций всевозможных произведений печати».
3 декабря 1905 г. был закрыт ряд газет за опубликованный накануне «Финансовый манифест».
Конфисковались книги, № № журналов и газет; прекращались периодические издания; опечатывались типографии (за оскорбление монарха, поношение самодержавия, призыв к мятежу и вооруженному восстанию); производились аресты журналов, порнографических карточек и открыток у разносчиков, на складах издательств; кадетские корпуса ежедневно обыскивались, отбирались сатирические журналы, «вредные газеты», порнографические карточки; редакторы и издатели подвергались взысканиям (крепость, тюрьма, штрафы и др.); владельцы издательств предавались суду.
Газеты пестрели сообщениями: «В ночь на 5-е января по непосредственному распоряжению министра внутренних дел Дурново, приостановлено печатание и выпуск первого номера сатирического журнал “Гвоздь”. Конфисковано 40 тыс. экземпляров» (Русское слово, 20(7).01.1906 г.); 3 февраля в Петербурге арестован В. Г. Короленко «в связи с закрытием ж. “Русское богатство”» (Русское слово, 17(4).02.1906); «2 марта 1906 г. редактор сатирического журнала “Забияка” Зузерович-Клебанский был признан виновным по ст. 128 и приговорен к заключению в крепости на 2 месяца с запрещением редакторской деятельности на 5 лет» (Русское слово, 16(3).03.1906); «Сын купца Н. Корней-Чуковский, редактор ж. “Сигнал” приговорен по 2 ч. 103 ст. уголовного уложения за насмешку, направленную против Его Величества, к 6 месяцам крепости, с воспрещением на 5 лет редакторской деятельности. Издание “Сигнала” запрещено навсегда» (Новое время, 23.03.1906); «На 4 месяца тюрьмы осужден СПб-м окружным судом редактор юмор. ж. “Водоворот” С. С. Мендельсон» (Московский листок, 6.04/26.03.1906).
П. Н. Дурново потребовал «положить конец революционной агитации» Петербургского телеграфного агентства[507]. Предупреждая владельцев типографий быть осторожнее при печатании известий об императорской фамилии и нападках на высокопоставленных лиц, говорил, что про него они могут печатать «что угодно»[508]. «Надо сказать, – подтверждает А. В. Герасимов, – что Дурново к этим нападкам [в сатирических журнальчиках] на него лично и на других министров относился вообще довольно благодушно. Но он не мог с таким же благодушием относиться к нападкам на царя»[509].
Успешная борьба с революционной печатью оживленно комментировалась. «Сегодня, – судачили в салоне Богдановичей, – 8 газет арестованы по случаю того, что напечатали манифест рабочих, большими буквами “манифест”»[510].
При поддержке и содействии министра юстиции М. Г. Акимова П. Н. Дурново в течение декабря 1905 г. – января 1906 г. закрыл «впредь до судебного приговора» 63 издания, а редакторов привлек к судебной ответственности.
Указ 18 марта 1906 г. «Об изменении и дополнении Временных правил о периодической печати» несколько облегчил положение правительства: были затруднены замена ответственного редактора и изменение условий выпуска; представлять № в цензуру должен был содержатель или управляющий типографией; иллюстрированные издания должны были представляться за 24 часа до выпуска из типографии; издателю приостановленного или запрещенного издания запрещалось издавать (лично или через другое лицо) новое периодическое издание до судебного приговора; были ужесточены наказания за нарушения правил.
* * *
Борьба с революционной пропагандой была важнейшим направлением деятельности МВД. П. Н. Дурново требовал закрывать частные собрания (или допускать туда полицию), если они принимали характер публичных собраний. В местностях, объявленных в исключительном положении, – закрывать все собрания, если есть опасность для общественного порядка[511].
Разрешая, ввиду наступившего успокоения, публичные собрания, предписывал местным властям «руководствоваться следующими принципами»: «разрешать митинги с величайшим разбором лишь людям умеренных воззрений»; «сообразовывать число разрешаемых митингов с возможностью надзора за ними, дабы всегда иметь достаточно полиции, чтобы разогнать митинг силой»; «не допускать многолюдных митингов под видом частных собраний»; не допускать митингов, устраиваемых с очевидной целью революционной пропаганды; не разрешать митингов на открытом воздухе и в зданиях учебных заведений; удалять с митингов военнослужащих и гимназистов; не разрешать митингов, если они угрожают порядку и спокойствию[512].
Потребовал: усилить надзор за различными кружками и агитаторами, руководителей – в тюрьму; «извлечь из деревень всех шляющихся без надобности евреев, земских служащих и студентов»; пересмотреть виновность в переполненных тюрьмах, «освободить наименее опасных, дабы иметь возможность посадить новых революционеров»[513].
* * *
Острейшей проблемой была для П. Н. Дурново и высшая школа: введенные указом 27 августа 1905 г. Временные правила об управлении вузами (выборные ректоры и деканы, подчиненная им университетская инспекция; студенческие дела – на усмотрение профессорского дисциплинарного суда; право Совета университета разрешать сходки и др.) существенно затрудняли борьбу с революционными эксцессами.
Фактически студенты не учились; не зная, когда возобновятся занятия, оставались в городе и активно занимались революционной пропагандой, участвовали в митингах, устраивали сходки и т. п.
Полиции приходилось, как это было, например, 23 декабря 1905 г. в Петровском-Разумовском, войсками оцеплять учебные заведения, проводить обыски в студенческих общежитиях и в квартирах профессоров и служащих, изымать берданки, револьверы, революционную литературу, производить аресты. П. Н. Дурново справедливо находил, что такое состояние учебных заведений опасно для общественного спокойствия, и полагал наиболее целесообразным закрыть учебные заведения на определенный срок: тогда большинство студентов разъедется по домам, перестанет собираться по квартирам и митингам – будет возможность удержать многих от крайностей и облегчить работу полиции[514].
* * *
Законопроект о Временных правилах об обществах и союзах (04.03.1906 г.) был разработан в Министерстве юстиции. При рассмотрении его в Совете министров в конце 1905 – начале 1906 гг. П. Н. Дурново удалось существенно расширить полномочия административной власти «в регулировании создания и деятельности общественных организаций». Исходя прежде всего из интересов охраны общественного порядка и государственной безопасности, он справедливо полагал, что без участия администрации не может «образоваться ни одна организация вне зависимости от способа ее создания и объема получаемых прав»[515].
П. Н. Дурново и губернаторы
Принявшись за местную администрацию, П. Н. Дурново в течение ноября – декабря 1905 г. учинил, как шутили министерские, «избиение губернаторов»: все растерявшиеся и нераспорядительные в 15 из 48 губерний Европейской России, управляемых на общих основаниях, были заменены[516]. Характерная деталь: всю переписку по этим переменам, «крайне часто неприятную, вел лично, в большинстве случаев собственноручно, <…> почти без всякого участия департамента общих дел и канцелярии. Трудоспособность его, в этом отношении, была изумительная».
При этом замена одних другими не приобрела характер «чехарды», все делалось спокойно и обдуманно. Так, М. М. Осоргин, явно перепугавшись, обратился к С. Ю. Витте с просьбой освободить его от занимаемой им должности тульского губернатора. В ответ получил письмо управляющего министерством внутренних дел. «Дурново писал мне, – вспоминал М. М. Осоргин, – что в настоящее смутное время именно и нужны старые опытные администраторы, почему убедительно просил меня не настаивать на своей отставке»[517]. Однако в середине декабря 1905 г. его пришлось-таки уволить: «распустил вожжи».
Стремясь побудить власти на местах к более активной и решительной борьбе с революционными эксцессами, П. Н. Дурново всю ответственность брал на себя. Д. Н. Любимов вспоминал, как подготовил, получив задание министра, три проекта циркулярной телеграммы губернаторам. Все они были забракованы. «В них нет успокоительной ноты для губернаторов, – сказал П. Н. Дурново. – Для меня ясно, что большинство губернаторов колеблется принять решительные меры, главным образом опасаясь ответственности и потери места в случае неподдержки министерством их действий». И составил сам. «Это была та знаменитая телеграмма, – пишет Любимов, – столь известная губернаторам того времени, необыкновенная по своей краткости, содержательности и выразительности». Текст ее следующий: «Примите самые энергичные меры борьбы с революцией, не останавливаясь ни перед чем. Помните: всю ответственность я беру на себя. Управляющий министерством внутренних дел, сенатор Дурново»[518].
Сильных администраторов продвигал. Так, отлично себя зарекомендовавшего тамбовского губернатора В. Ф. Лауница провел градоначальником Петербурга. Некоторые вынуждены были уходить. Так, во время вооруженного восстания в Москве тульский губернатор М. М. Осоргин получил телеграмму с нарочным. «Смысл ее таков: Крестьянский съезд закрылся, участники его разъехались по домам, личность этих участников, а также их политическое credo достаточно выяснились в речах их на заседаниях, почему губернаторам предлагается по возвращении этих лиц на месте немедленно их арестовать, сделать краткое, поверхностное дознание и передать их в руки следственных властей». «Понятно, – продолжает М. М. Осоргин, – я всеми силами души восстал против такого распоряжения». Кончилось все тем, что губернатор написал министру конфиденциальное письмо (с жандармом «для вручения министру в собственные руки»), где заявил о своем принципиальном несогласии и просил дать ход своему давнишнему прошению об отставке. «Я отнесся к своей отставке, – вспоминал М. М. Осоргин, – с некоторым удовлетворением. По совести я сознавал, что не справился с вновь поставленными задачами, блуждая, как в потемках, и не имел надежды найти правильный курс»[519].
Поощряя губернаторов к решительной борьбе с революцией, П. Н. Дурново был всегда готов их защитить. Так, когда Д. Б. Нейдгарт и П. Г. Курлов были привлечены Сенатом за превышение власти, он явился в заседание Сената и заявил, что они действовали в интересах правительства, – оба были оправданы[520].
Успешные губернаторы сохранили о «своем» министре «сердечные воспоминания как о выдающемся по уму человеке, для которого главное было – суть дела, а не форма». А. В. Болотов, назначенный пермским губернатором, в первую встречу с П. Н. Дурново 23 ноября 1905 г. «был сразу обворожен этим умным, энергичным, чутким и тонким государственным человеком», был «поражен знанием им всего ведомства и ясным и правильным пониманием текущего момента и всей сложной административной машины». «Все циркулярные телеграммы Дурново, – по его мнению, – дышали энергией и ясностью мысли»[521].
Вот одна из них, от 23 декабря 1905 г.[522] Замечательный документ: отличная осведомленность, глубокий анализ, трезвая оценка, четкие указания, властные требования – подлинная программа действий для местной власти!
Характеризуя состояние администрации на местах, беспощадно констатирует:
во-первых, местные власти оказались «не на высоте твердого сознания лежащих на них обязанностей» (не проявили должных решительности, энергии, настойчивости, находчивости и умелых приемов управления; не дали «стойкого и быстрого отпора» наглым попыткам мятежных посягательств на государственный и общественный строй; бездействовали; дошли до совершенно пассивного созерцания мятежных посягательств; конфузились осуществлять дарованные им законом полномочия);
во-вторых, губернаторы «не использовали дарованной им власти, замкнулись в пределы узко-ведомственной компетенции, перестали считать себя обязанными вмешаться в дело усмирения мятежа почтово-телеграфных чиновников, наблюдали в качестве посторонних свидетелей попытки разрушить основания всей нашей государственной службы»;
в-третьих, начальники почтово-телеграфных округов «обнаружили совершенную слабость и полное непонимание служебного долга» (не арестовывали виновных, ссылаясь на отсутствие войск и на то, что прокурорский надзор не усматривает в чиновничьей забастовке признаков преступления, и даже просили министра простить виновных, т. к. «они добивались только улучшения своего экономического положения»);
в-четвертых, жандармские управления «совершенно себя упразднили и перестали заниматься возложенным на них делом»;
в-пятых, железнодорожная жандармская полиция «почти везде оказалась не на высоте лежащих на ней задач» (не только не сумела предупредить забастовок железных дорог, но при их возникновении почти повсеместно исчезла и не оказала никакого противодействия);
в-шестых, полицейская власть «оказалась пассивной ко всем случаям мятежных явлений»;
в-седьмых, «совершенная нерешительность административных чинов и управлений»;
в-восьмых, «отсутствие сознательного отношения к объему и значению единичных явлений с точки зрения последствий, ими вызываемых».
Обращает внимание на неизбежные пагубные последствия отмеченного: во-первых, «нарушение правильного течения государственной, общественной и частной гражданской жизни»; во-вторых, спокойная часть населения «совершенно лишена возможности отдаваться мирным занятиям и утрачивает веру в поддержку со стороны законных властей справедливых ее требований и пожеланий»; в-третьих, «начало разложения основных устоев государственной безопасности»; в-четвертых, народные массы «утратили всякое сознание гражданского долга, прекратили взнос податей, открыто посягали на частное и государственное имущество»; в-пятых, «мятеж принял размеры широкой разнузданности масс и для усмирения потребовалось оружие».
Жестко потребовал самого решительного, «в пределах законом указанных», противодействия нарушениям законного порядка; пресечения каждого в отдельности правонарушения; строгой дисциплины в рядах служебного персонала; неуклонной исполнительности и разумной самодеятельности в подчиненных; настойчивости и решительности в распоряжениях.
Предупредил всех, назначенных властью министра: «малейшее попустительство, бездействие власти и нерешительность в исполнении возложенных обязанностей повлечет за собою удаление от занимаемых должностей».
Обратился к губернаторам, облеченным правом общего надзора по всем отраслям управления, широко осуществлять это право: преследовать виновных в бездействии и небрежности при исполнении лежащих на них обязанностей; удерживать деятельность общественных учреждений в границах, определенных действующими постановлениями, поощрять всякие начинания, направленные на пользу населения, останавливая всякие попытки к вмешательству, им не подведомственные.
Напомнил губернаторам: водворение законного порядка в губернии – их «главнейшая обязанность. Все их усилия должны быть направлены к ближайшему и непременному подавлению всяких мятежных попыток, клонящихся к нарушению общественной безопасности и спокойствия».
Указания отдельным губернаторам были столь же конкретны и суровы. Так, управляющему Иркутской губернией П. Н. Дурново приказывал 10 января 1906 г.: «С неуклонной энергией и решимостью без всяких снисхождений и колебаний принимайте меры к полному сокрушению мятежа. Предъявите от моего имени требование временному генерал-губернатору о немедленном устранении от должности всех правительственных и выборных служащих, которые позволили себе тем или иным способом содействовать мятежу, укрывали мятежников или высказывали им сочувствие. Равным образом подлежат устранению от должностей все обнаружившие слабость и попустительство к мятежникам. Меры эти должны быть принимаемы без различия звания. Генерал-губернатор может выселять виновных в отдаленнейшие местности Якутской области, о чем для назначения срока следует сообщить в министерство»[523].
Или читинскому военному губернатору 15 января 1906 г.: «В виду объявленного в области военного положения все митинги, сборища и шествия должны быть запрещены. Газеты революционного содержания подлежат запрещению. С нарушителями спокойствия и порядка расправляться силою оружия решительно и без всяких колебаний. Виновных в сопротивлении властям и насилиях предавать военному суду. Об исполнении прошу сообщить»[524].
Борьба с крестьянскими волнениями
Крестьянские волнения, захлестнувшие весной 1905 г. почти всю Европейскую Россию и почти затихшие летом, в октябре – ноябре разгорелись с новой силой.
Правительство вынуждено было пойти на чрезвычайные меры: губернии объявляются на положении усиленной охраны (29 октября – Черниговская и часть Саратовской и Тамбовской; 30-го – вся Тамбовская; 4 ноября – Курская и Пензенская); на места командируются генерал-адъютанты с особыми полномочиями (Ф. В. Дубасов – в Черниговскую, Курскую, Орловскую и Полтавскую; А. П. Струков – в Тамбовскую и Воронежскую; В. В. Сахаров – в Саратовскую и Пензенскую). Губернаторам было предоставлено право удовлетворять просьбы помещиков об учреждении на их средства полицейских должностей и команд для охраны имений.
Анализируя причины крестьянских волнений, П. Н. Дурново приходил к выводу, что основная среди них – революционная агитация. К этому приводил личный опыт[525], в этом его утверждали представители с мест. Так, В. М. Андреевский, предводитель дворянства Кирсановского уезда, «одного из сильно пострадавших от беспорядков», в конце декабря 1905 г. приехал в Петербург и представлялся министру. П. Н. Дурново, вспоминал он в эмиграции, «продержал меня около часа и подробно расспрашивал про убийство Луженовского, <…> про энергичную деятельность губернатора Лауница и в особенности про характер аграрных волнений. По-видимому, ему хотелось выяснить, что причина беспорядков лежала не в малоземелье <…>. И человек с ясной головой, как П. Н. Дурново, не мог не ухватиться за сообщавшиеся мною факты, подтверждавшие его предположения, что беспорядки явились результатом не малоземелья, а с одной стороны, нелепого общинного землевладения, а с другой же и главным образом – пропаганды»[526].
6 января 1906 г. П. Н. Дурново потребовал от губернаторов высказаться о причинах крестьянских беспорядков: «революционная ли агитация, бездействие власти и недостаток у нее материальной силы или безземелье крестьян». Затем в докладе Николаю II он обобщил ответы губернаторов: прежде всего, это революционная агитация земских служащих, податных инспекторов, местных священников, либеральных органов печати; успеху агитации существенно способствовали колеблющаяся политика министерства внутренних дел[527], амнистия политзаключенных, манифест 17 октября, слабая деятельность судебных властей, влияние Крестьянского союза; на втором месте – недостаточная энергия и смелость местной административной власти при возникновении беспорядков; на третьем – малоземелье (и то как «повод для развития беспорядков») и высокие арендные цены; и в последнюю очередь «общая народная бедность».
На вопрос «что следует предпринять?» губернаторы, озабоченные прежде всего восстановлением порядка, высказались за увеличение в губерниях численности войск и усиление полиции; за ускорение репрессий всей массы крестьян, участвовавших в беспорядках; за усиление мер против агитаторов.
Выделялись соображения саратовского губернатора, и это П. Н. Дурново отметил: по мнению П. А. Столыпина, следовало укрепить власть «путем твердой и неуклонной политики правительства» и провести коренную реформу земельного устройства крестьян, создать класс мелких собственников («не уничтожая насильственно общины <…>, всячески способствовать единичным сделкам с помощью Крестьянского банка, разрешая в этих видах продажу и залог земли» и оказывая помощь «таким владельцам кредитом»)[528].
С точки зрения П. Н. Дурново, крестьянские волнения – поджоги имений, разрушение хозяйств, разграбление землевладельцев – это «неисчислимый ущерб общему хозяйственному порядку в селениях»; это лишение крестьян «необходимых для их благосостояния заработков»; это утверждение среди крестьян ложного и преступного убеждения «о возможности посредством грабежа чужой собственности улучшить свое положение»; это мятеж против закона и власти, долженствующих обеспечить первейшее условие нормальной жизни общества – неприкосновенность собственности. Разумеется, беспорядки должны быть прекращены, беспощадно подавлены, а зачинщики и участники их – сурово наказаны.
По инструкции начальникам карательных экспедиций, разработанной по инициативе П. Н. Дурново главным военным прокурором В. П. Павловым, немедленному расстрелу «при несомненной доказанности виновности» подлежали следующие категории: подстрекатели «отдельных лиц или целых групп населения на изменение в России образа правления»; подговаривавшие «других к вооруженному восстанию против правительства»; имевшие в своем распоряжении «средства для взрыва или склад оружия»; готовившие ниспровержение существующего государственного строя или подстрекавшие к этому других; подговорщики и подстрекатели к истреблению, повреждению, вымогательству и вооруженному нападению на недвижимое имущество частных лиц и виновные в перечисленных преступлениях; нападавшие «на законных должностных лиц с целью принудить их под угрозой смерти отказаться от своих прав и обязанностей»[529].
И после подавления вооруженного восстания в Москве революционная вакханалия продолжалась: политические убийства, вооруженные нападения, грабежи; тайные склады оружия, мастерские по изготовлению бомб, типографии; столкновения революционеров с войсками и полицией, уличные демонстрации, митинги, забастовки, волнения военнослужащих; крупные ограбления в Варшаве, Гельсингфорсе, Москве, Душете; террористические акты в Тифлисе, Екатеринославе, Чернигове, Иркутске, Белостоке, Гомеле, Одессе, Владивостоке, Минске, Борисоглебске, Риге, Ростове, Пензе, Севастополе, Петербурге, Варшаве, Смоленске, Твери, Саратове, Ченстохове; баррикады в Кутаисе; аграрное движение; рост уголовной преступности в результате амнистии; усиление пропаганды и агитации как следствие амнистии и начавшейся подготовки политических партий к выборам в Государственную думу. В этих условиях единственным эффективным способом стабилизации могло быть только насилие. Целый ряд местностей был объявлен на военном положении или на положении чрезвычайной охраны.
Для подавления крестьянских волнений широко использовались войска. 31 декабря 1905 г. командир 2-й кавалерийской дивизии генерал-майор Крыжановский подал начальнику Главного управления Генерального штаба Ф. Ф. Палицыну докладную записку, в которой, на основе опыта борьбы с аграрными волнениями в 1905 г. и преследуя цели изолировать армию от революции, освободить войска от полицейских обязанностей, оградить их от незаслуженных оскорблений и дать им возможность продолжать свою настоящую службу и обучение, доказывал, что характер «деятельности войск в общем должен быть таков: пришел, наказал и ушел». Предложения генерала сводились к следующему: 1) с окончанием в декабре 1905 г. формирования полицейской стражи, часть войск, занятых подавлением аграрных беспорядков, отвести к постоянным штаб-квартирам; 2) в губерниях, где возможны аграрные беспорядки, войска сосредоточить в уездных и губернских городах и рассматривать их как резерв полиции и полицейской стражи: они должны употребляться с единственной целью карать мятежников, расстреливать «без всяких переговоров»; 3) угрозой уничтожения всего населения деревни добиваться выдачи всех участников погромов и мятежей и немедленно (или не позднее 1 месяца) высылать за пределы Европейской России; 4) наделы выселенных – тем, кто не подстрекал и не участвовал в беспорядках (если участвовали все или большинство населения деревни – последняя уничтожается, и ее земли – соседним деревням); 5) войска после экзекуции – немедленно удаляются к месту прежней стоянки[530].
П. Н. Дурново, ознакомившись с Запиской генерала, писал С. Ю. Витте 7 января 1906 г., что «одобряет все предложения Крыжановского, за исключением пункта» о выселении целых деревень, большинство которых участвовало в мятежах, и считает достаточным ограничиться высылкой только мятежников с передачей их земли общине. Мысль генерала – беспощадно искоренять мятежников вооруженной силой – он разделял: «Основной вывод и предложенные автором подробности исполнения по вопросу о подавлении крестьянских мятежей действием войск представляются в собственно военном отношении вполне правильными». Считая наиболее целесообразным концентрацию войск по важнейшим пунктам и сосредоточение в них крупных отрядов, выдвинул ряд мер для достижения реальных результатов: экзекуции к мятежникам и укрывающим их; истребление неповинующихся и сопротивляющихся участников беспорядков; арест подстрекателей и зачинщиков; не останавливаться перед уничтожением целых селений[531].
На основании суждений, высказанных в ходе совещания под председательством С. Ю. Витте в конце января 1906 г., была подготовлена Инструкция военным и гражданским властям по принятию мер для противодействия беспорядкам среди населения, намечена дислокация войск «соответственно внутренним потребностям империи», оговорены меры «большей согласованности действий военных и гражданских властей при призыве к действию вооруженных сил»[532].
Столь же суровы были распоряжения П. Н. Дурново по конкретным случаям. Так, 7 марта 1906 г. телеграфирует тамбовскому губернатору Б. М. Янушкевичу: «Прошу Вас принять самые решительные меры к тому, чтобы в имении Балыклей Кирсановского уезда княгини Шаховской была совершенно устранена опасность насилий со стороны крестьян против владелицы при посеве яровых хлебов и других полевых работах. Крестьяне на днях были в Петербурге и предъявили княгине требования продать им всю землю, чего княгиня не хочет. Необходимо при малейшей попытке распорядиться так, чтобы в той местности надолго никаких беспорядков не возникало. По исполнении благоволите уведомить»[533].
17 марта 1906 г. приказывает и. д. симбирского губернатора Л. В. Яшвилю: «Настоятельно прошу принять самые решительные меры к подавлению беспорядков и своеволий крестьян. Революционные агитаторы, как это было многократно указано, должны быть посажены в тюрьму»[534].
Вместе с тем П. Н. Дурново видел, что «влияние революционных подстрекателей, в числе коих обнаружено большое число учителей и других близко стоящих к населению лиц, распространяется неудержимо, не встречая никаких препятствий, кроме воздействия войска и стражи». Однако, не сомневался он, «войско и полиция не обеспечат имущество от насилий и поджогов».
В борьбе с революцией следует опереться на население, «подавляющее большинство, вся огромная масса» которого «искренне и всецело стоит за порядок и за законную деятельность законных властей», и только отсутствие надлежащей организации и, в силу этого, сплоченности и единства действий» не позволяет «дать надлежащий отпор агитационному натиску представителей смуты и разрушения».
«Без энергичной и твердой поддержки со стороны самого общества», полагал П. Н. Дурново, успех правительственной деятельности может «оказаться несоответствующим затраченным силам. Необходимо, чтобы само население усвоило себе ясное представление о всех мероприятиях правительства и сознательно пошло им навстречу».
Рассчитывая, что «призыв лучших местных деятелей к содействию Правительству в деле умиротворения крестьянского населения, быть может, принесет благие результаты, поможет отвлечь крестьян с того пагубного пути, по которому их ведет революционная пропаганда», П. Н. Дурново счел целесообразным создать в губернских и уездных городах особые комитеты «из лиц, пользующихся общественным доверием, которые бы добровольно приняли на себя трудную задачу путем разъяснений и толкований в личных беседах с крестьянами направить их к уразумению точного смысла манифестов 17 октября и 3 ноября» 1905 г.
Надеялся, что комитеты смогут «оценить» личный состав сельских властей (старост, старшин, писарей), сумеют «разъяснить крестьянам истинное значение волнующего их земельного вопроса».
Предупреждая губернаторов, что весной 1906 г. «крестьяне, частью действуя по указаниям революционеров, а частью в расчете на безнаказанность, намерены приступить к повсеместному захвату не принадлежащих им земель, П. Н. Дурново предложил им «теперь же приступить к организации особых губернских и уездных комитетов» под председательством губернаторов и уездных предводителей дворянства.
Четко были сформулированы задачи комитетов: немедленное ознакомление населения «с сущностью манифестов 17 октября и 3 ноября»[535]; разъяснение предпринятых правительством мер по улучшению крестьянского землевладения, разъяснение всех последующих законов и распоряжений, находящихся в непосредственной связи с земельным устройством крестьян.
Рекомендовались и способы: устные беседы, собрания, публичные чтения, издание брошюр и воззваний; предупредительные меры против грабежей и захватов земель.
Губернаторы обязывались следить за направлением деятельности комитетов и предупреждались: никакого насилия над населением, не возбуждать национальную рознь, не подстрекать к погромам и побоищам.
В заключение П. Н. Дурново обещал особые суммы в распоряжение губернаторов для покрытия комитетских расходов[536].
Признавая малоземелье крестьян (как факт, а не как основную причину аграрных волнений) и отмечая значительное обострение земельного вопроса «в целом ряде местностей за последние годы», П. Н. Дурново считал необходимым оказать крестьянам помощь «для увеличения земельных владений» и «для окончательного хозяйственного устройства»[537].
Это определило его позицию в заседании Совета министров при обсуждении представления военного министра «О предоставлении войскам Астраханскому, Оренбургскому и Уральскому в вечное их пользование всех отведенных им земель в бесспорных их границах и рыбных ловель с сохранением в силе установленных действующими законами ограничений в пользовании недрами земель». Военный министр внес это представление на рассмотрение Совета министров исполняя высочайшее повеление. Министры юстиции и финансов, главноуправляющий ЗиЗ согласились, однако П. Н. Дурново признал «укрепление прав на землю» за казаками «несвоевременным»: желательно «связать укрепление за казаками земель с удовлетворением потребности в земле малоземельных и безземельных крестьян внутренних губерний и устройства быта проживающих в границах войсковой территории иногородних лиц». Обратил он внимание коллег и на то, что укрепление «послужило бы поводом к ходатайствам о распространении таковых же прав и на другие войска, между тем как земельные отношения некоторых из них с соседним населением еще далеко не сложились». В результате Совет министров заключил, что вопрос подлежит «рассмотрению в законодательном порядке»[538].
В феврале 1906 г. П. Н. Дурново поддержал ходатайство «городских дум городов Бендеры и Кишинева о выдаче им ссуд из продовольственного капитала на организацию общественных работ для голодающего безработного населения этих городов, указывая на крайнюю необходимость предоставить заработок голодающему безработному населению этих городов, среди которого было много выходцев из сельской местности». Совет министров, «ввиду позиции министра финансов и государственного контролера представление Дурново отклонил»[539].
Помещик Судженского уезда В. И. Кайсинский подал в правительство записку «О необходимости немедленного преобразования состава земских уездных собраний», в которой предложил увеличить число гласных-крестьян до половины состава уездных земских собраний, уверяя, что это «будет способствовать воздержанию крестьян – если не повсеместно, то во многих случаях – от насильственного завладения чужой земельной собственностью». 29 января 1906 г. он телеграфировал о записке Николаю II и написал письмо С. Ю. Витте. Записку спустили в МВД. П. Н. Дурново в письме к С. Ю. Витте от 26 января 1906 г. нашел правильным общий взгляд «о желательности привлечения крестьянского населения к более близкому участию в деятельности земских учреждений», однако предложенный Кайсинским способ забраковал: собрания будут столь многочисленны, что «спокойное занятие хозяйственного управления» будет невозможным; во многих уездных собраниях «получат резкое преобладание гласные крестьяне, в большинстве плохо дисциплинированные и мало подготовленные к общественной деятельности, с ее выработанными приемами, не умеющие отстаивать свои взгляды при обмене мнений, но крепкие сознанием общности своих интересов и упрямые, когда находятся в большинстве, при достижении своих целей»; нельзя отдавать разрешение аграрного вопроса земским учреждениям, «в которых решающее значение будет предоставлено страдающему от малоземелья крестьянству», ибо лишь обострит борьбу «противоположных интересов крестьян и землевладельцев, и таким образом справедливое и спокойное разрешение аграрного вопроса» скорее усложнится, чем облегчится.
В этом же письме П. Н. Дурново кратко изложил свой вариант привлечения крестьян к земской деятельности: «Привлечение крестьян к более близкому участию в земской деятельности – без включения, однако, в число ее предметов мер к разрешению аграрного вопроса – могло бы быть осуществлено образованием <…> участковых земских учреждений, а также преобразованием сельского управления. По этим предметам производятся во вверенном мне Министерстве подготовительные работы.
С передачею в участковые земства, а также в преобразованные органы сельского управления многих дел, находящихся ныне в заведывании уездного земства, причем эти новые учреждения будут поставлены в ближайшую с губернским и уездным земствами связь – крестьяне войдут в интересы земского хозяйства и управления, проявляемое повсеместно гласными из крестьян стремление к сокращению излишних расходов и нерасположение к усиливающемуся в последнее время в земствах вольнонаемному элементу, несомненно, скажутся самым благотворным образом в преобразованном земстве»[540].
* * *
П. Н. Дурново был серьезно озабочен судьбой землевладельцев. Крестьянские волнения, сопровождавшиеся разгромом усадеб, происходили в 25 губерниях. Пострадало 1857 имений. Сумма убытков, по неполным данным, составила 35 651 522 руб. 31 коп.[541]
П. Н. Дурново предложил немедленно возместить потерпевшим землевладельцам понесенные ими убытки «из средств казны», мотивируя следующим: взыскать убытки с крестьян нельзя из-за невысокой стоимости их имущества; страховые общества отказываются выдавать страховые премии; землевладельцы лишены возможности восстановить усадьбы и продолжать вести хозяйство, что неизбежно поведет к прекращению полезной деятельности культурных сельскохозяйственных центров, значение которых как для общей экономической жизни государства, так и для крестьян – огромно; владельцы вынуждены будут продать свои имения или сдать их в аренду, а это «укрепит в среде крестьян уверенность в целесообразности» насилий и погромов «и на будущее время»; это было бы справедливо, так как охрана порядка и общественной безопасности – «обязанность правительства»; это благоприятно подействует на население: все увидят, что «собственность не может быть приобретена путем насилия» и что грабежи наносят вред не отдельным людям, «а всему государству»[542].
Губернаторы доносили в МВД: «Некоторые из пострадавших от беспорядков землевладельцев потеряли все свое движимое имущество и, оставаясь без всяких средств к жизни, нуждаются в немедленной материальной помощи. П. Н. Дурново ставит перед Д. М. Сольским вопрос о том, чтобы «ныне же исходатайствовать разрешение на ассигнование в распоряжение местных губернаторов хотя бы незначительных сумм для оказания первой помощи тем из пострадавших землевладельцев, которые находятся действительно в безвыходном положении»[543].
Николай II нашел, что возмещение убытков «безусловно справедливо и крайне желательно», однако полагал, что это «вызовет отпуск значительных сумм из государственной казны», и приказал обсудить вопрос в Особом совещании под председательством графа Д. М. Сольского.
П. Н. Дурново, полагая, что Особое совещание немедленно разрешит вопрос, предложил губернаторам «открыть уездные комиссии (по п. 1-му указа 10 апреля 1905 г.) для определения размеров понесенных убытков, не затрагивая вопроса о виновных. Однако Особое совещание нашло, что действие указа 10 апреля 1905 г. распространяется на все случаи беспорядков, имевших место и после издания указа (т. е. возмещать убытки должны крестьяне), и ограничилось «лишь обсуждением вопроса о размерах сумм, потребных на выдачу». Тогда П. Н. Дурново приказал подготовить в МВД проект правил «о порядке возмещения крестьянами, участвовавшими в беспорядках, причиненных ими убытков», и предложил учредить межведомственную комиссию для обсуждения этого проекта, а затем – через Совет министров – направить его на утверждение монарха[544].
* * *
В беспощадной борьбе с революцией П. Н. Дурново не разменивался на мелочи, не упускал главного, не терял голову, не был зашорен, не впадал ни в раж, ни в состояние «административного восторга». Так, в конце декабря 1905 г. в среде военных столицы возникли подозрения в подготовке дворцового переворота[545]. Великий князь Николай Николаевич приказал генералу Г. О. Рауху «переговорить с П. Н. Дурново и спросить его указаний». «Дурново мне прямо сказал, – записал потом Раух, – что считает это болтовней и больше ничего, что никакого заговора нет, а что, по его мнению, он выгнал бы Павлова со службы, а больше ничего». В этом проявился прежде всего трезвый ум П. Н. Дурново; несомненно, однако, и нежелание воспользоваться возможностью легко сделать из мухи слона и выказать себя спасителем самодержца (впрочем, здесь можно предположить и сочувствие такого рода настроениям: начиная с 1905 г. многим правым приходила на ум ночь на 12 марта 1801 года).
В январе 1906 г. великий князь Николай Николаевич затевал суд над А. А. Лопухиным, бывшим эстляндским губернатором, которого сняли за «безобразия» в Ревеле в октябре 1905 г., а он, оправдываясь, обвинил войска. «Дурново считает, – записал Г. О. Раух, – что на дело надо поставить крест и покончить, но вел. кн. не хочет, и теперь сочинена смешанная комиссия в виде следствия для определения, кто же прав из них. Я лично думаю, что оба (т. е. Лопухин и Орбелиани. – А. Б.) виноваты, а, пожалуй, мысль Дурново всего практичнее по настоящему времени»[546].
Столь же спокойно-рассудительным оказался П. Н. Дурново и в случае с известным эстонским деятелем И. И. Поской. Будучи почетным мировым судьей, он после обнародования манифеста 17 октября отправился в Вышгородскую тюрьму (в Ревеле) и потребовал освобождения всех арестованных по политическим преступлениям. Был, естественно, арестован, предан военно-полевому суду, осужден и увезен в Свеаборг, где должен был быть расстрелян. Жена его бросилась в Петербург, к А. В. Бельгарду. Последний, хорошо зная И. И. Поску по своей службе эстляндским губернатором, «невзирая на поздний час, немедленно же отправился к министру внутренних дел П. Н. Дурново, который <…> тотчас же послал телеграмму, чтобы, по крайней мере, гарантировать жизнь И. И. Поске»[547].
П. Н. Дурново и СРН
«Было бы или актом невежества, или черной неблагодарностью, – писал в 1911 г. М. О. Меньшиков, – забыть, что наши национальные начала были провозглашены <…> именно такими “черносотенными” организациями Петербурга, каковы Русское собрание и Союз господ Дубровина и Пуришкевича. Если серьезно говорить о борьбе со смутой, действительной борьбе, не на живот, а на смерть, то вели ее <…> петербургские и московские монархисты»[548].
Утверждение, что Союз русского народа «образован старанием и средствами полиции, – утверждал В. И. Гурко, – безусловно неверно. <…> Возник “Союз русского народа” вполне самостоятельно и в то бурное время в преобладающей своей части состоял из лиц, вступивших в него по убеждениям»[549].
Это было одним из последствий перехода П. Н. Дурново в наступление против революции: «Как бы почувствовав силу правительственной власти в среде тех широких слоев населения, которые не хотели, а может быть, даже испугались революции и которые были втянуты в революционное движение обманчивым представлением, что вожаки освободительного движения, добиваясь улучшения общего положения, борются лишь со злоупотреблениями власти, началась самая определенная реакция». Открыто против революции выступили мелкие ремесленники, рыночные торговцы, извозчики, приказчики, швейцары, дворники, мелкое чиновничество и мелкая интеллигенция; объявились желающие заменить забастовавших почтовых служащих в разборке и разноске писем; на улицах появились контрреволюционные ораторы, в толпе – патриотические чувства и протесты против разрушительных призывов. «Вскоре, – констатирует А. В. Бельгард, – это самопроизвольно начавшееся патриотическое народное движение, которое быстро разрасталось, оформилось» в Союз русского народа[550].
«Передряга 1905 года всколыхнула и аморфную массу хуторян, помещиков и большинство провинциального купечества. <…> И в Москве декабрьское восстание тоже несомненно повлияло отрезвляющим образом. И когда гр[аф] П. С. Шереметев обратился к представителям различных слоев московского населения с призывом образовать союз русских людей для защиты исконных основ жизни русского народа, то к нему потянулись в неожиданном количестве люди самых разнообразных профессий и социального положения. В его старинном особняке на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка, на наших собраниях, можно было видеть и родовитого москвича, предки которого служили Петру и Екатерине Великим, и мещанина-хозяина маленького портновского дела, и священника, и представителя именитого купеческого рода, и рабочего с фабрики Бутикова… Тут родился “Союз русского народа”. <…> то, что мне приходилось видеть и слышать в доме гр. Шереметева, может быть, было идиллично, но проникнуто было несомненно большой чистотой побуждений»[551].
Скоро движение получило поддержку «от различных влиятельных лиц». С. Ю. Витте предполагал, что среди последних был и П. Н. Дурново[552]. Действительно, П. Н. Дурново использовал народное движение в борьбе с революцией. Так, в декабре 1905 г. он удовлетворил просьбу С. Д. Кузьмина[553] облегчить обществу приобретение оружия, разрешив петербургскому градоначальнику выдавать свидетельства на право приобретения для членов общества револьверов при условии беспрекословного их возвращения по требованию полиции и предоставления именных списков вооружаемых лиц. Предполагалось: «заставить революционеров бороться открыто и выносить свою вооруженную борьбу на улицу, где правительство не замедлит расправиться с ними должным образом»; бороться «с вооруженными забастовщиками, а в случае вооруженного восстания <…> группами в 5–6 человек занимать частные дома и не допускать в них революционеров для учинения нападений на правительственную силу из-за угла».
Тогда же П. Н. Дурново приказал «ускорить делопроизводство по выдаче разрешений на право приобретения и хранения оружия» членам Союза русского народа и Общества активной борьбы с революцией и анархией в ответ на жалобы руководителей последних на волокиту – общий порядок собирания сведений о благонадежности был заменен представлением удостоверений от руководства этих организаций. До 25 января 1906 г. по таким удостоверениям получили разрешение 120 лиц.
В виду предстоящей годовщины событий 9 января и угроз членам правых партий со стороны революционеров, лидеры правых обратились с просьбой снабдить членов их организаций оружием. 5–6 января 1906 г. отряду Союза русского народа в 700 человек было выдано с разрешения П. Н. Дурново 100 старых револьверов из запаса полицейского резерва. В марте 1906 г. эти револьверы были возвращены полиции[554].
При этом П. Н. Дурново полагал, что «нельзя производить следствий о народных волнениях. Нельзя велеть стрелять в людей, мнущих революционеров»[555].
Черносотенцы, в свою очередь, отдавали должное П. Н. Дурново. В 1909 г. Московский губернский совет Союза русского народа, выражая ему «глубокую благодарность за твердое стояние за начала русской государственности, в момент полной растерянности общества и правительственных сфер, среди ужасов еврейской революции, захватившей и православную Россию», просил его принять «звание почетного члена Московского Столичного Совета Союза русского народа»[556].
В борьбе с революцией Союз русского народа сыграл большую роль. На этот счет есть немало свидетельств представителей власти разного уровня. Так, В. А. Дедюлин, тогда петербургский градоначальник, позднее говорил: «Он нужен был для противодействия уличной толпе, ходившей по улицам с красными тряпками. <…> Союз русского народа был нужен, когда нужно было гнать красные тряпки, и в этом он оказал огромную услугу»[557].
«Мне хорошо известны те неоценимые заслуги, – писал Н. Ч. Зайончковский, – которые оказал этот Союз Правительству и России в борьбе со смутой. Конечно, по самому преобладающему в нем составу членов и по приемам борьбы, Союз с его Отделами был орудием грубым; но ведь пушки, пулеметы, ружья со штыками – орудия еще более грубые, однако, необходимые. Самый факт возникновения Отдела Союза в какой-нибудь весьма революционной местности сразу полагал в ней конец революционным выступлениям»[558].
Позднее, уже в эмиграции, Н. В. Краинский расставлял акценты: «Дурново усмирил этот страшный бунт при содействии здоровых сил русского народа»[559].
Однако «окончилась смута – и от Союза с его Отделами как-то сразу отвернулись»[560]. «А теперь, – говорил 5 февраля 1908 г. В. А. Дедюлин, – он уже не нужен: красных тряпок на улицах уже нет». При этом пренебрежительно отзывался о членах Союза («толпа», «хулиганы»)[561].
Союз стал неудобен: «Деятельность Союза под руководством доктора Дубровина стала во многих случаях крайне бестактной, вызывающей, с претензиями давать Правительству директивы. Союз под влиянием отдельных честолюбцев начал раскалываться».
Виновато, продолжает Н. Ч. Зайончковский, правительство: «Его не захотели или не сумели “упасти”, его оставили вариться в соку собственных дрязг, а в отдельных губерниях Отделы Союза вызывали к себе неблагожелательное отношение гг. губернаторов»[562].
Правительство П. А. Столыпина оказалось не способным ни понять, ни оценить по достоинству это народное движение; «не сумело дать этой организации необходимой идеологии и образовать из нее сильную народную партию». Свели ее «на задворки полицейских управлений», использовали «лишь как орудие для подавления открытых беспорядков, предоставив ей самой применять ею же измышленные приемы борьбы с революцией». Руководство ею было предоставлено второстепенным агентам правительства. Самостоятельно выдвинувшиеся вожди движения скоро были развращены «неумелой поддержкой денежными субсидиями» правительства[563].
Взаимоотношения П. Н. Дурново и С. Ю. Витте
Взаимоотношения П. Н. Дурново и С. Ю. Витте даже для близко наблюдавших их людей казались загадочными. «Природа этих отношений, – говорил И. И. Толстой, – представляется весьма сложной и трудно поддающейся точной и правильной характеристике, ибо она полна недоговоренности и невыясненности. <…> Я могу лишь засвидетельствовать, что отношения между Витте и Дурново были прекрасными и до последнего времени они не испортились, но с каждым днем получали все более странный и непонятный для нас (членов правительства. – А. Б.) оттенок»[564]. «Я никогда не понимал отношения Витте к Дурново, – признавался В. А. Маклаков, – он о нем отзывался по-разному, часто с большой горечью и обидой»[565].
В обществе о их взаимоотношениях судачили по-разному. «Держалось представление, – утверждал М. М. Ковалевский, – что жестокие репрессии, производимые в отдельных местах губернаторами, предписываются не кем иным, как Дурново. <…> Никто, конечно, не думал, что у Витте не хватает силы для более энергичного выступления, что Дурново ведет при нем свою линию и что никакой солидарности между министрами в действительности нет»[566]. По мнению Н. А. Зверева, П. Н. Дурново действует «круто по соглашению с Витте, по его указке, <…> по взаимному соглашению у них якобы нелады, но промеж себя согласье. Витте все репрессии сваливает на Дурново, сам либеральничает якобы, но эти репрессии идут от Витте». «По словам [Н. А.] Зиновьева, <…> оба они друг друга побаиваются», а по А. А. Кирееву, «между двумя плутами идет борьба»[567].
С годами многое прояснилось, и сотрудники их и коллеги характеризовали их взаимоотношения следующим образом.
«С того самого момента, как для него выяснилось, что манифест 17 октября не внес успокоения в общество и не превратил его самого в кумира страны», С. Ю. Витте, по свидетельству В. И. Гурко, стал обнаруживать «полнейшую растерянность и утратил сколько-нибудь определенную политическую линию. <…> Не препятствуя при таких условиях Дурново подавлять суровыми мерами революционные выступления, он тем не менее стремился лично сохранить перед общественностью либеральный лик и по издавна установившейся в нем привычке продолжать действовать столь излюбленными им средствами – лестью и обманом»[568].
Тем не менее, первые месяца полтора своей министерской деятельности П. Н. Дурново, по наблюдениям начальника Петербургского охранного отделения А. В. Герасимова, был во всем солидарен с С. Ю. Витте, ссылался на его авторитет, «советовался с ним, ничего не делал самостоятельно». Его политическую позицию в этот период характеризует ответ Герасимову, предложившему закрыть типографии, печатавшие революционные издания, и арестовать 700–800 человек: «Ну, конечно. Если пол-Петербурга арестовать, то еще лучше будет. Но запомните: ни Витте, ни я на это нашего согласия не дадим. Мы – конституционное правительство. Манифест о свободах дан и назад взят не будет. И вы должны действовать, считаясь с этими намерениями правительства как с фактом»[569]. Это подтверждает и А. В. Бельгард: «Новые, совершенно исключительные условия службы вплотную столкнули меня с новым министром. Как ставленник графа Витте, он всецело был проникнут новым либеральным настроением, которое, однако же, в силу необходимости и под влиянием событий очень скоро испарилось. Эта перемена произошла в нем в течение нескольких дней у меня на глазах»[570].
Вместе с тем, участвуя в заседаниях Совета министров, П. Н. Дурново, по свидетельству В. И. Гурко, «сразу стал на определенно правую позицию»[571], что обусловило «странные», по определению И. И. Толстого, отношения его с премьером: «Дурново возражал почти против каждого предложения Витте, как бы принципиально не одобряя всю конституционную затею, находя ее преждевременною, не соответствующею характеру русского народа. Возражения делались, однако, редко прямо, а как-то обиняками, предупреждениями о могущих быть печальных последствиях. Это страшно, видимо, бесило Витте, и он, по обыкновению, не стеснялся в выражениях, бывал очень груб, доходя иногда фактически до крика. Тогда Дурново обыкновенно съеживался и говорил: “Да я, Ваше сиятельство, выражаю только свое мнение, дело Ваше – принять его или не принять, как Вы решите, так и будет…” и т. п. Особенно часты были столкновения между ними по поводу назначения того или иного губернатора, а также по поводу введения в отдельных местностях усиленной или чрезвычайной охраны: в этих случаях Дурново говорил обыкновенно по часу подряд, что особенно выводило из себя нашего председателя; он кричал тогда, что это со стороны Дурново обструкция, что так мы ничего не успеем сделать и что совместная их служба, по его убеждению, становится невозможною. Доведши Витте до такого состояния, Дурново умолкал, прося извинить его, иногда уступая, иногда обещая представить новые данные к следующему заседанию. Несмотря на такие пререкания, принимавшие иногда весьма резкую форму, Витте постоянно в начале каждого почти заседания обращался за советом прежде всего именно к Дурново, как бы подчеркивая, что он необыкновенно высоко ставит его административный опыт и считает его советы особенно ценными; затем начиналась обычная история с криком и упреками, и на это уходила добрая половина заседания, а иногда и почти все заседание, так что остальные министры не имели даже возможности доложить о своих делах или принуждены были комкать свои доклады. До января 1906 г. взаимные отношения эти имели такой вид, что Витте держит Дурново в руках и что, пользуясь его полицейскою опытностью, он направляет ее в нужную ему сторону, а Дурново, хотя и брыкается, но, подчинившись более сильной воле, не решается идти прямо против председателя, и если и повертывает иногда дела по-своему, пользуясь частыми всеподданнейшими докладами, то делает это с оглядкою и считаясь с опасным для него политическим противником»[572].
Сам С. Ю. Витте так определил свою позицию: «Я был солидарен с министром внутренних дел, что раз есть смута, выражающаяся в насилии и неподчинении законным требованиям властей, то против таких проявлений нужно мобилизировать силу, что сила эта должна прежде всего действовать морально, своим присутствием, что если эта сила – войска – встречает насилие, то это насилие должно быть подавлено силою, и в этом случае необходимо действовать решительно и энергично, без всякой сентиментальности. Но раз порядок восстановлен силою, затем не должно быть ни мести, ни произвола, должен войти в действие закон и законная расправа. Должен сознаться, что это в некоторых случаях не исполнялось»[573].
Перелом в позиции и политике Дурново-министра произошел в первых числах декабря 1905 г. и был связан, по свидетельству А. В. Герасимова, со следующими событиями. В ночь на 7 декабря П. Н. Дурново, получив с телеграфа копию телеграммы Московской конференции железнодорожников с призывом к всеобщей забастовке с последующим переводом ее в вооруженное восстание[574], позвонил в Царское Село. Царя разбудили, и он назначил аудиенцию на 7 часов утра для экстренного доклада. Выслушав П. Н. Дурново, Николай II полностью согласился на предложенные им «решительные меры»: «Да, вы правы. <…> Ясно, что или мы, или они. Дальше так продолжаться не может. Я даю вам полную свободу предпринять все те меры, которые вы находите нужными». Вернувшись в министерство, П. Н. Дурново тут же отдает распоряжения во все жандармские управления империи о немедленном аресте руководителей революционных партий и организаций и подавлении всех революционных выступлений и митингов, «не останавливаясь перед применением военной силы»[575]. В этот же день были арестованы руководители комитета Николаевской железной дороги и члены Московского федеративного совета РСДРП, который должен был стать «боевым штабом руководства восстанием»[576].
Поездка к царю утром 7 декабря была едва ли не первым решительным шагом, предпринятым П. Н. Дурново без ведома С. Ю. Витте, и она явилась переломным пунктом в их отношениях. «Дурново после этого перестал считаться с Витте, стал его игнорировать»[577]. С. Е. Крыжановский связывал эту перемену в их отношениях с декабрьским восстанием в Москве: оно «стало началом крутого перелома в поведении Дурново, который с этой минуты повел свою собственную линию»[578].
С подавлением московского восстания П. Н. Дурново уже не сомневался, «что и в других местах он справится без особого труда, если – говорил он В. Н. Коковцову – “Витте не будет слушать всяких сплетен разных общественных деятелей и перестанет бороться с восстанием газетными статьями и бесконечными совещаниями с пустыми болтунами”»[579].
«К концу декабря игра, в сущности, была сыграна: если вначале Государь не без больших колебаний верил в возможность для Витте достигнуть хороших результатов, то с этих пор доверие пропало почти окончательно; Дурново же <…> почувствовал себя неоспоримо победителем в своем скрытом состязании с Витте, который, в свою очередь принужденный терпеть его в Совете рядом с собою, не мог в душе не возненавидеть его». П. Н. Дурново утверждается министром, его постоянный противник в Совете министров С. С. Манухин заменен М. Г. Акимовым. «На новогоднем приеме в Царском Селе, – рассказывал И. И. Толстой, – можно было констатировать, что оба факта считались непреложным доказательством поражения “премьера” и торжества Дурново, вокруг которого толпа поклонников из придворных сфер заметно увеличилась»[580].
С января 1906 г., продолжал И. И. Толстой, «взаимные отношения между Витте и Дурново, если и не резко, но по существу весьма заметно изменились. Хотя Витте и продолжал иногда кричать на Дурново, но последний перестал “ежиться” и отвечал иногда довольно резко, энергично настаивая на своей точке зрения; иногда, чего он раньше никогда не посмел бы сделать, он после сцены с председателем прекращал на неделю и больше свое хождение в заседания Совета, причем не считал нужным извиняться за свое отсутствие»[581]. «Под тем или иным предлогом, а то и без всякого предлога, – подтверждает В. И. Гурко, – он просто не являлся на заседания Совета, а заменял себя кем-либо из состава министерства, не считаясь при этом с служебным рангом заместителя». Позволял иногда дерзость по отношению к С. Ю. Витте[582]. 2 февраля 1906 г. А. А. Киреев пометил в дневнике: «По-видимому, два течения в нашем правительстве обостряются. Дурново за репрессию – Витте говорит, что Дурн[ово] не в состоянии понять положение, что репрессия не достаточна»[583]. Скоро П. Н. Дурново, по свидетельству И. И. Толстого, «отбился совершенно от рук и стал играть первенствующую роль в подробностях внутренней политики»[584].
19 февраля 1906 г. П. Н. Дурново в беседе с С. Д. Шереметевым заявил: «Я веду свою линию[585]. Это было видно и со стороны: «Он сделался при дворе persona grata и, поддерживаемый умным, крайне правым Акимовым, повел свою, особую от Витте, политику – сильной власти. <…> Он всегда знал, чего хотел, и упорно шел к намеченной цели. Такому человеку трудно было подчиниться, подобно другим, указке Витте. Он ей и не подчинился»[586]. Признавал это и сам С. Ю. Витте: «Дурново эмансипировался от меня как председателя Совета Министров и от Совета и начал вести собственную политику»[587].
В конце марта 1906 г. в салоне Богдановичей констатировали: между С. Ю. Витте и П. Н. Дурново «глухая вражда»[588].
«Витте реагировал на торжество Дурново просьбою об отставке, которая, однако, принята не была ввиду главным образом финансового положения России»[589].
С. Ю. Витте, не выдерживая тут сравнения с П. Н. Дурново, объясняет перемену его позиции одними карьеристскими соображениями: «Когда П. Н. Дурново увидел направление государя и то, что я был назначен председателем по необходимости, что я играть роль ширмы не намерен и что государь, как только ему окажется возможным найти более солидную ширму, со мной охотно расстанется, то он – Дурново – и решил, что лучше быть персона gratissima в Царском Селе, нежели в Петербурге у графа Витте, тем более что наша жизнь так коротка, а пребывание на постах министров еще короче»[590]. Не малую роль тут, по мнению С. Ю. Витте, сыграл и царь: он «обольстил» П. Н. Дурново и, стремясь «иметь дело даже с министрами объединенного министерства помимо председателя Совета, так сказать, en cachette[591] от него», имел такие отношения с П. Н. Дурново[592].
Объективнее пытается быть И. И. Толстой: «Наблюдая грозные явления, последовавшие за обнародованием Манифеста, события, следовавшие одно за другим с головокружительной быстротой и ясно доказывавшие ему, человеку в таких делах опытному, развитие революции, серьезно угрожающей уже всему тому, чего даже Витте не думал касаться, как-то монархической власти, целости России и всего ее социального строя сверху донизу, он должен был, по складу ума и по выработанным убеждениям, признать, что зашли слишком далеко и что наступило время тормозить машину, если уж нельзя повернуть ее обратно». «Виноват» отчасти и сам премьер: «Естественные колебания Витте, не скрываемое им смущение перед разросшимся движением, направленным против правительства и лично против него, наконец, доверие, оказываемое им опытности и знанию Дурново, дали последнему известные козыри в руки». Не удержался, чтоб не лягнуть П. Н. Дурново: «Рядом с этим Дурново видел, что придворная партия, большинство сановников и высшее общество относились с явным недоверием и даже отвращением к новому курсу». Вот, заключает И. И. Толстой, «сложивши все вместе, нетрудно понять, на какую политику он должен был решиться. Не прибегая к открытому разрыву с председателем Совета, он смело повел “собственную линию”, тормозя, где можно, всюду критикуя легкомысленность Витте и намекая, где можно, что ему приходится смотреть в оба, чтоб не стряслось беды»[593].
Возможно, прав был В. А. Маклаков, заключивший из бесед с П. Н. Дурново, разговаривать с которым, по его замечанию, «было возможно и интересно»: «Он был таким же реалистом, как Витте, еще менее его был пленником предвзятой идеи. <…> он согласился пойти в министерство не затем, чтобы интриговать против Витте и взрывать кабинет изнутри. Дурново, как и Витте, понимал, что самодержавие невозможно без самодержца, с конституцией помирился и готов был ей служить». Однако, увидев вскоре, «чего требует наша общественность, – продолжает Маклаков, – он проникся презрением к ее непрактичности. Дожидаться ее отрезвления он считал бесполезным». И видел, что власть достаточно сильна, чтобы с революцией справиться[594]. Происходит переоценка манифеста 17 октября. 8 января 1906 г. С. И. Четвериков в соединенном совещании петербургского и московского отделений ЦК «Союза 17 октября», при обсуждении отношения последнего к правительству Витте, сообщил «справку, полученную им недавно в Петербурге из авторитетного источника, будто П. Н. Дурново держится упорно мнения, что манифест 17 октября есть добровольный акт царской милости, ничем не ограничивающий его самодержавной власти»[595]. 19 февраля 1906 г. П. Н. Дурново в беседе с единомышленником характеризовал манифест как «крупную политическую ошибку», а усиление революции – прямым его следствием[596]. Эту оценку в несколько смягченной форме он повторил в Царскосельском совещании 7 апреля 1906 г., подчеркнув, правда, что «с существом этого акта нельзя не считаться»[597].
Их развело различное представление о способах подавления революции. П. Н. Дурново, по словам Д. Н. Любимова, так сформулировал суть своих расхождений с С. Ю. Витте: «Не время теперь заниматься эквилибристикой! Витте хочет держаться на узком гребне манифеста 17 октября, ни направо, ни налево; а спасение – только направо; налево сплошь социалистическое болото, в котором барахтаются и захлебнутся кадеты[598]. П. Н. Дурново сделал ставку на силовые методы и стал поощрять черносотенное движение[599]. «Витте, – поясняет В. А. Маклаков, – связал себя с манифестом, должен был опираться на общество и ради этого шел на компромиссы. Дурново был свободный»[600].
С начала 1906 г. у С. Ю. Витте крепнет желание отделаться от П. Н. Дурново. Революция заметно шла на убыль, нужда в нем притуплялась, да он оказывался и помехой: чрезмерные репрессии стали, по мнению С. Ю. Витте, причиной крайне неблагоприятных для правительства результатов выборов в Государственную Думу; раздражало вошедшее в обиход прессы словосочетание «кабинет Витте – Дурново»; представлялось немыслимым предстать перед Думой, имея в составе своего кабинета столь одиозную фигуру. Более того: утверждение его в должности министра и другие царские милости по адресу П. Н. Дурново заставляли опасаться, не заменит ли он Витте в кресле председателя Совета министров[601].
Справедливо полагая, что Николай II не согласится по его, Витте, желанию заменить П. Н. Дурново другим кандидатом, С. Ю. Витте подает прошение об увольнении, мотивируя его преимущественно расхождением с Дурново[602]. В. И. Гурко по этому поводу не без язвительности замечает: «Исходил Витте при этом, несомненно, из никогда не покидавшего его убеждения, что он сам незаменим и что в ответ на поданное им прошение государь его не отпустит, а Дурново сам уволит»[603].
Любопытно, что в 1911 г. в Виши, по свидетельству В. А. Маклакова, они общались, и «тогда отношения их казались хорошими»[604]. Можно, видимо, полагать, что и раньше, в бытность их в составе одного «кабинета», между ними не было особых разногласий. Некоторые из современников, близко наблюдавшие их отношения, это подтверждают. Д. Н. Любимову, например, представлялось, что между ними «сразу установились строго официальные, но вполне корректные» отношения. «Витте предоставил Дурново всю черную работу по подавлению революции, сам решительно от него отмежевался, ведя политику на два фронта. С одной стороны, выражая молчаливое согласие на деятельность Дурново, по возможности в нее не вмешиваясь, иногда только в разговорах с общественными деятелями ею возмущаясь; а с другой – продолжая заигрывать с различными слоями оппозиционной общественности»[605].
Не расходились они и по другому, столь же важному тогда вопросу. П. П. Менделеев, бывший секретарем в заседаниях Совета министров при обсуждении новой редакции Основных законов, свидетельствует: «Все дело Витте крепко держал в своих руках, вел его к единой цели: сохранить как можно больше прерогатив за Царской властью. <…> Усилить значение Монаршей власти по отношению к новым законодательным учреждениям, обеспечить Государю возможность править, в случае надобности, и без их участия – было главной заботой Витте. Дурново и Акимову оставалось только помогать ему в нахождении наиболее удачного изложения принимаемых постановлений»[606].
Была легенда о либеральном Витте, с большим искусством созданная, прежде всего, им самим. «Как <…> выяснено с документальной точностью, – писал еще Е. В. Тарле, – граф Витте, вопреки ходячей легенде, не только не останавливал [П. Н. Дурново], но, напротив, подстрекал и натравливал на самые крутые действия». «Полнейший знак равенства» проводил Е. В. Тарле между ними и «в смысле отношения к осуществлению принципов манифеста»[607].
Увольнение
По мнению В. И. Гурко, у П. Н. Дурново «не было никаких оснований думать, что близок час потери им власти. У государя он неоднократно встречал приветливый прием и выражение ему доверия; с обоими братьями Треповыми он был в лучших отношениях и, следовательно, с этой стороны не мог ожидать никакого, выражаясь вульгарно, подвоха»[608]. И С. Ю. Витте «казалось несомненным, что во всяком случае Дурново останется министром внутренних дел»[609]. Сам он, по словам А. В. Бельгарда, «искренне был убежден, что Государь ни в каком случае не решится с ним расстаться в создавшемся, благодаря неудачным выборам, исключительно трудном положении»[610]. Ходили слухи, что он рассчитывал после ухода С. Ю. Витте стать премьером[611]. Слухи эти не были беспочвенны: П. Н. Дурново, по словам В. И. Гурко, доставлял компрометирующие С. Ю. Витте данные влиятельному кружку (И. Л. Горемыкин, А. В. Кривошеин, В. Ф. Трепов), который через дворцового коменданта Д. Ф. Трепова «не упускал случая почти с самого назначения Витте председателем Совета министров представить его деятельность государю в неблагоприятном свете»[612].
По-видимому, и Николай II не собирался с ним расставаться. С. Ю. Витте рассказывал, что за два дня до указа об увольнении П. Н. Дурново его жена заезжала к жене С. Ю. Витте и «говорила о том, что государь просил ее мужа остаться и что вот теперь она едет на Аптекарский остров осматривать дачу министра внутренних дел, так как они намерены в самом непродолжительном времени туда переехать»[613].
Однако «новый кабинет не пожелал нести за действия его ответственность перед новою Думою»[614]. «Неблагоприятный результат выборов в Государственную думу и проявляемая общественностью к Дурново непримиримая ненависть» побудили влиятельный кружок, по утверждению В. И. Гурко, рекомендовать царю сменить и его, чтобы «доказать таким образом общественности, что увольнение Витте вовсе не означает поворота политики в сторону реакции. Устранение от дел одним общим указом Витте и Дурново должно было, наоборот, как бы связать эти два лица воедино и таким образом окончательно развенчать Витте в глазах передовых элементов общества, лишив его того ореола либерализма, которым он так старательно стремился себя окружить». Д. Ф. Трепов считал, что П. Н. Дурново раздражает общественность, что «свою роль усмирителя революции» он уже сыграл[615].
21 апреля в Совете министров П. Н. Дурново «сообщил, что он во время последнего своего всеподданнейшего доклада [20 апреля] спросил Государя о своей дальнейшей судьбе, причем Его Величество изволил указать, что считает нужным, хотя и с сожалением, расстаться с ним; тогда он подал прошение об отставке»[616]. Прошение это, написанное им собственноручно, «было очень кратко. Указывая, что при назначении ему была поставлена одна лишь задача: так ли иначе ли, водворить порядок – он эту задачу исполнил, а потому – просит об увольнении»[617].
В. И. Гурко, прочитав в газетах указ об увольнении П. Н. Дурново, немедленно к нему приехал и застал его за письменным столом разбирающим бумаги. «Сохраняя по наружности спокойный облик, не обнаруживая никакого возмущения, он был в определенно подавленном, грустном настроении и отнюдь не старался этого скрыть. “Да, для меня это большой удар, – сказал он мне откровенно, – быть у власти и лишиться ее для людей, посвятивших всю свою жизнь государственной службе, очень тяжело. Вы, впрочем, сами это когда-нибудь испытаете, – добавил он, взглянув на меня несколько иронически. – Ну а теперь пока что принимайте от меня власть на законном основании”. Поговорив со мною о некоторых не терпящих отлагательства делах, <…> Дурново на прощание, внезапно оживившись, воскликнул: “Нет, а Витте – вот злится-то, наверно, что мы с ним вместе уволены!”»[618]
Уволен П. Н. Дурново с подарком 200 тыс. рублей, любезным рескриптом, пожалованием в статс-секретари с оставлением сенатором и членом Государственного совета; при этом за ним сохранялись содержание по должности министра (18 тыс. рублей) и аренда (3 тыс. рублей).
«Под счастливой звездой родился Дурново! – заметила А. В. Богданович. – После всех произведенных им репрессий, арестов ушел целым и невредимым из Министерства внутренних дел»[619].
* * *
27 апреля (10 мая) 1906 г. П. Н. Дурново был в Зимнем дворце[620]. Затем уехал за границу.
Проживая в Париже, сохранял полное инкогнито, не бывал в посольстве; жил в гостинице «Континенталь». Заведующий агентурой А. Гартунг организовал его охрану «посредством наблюдательных агентов». В Берлине он жил в гостинице «Бристоль»; здесь также его охраняли агенты Гартунга и, по просьбе нашего посольства, берлинская полиция[621].
19 августа (1 сентября) Т. А. Леонтьева убила Ш. Мюллера, приняв его за П. Н. Дурново. 21 августа (3 сентября) П. Н. Дурново выехал из Берлина нордэкспрессом домой. Директор Департамента полиции приказал жандармскому подполковнику Мясоедову в Вержболове «учредить самую тщательную охрану».
Переезд П. Н. Дурново из казенной квартиры на частную (Моховая, 27) вызвал переполох среди других квартиронанимателей: боясь теракта, они заявили, что вынуждены будут приискивать себе другие квартиры[622].
Видимо, в связи с терактом Леонтьевой П. Н. Дурново стал весьма подозрительным. Для него была организована охрана: двойная смена городовых в подъезде квартиры и 6 агентов охранной полиции; при выходе из квартиры за ним следовал опытный пожилой агент охранного отделения Дмитриев; женская прислуга в квартире менялась каждые 2–3 дня; были столь же строгие предосторожности и в отношении пищи; сам П. Н. Дурново внимательно просматривал «газеты прогрессивного направления»[623].
Дурново-министр в оценках современников
Результаты короткого министерства П. Н. Дурново были поразительны для современников, вызывая филиппики и угрозы слева и восхищение справа.
«Заслуги Дурново в подавлении повсеместной смуты и недопущение ее перейти в открытую революцию, со всеми ее роковыми последствиями, для всех знавших положение России в 1905 году неоспоримы, – утверждал Д. Н. Любимов. – Несмотря на вихрь событий, не обращая внимания на клокотавшую ненависть и озлобление вокруг него, Дурново ни на минуту не выпустил туго натянутых вожжей из своих рук. Аппарат власти все время оставался в его руках. В этом и есть его несомненная историческая заслуга. Неизвестно, чем бы кончились в 1905 году повсеместные беспорядки, волнения и восстания, будь на месте Дурново его ближайшие предшественники, или кандидат русской общественности – кн. Урусов. <…> Если в начале 1906 года не случилось того, что произошло в начале 1917-го, то этим мы во многом обязаны энергии, мужеству и распорядительности Петра Николаевича Дурново»[624].
Другие осведомленные современники, разделяя мнение Д. Н. Любимова, конкретизируют заслуги Дурново-министра.
Он вернул, пишет Е. Г. Шинкевич, «к порядку нарушенную забастовками деятельность правительственного аппарата и довел Россию до Государственной Думы, без изъяна свободам, провозглашенным в манифесте 17 октября»; подтянул «органы местной администрации»[625].
«В крепких руках П. Н. Дурново власть перестала плыть по течению и решительно выступила на путь механического подавления революционного движения», – свидетельствует В. И. Гурко[626].
Он «законопатил тоже всех маломальских влиятельных и энергичных революционных вожаков»[627].
«Твердая и умная власть министра внутренних дел П. Н. Дурново чувствовалась во всем и везде: и в деревенской сумятице, и в мятежной Москве, и в насмерть перепуганном, теперь успокоившемся Петербурге», – вспоминал начало 1906 г. В. М. Андреевский[628].
В подавлении революции 1905–1906 гг. большую роль сыграли многие представители центральной и местной администрации; инициатива многих суровых и весьма эффективных мер исходила от великого князя Николая Николаевича, С. Ю. Витте, некоторых министров его кабинета[629]. Тем не менее многие современники выделяли П. Н. Дурново, приписывая подавление революции лично ему. Так, Б. В. Никольский безапелляционно утверждал: «На наших глазах П. Н. Дурново обрисовался элементарно-властной и одиноко-властной фигурою на фоне сановных трусишек бюрократии наверху, а внизу – камаринских товарищей»[630].
«Считаю, – записывал Г. О. Раух, – что он один спас положение и провел поворот к более энергичной внутренней политике, что и не преминуло дать свои плоды. Начало надо считать с почтовой забастовки, против которой он первый повел энергичную борьбу и с успехом. Затем постепенно эта энергия передалась и в остальные сферы внутренней жизни и преимущественно полиции, печати. Начались аресты всяких революционных деятелей вроде Носаря-Хрусталева и др., аресты газет и листков, их редакторов и издателей, энергичные действия в Москве и в окрестностях, на железных дорогах и т. д. Я уверен, что первая заслуга, первый толчок целиком принадлежит ему»[631].
В. И. Гурко, находя вполне реальной опасность крушения государственного строя в последние месяцы 1905 г., ставил в заслугу П. Н. Дурново ее предотвращение к началу 1906 г.: «Революцию 1905 г. предотвратил всецело Дурново, именно он и только он проявил в то время правильное понимание положения вещей и с редкой планомерностью, хотя, право, и с беспощадностью, удержал от крушения разваливающийся государственный механизм»; «при подавлении революционного движения 1905 г., он, несомненно, сыграл решающую роль»[632]. Так же считали А. Д. Голицын, С. Е. Крыжановский, П. Г. Курлов, В. П. Мещерский[633] и многие другие.
К такому же, по существу, выводу приходит и исследователь: «В ретроспективе представляется, что <…> без человека такой редкой широты ума и твердости во главе МВД государство вполне могло разрушиться зимой 1905–1906 гг.»[634]
В Государственном Совете
В составе реформированного Государственного Совета П. Н. Дурново пробыл почти девять с половиной лет – с апреля 1906 г. по август 1915 г. Все это время, несмотря на преклонный возраст (ему было 64–73 года) и болезнь глаз (в январе и мае 1911 г. ему сделали операции в Берлине), он был бодр, энергичен и деятелен: руководя группой правых, активно участвовал в работе комиссий (постоянной, особых, согласительных) в качестве председателя, заместителя председателя, члена.
П. Н. Дурново стоял у истока правого объединения в Государственном Совете. 29 апреля 1906 г. в Мариинском дворце, где граф К. И. Пален и А. А. Половцов собрали «около 30» членов верхней палаты, в основном выборных, П. Н. Дурново «обстоятельной и длинной речью» о пагубных последствиях политической амнистии склонил большинство присутствующих на свою сторону[635].
Сама идея правого политического объединения в «верхней палате» принадлежала П. Н. Дурново; с нею он выступил в кружке сановников, собиравшихся в мае – июне 1906 г. на квартире члена Государственного Совета по назначению С. С. Гончарова и за «чашкою чая» обсуждавших очередные вопросы.
5 июня 1908 г. П. Н. Дурново был избран председателем бюро правой группы Государственного совета, ежегодно переизбирался и пробыл в этом качестве более 7 лет. П. Н. Дурново, по свидетельству С. И. Тимашева, «несмотря на свой преклонный возраст сохранил всю прежнюю энергию, ему удалось прочно сплотить своих единомышленников и высоко поставить партийную дисциплину»[636]. Руководителем он оказался требовательным, отлично председательствовал, вселял надежды в своих товарищей. «Общее настроение подавленное, – делился с другом граф С. Д. Шереметев, – но наш председатель мастер своего дела»[637]. Скоро группа, руководимая «властной и твердой рукой», стала наиболее дееспособной и влиятельной, а П. Н. Дурново превратился в авторитетнейшего лидера правых.
Значение П. Н. Дурново как лидера правых оттенила принудительная отправка его в отпуск весной 1911 г.: группа ощутила недостаток «сдерживающего начала», стало не хватать умения находить по многим законодательным вопросам «общий язык с инакомыслящими коллегами». «С уходом Дурново, – вспоминал А. Н. Наумов, – стало заметно ощущаться отсутствие согласованности во взглядах и выступлениях членов правой группы»[638].
В октябре 1911 г. Николай II передал П. Н. Дурново через В. Н. Коковцова «свое желание видеть его на своем посту», сопровождаемое «лестными для него пояснениями». 15 октября П. Н. Дурново появился в Совете. «Он здоров, бодр и весел». В группе встретили его «очень радушно»[639] и вновь избрали председателем бюро группы[640].
16 апреля 1912 г. у Кюба правая группа дала обед «в честь П. Н. Дурново» (50-летие пребывания в офицерских чинах). Были также представители других групп – А. С. Ермолов, И. П. Шипов и Н. С. Авдаков. А. П. Струков «сказал слово, обращенное к Дурново – очень удачное»[641].
Политические противники П. Н. Дурново – кто по недомыслию, а кто и намеренно – искажали смысл его деятельности в Государственном Совете. Одним она представлялась «любопытным сплетением закулисной политической интриги с видимой открытой деятельностью в преобразованной законодательной палате»[642]. Другие называли его «душой реакционной партии»[643]. Третьи утверждали, что он «работал неустанно, чтоб задержать и отвергнуть законопроекты, могущие с его точки зрения поколебать основы государственного строя старого уклада»[644].
В. И. Гурко утверждал: «Вообще, Дурново, стоявший во главе правой группы членов Государственного Совета и пользовавшийся в ее среде большим влиянием, увы, руководствовался преимущественно личными соображениями и чувствами личной неприязни к Столыпину» (как в таком случае он мог пользоваться «большим влиянием» – Гурко умалчивает. С. Ю. Витте руководствовался «личными соображениями», так над ним в Государственном Совете смеялись[645]).
Отклонение правым большинством Государственного Совета весной 1914 г. законопроекта о мелкой земской единице В. И. Гурко объяснил так же несложно: «Причина же была простая – против этого законопроекта, как вообще против всяких проектов, внесенных министерством внутренних дел, был П. Н. Дурново, не перестававший надеяться вновь занять должность министра внутренних дел на почве откровенно правых консервативных взглядов»[646].
Его упрекали в «боевом консерватизме», лишенном какой-либо программы. «Новое время» утверждало: «Его лидерство выражается главным образом в устройстве искусственных пробок и заторов в деятельности законодательных палат. Нет такого назревшего, подсказанного неотложными общественными и государственными потребностями законопроекта, который он даже после самого всестороннего рассмотрения не хотел бы заново сдать в комиссию. Маг и волшебник в деле создания различных препон и преткновений, он ведет борьбу не против враждебных течений государственной мысли, а против поставленных на определенном месте лиц, все использует как орудие канцелярски-оппозиционного спорта и сводит консерватизм, долженствующий охранять прочную и неразрывную связь законодательства с историей, к непрерывной законодательной обструкции»[647].
В действительности же П. Н. Дурново руководствовался интересами страны, государства, как он их понимал; исходя при этом из конкретной ситуации как внутриполитической, так и международной. «Закон, – утверждал он, – следует писать с большим спокойствием и с большим беспристрастием». Законодатели обязаны рассматривать дело так, как приказывает им их разумение, исключительно по руководству их понятий, их знаний, опыта и совести[648].
Поэтому чрезвычайное законодательство П. А. Столыпина раздражало П. Н. Дурново, вызывало досаду. «Если бы закон о старообрядческих общинах, – сетовал он в общем собрании Государственного Совета 12 мая 1910 г., – поступил на наше рассмотрение в обыкновенном порядке, то мы, Члены Комиссии, при рассмотрении этого дела не испытывали бы постоянно тяжелого ощущения как бы связанных рук, и позволю себе заявить, что наше руководящая в этом деле мысль получила бы более правильное, более последовательное и более соответствующее пользам государства осуществление». «Необходимо признать, – говорил П. Н. Дурново, – что в случаях, подобных настоящему, положение Государственного Совета и выбранной им Комиссии представляется весьма сложным. Если, с одной стороны, мы не можем, а по моему убеждению, и не имеем права, при наших законодательных решениях считаться с соображениями, не вытекающими непосредственно из предложенного нашему рассмотрению законопроекта, то, с другой стороны, никакие рассуждения не могут устранить представления о совершившемся факте, который, хотя бы сам по себе и был неоснователен, тем не менее вносит в практическую жизнь более или менее осязательное влияние». Тем не менее это не должно, подчеркивал он, предопределять решение законодателей: «Если бы по статье 87 Основных Законов был издан закон, явно, по нашему разумению, вредный и вовсе необдуманный, то, не взирая ни на какую давность, мы должны его отклонить, дабы предотвратить и остановить распространение зла, которое неизбежно производит всякий необдуманно пущенный в народную жизнь легкомысленный закон»[649].
Характерна в этом отношении его позиция весной 1911 г., когда П. А. Столыпин попытался ввести земское самоуправление в 6-ти западных губерниях. Как известно, законопроект провалился в заседании Государственного Совета 4 марта: 92-мя голосами против 68-ми общее собрание отклонило ст. 6 о делении избирателей на национальные курии. Исход баллотировки решили 28 правых: голосуй они «за», курии были бы приняты большинством 96-ти против 64-х.
Утверждение, что законопроект о западном земстве был выбран в качестве повода, чтобы свалить Столыпина, а «сам по себе он был вполне приемлем для большинства» Государственного Совета[650], не выдерживает критики. Проектируемое земство оказалось неприемлемым по своему существу – бессословным характером и пониженным цензом. Уже в Особой комиссии Государственного Совета были высказаны «сомнения относительно целесообразности и своевременности введения земских учреждений в западных губерниях в виду отсутствия в них достаточного количества русского культурного населения, а равно опасения о том, что земское управление, устроенное на основаниях настоящего законопроекта возбудит национальную в крае рознь». Большинство комиссии высказало опасение, что «при таком понижении ценза <…> мелкие землевладельцы <…> задавят крупных и средних»[651]. Позиция правых, голосовавших против курий, определялась ясным сознанием антагонизма между крестьянством и помещиками; одобрить законопроект значило для них отдать местное самоуправление в руки враждебно настроенного крестьянства. П. Н. Дурново в заседании правой группы (25.02.1911) высказался «против проекта и против курий»[652]. Еще задолго до обсуждения в общем собрании он в записке царю указывал, что намечаемая мера крайне опасна в политическом отношении: она оттолкнет от правительства польских землевладельцев и усилит среди них антирусские стремления; весь культурный землевладельческий класс совершенно отойдет от местной работы, которую немыслимо строить на одном крестьянстве. В. Ф. Трепов на аудиенции у царя перед самым голосованием в Государственном Совете развивал эти же мысли, характеризуя проект как «чисто революционную выдумку, отбрасывающую от земской работы все, что есть культурного, образованного и консервативного в крае»[653]. Подобные же взгляды высказывал на страницах своего журнала В. П. Мещерский[654].
Депутация от Юго-Западного края просила царя дать им земства и объяснила, что курии им необходимы, так как иначе все должности по выборам будут замещены поляками. Царь обещал им земство и, по слухам, одобрительно отнесся к куриям. П. А. Столыпин известил о результатах депутации М. Г. Акимова, последний по телефону сообщил П. П. Кобылинскому, а этот информировал правую группу. В группе пришли к выводу, что им приказывают баллотировать за курии. Однако, выражая готовность всегда делать угодное монарху, члены группы полагали, что как члены законодательной палаты, они «должны вотировать по совести, а не по приказанию». Для выяснения, было ли приказание голосовать за курии, П. Н. Дурново написал М. Г. Акимову, однако ответа не получил. Тогда 3 марта группа отправила в Царское Село В. Ф. Трепова.
Николай II объяснил, что он «лишь хотел обратить внимание Государственного Совета на важность вопроса», и не возражал против голосования по совести. В. Ф. Трепов обратил внимание царя на «маргариновую депутацию», состоявшую «из столыпинских чиновников». Когда В. Ф. Трепов вернулся и рассказал о беседе с царем, то часть группы решила баллотировать против курий[655].
5 марта П. А. Столыпин подал в отставку, обвинив лидеров правой группы в интриге.
«Несколько дней никто не знал, как окончится этот инцидент, – сообщала А. И. Шувалова новости своей матери. – Новое Время металось – то на его столбцах статьи об уходе, то о том, что Столыпин остается. Столыпин говорил многим, что он рад работать, не покладая рук и в ущерб здоровью, готов рисковать жизнью, но не может быть игрушкою интриги. Со своими секретарями, дежурящими у него по очереди, он простился, семейство Нейдгарт всем говорило, что Стол[ыпин] ни за что не останется. Очень близкий Столыпину человек сказал мне, что вряд ли останется, а если останется, то при условии, что Дурново и Трепову предложат полечиться за границей»[656].
Царь принял условия П. А. Столыпина, уволив 11 марта П. Н. Дурново и В. Ф. Трепова «в отпуск по 1 января 1912 г.». «Дурново и Трепов, – писали Е. А. Воронцовой-Дашковой ее дочери, – стали героями – к[а]к только в газетах был напечатан их отпуск, к ним валом повалили люди всех партий и (слово не разб. – А. Б.). Дурново говорит, что два человека никогда не переступали порог его дома – М. А. Стахович и Пуришкевич и оба у него были. Мейндорф, бывший товарищ председателя Думы, вполне спокойный человек, не знакомый ни с тем, ни с другим, завез им карточки»[657].
Проявленное сочувствие трудно совместить с тезисом об интриге. Как заметил С. Д. Шереметев, «заслуги Дурново, сдержавшего революцию, велики, что так обращаться произвольно нельзя, что это акт произвола и заносчивости», что Дурново наказан «за правду»[658].
П. Н. Дурново, по свидетельству посетившего его С. Д. Шереметева, был «спокоен на вид, любезен и прост в обращении, без рисовки», подтвердил слухи об удалении в принудительный отпуск его и В. Ф. Трепова. Тут-то и вырвалось у П. Н. Дурново: «Ну вот и скажите, можно ли служить?»[659]
15 марта Николай II передал через М. Г. Акимова, что уважает П. Н. Дурново и ничего лично против него не имеет и группа не лишилась его доверия[660].
11 апреля 1911 г. С. Д. Шереметев, будучи в Аничковом дворце у императрицы Марии Федоровны, высказал надежду, «что к Пасхе решен будет вопрос о Дурново, раз что нам возвращено “доверие”, несмотря на распростр[анение] “клеветы”, что пасхальный день тому подходим, простим вся Воскресением»[661]. С этим и связана попытка Николая II вернуть П. Н. Дурново в Государственный Совет. Однако под влиянием аргументов П. А. Столыпина возвращение его было отложено до возобновления занятий Государственного Совета осенью 1911 г.[662]
2(15) мая 1911 г. П. Н. Дурново с дочерью выехал в Берлин для лечения глаз. «На Варшавском вокзале члены Государственного Совета устроили Дурново демонстративные проводы». Проводить собралось «множество». Пришли не только единомышленники из правой группы. Архиепископ Николай обратился к П. Н. Дурново «с теплым словом», пожелав поправить здоровье; от группы преподнесли дорогую складень-икону с надписью «На добрый путь». П. Н. Дурново «был взволнован» и обещал вернуться в июне[663].
Где тут интрига? Со стороны П. Н. Дурново и правых противников западного земства ею и не пахнет. Интригу во всем этом увидел П. А. Столыпин и неспроста: провести правых и протащить под флагом национализма бессословное земство с пониженным имущественным цензом не удалось, а возразить правым по существу было нечем.
По мнению И. И. Толстого, в марте 1911 г. была интрига, но не П. Н. Дурново, а П. А. Столыпина: «Для меня несомненно одно: вся кампания проведена путем интриги и влияния на государя через приближенных к нему “националистов”. Самое печальное во всем этом то, что такими средствами пользуется человек весьма ограниченных способностей и для проведения более чем сомнительной политики»[664].
Как начало «правильно организованной кампании» против В. Н. Коковцова было истолковано выступление П. Н. Дурново при обсуждении законопроекта о всеобщем начальном обучении[665]. Дело, однако, было не в личности В. Н. Коковцова. П. Н. Дурново и его правые единомышленники были недовольны внутренней политикой правительства: в ней они не видели ни ясной программы, ни определенного направления, считали, что она неправильно понимает государственные нужды и политические задачи данного времени; осуждали они и внешнюю политику. В данном законопроекте П. Н. Дурново смутила предполагаемая Государственной Думой, правительством и двумя комиссиями Государственного Совета (причем тут личность В. Н. Коковцова?![666]) прогрессивная фиксация на 10 лет вперед громадной суммы из государственного казначейства на устройство всеобщего обучения; и это – в обстановке обостряющегося международного положения. Позиция П. Н. Дурново была адекватна ситуации: «все наши финансовые усилия должны быть направлены прежде всего на оборону нашего отечества»[667].
Характерны в этом отношении дневниковые записи и переписка С. Д. Шереметева. «Переживать эпоху Госуд[арственного] разложения не легко, – пишет он 20 февраля 1912 г. – У меня такое чувство, что 1912 год даст нам новое нашествие иноплеменных и обновит ужасы 1612 и 1812 гг. Быстрый ход разрушительных реформ при любезном содействии нового Гришки даст нам новый сочный плод от нового древа познания добра и зла»[668]. Еще более показательна дневниковая запись: Был обед у А. П. Струкова. После обеда сидели в кабинете хозяина: М. Г. Акимов, С. Д. Шереметев, А. А. Ширинский-Шихматов, А. А. Бобринский. «Акимов был очень разговорчив, но говорил о безотрадности, беспросветности общего положения, о трудности работать без опред[еленной] цели и надежды в виду общего разлада. И это говорят люди в его положении, люди честные и благонамеренные. Сводится все к одному, чего не хочется высказать»[669].
По существу, то же инкриминировал правительству и А. И. Гучков на совещании октябристов 8 ноября 1913 г., с той лишь разницей, что приписывал все это победившей «реакции»: «Иссякло государственное творчество. Глубокий паралич сковал правительственную власть: ни государственных целей, ни широко задуманного плана, ни общей воли! <…> Государственный корабль потерял свой курс, потерял всякий курс, зря болтаясь по волнам. Никогда авторитет правительственной власти не падал так низко. Не вызывая к себе ни симпатий, ни доверия, власть не способна была внушить к себе даже страха. Даже то злое, что она творит, она творит подчас без злой воли, часто без разума, какими-то рефлекторными, судорожными движениями. <…> Развал центральной власти отразился, естественно, и полной дезорганизацией администрации на местах. <…> Но паралич власти оказался не только внутренним развалом. <…> Наша внешняя политика, бездарная и малодушная, не только упустила все те выгоды, которые <…> открывались перед Россией, но и потеряла все прежние позиции»[670].
Так же оценивал ситуацию В. И. Гурко, тогда оппонент П. Н. Дурново: «У нас <…> застой во всем и везде: правительство стремится жить au jour le jour[671] и из министерства с определенной политической окраской и ясно выраженными целями само себя превратило в то, что на западе именуется «деловым министерством», т. е. занимается лишь мелочными текущими делами управления»[672].
П. Н. Дурново работал на сохранение дееспособности государственного аппарата. Поэтому он и его единомышленники блокировали в 1907 г. попытку 39 членов группы центра возбудить вопрос о реформе Сената по инициативе Государственного Совета. При этом движим был П. Н. Дурново отнюдь не желанием отстаивать «всевластие администрации»[673].
Реформаторы предполагали: учредить должность Первоприсутствующего с правом непосредственных сношений с верховной властью; предоставить I департаменту избирать кандидатов для замещения открывающихся вакансий; установить условия и порядок применения прав и исполнения обязанностей Сената; обязать министров доносить Сенату о принимаемых ими чрезвычайных мерах; предоставить Сенату определять необходимость принятых чрезвычайных мер, отменять их, назначать сроки их действия и, если меры приняты с соизволения монарха, то представлять ему свои соображения.
Сенат, считал П. Н. Дурново, «не есть орган управления, в нем нет места оценке чьих-либо интересов или вопросов о целесообразности», и справедливо заподозрил авторов проекта в намерении наложить «на Министров узду безответственного сенатского контроля». «Никакое Правительство, – убежденно говорил он, – не может существовать, если у него из рук будет вырвана возможность руководить политикой государства». «Если Сенат, – продолжал с знанием дела он, – пополненный выборными Сенаторами, ни за что и не перед кем не отвечая, не имея ни малейшего представления кроме газетных сведений о том, что и как делается в государстве, начнет проверять и отменять распоряжения поставленного Государем Правительства, то мы неизбежно будем иметь два Правительства, взаимно друг друга исключающие, и наступит в России полная смута в управлении, которой не найти исхода. Что станет с Министрами? Отписываться перед Сенатом, отвечать на запросы Думы и Государственного Совета, разбираться в вероятных противоречиях взглядов Думы со взглядами Сената и среди такого дергания ответственно управлять Государством!»[674]
Еще в Совещании под председательством А. А. Сабурова (1-я половина 1905 г.) П. Н. Дурново, будучи товарищем министра внутренних дел, был против превращения Сената в орган высшего управления и отстаивал независимость управления. «Я, по обязанности представителя Министерства и по глубокому убеждению, – вспоминал он позднее, – объяснял, что Губернаторы люди весьма почтенные и ничем не хуже других служащих, и старался доказать, что в нашем Отечестве, при несовершенстве законов, малочисленности судов и проистекающей отсюда судебной медлительности, при ни чем не оправдываемом сентиментальном отношении к подсудимым и обвиняемым, только одна администрация и полиция еще являются наилучше организованной силой, которая сдерживает бушующие страсти, и потому нельзя ставить каждый их шаг под контроль безответственного учреждения. Мой взгляд сводился к тому, что Губернаторы, дозволяя себе даже превышение власти в целях неотложного охранения порядка, исполняли свой долг, а те, которые вместо энергичных распоряжений искали в законах подходящей статьи или соответствующего циркуляра, – нарушали свою обязанность». Если бы тогда допустили «вмешательство Сената в дело управления, – не сомневался П. Н. Дурново. – Правительству пришлось бы довольно жутко»[675].
Позиция П. Н. Дурново и в этом вопросе была глубоко продуманной с точки зрения государства, его способности обеспечить нормальные условия жизни общества. «В моих глазах дальнейшее развитие Сената, – говорил он в заключение, – неизбежно пойдет по пути преобразования его в высший административный суд в том смысле, что в сфере управления должно быть признано право существования административного усмотрения, вне всякого контроля административной юстиции. Этим я далек от того, чтобы проповедовать произвол – но дискреционная власть осуществляет политические задачи согласно требованиям целесообразности, и в этой области никто ей мешать не может; административная юстиция решает вопросы о правах и обязанностях, основанных на публичном праве, или, другими словами, действие административного суда начинается лишь тогда, когда кто-либо считает свое право нарушенным. Поэтому административный суд не должен задаваться поддержанием объективного правопорядка в области управления, а призван исключительно к ограждению субъективных прав публичного характера. При такой постановке вопроса устраняется опасность вмешательства Сената в управление, и с течением времени правосудие Сената в качестве высшего административного суда рядом мудрых решений установит ту законность управления, к достижению которой стремятся, по мнению моему, слишком торопливо и неверным путем составители основных положений ради сохранения авторитета Сената и того высокого положения, которым он пользуется; все, что выходит из пределов ограждения прав публичного характера отдельных лиц и учреждений, – должно быть изъято из компетенции Сената, потому что правительственное его значение как органа начальственного в будущем не уживается с действующим порядком управления»[676].
П. Н. Дурново защищал власть от разбазаривания ее отдельными агентами этой власти. При обсуждении законопроекта «Об учреждении Бакинского градоначальства» в заседании Государственного Совета 25 ноября 1911 г. он заявил: «Но я никак не могу оставить без возражения мысль о возможности Правительству входить в переговоры с частными лицами и, сообразно с деньгами, которые частные лица уплачивают на те или другие государственные потребности, делать им из общих законов исключения и уступки. <…> Не может быть принимаемо во внимание то соображение, <…> будто бы между Правительством и съездом нефтепромышленников происходили какие-то неизвестные нам переговоры и что на основании этих переговоров Правительство часть своей власти уступило нефтепромышленникам. Такое соображение я считаю в высочайшей мере зловредным при обсуждении закона»[677].
П. Н. Дурново был необыкновенно чуток к малейшим угрозам государственному аппарату. Нисколько не заблуждаясь относительно личного состава государственной службы, он был убежден, что «в данное время Россия не может дать ничего другого», и считал необходимым «сохранить то, что есть». Поэтому намерение передать служебные преступления в руки суда присяжных весной 1913 г. встретил в штыки. Эта передача, – справедливо указывал он, – предполагает у присяжных, кроме беспристрастия и развития, «способности и умения оценить, с государственной точки зрения, целесообразность и неизбежность тех или других важнейших распоряжений административной власти». Между тем, «население, которое поставляет присяжных, далеко уже не то, каким оно было раньше, и хотя оно, по мнению меньшинства Комиссии, выиграло в общем развитии, но я сомневаюсь, чтобы этот выигрыш был ценным вкладом в общую сумму тех качеств, которыми должен обладать беспристрастный судья, призванный к оценке служебных действий, например, губернатора. Посудите сами – чему учится народ в обыденной жизни? В дешевых газетах, проникающих в самые глухие деревни, он читает злобные, иногда прямо клеветнические сказания о ненавистной служебной деятельности поставленных Правительством властей; сказания эти пишутся часто совершенно несведущими людьми, которые толкуют тенденциозно, по своему, всякие распоряжения Правительства, критикуют, извращают их смысл и, разрушая все, чему народ привык верить, сеют в народе семена недоверия и отрицания. Но это еще не все, – в самых авторитетных собраниях происходит то же самое, и, таким образом, в народе постепенно нарождается отрицательное отношение к властям. <…> Тут <…> дело идет о разрушении государственной службы во всей ее совокупности». По мнению П. Н. Дурново, суд надо устроить «так, чтобы служащие твердо знали, что их никто не засудит без вины, ради антипатии, мести, или политических расчетов и что виноватого не укроет никакое заступничество. Этому, в пределах человеческой возможности, удовлетворяет то, что у нас есть»[678].
Не уставал он ратовать за укрепление обороноспособности державы. По Дурново, обеспечение внешней безопасности – первейшая задача власти. Он публично солидаризировался с М. М. Ковалевским, своим всегдашним оппонентом по всем вопросам внутренней политики, заявившим при обсуждении законопроекта об Амурской железной дороге, что «сила есть единственный и верховный вершитель международной судьбы государств, и потому денег на устройство армии жалеть нельзя».
Согласился он и с П. А. Столыпиным (о параллельных руслах, по которым в ближайшем будущем потекут-де государственные расходы – на оборону и на культуру), уточняя, что «течение по руслу обороны должно идти неизмеримо быстрее, нежели по руслу культуры, и это до тех пор, пока первое течение не доведет нас до уверенности, что мы в своем собственном доме можем жить покойно и безопасно»[679].
Забота П. Н. Дурново об обороноспособности империи не сводилась к одним лишь ассигнованиям. «Следует признать, – говорил он, – что в государственном обиходе есть такие предметы, к которым надо относиться с величайшей осторожностью, которые родились за много лет до нас, росли и жили при самых разнообразных условиях, выработали свои формы, обычаи, предания и в свое время сослужили службу отечеству». К их числу он относил службу, дисциплину, военный порядок, традиции, «почти семейное общение и духовную связь» между офицерами и матросами, опытность и авторитет командиров, доверие к ним, дух истинных воинов, военную доблесть. «Казалось бы, – продолжает П. Н. Дурново, – нужно употребить все усилия, чтобы сохранить и сберечь как зеницу ока такие драгоценные качества, дабы их носители передали их потомству в лице будущих русских моряков». Между тем, с горечью констатировал он, «плохо осведомленная, но весьма необузданная, чтобы не сказать больше, печать, разные статьи, брошюры, речи несведущих в морском деле людей, точно толпа накинулись на флот <…>. Вся эта неслыханная вакханалия клеветы и злословия создала вокруг флота в высшей степени удушливую и тяжелую атмосферу». Никто не подумал о том, как «эти опасные речи отзовутся на офицерах и командах», не внесут ли они «в личный состав флота язву сомнения, дух недоверия к начальству и отсюда упадок дисциплины»[680].
Угроза военному могуществу империи исходила, по мнению П. Н. Дурново, и от Государственной Думы. Последняя не упускала случая выйти за пределы своих полномочий и наиболее удобными для этого считала вопросы обороны. Поэтому П. Н. Дурново был всегда на страже Основных законов, справедливо полагая, что только так можно оградить вооруженные силы от некомпетентного вмешательства.
Так, Государственная Дума, находя систему управления Морского министерства не соответствующей потребностям флота, отказала в кредитах на постройку 4-х броненосцев. С точки зрения Дурново, это – «полное смешение понятий о власти»: отклонение кредитов «в зависимости от реформы морского управления есть вторжение в непринадлежащую нам область Верховного Управления». Ссылаясь на ст. 14 Основных законов, он утверждал: «Все это дело не наше, наша роль сводится к финансовой стороне дела».
Главное при этом было не в формальной стороне дела. Мы, говорил П. Н. Дурново, «нарушили бы свой долг, если бы вздумали подносить вопросы об устройстве вооруженных сил и обороны государства на благовоззрение Государственной Думы и свое собственное. Приверженцы западного конституционного порядка управления назовут мои слова конституционной ересью, но меня это смутить не может. Я охотно остаюсь в этой области еретиком и вот почему: я опасаюсь, что без этой ереси вся оборона государства, все устройство вооруженных сил Империи перейдет в руки законодательных учреждений». Ничего хорошего для дела обороны в этом случае он не видел[681].
Весной 1908 г. П. Н. Дурново, справедливо полагая, что вопрос о развитии отечественного судостроения «принимает чрезвычайно важное значение», и находя меры министерства торговли и промышленности в этой области недостаточными, обратил внимание Государственного Совета на пример Японии, торговый флот которой за последнее десятилетие «удесятирился в своем числе» и к 1 января 1907 г. насчитывал 1400 «собственных океанских коммерческих пароходов». Государственный Совет, по предложению П. Н. Дурново, признал «неотложным и необходимым принятие действительных мер поощрения отечественного судостроительства», считая, что «одно таможенное обложение построенных за границею судов недостаточно для удовлетворения этой цели»[682].
Обратил внимание П. Н. Дурново и на тогда только зарождающуюся проблему, высказавшись за «принятие решительных мер с целью ограждения дальневосточных окраин Империи от постоянно возрастающего прилива иностранцев, прибывающих в эти местности и поселяющихся в них для заработков и промышленных занятий»[683].
К числу важнейших задач Дурново-законодатель относил и защиту интересов православной церкви, русской школы, русского языка.
* * *
На протяжении всего времени пребывания в Государственном Совете П. Н. Дурново сопровождали слухи о его возвращении к активной политической деятельности. Так, в связи с его поездкой за границу писали, будто целью ее является реорганизация русской заграничной тайной полиции и расширение ее возможностей следить за деятельностью революционеров и преследовать их[684]. В апреле 1907 г. в связи со смертью председателя Государственного Совета Э. В. Фриша утверждали, что Николай II «хотел назначить П. Н. Дурново, но тот благоразумно отказался»[685]. В начале 1908 г., весной 1909 г. и в течение почти всего 1913 г. – разговоры о «скором» назначении председателем Совета министров[686]. В начале 1914 г. – слухи о замене им Н. А. Маклакова на посту министра внутренних дел[687].
Время от времени в группе возникали разногласия по тем или иным законодательным вопросам. Это было естественно. Однако с 1913 г. сторонние наблюдатели стали отмечать «некоторое падение авторитета лидера группы П. Н. Дурново, позиция которого <…> то и дело встречает сильнейшие возражения со стороны своих же членов группы»[688].
Еще в восьмую сессию (01.11.1912 – 04.07.1913) у П. Н. Дурново как лидера правой группы появились проблемы. К началу сессии группа значительно обновилась[689]. Среди новых членов оказались выдающиеся по уму и характеру (А. Д. Самарин, В. И. Гурко[690] и др.). Возникли разногласия «как по вопросам тактики, так и по некоторым вопросам принципиального характера», что, в свою очередь, обострило вопросы групповой дисциплины; заметным стало «некоторое падение» авторитета П. Н. Дурново, его позиция по многим вопросам все чаще стала встречать возражения. Однако на удаление несогласных и непокорных руководство группы не пошло, опасаясь ослабить группу численно. Несогласные с руководством сами покидали группу. Так, в октябре 1911 г. активный деятель Объединенного дворянства граф Д. А. Олсуфьев разошелся с группой по вопросу о волостном земстве и, разумеется, натолкнулся на полную невозможность отстаивать свою позицию, оставаясь в составе группы: сочлены отказались избрать его в особую комиссию. Олсуфьев вынужден был перейти в группу центра. В конце восьмой сессии из группы вышел В. И. Гурко, разойдясь с правыми по вопросам о волостном земстве и о расширении прав замужней женщины. Сам он так объяснил свое решение: «Всякому ясно, что нельзя оставаться в составе партии, когда из 4 случаев в трех с ней расходишься <…>. Однако само собою разумеется, что не частные разногласия вынудили меня выйти из группы, а основное разномыслие по вопросу об отношении Гос. сов[ета] к Гос. Думе. Дурново ведет систематическую войну с Гос. Думой и всемерно стремится сократить ее инициативу. Я с своей стороны вовсе не намерен подписываться под всеми решениями Г. Думы, но инициативу, ею столь редко проявляемую, наоборот, в принципе всемерно приветствую»[691].
В девятую сессию (01.11.1913–30.06.1914) у правых проблем прибавилось. Прежде всего, царь, комплектуя назначаемую часть Государственного Совета, все меньше принимал во внимание их нужды, и группе было трудно бороться с неприемлемыми для нее реформами, приходилось считать каждый голос. Так, 19 мая 1914 г. П. Н. Дурново уговорил С. Д. Шереметева задержаться с отъездом в Москву на день, так как предстояло голосование по волостному земству. Проект удалось отклонить перевесом в пять голосов. «Мило, – заметил С. Д. Шереметев. – Это доказ[ывает], как сильны сторонники увеличения смуты. Еще бы при выборе безличностей для членов по назначению»[692].
У Николая II были основания игнорировать просьбы и требования правых. Были интересы ведомств, с которыми он не мог не считаться. Определенную роль тут играло известное стремление царя не поддаваться давлению. Главное же было в другом. На первый план выступали внешнеполитические проблемы, а здесь расхождения правых с Николаем II усиливались, захватывая и вопросы внутренней политики. Так, 12 мая 1914 г. правые Государственного Совета, отклонив предложение Думы о допущении словесных объяснений в заседаниях городских дум на польском языке, провалили законопроект о введении Городового положения в царстве Польском. Царь же хотел, «чтобы язык этот был допущен с целью улучшить положение поляков, сравнительно с положением в Австрии, и тем привлечь их симпатии на сторону России»[693]. На всеподданнейшем докладе М. Г. Акимова Николай II положил 15 мая 1914 г.: «Весьма сожалею»[694], а рескриптом 5 июня повелел внести вторично проект в Думу. Правительство это сделало 9 июня. «Создалось положение, – резонно заметил К. А. Кривошеин, – во многом напоминавшее последствия отклонения проекта о земствах в Западном крае в марте 1911 г., только теперь давление моральное на правое большинство Государственного Совета пожелала оказать сама Верховная власть, уже по собственной инициативе»[695].
Вторая проблема правых была связана с болезнью М. Г. Акимова. Раздражение Николая II против правой группы сказалось: 15 июня 1914 г. и. о. председателя Государственного Совета был назначен И. Я. Голубев, а вице-председателем – С. С. Манухин. Либерально-монархическое крыло Государственного Совета приветствовало перемену[696]. Правых, естественно, встревожило. «Эта напоминает времена Столыпина и сильный поворот в сторону Поляков и левых»[697]. «Это катастрофа и грозящая многими бедами, – писал С. Д. Шереметев А. Г. Булыгину 17 июня. – Говоря современным языком, этот сдвиг в Государственном Совете приводит меня к самому горькому и зловещему сознанию. Больше писать не могу»[698].
9 августа 1914 г. М. Г. Акимов скончался. И. Я. Голубева утверждать в должности царь не захотел, опасаясь, по предположению А. А. Поливанова, его «конституционализма»[699]. Возник вопрос: кто?
В окружении С. Д. Шереметева обсуждали кандидатуры П. Н. Дурново, И. Г. Щегловитова. Информация А. Г. Булыгина, с ноября 1913 г. главноуправляющего с. е. и. в. канцелярией по учреждениям императрицы Марии и, следовательно, осведомленного более других, настораживала: «Более всего говорят о Коковцове и гр[афе] Алексее Бобринском, но, разумеется, никто ничего не знает». «Пока наиболее шансов имеет Коковцов, и мне кажется, что о Щегловитове нет даже и речи», – сообщает он через месяц[700]. Решение вопроса ожидалось к 1 января 1915 г. В ноябре С. Д. Шереметев в Петербурге услышал от Н. А. Маклакова, «что кто бы ни был, но будет правый», на что заметил: «Этого мало, что из правых, а чтоб был с головою способною»[701]. В начале декабря С. Д. Шереметев из разговора с П. Н. Дурново заключил: «словом он едва ли кого находит желательным, кроме себя, на что и был тонкий намек»[702].
Однако царь был недоступен, решал лично. 28 декабря 1914 г. И. Л. Горемыкин приехал к А. Г. Булыгину и объявил о назначении его председателем Государственного Совета. «Совершившийся факт без всякого предуведомления более чем меня поразил, – писал А. Г. Булыгин. – Пришлось целый вечер провозиться с Голубевым со списками членов на 1915 г. и так далее». Императрица-мать, возмущенная, что это сделано без ее ведома, поехала в Царское и «отстояла» себе Булыгина. «Кто теперь будет, – недоумевал А. Г. Булыгин, – не имею понятия»[703].
Назначение председателя Государственного Совета было отложено. Правые беспокоились, опасаясь «оскопления» Государственного Совета[704], «продолжительности Голубева, не безвредного». Б. В. Штюрмер пишет С. Д. Шереметеву. Последний – П. Н. Дурново и А. Г. Булыгину. «Но машина наша, – констатирует граф, – движется тупо»[705].
8 января 1915 г. С. Д. Шереметев на аудиенции в Царском жаловался, что соотношение сил в Государственном Совете изменяется в пользу «левых»[706], что «неопределенность выбора [председателя] волнует многих членов, особенно ввиду того, что группа правых уже лишилась некоторых своих членов <…> и что умаление членов усиливает другие группы и теряется равновесие». Царь успокоил: «Найдем, и правого!» Граф продолжал о нехватке в Государственном Совете «стойких в убеждениях, какие нам нужны», указывая на «перелеты» нестойких. Здесь царь вспомнил П. Н. Дурново «как стойкого и определенного, обладающего многими качествами», и графу «вдруг показалось, не остановился ли он на Дурново?»
В этот же день С. Д. Шереметев поспешил к П. Н. Дурново, который, оказалось, был в постели, так как «почувствовал ослабление, приняв сильную дозу лекарства, а главное ради волнений с назначением Булыгина, а еще более ради мероприятий Голубева, уже начавшем вводить перемены в духе, противоположном Акимову». Граф рассказал «о впечатлениях утренней беседы» с царем. П. Н. Дурново «слушал внимательно и казался доволен, отчетливо запрашивая, как все было»[707].
С. Д. Шереметеву казалось, что вопрос решен – председателем Государственного Совета будет П. Н. Дурново[708].
Однако царь с назначением тянул. Десятая сессия Государственного Совета прошла под председательством И. Я. Голубева. В начале июля 1915 г. И. Л. Горемыкин сделал попытку настоять на назначении А. Г. Булыгина, однако императрица Мария Федоровна не хотела отпускать его[709].
Бессилие правых в деле назначений в Государственный Совет очевидно. С. Д. Шереметев в дневнике и переписке фиксирует самые противоречивые слухи относительно назначения председателя Государственного Совета. Сам он не может (с 1909 года!) провести в Государственный Совет своего личного друга; при этом рассчитывает на помощь И. Л. Горемыкина, П. Н. Дурново, А. Г. Булыгина. П. Н. Дурново, желая занять пост председателя Государственного Совета, о намерениях царя расспрашивает С. Д. Шереметева. Недовольные И. Я. Голубевым, они никак не могут добиться его смещения. Это бессилие и весьма малая осведомленность правых относительно намерений царя отчетливо проявилась в их реакции на назначение 27 января 1915 г. министра внутренних дел Н. А. Маклакова членом Государственного Совета. «Одни говорят, что это признак его возвышения, а другие, что признак его падения, – писал С. Д. Шереметев. – И то и другое одинаково правдоподобно, и в этом-то наше горе»[710].
15 июля 1915 г. председателем Государственного Совета был назначен А. Н. Куломзин. «Обухом хватило меня назначение К[уломзина]», – признавался С. Д. Шереметев[711].
* * *
Война застала П. Н. Дурново в Виши. В последние тревожные дни перед ее началом, когда «русские задавали себе вопрос, продолжать ли лечение или возвратиться домой», П. Н. Дурново запросил телеграммой министра иностранных дел С. Д. Сазонова, как быть. Тот успокоил: «Можете спокойно продолжать лечение. Причин для беспокойства нет». С большим трудом, с помощью нашего посольства, через Булонь, Ньюкасл, Эдинбург, Норвегию (куда перебрались на маленькой шхуне, перевозившей в мирное время рыбий жир) добрались до Петербурга[712].
Во время войны, вспоминал В. Н. Коковцов, «около меня и П. Н. Дурново, проживавшего в одном доме со мной, образовался как бы центр осведомления о том, что происходило на войне. Мы черпали наши сведения непосредственно из Военного Министерства, куда имел прямой доступ по прежней своей службе А. А. Поливанов, живший недалеко от нас на Пантелеймоновской улице, и два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам то у меня, то у Дурново, то у Поливанова собиралось 7–10 человек, критически осведомлявшихся о том, что было слишком неясно из публикуемых данных»[713].
5 декабря 1914 г. С. Д. Шереметев посетил П. Н. Дурново и записал в дневнике: «Он о военных действиях выразился сдержанно, не находя их соответствующими желанию и надеждам. Он предвидит затяжную войну и сознает необходимость быть подготовленным к многочисленным крупным вопросам, имеющим возникнуть по исполнению векселей… по Польскому, по счетам с общегородской организацией и общеземской, что лица, стоящие в их главе, уже заняли позиции и потребуют на чаек за свой временный патриотизм. <…> Разговор был интересен и живой государственный ум Дурново вполне сказался, и я ушел от него успокоенный до некоторой степени, что не все же поверхностны, а есть и стойкие, возвышающие[ся] над положением, но “лично” не желал бы председателем [Государственного Совета] Д[урново], как более полезного во главе группы, а не там, где язык его связан был бы положением»[714].
Политика правительства настораживала правых с самого начала войны. «Правительство выдает слишком много векселей, расплата по которым будет тяжела». Вызывала подозрение деятельность А. В. Кривошеина, голос которого «возобладал» в Совете министров и который «давно не внушает доверия». Они предвидят «возможность такого поворота в нашей внутренней политике, которого злейший враг России не мог бы придумать». Осознается необходимость правым группам Государственного Совета и Думы «пересмотреть свою политическую программу и во многом видоизменить ее», чтобы «не быть застигнутым врасплох перед многосложными вопросами ближайшего будущего, перед уплатами по различным векселям и могущими быть неожиданностями, требующими заранее обдуманного сплоченного отпора»[715].
Внутренняя политика в условиях войны была, и в самом деле, гибельна. «Боязнь ответственности перед общественностью, – свидетельствует К. И. Глобачев, – сковала руки правящих сфер <…>. Этот страх перед пресловутой общественностью превалировал над неминуемой опасностью, грозящей гибелью всему государственному строю»[716].
Правые это хорошо понимали. Уступки либералам, нежелание опереться на правых возмущали. «Видеть обновление в смысле усиления наклонной плоскости, по которой идти не могу, видеть явное нежелание давать ход людям старого закала и сознательно участвовать в этой крапленой игре я не в силах», – возмущался С. Д. Шереметев[717]. «Наши внешние неудачи, однако, меня менее тревожат, чем происходящее в районе Невы, где правительственное отступление все не останавливается. <…> Вижу насилие и нахальство снизу, вижу растерянность и беспредельную слабость сверху»[718]. «Со времени нашего отступления с Дунайца и до последних дней мне не давали покоя вести с фронта, – вторил ему Н. А. Зверев. – Еще тягостнее и тревожнее стало на душе, когда собралась Г[осударственная] Дума и начала свою вакханалию под флагом спасения России от внешнего врага, при явном и благосклонном попустительстве преобразованного кабинета, вводившего в заблуждение Государя маниловскими перспективами единения страны и правительства»[719].
Активизация либеральной оппозиции настораживала правых. Досада правых усиливалась тем, что для них была очевидна справедливость либеральной критики. «К сожалению, ради ошибок Ц[арского] С[ела] они во многом правы, – признавался А. Г. Булыгин. – Я, по крайней мере, не нахожу доводов к возражениям по многим вопросам»[720]. Соглашаясь (кто вслух, кто про себя) с либералами, что правительство – дрянь, правые, за исключением немногих поддерживающих требование правительства общественного доверия, инкриминировали ему еще и то (а некоторые – прежде всего), что настояния общественности не получают должного противодействия.
Правые не собирались идти навстречу требованиям оппозиции прежде всего потому, что либералы, несмотря на поднятую ими шумиху, не производили впечатления силы. «Все, что говорилось, делалось тогда в Думе, – вспоминал художник (взгляд, можно сказать, со стороны), – было слабо, не было человека ни большой инициативы, ни большой воли. Не было человека, который бы авторитетно, сильно сказал бы: “Довольно болтать! За дело!” – и указал бы это дело»[721].
Не заблуждались правые относительно подлинных целей оппозиции. Не сомневались они и в том, что уступки либералам – движение по наклонной плоскости к катастрофе: уступки не усилят правительство, а ослабят. Поэтому в ответ на образование Прогрессивного блока была предпринята попытка Правого объединения. Его предшественником можно считать Осведомительное бюро (Бюро правых) 1907–1912 гг. из трех членов Думы и трех членов Государственного Совета под председательством князя А. А. Ширинского-Шихматова. 11 августа у П. Н. Дурново состоялось совещание представителей правой и правого центра Государственного Совета с представителями правых и националистов Думы. Совещание пришло к выводу, что только правительство из правых деятелей способно спасти страну; в качестве главы его рекомендовался И. Г. Щегловитов.
Любопытно, что в оппозиционных кругах допускали возможность военной победы при существующем правительстве: «Возможно-таки и при данном положении как-нибудь отстоять Россию от немцев без перемен, – считала З. Н. Гиппиус. – Допускаю такую надежду, но требую к ней честного отношения. Т. е. приняв ее – уже нельзя действовать одной рукой здесь, другой там, а надо обе руки положить на помощь данной России, данному правительству (В скобках: когда надежда осуществится, – если! – то будет честно и последовательно признать, что не очень-то России и далее нужны всякие “переломы”)»[722]. Итак, очевидно признание: во-первых, оппозиция поступает нечестно по отношению к существующему правительству, т. е. сознательно затрудняет его деятельность; во-вторых, оппозиция не может желать победы существующему правительству, ибо это означает отказаться от «перемен», т. е. власти.
Правое правительство, в отличие от существующего, ни в коем случае не позволило бы оппозиции действовать «одной рукой здесь, а другой там», особенно – «там»; это – как минимум; но, несомненно, оно было бы способным на большее: приостановить все реформы, прихлопнуть всякую оппозицию (уже при А. Ф. Трепове она присмирела!), сосредоточить все ресурсы страны на достижение военной победы[723].
Однако ни правительство, ни царь не среагировали на предложения правых. Более того, не поддержал идею правого кабинета Постоянный совет Объединенного дворянства: письмо А. П. Струкова к И. Л. Горемыкину от 23 августа советовало правительству лишь не уступать требованиям либеральной оппозиции, а С. А. Панчулидзев заявил корреспондентам: «Дворянство считает, что сейчас не время для коренных преобразований. И с этой точки зрения оно относится отрицательно не только к крайним проектам, выдвигаемым слева, но и к “черному блоку”. Достаточно указать, что 6 дворян пересели с правых скамей Государственного Совета, не желая быть в одном сане (одних санях? – А. Б.) с известными лидерами “черного блока”»[724].
Нет, не торжествовал П. Н. Дурново, не только мертвый, но и живой[725]. Воистину, нет пророка в своем отечестве!
В 1915 г. правая группа оказалась в состоянии глубокого кризиса. Военные неудачи, усилив либеральную оппозицию и породив движение за мобилизацию сил и выяснение внутренней политики, привели к новым уступкам царя: министры И. Г. Щегловитов, Н. А. Маклаков, В. А. Сухомлинов и В. К. Саблер были заменены А. А. Хвостовым, Н. Б. Щербатовым, А. А. Поливановым и А. Д. Самариным. Справедливость либеральной критики правительства сбила с толку часть правых: они не разглядели социальной слабости оппозиции, не понимали опасности уступок ее требованиям – произошло некоторое их «олибераливание» (словечко З. Н. Гиппиус), в «прогрессивный блок» «по явной аберрации ума вошли даже монархисты чистой воды»[726]. Начинается брожение и в правой группе. В начале XI сессии Государственного Совета А. А. Бобринский заявил о необходимости более сообразовываться с жизнью и предложил переизбрать бюро группы. Поначалу большинство группы было на стороне П. Н. Дурново, однако приход в группу уволенных министров, усиливая сторонников старой тактики, побудил критиков П. Н. Дурново заявить о выходе из группы. Часть их удалось отговорить, обещая перемены, однако 6 членов вышли из группы[727]. Это стало предметом бурного обсуждения в бюро группы. Констатировали, что «тактика руководителей не встречает одобрения и может повести к дальнейшему расколу». Последовал вывод: бюро, как не пользующееся доверием, должно уйти. Сначала А. А. Нарышкин, затем и другие члены бюро, а потом и П. Н. Дурново заявили об отставке.
Позиция членов правой группы, не согласных с линией П. Н. Дурново, была обусловлена осознанием того, что «продолжение избранного Государыней и навязанного ею Государю способа управления неизбежно вело к революции и к крушению существующего строя»; во-вторых, тем, что они полагали, «что без очищения верхов, без внушения общественности доверия к верховной власти и ее ставленникам спасти страну от гибели нельзя» (тут они заблуждались на обе стороны: и верхи не были способны «очиститься», и «общественность» никогда не удовлетворилась бы очищением верховной власти – хотела власти себе); в-третьих, пониманием, что замалчиванием положение уже не спасти: все получило широкую огласку и стало доступно для лиц, «ищущих повода скомпрометировать престиж царской власти»[728].
П. Н. Дурново «сохранил свой тонкий ум и работоспособность до смерти»[729]. В первом заседании XI сессии Государственного Совета 19 июля 1915 г., сразу после главы и членов правительства, слово взял он. Не считая «своевременным и соответствующим чрезвычайным обстоятельствам» переживаемого времени входить в обсуждение заявлений членов правительства, он напомнил о «тяжких испытаниях, выпавших на долю <…> дорогой армии», воздал полякам («честь и слава Польскому народу! Глубокое, сердечное русское спасибо Польской женщине!»), констатировал плохую, «как всегда», подготовку к войне «по всем отраслям военного и гражданского управления» и обратился к царю с призывом стать наконец властью: «корень зла <…> в том, что мы боимся приказывать. Боялись приказывать, и вместо того, чтобы распоряжаться, писались циркуляры, издавались бесчисленные законы, а власть, которая не любит слабых объятий, тем временем улетучивалась в поисках более крепких, которые и находила там, где ей совсем не место. Между тем мы были обязаны твердо помнить, что в России еще можно и должно приказывать и Русский Государь может повелеть все, что по Его Высшему разумению полезно и необходимо для Его народа, и никто, не только неграмотный, но и грамотный, не дерзнет Его ослушаться. Послушаются не только Царского повеления, но и повеления того, кого Царь на то уполномочит. <…> Без этого нельзя вести войны и всякую начавшуюся благоприятно войну можно превратить в непоправимое бедствие. Нужно бросить перья и чернила, молодых чиновников полезно послать на войну, молодых начальников учить приказывать и повиноваться и забыть страх перед разными фетишами, перед которыми мы так часто раскланиваемся. Когда пройдет несколько месяцев такого режима, то всякий встанет на свое место, будут забыты никому не нужные сейчас реформы, и мало по малу пойдут победы, которые приведут Россию к тому положению, когда уже будут возможны и реформы и всякие другие изменения»[730].
Можно ли было в той ситуации сказать более разумные слова?! Шла «борьба за существование России, да не в отвлечении, не в гаданиях разума, а конкретно, в несомнительной зримой реальности. <…> время, требующее всех русских сил»[731]. И только предельно централизованная сильная власть могла обеспечить военную победу[732]. К сожалению, ясно понимали это и были этим озабочены лишь в правой части политического спектра тогдашней России. Разумеется, П. Н. Дурново был не единственным[733].
Примечательна в этом отношении Записка националистов[734]. Начиналась она с констатации: «События внутренней политической жизни Империи идут вперед с чрезвычайной быстротой, причем развиваются уже вне зависимости от тех или иных отдельных военных обстоятельств, но в значительной степени под влиянием настроений, проявляющихся в Государственной Думе и общественных организациях и поддерживаемых оппозиционною печатью. Голоса оппозиции неустанно твердят, что Правительство все испортило в военном отношении и совершенно несостоятельно в гражданском. Этим путем, при наличии бывших военных неудач, из центра сеялась и сеется в умах как вообще населения, так и армии все более и более глубокая смута. На местах еврейская пресса и оппозиционные элементы действуют в том же направлении; так создается общественное мнение, требующее ответственного перед страной – т. е. перед Государственной Думой – Министерства. Еще в Думе первого созыва партией народной свободы был провозглашен принцип, согласно которому власть управления должна подчиниться власти законодательной, разумея под последней Государственную Думу. Ныне соответствующие думские партии во главе с Председателем Думы и вся оппозиция стараются провести это в жизнь. Для этого призываются и общественные управления столиц и торгово-промышленные организации, а ныне и так называемый “прогрессивный блок” членов законодательных палат. Удар, в сущности, направляется против ст. 10 Основных Государственных Законов, причем в качестве первого шага ставится требование сохранения деятельности Думы и образования Министерства, “пользующегося доверием страны”. <…> Как это ни горько, но в Думе совершенно не слышно уверенных и сильных заявлений Правительства. Члены Думы обвиняли Правительство в военных неудачах и во внутренних неурядицах, – оно иногда оправдывалось, признавало свою вину и не возражало против необходимости новой системы управления по указанию Думы. Об этом оповещается страна, и, конечно, при таких условиях руководящая роль в ней переходит к Думе»[735].
Насколько обоснована, – задается вопросом Записка, – такая позиция правительства по отношению к Думе: «Быть может страна стоит перед революцией и смута эта, ведущая только к господству кадетской партии, – все-таки лучше, чем анархия, в борьбе с которой Правительству необходимо иметь опору в лице думского большинства?»
И после анализа и оценки настроения составляющих российское общество классов и групп дается обоснованный ответ: «Для оценки возможности успешного выступления против Правительства тех или иных частей населения, с одной стороны, и возможности для правительственной власти их предупредить или подавить – с другой, – надлежит, казалось бы, иметь в виду, что даже при наличии действительных оснований (пока, по мнению автора Записки, их нет. – А. Б.) для неудовольствия против правительства, успешные активные выступления возможны лишь в тех случаях, когда власть инертна и не имеет точки опоры в стране».
Оппозиция стремится лишить правительство всякой опоры: ее агитация «сводится к насколько возможно большему расшатыванию достоинства власти и уважения к ней. Значение всякой ошибки или недосмотра, или непорядка усиливается, причем все отрицательные результаты ставятся в связь с необходимостью общей политической перемены. Основной мыслью этой агитации является то положение, что все спасение страны в гражданском отношении заключается в Государственной думе и что спасение и успехи армии находятся также в зависимости от Думы. <…> Достойно внимания, насколько смута продвинулась вперед и положение стало более трудным со времени созыва Государственной Думы. Народные массы, сами по себе устойчивые, могут в будущем пойти за оппозиционным течением, если оно не встретит твердого противодействия».
Власть же опасно инертна! «Величайшая опасность для правительства заключается не в нашествии неприятеля – так как при длительной войне наша обеспеченность личным составом и сырьем всякого рода должны привести к победе, – но в тех смутах внутри, которые уже назревают и могут, при благоприятных для них условиях, широко и глубоко развиться. Надлежит иметь в виду, что охранение в Империи порядка и силы власти необходимо для самой победы. <…> Ныне желательно было бы Правительство с особо твердым направлением»: работу Думы «ограничить рассмотрением внесенных в нее военных законопроектов и деятельностью отдельных ее членов во вновь организованных совещаниях по обороне»; печать поставить под постоянный надзор «сильной власти», способной пресечь все попытки дискредитировать власть «и вообще сеять смуту»; не разрешать «всякого рода съезды»; «твердой рукою» подавлять «всякие беспорядки аграрного, экономического или политического свойства»; принять «все зависящие меры к урегулированию экономических отношений населения, особенно бедных в случаях дороговизны»; «разрешение спорных вопросов внутреннего управления» и вопросов «внутреннего строительства» отложить до окончания войны и объявить об этом; оповестить население «о необходимости твердого и сильного Правительства, так как военные обстоятельства требуют дисциплины не только на фронте, но и внутри страны».
Такая власть, заключала Записка, «может сохранить в стране порядок, для победы и спокойного развития страны, без колебания исконных начал власти Государей наших»[736].
Глубже других понимал проблему Л. А. Тихомиров: «Наши союзы с поддержкой целой массы городов и заводов стремятся произвести фактический государственный переворот, задавить Царя, созвать Думу и составить правительство, не им назначенное <…>. Только страшно сильное правительство могло направлять к подобию единства эту разношерстную нацию. П. Н. Дурново прав, что теперь нужно уметь приказать <…>. Теперь бы нужен был диктатор, который бы заставил работать, <…> и показал бы стране, что власть не за немцев, не изменники. Вся масса народа стала бы за него горой». Ему ситуация представлялась безысходной: «Но нет человека! <…> [Дурново] упускает из виду, что уже нет никого, кто мог бы приказать. Это было и сплыло. <…> Сама по себе Россия не представляет сколько-нибудь достаточных умственных сил. Все средне ординарны, ни единого исключения ни в правительстве, ни в “парламентском” мире, ни в общественных кругах, ни, увы, даже в армии». И хуже всех – царь: «Я бы на его месте – объявил им (оппозиции. – А. Б.), что с такими подданными жить не могу, отказываюсь от престола и назначаю регентом Николая Николаевича, и оповестил бы это манифестом. По-моему, это единственный достойный исход, раз уж невозможно для него (и для него это невозможно) отправить их в тюрьму». Оставалась одна надежда: «России нужна Божья помощь, и если бы Господь пожелал ее дать, – то послал бы России власть»[737].
Сам П. Н. Дурново в этом отношении был «большой пессимист» и еще летом 1907 г. находил, что, «действительно, людей что-то не видать». «Ни среди чиновного люда, ни среди земских деятелей, – признавался он, – я людей с государственным умом почти не встречал. <…> исполнителей можно найти, но лиц, способных вести толково самостоятельную отрасль государственного хозяйства, или управлять твердо, умело, обширною областью, – таких лиц слишком мало. Среди земцев их, кажется, еще меньше. Самые выдающиеся из них часто отличаются крайним доктринерством, увлекаются фразой и проявляют мало деловитости»[738].
Человека не было, Бог не спешил, и приходилось вспоминать. «Двенадцатый час ночи в Могилеве под Новый, 1916 год. <…> У всех была безусловная твердая вера в успех на фронте. Но все боялись за тыл. Сплетни, развал в тылу пугали каждого вдумчивого человека. “Нет настоящего министра внутренних дел, – сказал Х. – Нет энергичного премьер-министра. Нет человека, в которого бы верили, за которым бы шли. Вот когда приходится лишний раз вспомнить Петра Николаевича Дурново, вспомнить Столыпина. Они бы зажали тыл. Они бы навели порядок”. С этим нельзя было не согласиться»[739].
Никто из выступавших членов Государственного Совета не поддержал призыв П. Н. Дурново к власти[740]. Выразили «радость» от сказанного министрами и удовлетворение тем, что «больной, долго волновавший все русское общество, вопрос о нормальных отношениях России и Польши наконец близится к желательному разрешению»; приветствовали «обновление Правительства», его вступление на «путь общей работы с объединенными силами земств и городов»; напомнили «долг власти» – «действовать рука об руку» с народным представительством, «прислушиваться в его лице к голосу земли»; потребовали расширения «рамок общественной самодеятельности», устранения «препятствий к свободному широкому приложению труда всех живых сил нации»[741].
В обществе тоже не было отклика. Были слухи о том, что перед выступлением П. Н. Дурново совещался с некоторыми авторитетными членами группы, поэтому речь его была воспринята как выражение настроения всей правой группы; его предупреждение об опасном смещении власти туда, где ей быть не подобает, произвело большое впечатление; обратили внимание на совпадение речи с заявлениями прогрессистов и кадетов в Думе о желательности коалиционного кабинета; его указание на несвоевременность и пагубность реформ во время войны свели к выпаду против министра народного просвещения П. Н. Игнатьева, и много об этом говорили; даже лидер думских правых А. Н. Хвостов, правда, «не от фракции, а от себя» ответил П. Н. Дурново, явно не понимая ни смысла его речи, ни значения сильной власти: «Он провозгласил формулу управления, сказав, что надо уметь только приказывать в настоящее время, а я отвечу ему, в настоящее время сначала надо, чтобы власть сумела справиться с оскорбительным для нас всех немецким засильем внутри страны, чтобы она в области дороговизны жизни поставила бы, наконец, интересы населения выше интересов банковских кругов, чтобы в сознании народном власть перестала быть виноватой, и только тогда она может приказывать»[742].
В правой группе Государственного Совета речь П. Н. Дурново вызвала волнение: некоторые находили ее бестактной, указывали на необходимость примирения с общественностью – возникла опасность раскола; его удалось предотвратить заменой П. Н. Дурново А. А. Бобринским, однако это вызвало протест крайне правых во главе с А. Н. Лобановым-Ростовским, что повело к новому компромиссу: товарищ председателя группы П. П. Кобылинский был заменен И. Г. Щегловитовым.
Либералы, естественно ничего не поняли (или не хотели понимать). «Его последняя речь в Государственном Совете, – утверждал К. К. Арсеньев, – показала с полной ясностью всю ограниченность, всю безнадежную бесплодность его политических воззрений. Вера в магическую силу приказаний освобождала его от критической поверки влагаемого в них смысла и преследуемой ими целей. Требуя от других только исполнения, он сам не возвышался над уровнем исполнителя. Результаты его деятельности могли быть только отрицательными. Руководимые им правые никогда не могли бы обратиться из реакционеров в консерваторы. И едва ли он оставил наследника, способного продолжить его дело. Между лидерами правых в Государственной Думе нет ни одного, кто имел бы в своем активе хотя бы долгий административный опыт. Плохим Ахиллом был П. Н. Дурново, но его подражатели плохи даже в роли ахилловых мирмидонян»[743].
Как объяснить такую реакцию на единственно верный в той обстановке призыв? По-видимому, только той иррациональной «иллюзией государственной несокрушимости России», без учета которой, считал П. Б. Струве, нельзя понять нашу революцию. «Эта иллюзия, – полагал он, – была не только мыслью, это была целая духовная атмосфера, целое душевное состояние». А отсюда уже, в значительной мере как следствие, «бессилие государственного сопротивления»[744].
Слева, естественно, речь П. Н. Дурново была встречена в штыки, ее извратили, сведя к проповеди палки как единственного средства управления, осмеяли и тем обезопасили себя. Эта интерпретация и оценка последней речи П. Н. Дурново закрепилась затем в советской историографии.
«В 10 часов вечера [27.02.1917 г.], – вспоминал П. Г. Курлов, – раздался новый звонок по телефону. Я <…> услышал взволнованный голос государственного секретаря <…>. “Да возьмите же, Павел Григорьевич, наконец власть в свои руки! Разве вы не видите, что творится и куда мы идем?” – сказал мне С. Е. Крыжановский. Я отвечал, что никакого поста в настоящее время я не занимаю, а власть находится в руках министра внутренних дел, и к тому же я хвораю»[745]. Это был, по-видимому, последний призыв к власти стать властью.
Вот так: одни утратили способность властвовать, другие – от рождения ее не имели[746].
П. Н. Дурново: политический облик
Современники различно характеризовали политический облик П. Н. Дурново. С. Ю. Витте, например, делал акцент на гуманизме Дурново-директора департамента полиции и либерализме Дурново-сенатора, тем самым, быть может, оправдывая свой выбор в октябре 1905 г. А. И. Иванчин-Писарев это вроде бы подтверждает: П. Н. Дурново широко практиковал административную ссылку и объяснял это тем, что «для политических дел суды хуже», ибо «расправлялись бы строже», лишая талантливых людей возможности состояться профессионально. В. Б. Лопухин называл его «завзятым реакционером». А. В. Герасимов утверждал, что представление о Дурново как об очень реакционном человеке не соответствовало действительности, «во всяком случае в октябре 1905 года он пришел к власти с настроениями, ни в чем существенно не отличавшимися от настроений <…> творцов манифеста 17 октября». По Б. А. Васильчикову, П. Н. Дурново «представлял из себя очень определенный облик политического деятеля крайне правых убеждений». И. И. Толстой писал, что «пресловутый либерализм Дурново оказался, конечно, весьма легковесного качества» и что причина не в Дурново, а в мерке: то, что казалось либеральным при Плеве, «превратилось в консерватизм, граничащий с обскурантизмом и ретроградством» после манифеста 17 октября[747]. И только советские историки никогда не сомневались в его ультрареакционности, характеризуя его «мракобесом», «идеологом теснейших связей с монархиями Габсбургов и Гогенцоллернов во имя спасения династии», отличившимся «жестокостью подавления революционного движения»[748].
Бесспорно, П. Н. Дурново был консерватор, но не в славянофильском смысле[749]. Тем более нет никаких оснований считать его обскурантом и ретроградом. «Думаю, – говорил он в общем собрании Государственного Совета, – что, идя вперед по пути прогресса, нельзя идти так быстро и разбрасывать по пути все старое. <…> Я вообще придерживаюсь того мнения, что бежать вперед с завязанными глазами не смотря ни на право, ни на лево, а лишь бы удовлетворить теоретическим соображениям, и бросать по пути все, чем только жило, чем существовало государство, <…> это не разумно. <…> Чем глубже залегли в народное сознание консервативные начала, определяющие нормы и основы народной жизни, тем осторожнее следует прикасаться к этим консервативным началам, дабы с одной стороны не оскорбить тех людей, которые продолжают исповедовать эти консервативные начала, а с другой – избежать даже тени приглашения или подстрекательства к легкомысленному стремлению сбросить с себя все старое и как можно скорее бежать вперед без оглядки, забыв по дороге все, что было, и не зная, что будет дальше»[750].
«Для Дурново, – утверждал Е. В. Тарле, – центром всех интересов было сохранение монархии в России»[751]. Думается, что это не так. П. Н. Дурново не был пленником и монархической идеи. Монархизм зрелого Дурново имел своей основой не чувство, а хорошо продуманную и исторически, и политически обоснованную мысль.
В понимании и оценке обстоятельств внутренней и внешней жизни России П. Н. Дурново исходил из того капитального факта, что на земле идет борьба народов за существование. В этих условиях он считал своей обязанностью «всеми средствами» защищать монархию, «которая создала Россию и олицетворяет собою ее силу и могущество». Вот почему, надо полагать, на секретном совещании в апреле 1906 г. по пересмотру Основных законов он предложил закрепить за императором право изменять Основные законы «без всякого участия Думы и Совета» и поддержал С. Ю. Витте, предложившего предусмотреть законную возможность совершить государственный переворот[752].
Весной 1909 г., выступая против попыток Думы вторгнуться в область военного управления, П. Н. Дурново был движим не столько стремлением защитить прерогативы монарха, сколько опасением, что эти попытки, «как бы малозначительны они ни были, создают опасные для руководства обороною государства прецеденты, <…> тихо и медленно, но зато безошибочно расшатывают те устои, на которых у нас в России покоится военное могущество государства»[753].
Как и многие его современники, в том числе и из либерального лагеря, он видел в монархии единственное средство обеспечить целостность империи. «Меня, – говорил он, – все считают за заядлого монархиста, реакционного защитника самодержавия, неисправимого “мракобеса” <…> и не предполагают, что я, может быть, по своим взглядам являюсь самым убежденным республиканцем, ибо я на самом деле считаю наиболее идеальным для всякого народа такое положение вещей, когда население может иметь во главе управления им же самим избранного достойнейшего гражданина президентом. Для некоторых стран подобный идеал по тем или иным счастливым условиям становится доступен. Этого ни в коем случае нельзя сказать про нашу обширнейшую и разнохарактерную Российскую империю, где по чисто практическим соображениям техника управления и целостность требуют наличия исторически сложившегося царского стяга. Не станет его – распадется Россия. Таков неминуемый закон природы Российской государственности»[754].
Не менее важной представлялась П. Н. Дурново и социальная сторона вопроса. Монархия и чиновники, ею поставленные, по его мнению, ближе и понятнее народу, нежели помещики и фабриканты, заседающие в Думе в качестве октябристов и кадетов. Не без оснований отказывался он видеть в Государственной Думе выразителя и защитника народных интересов: «Необходим искусственный выборный закон, мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Государственную Думу даже наиболее горячих защитников прав народных». Монархия в России, по его представлению, выполняет роль «беспристрастного регулятора социальных отношений» и тем, единственная, способна предотвратить или «усмирить» социальную революцию[755].
Д. Ливен видит «еще одно циничное объяснение» приверженности к самодержавию многих сановников, в том числе и П. Н. Дурново, – в возможности «при абсолютной монархии добрых услуг одного высшего чиновника другому» и в использовании «государственной казны, в основном с императорского согласия (т. е. законно. – А. Б.), для спасения коллеги от финансовых затруднений»[756]. Такое действительно бывало. Следует заметить, однако, что так случается и при других формах государственного строя и определяется не характером последнего, а самим положением правящего слоя общества как трудно контролируемой и, по сути, безответственной группы. Заметим также, что материальная (почему «циничная»?) основа приверженности монархии того достаточно узкого круга, к которому принадлежал П. Н. Дурново, не исчерпывалась только возможностью добрых услуг друг другу за счет казны (что, впрочем, и бывало-то весьма редко, в виде исключения). Сюда следует отнести высокие оклады, персонально назначаемые лично царем; аренду; широкую практику пособий «на переезд и обзаведение», «лечение», «погребение» и т. п.; высокие пенсии вдовам и незамужним дочерям умерших сановников и многое другое[757]. Однако и это не составляет особенности монархического строя: при любой форме государственного строя складывается высший слой чиновничества, который «хорошо устраивается» и уже в силу этого оказывается ее приверженцем.
Еще более прагматичен П. Н. Дурново был в вопросе о форме монархии. До декабря 1905 г. главным, что определяло его позицию в этом вопросе, была убежденность в том, что не может быть самодержавия без самодержца[758], и П. Н. Дурново был готов служить конституции[759]. Однако он счел конституцию преждевременной, как только осознал узость социальной базы российской оппозиции, ее бессилие и неспособность оградить страну от социальных потрясений. Следует, пожалуй, отнести П. Н. Дурново к тем немногим, которые, по наблюдениям В. А. Маклакова, «признавали, что торжество либеральных идей и конституционных начал было гораздо больше связано с сохранением монархии, чем с победой Революции»[760].
Сложившийся в результате революции 1905–1906 гг. т. н. «новый строй» (царь утратил право автономно издавать законы и распоряжаться бюджетом, но сохранил всю полноту исполнительной власти), так не устраивавший ни монарха, ни оппозицию, вполне, по-видимому, примирил П. Н. Дурново. Вся его деятельность в Государственном Совете прошла под знаком борьбы с действительными и мнимыми попытками расширить компетенцию и полномочия Думы. В то же время, как и многие из правых, П. Н. Дурново не поддержал царя в стремлении если не вернуться к дореволюционному порядку вещей, то хотя бы сделать Думу законосовещательной. И причина тут не столько в страхе перед революцией, сколько в новых возможностях, которые постепенно осознавались и осваивались.
Так, если позицию П. Н. Дурново в вопросе о царском титуле при обсуждении проекта Основных законов в Особом совещании 9 апреля 1906 г. («Слово “неограниченный”, – заявил он, – нельзя оставлять, ибо это не будет соответствовать актам 17 октября и 20 февраля. Это породит смуту в умах образованных людей, а она породит смуту всенародную») еще можно, оставаясь в рамках текста протоколов царскосельских совещаний, объяснить стремлением «удовлетворить благомыслящих»[761], то в его выступлении в Государственном Совете 27 января 1912 г. явственно слышно удовлетворение новыми возможностями: «Министр финансов у нас в России всегда имел гораздо большее значение, чем следует. <…> Теперь же времена уже наступили другие, и роль министра финансов представляется уже несколько иною. От Государственной Думы и Государственного Совета зависит в конце концов ассигнование»[762].
М. М. Ковалевский утверждал, что П. Н. Дурново будто бы говорил «всегда с точки зрения государственной целости, и единства, и всемогущества администрации», и что «в его глазах люди существуют для правительства, а не правительство для людей»[763].
Разумеется, индивидуальная свобода – благо: она позволяет индивиду полнее реализовать свой потенциал, она и материально много продуктивнее. Однако нет оснований предполагать, что П. Н. Дурново, хорошо знакомый с западноевропейской жизнью, этого не понимал. М. М. Ковалевский был в этом отношении типичный либерал. «Либералы, – еще в 1890 г. с грустью констатировал В. И. Вернадский, – принимая права человека, не придают значения признанию государственного значения и целей России, забывая, что это conditio sine qua non[764] достижения ими прав человека». К 1920 г. жизнь еще более утвердила его в этом: «Никогда в истории не было примера, чтобы мозг страны – интеллигенция не понимала, подобно русской, всего блага, всей огромной важности государственности. Не ценя государственности, интеллигенция <…> не знала и не ценила чувства свободы личности»[765]. П. Н. Дурново же был, по определению М. О. Меньшикова, «государственник чистой воды» с развитым чувством государственности[766].
Индивидуальная свобода невозможна там, где нет гарантии внешней и внутренней безопасности. Западная концепция индивидуальной свободы и сильно ограниченного правительства предполагает очень сильное государство; настолько сильное, что это не замечается и как бы само собою разумеется. Для России обеспечение внешней безопасности из-за ее геополитического положения и внутренней из-за разноплеменного населения, находящегося к тому же на различных ступенях общественного развития, всегда было задачей более сложной и более трудной, чем у любого западноевропейского народа. Поэтому в русской истории так значительна роль государства.
Узкие рамки индивидуальной свободы в России начала XX в. были обусловлены слабостью государства: оно плохо выполняло свои функции, не гарантируя ни прав личности, ни ее ответственности. В России, следовательно, путь к индивидуальной свободе европейского уровня лежал, как и на Западе, через дальнейшее усиление государства. «Рядом со страстью свободы, – справедливо заметил П. Б. Струве, – нужна и другая страсть – государственности и государственной мощи»[767]. П. Н. Дурново, вопреки утверждению М. М. Ковалевского, говорил всегда с точки зрения силы государства, его способности обеспечить внешнюю безопасность и элементарный порядок внутри – два первейших условия нормальной жизни народа. И если М. М. Ковалевский в этом случае не лукавил, то как государственный деятель он не выдерживает сравнения с П. Н. Дурново.
Не всегда понимали П. Н. Дурново и в правом лагере, упрекая в том, что он «не имеет цели действия, кроме разве порядка и чисто внешнего поддержания государства», что политика его была заземленной, «практически-жизненной»[768]. Трудно разделить эти упреки. Можно подумать, что оппоненты П. Н. Дурново не понимали, что порядок внутри страны и ее внешняя безопасность – это тот минимум, с которым и появляется возможность ставить и преследовать какие-либо цели, и не осознавали, что в начале XX века государство оказывалось неспособным этот минимум обеспечить. Принимая во внимание внутриполитическую ситуацию и международное положение империи, следует признать, что П. Н. Дурново был куда более реалист, нежели его критики.
С революционными идеями П. Н. Дурново познакомился в свои кадетские годы, однако идеалы французской революции не увлекли его. Констатируя это как факт, Д. Н. Любимов объясняет просто: П. Н. Дурново принадлежал к числу людей совершенно не восприимчивых к этим идеалам, «как есть люди совершенно не восприимчивые к музыке»[769]. Представляется, что иммунитетом к революционным идеям он обязан своей бабушке Вере Петровне, которая с помощью Н. М. Карамзина воспитала его патриотом, – он гордился своими предками, любил Отечество и хотел способствовать его благу и славе[770]. Патриотично настроенный юноша не мог разделить «слепую ненависть» Герцена к России[771].
Заняв пост управляющего Министерством внутренних дел, он не сомневался: революция должна быть раздавлена. Здесь о компромиссе не могло быть и речи. «К стенке и расстрелять» было, по свидетельству И. И. Толстого, его «любимым выражением по отношению ко всем революционерам»[772]. П. Н. Дурново и в этом оказался прозорливее многих, понимая в 1905 г. то, что другие (далеко не все!) уразумели лишь в эмиграции. Так, к примеру, П. Б. Струве в 1934 г. в одной из эмигрантских аудиторий заявил со всей присущей ему убежденностью, что революционеров следовало «беспощадно уничтожать»[773].
П. Н. Дурново не смутила огромная цифра арестованных в административном порядке (к началу 1906 – более 38 000). Он «заметил, – вспоминал Д. Н. Любимов, – что при подавлении восстания Коммуны в 1871 году, в Париже, восстания во многом напоминающем Московское, генералом Галлифэ было расстреляно свыше 40 000 человек. Что же касается числа арестованных, то цифра их показывает только, что у нас революция не настоящая, а, так сказать, репетиция революции, и если, не дай Бог, разразится, когда-нибудь, настоящая революция, да еще возьмет верх над законною властью, то цифра эта будет в десять, а может быть, и в двадцать раз, больше»[774].
Свой успех в борьбе с революцией П. Н. Дурново объяснял так: «Все власть имущие хотели ее ударить, но не решались; все они, с графом Сергеем Юльевичем Витте во главе, опасаются пуще всего общественного мнения, прессы; боятся – вдруг лишат их облика просвещенных государственных деятелей, а мне же, – тут Дурново выразился крайне энергично, – да, в сущности, мне и терять нечего у прессы; вот я эту фигуру революции и ударил прямо в рожу и другим приказал: бей на мою голову. При теперешнем положении иных способов нет, да и вообще, особенно у нас в России, это один из наиболее верных»[775].
С П. Н. Дурново, по словам Д. Н. Любимова, «повторилось то, что в истории римских пап рассказывается о Сиксте V»[776].
Постиг революцию П. Н. Дурново не сразу. Резкое ее усиление после обнародования манифеста 17 октября приводит его к выводу, что «политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое»[777].
При этом он исходил из следующего. Народная масса, с ее общинной психологией, придавленная острой хронической нуждой, политически крайне неразвита и исповедует – другого ей просто не дано – «принципы бессознательного социализма». «Русский простолюдин, крестьянин и рабочий, – писал он, – одинаково не ищет политических прав, ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землей, рабочий – о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше этого их вожделения не идут». Это и создавало «благоприятную почву» социальной революции, которую он воспринимал однозначно как «беспросветную анархию» и в которой видел «смертельную опасность для России»[778]. В этой ситуации, с точки зрения П. Н. Дурново, любые политические уступки бессмысленны, компромисс невозможен, а удовлетворение требований – немыслимо. Он и предусматривает на случай социальной революции одно – «усмирение»[779].
Оппозиция же «никакой реальной силы не представляет», за нею «нет никого, у нее нет поддержки в народе»[780]. Она, по словам П. Н. Дурново, «сплошь интеллигентна, и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия»[781]. Уступать ей – не имеет смысла: она не сможет «сдержать расходившиеся народные волны». Соглашение с ней – опасно: правительство «ослабит себя к моменту выступления социалистических элементов», ибо откажется «от роли беспристрастного регулятора социальных отношений» и выступит «перед широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентно-имущего меньшинства населения». Ее претензия на исполнительную власть абсурдна: обязанная своим положением в Думе «искусственному выборному закону» и «прямому воздействию правительственной власти» на выборах, оппозиция, – не без сарказма замечал П. Н. Дурново, – «в сущности, требует от правительства психологию дикаря, собственными руками мастерящего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося»[782]. П. Н. Дурново был убежден, что следует решительно пресекать всякие оппозиционные выступления. И как общий вывод из опыта 1905–1906 гг.: правительство может выполнить «роль беспристрастного регулятора социальных отношений» только опираясь на силу.
П. Н. Дурново был слишком умен и осведомлен, чтобы не понимать необходимости реформ. Но реформ, подчеркивал он, а не уступок. Первые – это улучшение существующего порядка вещей, их осуществляет сильная власть в условиях социальной и политической стабильности. Вторые – разрушение, демонтаж того, что есть, осуществляемый слабым и перепуганным правительством под напором различного рода противоправительственных сил. «Я вообще сторонник постепенных улучшений, – говорил он, – а быстрые и мало обоснованные скачки в государственной жизни, по моему убеждению, приносят всегда больше вреда, нежели пользы»[783].
Реформы, полагал П. Н. Дурново, должны идти в русле традиций национальной жизни и национальной государственности. Реформатору следует действовать осторожно, четко представляя результаты намеченной реформы, ему надлежит быть творцом, а не имитатором. «К изданию законов социального значения, – говорил он, – нельзя приступать с легким сердцем; дело это требует чрезвычайной осторожности, обдуманной оценки вероятных ближайших и отдаленных последствий. Примеры Западной Европы едва ли имеют для нас большое значение – хождение постоянно на поводке европейской практики может доказывать лишь недостаток творчества»[784].
Фабрично-заводские рабочие, по мнению П. Н. Дурново, «требуют особого о них попечения главным образом потому, во-первых, что их скопляется часто несколько тысяч в одном месте, и во-вторых, что хозяин и его главные приказчики не имеют физической возможности входить в подробности их жизни и обстановки, а участь рабочих поневоле вверяется низшим приказчикам – отсюда возможность всяких злоупотреблений».
Однако и здесь, в рабочем вопросе, недопустимо, по его мнению, руководствоваться боязливым желанием удовлетворить массы. «К чему мы пришли с новым рабочим законодательством? – возмущался он в общем собрании Государственного Совета 19 мая 1914 г. – Когда Министерство Торговли и Промышленности, плохо обдумав последствия этого законопроекта, начало победоносно насаждать в России больничные кассы, то один из бывших Членов Государственного Совета от промышленности говорил мне, что эти кассы непременно превратятся в стачечные комитеты. Предсказание это сбылось, и на наших глазах стачки происходят по команде неизвестных людей и по всяким неосновательным поводам, большею частью политического свойства, принося громадные убытки нашей промышленности и вредное для нашей обороны промедление в сооружении кораблей, орудий, снарядов и других военных приспособлений. Все эти безобразия происходят от торопливости, от желания непременно и неизвестно для чего не отстать или даже перегнать в социальных нововведениях Германию или чуть не всю Европу. Мы, хватая по нашему обыкновению все через край, дошли до того, что за счет людей, оставленных без всякой санитарной помощи, лечим чуть ли не от насморка 2 000 000 рабочих». Законы эти «задуманы тою же сентиментальною малогосударственною мыслью, а разработаны с тем же легким сердцем».
«На наших глазах, – предупреждал он, – с угрожающей постепенностью мало-помалу требования неимущего класса, подзадориваемого разными теоретическими учениями до социал-демократического включительно, возрастают, и чем они кончатся – это никому неизвестно».
Признавая особенности положения рабочих и их особые интересы, он вместе с тем считал, что невозможно заимствовать западноевропейское рабочее законодательство, в частности страхование: Россия в экономическом и во всех других отношениях отстает от Германии и остальной Европы лет на пятьдесят, капитализм в России не настолько развит, чтобы взвалить на себя такую ношу – отсталые условия и отношения нашей жизни не позволяют резких перемен. Поэтому значительной части населения России придется на некоторое время смириться с намного худшими жизненными условиями, чем у населения развитых стран Европы.
Хорошие отношения между рабочими и предпринимателями, по мнению П. Н. Дурново, «в высшей степени желательны», и государство должно твердо и строго регулировать их, «справедливо охраняя интересы всех и каждого», как рабочих, так и владельцев предприятий[785].
Что касается политических реформ, различного рода учреждений и прав, то «убежденный материалист Дурново всегда подчеркивал, что бессмысленно создавать институты до того, как социально-экономические условия созреют для них»[786].
Как далеко был готов идти П. Н. Дурново по пути реформ? И. И. Толстой, бывший в кабинете С. Ю. Витте министром народного просвещения, писал позднее: «До Булыгинской совещательной Думы, до осторожной реформы местного самоуправления и крестьянского управления Дурново находил возможным идти; может быть, он согласился бы с уничтожением должности земских начальников, но дальнейшие шаги, а тем паче действительное исполнение обещаний манифеста 17-го октября он искренне считал опасной авантюрою, могущею привести только к общей катаклизме»[787].
П. Н. Дурново не был принципиальным противником реформ, а находил многие из них несвоевременными: в одном случае – за отсутствием социально-экономических предпосылок, в другом – из-за угрожающего международного положения, и, наконец, война – вообще не время для реформ.
И так считали многие. «Не случайно сложился исторический строй России, – писал Д. И. Пихно, – но почти случайно он разрушился, и притом в то время разрушается этот инструмент силы, когда на Востоке выросла темная и грозная туча. Конституционалист Чичерин, во всяком случае, очень умный либерал-аристократ в духе старого европейского либерализма, сказал, что Россия не могла думать о свободных государственных формах, пока на нее налегали враги с востока и запада, а мы вводим конституцию, когда налегли японцы и просыпаются китайцы»[788].
Что касается речей «некоторых думских ораторов о необходимости» в условиях войны «проводить реформы местного управления и всякие другие реформы нашей внутренней жизни», то они, с точки зрения академика М. М. Богословского, были «похожи на разговоры и соображения о перестройках и переделках в горящем доме, когда прежде всего надо заняться тушением пожара»[789].
Как современники, так и исследователи отмечали у П. Н. Дурново развитое национальное чувство, характеризуя его «националистом и искренним патриотом», «пламенным русским патриотом». Тем не менее националистом, членом Всероссийского национального союза он не был и политики его не разделял. Архиепископ Евлогий в тревоге за судьбу холмского законопроекта посетил некоторых членов Государственного Совета. «Дурново обещал мне поддержку, – вспоминал он, – однако горячего сочувствия я у него не встретил. “Я не могу назвать себя вашим сторонником, – сказал он, – но вижу, что законопроект в такой стадии, когда его назад уже не повернуть”»[790].
Как государственный деятель, П. Н. Дурново менее всего руководствовался чувствами, в том числе и национальным. И не только потому, что – как считает Д. Ливен – ему, как «любому российскому лидеру, приходилось сталкиваться с большими трудностями при использовании национализма» – многонациональным составом империи и ее слабостью на международной арене[791]. «Я думаю, – говорил П. Н. Дурново, – что чувствами <…> нельзя управлять государством. Управлять государством <…> есть дело суровое, – сама справедливость уступает перед требованием государственных, высших интересов»[792].
Представление о ведущей роли государства в русской истории, примат государственных интересов над всеми другими – вещи для России начала XX века совсем не новые, и П. Н. Дурново, думая и действуя в этом русле, не был исключением. Может быть, в силу личного служебного опыта, он это исповедовал более других. Реалист во всем, он и в области национальной политики руководствовался «государственными, высшими интересами».
Стержнем, становым хребтом российского государства был русский народ. Поэтому укрепление государства, рост его силы и могущества могли идти только по пути преимущественного развития собственно России, приоритета русской национальности, русской школы, русского языка и т. д. Все противоположное – какие-либо преимущества окраин, послабления в том или ином отношении тому или иному народу – поощряя сепаратизм, ослабляет государство. Вот почему, не будучи шовинистом, П. Н. Дурново говорил в марте 1908 г. при обсуждении в Государственном совете вопроса о введении преподавания польского и литовского языков в некоторых учительских семинариях: «Я думаю, что национальная политика не станет плакать, если польским мальчикам трудно будет учиться арифметике по-русски, национальную политику не смутят космополитические теории о нарушении якобы разных свобод тем, что мы запрем наглухо двери русской школы от вторжения в нее инородческих языков. Содержание и смысл национальной политики есть движение настойчивое и осторожное к строго определенной, обдуманной и намеченной заранее цели, по наиболее прямому пути. При движении этом препятствия, лежащие на пути, сбрасываются, и нет места сентиментальным сожалениям, что кому-нибудь будет больно и немножко неудобно. Отклоняться от этого пути можно только ради требований осторожности, но и требованиям осторожности есть пределы и границы, которые заключаются в том, что нужно всегда помнить, что чем дальше уклоняться от прямого пути, тем хуже, чем скорее возвращаться на прямой путь, тем лучше. Такая политика требует твердости и быть может суровости, но нельзя быть твердым, желая всем угодить и кланяясь на четыре стороны: полякам, литовцам, немцам и т. д. Я думаю, если по высшим требованиям государственной политики Холмский край должен быть русским, то и дети, живущие там, должны учиться арифметике по-русски, а тем лицам, которые боятся, что они плохо выучатся арифметике, я скажу, что в этом большой беды нет. Это первые мальчики, которые плохо выучатся арифметике, последующее поколение выучится хорошо. Дело наше не есть дело на сегодня и на завтра. Мы должны смотреть вперед и обеспечить в будущем хотя бы то, что лица, которые нас здесь заменят, не будут тратить времени на разрешение вопроса, можно ли и следует ли в русской земле учить детей арифметике на русском языке»[793].
К этому вопросу он вернулся при обсуждении в Государственном совете в апреле 1912 г. законопроекта «О начальном образовании»: соображения, «будут ли инородцы нас благодарить или не будут, для меня значения не имеют, равно как и то, что инородцы за это будут к нам относиться неблагожелательно. Мы взяли инородцев не для того, чтобы доставить им удовольствие, а потому, что они нам нужны и мы их поставим так, как требуют этого интересы нашего отечества. Вот, в моих глазах, как надо смотреть на этот вопрос, и если я здесь позволяю себе делать уступки, то только потому, что для меня не видно, чтобы русские интересы могли страдать от того, что в начальных училищах Привислинских губерний будет преподаваться польский язык, если же они могли бы страдать, то я ни одной минуты не затруднился бы вычеркнуть этот закон из Свода законов и воспретить обучение польскому или всякому другому языку во всех местностях, где существуют инородцы»[794].
Особо осторожным, предупреждал П. Н. Дурново, следует быть в тех случаях, когда дело касается той или иной окраины империи. Империя, с точки зрения П. Н. Дурново, не самоцель, а способ выстоять в международной борьбе. Поэтому сохранение империи, ее упрочение должно быть предметом особых забот правительства. Окраина – неотделимая часть империи, главное в управлении ею – обеспечение общеимперских интересов. Какого-либо универсального способа, естественно, тут быть не могло. Так, в отношении Финляндии позиция П. Н. Дурново была следующей: манифест 22 октября 1905 г., отменив законы, изданные «в целях установления более тесной связи Великого княжества Финляндского с остальными частями империи», не изменил правового положения Финляндии в составе Российской империи – она остается нераздельной частью империи. Отсюда следует строго согласовывать дела финляндского управления с общеимперскими интересами. Этот вопрос и ставит П. Н. Дурново в официальном письме председателю Совета министров С. Ю. Витте 18 февраля 1906 г., предлагая восстановить при статс-секретариате постоянный комитет из представителей министерств внутренних дел, военного и финансов для предварительного рассмотрения вопросов общеимперского значения; его заключения должны были поступать, наряду с мнениями статс-секретаря и финляндского генерал-губернатора на благоусмотрение императора[795].
Анализируя заявления проживающих на окраинах русских, П. Н. Дурново заключал, что «система выборов не обеспечивает в той мере, как бы следовало подобающего места в Думе представительству Великорусского племени, трудами которого создавалась Российская Империя». Между тем, «замечается острое проявление окраинного сепаратизма», Государственная дума стала законодательной, и П. Н. Дурново предвидит сплочение членов Думы от иноверного и инородческого населения окраин. В этих условиях, считает П. Н. Дурново, представительство господствующего племени приобретает принципиальное значение для укрепления связи той или иной окраины с Империей. Поэтому представил в Особое совещание под председательством Д. М. Сольского «дополнительные предположения»: предоставить русскому населению каждой из 4-х областей Туркестанского генерал-губернаторства избирать из своей среды по одному члену Государственной думы «сверх члена Думы от русской части города Ташкента». В результате, по его мнению, «достигалось бы как принципиальное признание главенства русского племени, так равно и правильное освещение в Государственной думе интересов русского населения в этом крае»[796].
При обсуждении законопроекта о преобразовании управления городов Царства Польского он говорил: «Элементарная политическая осторожность требует, чтобы мы дальше того, что имеют города всей Империи, не давали городам Царства Польского. Могут быть сомнения, не следует ли, в виду особого положения этой окраины, уменьшить несколько права и увеличить надзор. Но увеличение прав и уменьшение надзора, по моему мнению, может быть объясняемо только полным недостатком необходимого при решении подобных вопросов политического предвидения и отсутствием всякой идеи государственности, которая должна проводится неуклонно во всех отраслях государственного управления»[797].
Борьба П. Н. Дурново с сепаратизмом диктовалась не «великодержавным шовинизмом», а соображениями стратегического характера: отпадение от империи каких-либо ее частей было опасно не столько само по себе, сколько тем, что отпавшие части, не имея возможности (в силу ли незначительной своей территории и скудости ресурсов, малой ли численности населения или других каких-либо причин) обеспечить независимое существование, неизбежно оказались бы в сфере влияния враждебной России державы, в результате чего соотношение силы на международной арене изменилось бы не в пользу России и ее положение осложнилось бы.
Показательна в этом отношении позиция П. Н. Дурново по польскому вопросу осенью 1914 г., когда верховный главнокомандующий вел. князь Николай Николаевич с ведома императора пообещал полякам за содействие России в войне объединение и автономию. 14 октября П. Н. Дурново собрал у себя на квартире бывших в столице членов правой группы Государственного Совета для обсуждения воззвания великого князя. Обсудив, пришли к выводу, что объединение «всех поляков почти удваивало их число и делало объединенную Польшу столь крупной составной частью России, что автономия ее (обещанная лишь в довольно неопределенных выражениях) несомненно должна была обратиться в почти полное обособление». Таким образом, «успешное завершение начатой войны должно было завершиться отторжением от России ее польских губерний». Тем не менее они были готовы на эту «жертву», если «благодаря ей можно было бы достичь прочного соглашения с поляками». Однако трезвое понимание, что «претензии поляков» будут «беспредельными не только в отношении пределов автономии, но и пределов самой Польши», распространяясь на белорусские и литовские земли и даже на Юго-западный край, привело их к выводу, что «объединение Польши, хотя бы и под главенством России, для последней невыгодно и что желательно воздержаться от дачи дальнейших обещаний»[798]. Было, таким образом, понимание, что с появлением объединенной Польши положение на западной границе России резко осложнится[799].
Совсем иначе подходит П. Н. Дурново к вопросу о выделении Холмской Руси из Привислинского края. «Главнейший довод в пользу выделения <…> – утверждение о преобладании в ней православного населения над католическим – не представляется» ему достаточно убедительным. Как способ оградить православие – мера сомнительная «по самому существу». Наконец, «с возвещением Манифестом 17 октября основ гражданской свободы на незыблемых началах несовместимы никакие мероприятия, имеющие характер насильственной русификации». Поэтому он находил выделение Холмской Руси не соответствующим «государственным интересам», рекомендуя правительству «путем возможно доступного образования и подъема материального положения уничтожить приниженность местного православного населения»[800].
И в вопросах вероисповедной политики П. Н. Дурново исходил из интересов государства: церковь оказывает услуги государству («молится о победах, молится о здравии Государей, скорбит о всех бедствиях, которые народ претерпевает, и поучает народ не только правде Христовой, но и необходимости повиноваться Власти Царской»), а государство, со своей стороны, должно обеспечить церковь всем необходимым. Но не каждую и не любую. Господствующей является Православная церковь, потому что в православии изначально живут духовное сознание и духовные идеалы русских и оно связывает русских воедино[801]. «Охраняя единство Русского Государства, – говорил он, – было бы безумием ослаблять силу, его связующую, т. е. Православную Церковь»[802].
Свое понимание места Православной церкви, ее отношений с государством, положения других церквей и политики по отношению к ним П. Н. Дурново изложил 2 декабря 1911 г. при обсуждении в Государственном Совете законопроекта «О вероисповедном обществе мариавитов». «В моем понимании, – говорил он, – вероисповедное положение рисуется так: одна господствующая Православная Церковь, стоящая в неразрывном союзе с Государством, неотделима от Государства. Жизнь этой Церкви есть жизнь Государства; затем существуют другие Церкви, которые мы нашли уже готовыми и организованными в завоеванных нами провинциях. Все остальные вероучения, как самостоятельно создавшиеся, так и отделившиеся как от господствующей, так и от всех других инославных Церквей, в глазах светских гражданских властей должны быть признаваемы частными гражданскими союзами. Закон дает им право свободного вероучения, но члены всех этих союзов, все без исключения простые, обыкновенные, частные люди. Строгое, осторожное и последовательное применение этих положений я называю вероисповедной политикой». Сохранение целости государства, его обязанность «перед своею народною Церковью», сохранение и укрепление ее силы требуют, полагал П. Н. Дурново, чтобы «никаких других Церквей, кроме существующих, в России не допускать. Пусть последователи разных вероучений веруют, как они хотят, но союзы этих людей мы можем считать только гражданскими обществами, это не стесняет свободы вероисповедания, не умаляет значения веротерпимости»[803].
Естественно, что защита интересов православной церкви рассматривалась П. Н. Дурново как одна из важнейших задач правой группы Государственного Совета. Его личная роль в этом отношении была значительной[804].
П. Н. Дурново и Николай II
Некоторые из современников, называя П. Н. Дурново «душой реакционной партии», утверждали, что в качестве лидера правых Государственного совета он «получил возможность оказывать преимущественное влияние на императора, которому он с большой настойчивостью советовал уничтожить конституционную хартию и восстановить прежнее автократическое правительство»[805]. Факты, однако, говорят о другом. О влиянии, тем более «преимущественном», П. Н. Дурново (и вообще правых) на Николая II говорить не приходится[806]. Вплоть до декабря 1905 г. у царя против П. Н. Дурново было предубеждение: возвращенный в МВД в 1900 г. усилиями С. Ю. Витте, он долгое время «не имел личного доклада у государя, как это бывало в тех случаях, когда товарищ министра заменял министра»[807]; царь, по свидетельству С. Ю. Витте, «не особенно охотно согласился назначить его управляющим Министерством внутренних дел <…>, вероятно, видя в нем либерала»[808].
В декабре 1905 г. П. Н. Дурново «спас Россию от участи, которой она подверглась в 1917 году»[809] и, по выражению П. П. Менделеева, «сделался при дворе persona grata»[810]: он производится в действительные тайные советники и утверждается министром; царь им «очень доволен»: «Дурново – внутрен[них] дел – действует прекрасно»[811]; весной, на Пасху, его дочь сделали фрейлиной[812]. Однако и в этот «медовый месяц» с ноября 1905 г. по апрель 1906 г. П. Н. Дурново был принят царем, судя по его дневнику, всего лишь 10 раз. Вынужденный перед открытием Думы уволить П. Н. Дурново, Николай II щедро его награждает. На этом, однако, все и закончилось: мавр сделал свое дело.
«Одна из типических черт Николая II, – по мнению В. И. Гурко, – полнейшее странное равнодушие к самим личностям своих главных сотрудников. Некоторых из них он со временем не возлюбил, так было с Витте, а затем со Столыпиным, причем произошло это главным образом вследствие того чувства их умственного и волевого превосходства над ним, которое он испытывал, но любить, испытывать чувства душевной привязанности к окружающим его лицам он не был способен и расставался с ними без всякого сожаления. Так это было не только с министрами, с преобладающим большинством которых он имел лишь строго официальные отношения и вне докладов совсем не видел, но и с лицами его ближайшего окружения, введенных по роду их служебных обязанностей в интимную жизнь царской семьи. С получением нового назначения, удаляющего их от непосредственной близости к царской семье, они сразу исключались из интимности, и о самом их существовании как бы забывалось»[813].
В апреле 1908 г. в вагоне царскосельского поезда в разговоре с А. А. Половцовым П. Н. Дурново «жалуется на то, что после увольнения от обязанностей мин[истра] вн[утренних] дел он в течение двух лет не видел императора»[814]. В марте 1911 г. царь легко «сдал» его, уволив по настоянию П. А. Столыпина «в отпуск по 1 января 1912 г.». Правда, уже в мае Николай II вознамерился вернуть его в Государственный совет, но снова отступил перед П. А. Столыпиным, и только 4 октября сделал это. Чувство благодарности у царя, видимо, сохранялось. 3 апреля 1912 г., по случаю 50-летия службы в офицерских чинах, П. Н. Дурново был пожалован кавалером ордена св. Владимира 1-й ст. В рескрипте «неизменно благосклонный и искренно благодарный Николай» отметил беззаветную преданность юбиляра престолу, его любовь к отечеству, его исключительную энергию и отменные дарования, непреклонную стойкость убеждений, решительные меры в пору смуты и ревностные занятия в составе Государственного совета. Но и только.
Николай II вспомнил П. Н. Дурново «как стойкого и определенного, обладающего многими качествами» в январе 1915 г., когда граф С. Д. Шереметев пытался побудить царя к усилению правого крыла Государственного совета и назначению его председателем кого-нибудь из правых. «Мне вдруг показалось, – записал тогда С. Д. Шереметев, – не остановился ли он на Дурново?»[815] Нет, оказалось, не остановился: 15 июля был назначен либерал А. Н. Куломзин.
Сказанное подтверждается и с другой стороны – взглядом на отношение П. Н. Дурново (и правых) к Николаю II. В первые дни царствования Николая II П. Н. Дурново не согласился с прогнозом С. Ю. Витте («лет в 35–36 он будет хорошим правителем»): «Вы жестоко ошибаетесь. Это будет слабовольный деспот»[816].
Во многом они были антиподы. И конечно же, П. Н. Дурново было трудно увидеть в Николае II самодержца[817]. Его возмущала та легкость, с какой Николай II «уступил свои права» при составлении новой редакции Основных законов[818]. В положении П. Н. Дурново до осени 1905 г. не было ничего, что побудило бы его питать к царю добрые чувства[819]. За короткое время пребывания во главе МВД он был вполне, надо полагать, удовлетворен вниманием и наградами, но вряд ли проникся к царю уважением. В последний период жизни, годы деятельности в Государственном совете, царь ни в каком отношении не мог возвыситься в его глазах, но вызывал лишь недоумение, обиду, раздражение и негодование[820].
Главное, однако, было не в личном положении П. Н. Дурново. Несмотря на видимое успокоение и предпраздничную приподнятость, правых все более охватывали обеспокоенность, тревога и даже безысходность. «Мы находимся в тупике, – как-то осенью 1911 г. поделился П. Н. Дурново с А. Н. Наумовым, – боюсь, что из него мы все, с царем вместе, не сумеем выбраться»[821].
Убийство П. А. Столыпина не привело к торжеству правых. «Прошедшие события, по моему мнению, – писал П. Н. Дурново С. Д. Шереметеву, – имеют очень важное значение, и будущее представляется мне большим вопросительным знаком, а между [тем] темные силы как будто поднимают голову все выше и выше»[822]. Возникало ощущение неминуемого поражения, медленной, но неуклонно приближающейся капитуляции, и, что было особенно досадно, все это не по явному превосходству противника, а по дряблости и бестолковости власть имущих.
У П. Н. Дурново это чувство прорвалось по совершенно незначительному поводу в заседании Государственного совета 2 декабря 1911 г. «С тяжелым чувством, – признавался он, – приходится смотреть, как под напором враждебных Церкви и Русской Государственности сил и влияний одна за другой постепенно сдаются позиции, которые тщательною вековою работою наших предков поставлены для охраны устоев Русской Церкви и Русского Государства. Ложный стыд, ложный страх, политическая сентиментальность, отсутствие предусмотрительности и разные более или менее темные выборные и предвыборные комбинации делают свое разрушительное дело. Не думайте, пожалуйста, что я считаю мариавитский законопроект угрожающим безопасности и целости России, но он важен потому, что составляет одну из нитей той паутины, которая мало-помалу нас запутывает. Все, что должно стоять на страже, как будто уподобляется беспорядочной толпе, которая топчется на одном месте и сама не знает, в какую сторону ей кинуться»[823].
Корень зла был, с точки зрения правых, в царе. «Болезнь наследника, нервность императрицы, бесхарактерность государя, появление Распутина, бессистемность общей политики, – вспоминал в эмиграции А. Н. Наумов, – все это заставляло честных и серьезных государственных людей не без волнения задумываться о положении вещей и не без опаски смотреть на неопределенное будущее. <…> Настроения эти, главным образом, нарастали среди лиц консервативного направления, не видевших предела неопределенности политики, вызываемой болезненной неустойчивостью характера государя»[824]. Царь никак не хотел «прозревать», у правых опускались руки. Примечательное на этот счет свидетельство имеется в дневнике С. Д. Шереметева. 6 февраля 1912 г. он пришел на собрание группы раньше других, застав лишь П. Н. Дурново. «Сидели вдвоем некоторое время за пустым столом, – записал в тот же день С. Д. Шереметев. – Он заговорил о положении. Сказал, что не знает для чего трудится, для кого и ради чего, хоть бы уйти совсем ото всего. Настроение это в таком деятеле весьма понятное, но глубоко прискорбное. <…> Действительно, трагизм положения очевиден при сознании, что нет надежды на прозрение там, где оно необходимо»[825].
Правые не находили в царе того же, что позже, в канун второй революции, настойчиво требовала императрица, – быть властью, уметь приказывать. С этим призывом к царю и правительству стать, наконец, властью П. Н. Дурново обратился в своей речи в Государственном совете 19 июля 1915 г.[826] Но услышать П. Н. Дурново было уже некому: не только царь, но, похоже, и весь правящий класс утратил способность к власти.
П. Н. Дурново пришлось-таки сказать царю, что он о нем думает. «Это было, – рассказывает Б. А. Васильчиков, – в период так называемой министерской чехарды, когда министры быстро сменялись один другим и когда, ввиду ухода графа Коковцова, Государь еще колебался, кем его заменить. Он призвал Дурново и предложил ему пост председателя Совета и министра внутренних дел. На это Дурново сказал следующее: “Ваше Величество, моя система как главы правительства и министра внутренних дел не может дать быстрых результатов, она может сказаться только в несколько лет, и эти годы будут годами сплошного скандала: роспуски Думы, покушения, казни, может быть вооруженные восстания. Вы, Ваше Величество, этих лет не выдержите и меня уволите; при таких условиях мое пребывание у власти не может принести пользы, а принесет только вред!” <…> Назначение Дурново не состоялось, и был назначен И. Л. Горемыкин»[827].
Для П. Н. Дурново, как и для других правых, справедливо замечает Д. Ливен, «сам Николай II был основной частью проблемы»[828].
П. Н. Дурново и Государственная Дума
Отношение П. Н. Дурново к Государственной Думе впервые обрисовалось при обсуждении в Совете министров проекта нового избирательного закона (19–20 ноября 1905 г.). Прошел месяц со дня обнародования манифеста 17 октября, а революция, вопреки ожиданиям, продолжала грозно нарастать. П. Н. Дурново высказался решительно против самой идеи народного представительства, исходя и в этом случае из оценки народной массы (всеобщее избирательное право неизбежно даст революционную Думу, ибо в нее пройдет преимущественно деревенская полуинтеллигенция, в среде которой особенно усиливаются революционные настроения) и либеральной оппозиции (давать Думу ей – бессмысленно, ибо это нисколько не удовлетворит народную массу, а правительство ослабит)[829].
Иллюзии общественных деятелей раздражали П. Н. Дурново. Д. Н. Шипов вспоминал: «П. Н. Дурново выслушивал речи общественных деятелей с трудно сдерживаемым раздражением. Получив слово, он резко заявил, что не понимает, как можно говорить о предпочтительности той или иной системы выборов в Государственную Думу в переживаемое время – время революции; теперь вообще немыслимо производить эти выборы. Что касается необходимого власти, как здесь говорили, доверия общества, то правительству достаточно иметь опору со стороны классов, представителем которых в настоящем Совещании является граф В. А. Бобринский. Затем во время одной моей реплики, в которой я говорил, что только общие выборы могут внести желательное умиротворение в среду так называемого третьего элемента, П. Н. Дурново демонстративно вышел из заседания и более не возвращался»[830].
В Царскосельском совещании «для рассмотрения предположений Совета министров о способах осуществления Высочайших предуказаний, возвещенных в пункте 2 Манифеста 17 октября 1905 года»[831] (5, 7 и 9 декабря 1905 г.), П. Н. Дурново занял совершенно особую позицию. Совещание обсуждало вопрос о выборном законе. Было два проекта: № 1 (Совета министров, на основе цензового начала) и № 2 (Гучкова – Шипова, на основе всеобщего избирательного права). И вот, в то время как общественные деятели (граф В. А. Бобринский, А. И. Гучков, барон П. А. Корф, Д. Н. Шипов) и часть бюрократов (барон А. А. Будберг, Н. Н. Кутлер, В. И. Тимирязев и Д. А. Философов) по различным мотивам высказались за проект № 2, другая часть бюрократов (А. Г. Булыгин, В. В. Верховский, А. Д. Оболенский 2-й, О. Б. Рихтер, А. А. Сабуров, А. С. Стишинский, Н. С. Таганцев, Д. Ф. Трепов, Э. В. Фриш) также по разным соображениям – за проект № 1, а С. Ю. Витте, как всегда, вилял[832], и все они рассчитывали на Государственную Думу, а С. Ю. Витте настаивал созвать ее «как можно скорее», П. Н. Дурново, лучше других зная положение на местах, не питал иллюзий: «Излечить смуту нельзя никакими выборами. Не недовольство законом 6 августа, а другие, более глубокие, причины поддерживают революционное движение. Мы впадем в большую ошибку, если будем смотреть на Думу с оппортунистической точки зрения. При общем избирательном законе в Думу попадут негосударственные элементы. С третьим элементом нужно считаться. В 17 губерниях помещиков грабили <…>. Помещики не пойдут в Думу вместе с фельдшерами, земскими статистиками и т. п. лицами, так недавно еще предводительствовавшими грабительскими шайками, разорявшими их усадьбы. Мы открываем двери таким людям, которые чужды всяких традиций и государственного дела обсуждать не могут. Общественного мнения в России теперь нет. Я нахожу, что государственное дело не так должно строиться»[833].
После перерыва, когда общественные деятели удалились, П. Н. Дурново поставил под сомнение их знание деревни и настроения крестьянских масс и заключил: «Напрасно все думают, что созыв Государственной думы внесет немедленное успокоение. Я нахожу, что торопиться написанием избирательного закона не следует, и признаю опасным не рабочий класс, а третий элемент. Те, кто грабят теперь, будут, несомненно, выбирать предводителей грабительских шаек»[834].
Совещание утверждалось на мысли как можно скорее подготовить избирательный закон и созвать Думу, однако П. Н. Дурново стоял на своем: «Вообще же теперь не следует производить выборов, а только издать выборный закон»[835].
Его поддержал один лишь граф А. П. Игнатьев, обратив внимание на другую сторону опасности: «Управляющий Министерством внутренних дел говорит, что нельзя при нынешнем революционном движении производить какие бы то ни было выборы. Между тем со всех сторон говорят, что надо как можно скорее созвать Государственную думу во что бы то ни стало. Чем же вызываются возлагаемые на Думу розовые надежды? <…> говорят, что лучше предугадать требования, чем идти за ними. Но удовлетворить желания революционеров нет возможности. <…> Что же можно ожидать от Государственной думы? Говорят, что трудно ее собрать. Надо будет охранять самую Думу, а она должна будет охранять правительство и порядок. В 1612 году князь Пожарский прежде всего восстановил власть и порядок, и только когда это было сделано, тогда собрался Земский собор, избравший дом Романовых на царство. А теперь с чем же правительство встретит Думу? С сознанием, что оно бессильно управлять государством. Это первый шаг к Учредительному собранию. Одним изданием законов нельзя успокоить Россию, надо для этого действовать силою. Но силы нет. Если войска мало, надо не жалеть на это ничего, кликнуть клич, создать рать, дружину из запасных, ополченцев. <…> Справившись с крамолою, можно будет созвать Государственную думу, но идти навстречу Думе с одним лишь бессилием – нельзя»[836].
Последнее слово было за царем, и он решил: выборы состоятся, Дума будет созвана.
Какой Думе быть, какими правами ее наделить, какое место ей определить – все это еще обсуждалось, и в решении некоторых из этих вопросов П. Н. Дурново сыграл заметную роль.
Так, он и его единомышленники парализовали настойчивую попытку С. Ю. Витте сделать Государственную Думу независимой от Государственного Совета. Еще на ноябрьских заседаниях Совещания Д. М. Сольского[837] С. Ю. Витте, рассчитывая опереться на умеренную часть общества и опасаясь превратить Думу в придаток при Государственном Совете, не хотел уравнивать Совет с Думой, но тут же, по обыкновению, отступил, высказавшись за уравнение их прав.
На декабрьских заседаниях инспирируемый им Н. Н. Кутлер предложил дать Думе право представлять монарху свое вторичное постановление, принятое квалифицированным большинством 2/3 голосов наличного состава, даже если Государственный Совет вновь не согласится. Однако Н. Н. Кутлера поддержал один лишь обер-прокурор князь А. Д. Оболенский 2-й, тоже человек С. Ю. Витте.
В первом же заседании Царскосельского совещания в феврале 1906 г. А. Д. Оболенский 2-й возобновил предложение Н. Н. Кутлера. Его осторожно поддержал С. Ю. Витте: «Сказанное князем, несомненно, имеет психологическое значение. Но по рассудку я держусь мнения большинства». Против высказались В. Н. Коковцов и М. Г. Акимов. Решающей оказалась реплика П. Н. Дурново: «Несомненно, однако, что если принять мнение князя, то через два года верхняя палата перестанет существовать». С ним тут же согласился Д. М. Сольский: «Вначале и я колебался в пользу предложения князя Оболенского, но соображение, только что выраженное Петром Николаевичем, заставило меня склониться в пользу большинства».
Хотя Николай II согласился с мнением большинства, С. Ю. Витте в начале второго заседания, 16 февраля, вернулся к вопросу. Опасаясь превращения Государственного Совета в «средостение» между царем и крестьянами («что крайне вредно»), он несколько подредактировал предложение А. Д. Оболенского 2-го: «В тех случаях, когда Государственный Совет отклоняет одобренный Государственной думою проект, и если Дума, известным большинством, пожелает, чтобы ее мнение было доведено до высочайшего сведения, то отказать ей в этом не следует. Если, затем, государь император признает, что решение Думы в общих чертах правильно, то дает министрам повеление внести в Думу новый проект».
Его поддержали А. С. Стишинский, А. Д. Оболенский 2-й и А. Д. Оболенский 1-й. Возражали В. Н. Коковцов, К. И. Пален, А. Г. Булыгин, Ю. А. Икскуль, А. А. Сабуров, В. В. Верховский, М. Г. Акимов. «Если мы будем, подобно графу Витте, считаться с отдельными сословиями, – заметил П. Н. Дурново, – мы впадем в ошибку. Я, со своей стороны, считаю наиболее важным во всем обсуждаемом проекте – это принцип о трех властях; все остальное – только подробности. Я затрудняюсь согласиться с возможностью представления его императорскому величеству двух проектов: одного – одобренного Думою и затем – заключения Государственного Совета. Взамен этого можно было изменить статью 49 Учреждения 6 августа в том смысле, чтобы проекты, по которым не состоялось соглашения как Думы, так и Совета, могли бы быть внесены на законодательное рассмотрение в следующую сессию. От установленного принципа равенства Государственной Думы и Государственного Совета отступать, по-моему, нельзя».
Николай II согласился с большинством[838].
Предусмотрительны оказались П. Н. Дурново и его единомышленники в вопросе о соотношении назначенных и выборных членов Государственного Совета. Вопрос возник в Царскосельском совещании в феврале 1906 г. По проекту манифеста, подготовленному совещанием Д. М. Сольского, выборные члены Государственного Совета призывались «в равном числе» с членами по назначению. А. С. Стишинский предложил исключить слова «в равном числе», чтобы соотношение это зависело «непосредственно» от воли царя. Мотивировал он это тем, что «в Западной Европе иногда такого равенства и не бывает», и тем, что «известны примеры, когда верховная власть назначала бо́льшую часть членов, если это представлялось необходимым». П. Н. Дурново поддержал, полагая, что «верховная власть не должна лишать себя права уравновешивать мнения. Лишать себя права изменять образовавшееся большинство – это очень важно!» Поддержали это мнение граф А. П. Игнатьев, кн. А. Д. Оболенский 2-й, граф К. И. Пален. Однако большинство совещания – С. Ю. Витте («Это произведет дурное впечатление»), Н. С. Таганцев («Каждое учреждение должно быть образуемо с доверием к нему. Можно ли вообразить, что все 98 членов по выбору образуют оппозицию?») и др. – выступили против. Николай II решил «оставить, как в проекте»[839]. А зря: с образованием в августе 1915 г. Прогрессивного блока возникла такая необходимость в проправительственном большинстве в Государственном совете и пришлось прибегнуть к т. н. «чистке» последнего – другой возможности у верховной власти не оказалось.
Государственная Дума оказывалась фактором политической жизни империи. Начались выборы. Л. А. Тихомиров повидался с П. Н. Дурново в один из этих дней и десять лет спустя, уже после его смерти, вспоминал: «В это время Дурново был в апогее своей славы: он усмирил революцию, как тогда выражались. Его энергичные действия, его успех восхвалялись всеми сторонниками Самодержавия. Дурново впервые за свою жизнь совершил крупное дело, которого до него никто не мог совершить. Но он, хотя довольный собой, едва ли считал свою миссию законченной. Он, полагаю, считал необходимым совершенно упразднить Государственную думу или, во всяком случае, радикально (в консервативном смысле) переделать ее. Но с своей обычной практичностью, терпел факт, которого нельзя уничтожить»[840].
При случае он был не прочь воспользоваться ею. Так, в условиях резко обострившейся финансовой нужды мысль его обращается к Думе: «Положение создалось такое, что надо во что бы то ни стало как можно скорее собрать Государственную Думу. Смета на 1906 год сводится с дефицитом почти в полмиллиарда рублей. <…> Теперь вся надежда на внешний заем, который не может быть удачно реализован без производства выборов и созыва Думы, но открыть ее надо лишь на другой день после реализации займа. Это ничего, что придется производить выборы, когда страна “бурлит”. Для правительства совершенно безразлично какой будет их результат; оно не должно даже вмешиваться в выборы. Чем хуже будет состав Думы, тем, в сущности, лучше; тем легче и скорее можно будет ее “разогнать” и назначить для новых выборов продолжительный перерыв, во время которого успокоить страну и не торопясь подготовить новые выборы, наметив правительственных кандидатов»[841].
Этими настроением и намерениями министра объясняется, очевидно, то, что в преддверии Думы в министерстве внутренних дел, по свидетельству С. Д. Урусова, «все было тихо, все шло по-прежнему. Не было и намека не только на неизбежность, но и на возможность каких-либо изменений». С. Д. Урусов в конце ноября «решил для очистки совести представить по этому поводу свои соображения» П. Н. Дурново в личной беседе. «Он, – рассказывает С. Д. Урусов, – выслушал мои соображения внимательно, не опровергал моих доводов, но все же отнесся к моему докладу несколько поверхностно. Казалось, что он считал все мною высказанное теоретически правильным, но не имеющим существенного значения. Тон его, когда он высказал свое согласие на образование проектируемой комиссии и поручил мне исполнять в ней председательские обязанности, указывал как будто на то, что он считает уместным произвести предлагаемую демонстрацию, но мало интересуется существом дела и не придает ему практического значения». Несмотря на любезное внимание лично к нему и комплимент по поводу его работы в Сенате, С. Д. Урусов «вышел из кабинета министра с чувством неполного удовлетворения». «Настроение мое, отражавшее в то время светлые надежды, возлагаемые на будущую Государственную думу, – замечает он, – слегка понизилось как бы под влиянием окатившего меня прохладного душа».
Комиссия для подготовки законопроектов о реформе местного управления была образована. «Приняв за отправной пункт Манифест 17 октября, – продолжает С. Д. Урусов, – и признав необходимым поверять каждый проектируемый институт в отношении соответствия его построения основным началам этого акта, комиссия почти автоматически подвигалась по пути расширения круга деятельности местного самоуправления, ограничения произвола административной власти, создания гарантий, обеспечивающих правовой порядок, уничтожения сословных преимуществ и т. п.» Предполагалось к 15 марта завершить работу, «как вдруг последовало распоряжение П. Н. Дурново представить ему краткий отчет о занятиях комиссии с указанием общего плана предположенной ею реформы». Ознакомившись с отчетом, П. Н. Дурново распорядился «работы комиссии прекратить»[842].
Выборы в Думу шли, и правительство, по свидетельству С. Е. Крыжановского, «следуя началу, провозглашенному Булыгиным, в них не вмешивалось»[843]. Более того, правительство опубликовало 8 марта 1906 года специальный закон[844], которым «сознательно устраняло себя и своих представителей от всякого влияния на производство выборов»[845].
Однако, «растущая агитация радикальных партий, Московский бунт и последовавшие беспорядки побудили [П. Н. Дурново] поднять вопрос о вмешательстве. Переписка по этому вопросу с графом [С. Ю. Витте] кончилась, однако, ничем. Граф высказался за вмешательство, но находил, и справедливо, что было поздно и ничего сделать нельзя. Тогда Дурново <…> решил действовать на свой страх и послать доверенных лиц внушить губернаторам необходимость прибрать выборы к рукам». Были посланы три чиновника в приволжские губернии. «Лица эти снабжены были за подписью Дурново глухим письмом на имя губернатора с предписанием в точности исполнять то, что будет им передано. <…> Поездка не имела последствий, было уже поздно, да и никто не знал, как взяться за дело, по неизвестности на кого опереться»[846].
«Первая Государственная Дума уже по настроению предвыборных собраний и по ходу самих выборов не предвещала ничего хорошего»[847]. П. Н. Дурново, однако, это не обескуражило. Просмотрев справку о составе первой Думы, он «остался данными справки очень доволен»[848]. Было очевидно: предстоит не сотрудничество с Думой, а борьба, в исходе которой он не сомневался. П. Н. Дурново не разделял распространенного тогда заблуждения, будто Государственная Дума имеет поддержку в народе. По свидетельству осведомленного журналиста, он был «чуть ли не единственный из всех бюрократов», твердивший, что «Думу можно разгонять сколько угодно, что никаких корней ни в народе, ни в крайних левых группах» она не имеет[849].
Рассчитывая остаться в занимаемой должности, он не боялся встречи с Думой. Готовый в любой момент к ее роспуску, он вместе с тем не исключал, по-видимому, и попытку сотрудничества. В беседах выражал уверенность в том, что ему удастся «наладить свои отношения» с нею, делился планами на этот счет[850]. В заседании Совета министров 18 апреля 1906 г., когда С. Ю. Витте, за день до этого получивший согласие царя на свою просьбу об увольнении, «довольно туманно намекал на возможность своего ухода», П. Н. Дурново был, по свидетельству И. И. Толстого, «в хорошем расположении духа и говорил о Государственной Думе. Раньше, когда Витте, возражая против его действий, иронически говорил, что ему доставит удовольствие посмотреть, как он будет вывертываться, когда с него будут требовать отчета и объяснений, Дурново заявлял, что он просто отвечать не будет, так как дело Думы заниматься будущим, а не копаться в прошлом; теперь он говорил, что берется объяснить все свои действия Думе, что там будут сидеть люди разумные и что он уверен в том, что они его поймут, и если не все, то многое одобрят»[851]. «Вот они увидят, какой я реакционер», – говорил он П. М. Кауфману. «План его, – пишет В. И. Гурко, – состоял в развитии перед Государственной думой целой программы либеральных мероприятий, подкрепленных немедленно вслед за этим внесенными на обсуждение Государственной думы соответственными законопроектами»[852]. С этими планами, по-видимому, связано спешное, за месяц до открытия Думы, назначение В. И. Гурко и С. Е. Крыжановского, наиболее одаренных, энергичных и работоспособных его сотрудников, товарищами министра. В письме его к С. Ю. Витте от 20 марта 1906 г. есть любопытный в этом отношении абзац: «Дело о товарищах министра весьма спешное. Представление о ближайшем будущем у меня довольно определенное, – думаю однако, что товарищи министра тут имеют мало значения – даже никакого»[853]. Лукавил, пожалуй.
Правда, по свидетельству А. В. Герасимова, П. Н. Дурново худо представлял взаимоотношения Думы и правительства, полагая, что последнее не допустит в Думе никаких партий, и «каждый избранник должен будет голосовать по своей совести»[854].
«К концу выборов, – рассказывает С. Е. Крыжановский, – когда неблагоприятный и, во всяком случае, неделовой состав Первой Думы выяснился и всем стала очевидной нелепость мысли опереться на крестьянство, Дурново получил предложение от члена Государственной думы по Гродненской губернии Ерогина, подавшего мысль сплотить в Думе надежные силы из крестьянства, поставив во главе лицо, могущее оградить их от политических влияний. Предложение это имело свои основания, тем более что со стороны левых партий было сделано многое, чтобы в С.-Петербурге принять мужиков в свои объятия и обработать по-своему. <…> Дурново ухватился за мысль Ерогина, и губернаторам послана была тайком телеграмма прощупать избранных в Думу крестьян и тех, которые поосновательнее, направлять к Ерогину. <…> Для того чтобы Ерогину было где встречаться и столковываться с крестьянами, устроены были для последних дешевые квартиры. Затея, однако, не удалась, так как Ерогин оказался человеком неподходящим, да вдобавок и весьма ограниченным. Мужики скоро от него отхлынули и попали в другие тенета»[855].
Что касается Государственной Думы по третьеиюньскому избирательному закону, то В. И. Гурко утверждал, что П. Н. Дурново будто бы вел с нею «систематическую войну» и «всемерно стремился сократить всякую ее инициативу»[856]. Представляется, что это не так. В планы правых уже не входило изменение положения о Государственной Думе: «новый строй» открывал и для правых ряд новых возможностей.
Критические замечания П. Н. Дурново по адресу Думы, иногда резкие, были обоснованными и справедливыми. Так, он резонно возражал тем, кто боялся разномыслий с Думой и призывал не обращать внимания на «мелочи и пустяки» поступающих из Думы законопроектов: «Я держусь другого мнения, я нахожу, что Государственный Совет есть учреждение совершенно нейтральное: ему нет дела, какое учреждение пострадает и как пострадает, Государственный Совет рассматривает законопроект, и рассмотреть и разрешить его он должен в пределах своего опыта, знания и совести. Затем, если с Думою по этому поводу будут разногласия, если Правительство потерпит от этого неудобства – эти соображения не должны ложиться в основание обсуждаемого законопроекта».
Решительно протестовал против «распространительных толкований Основных Законов в сторону расширения компетенции и полномочий Законодательных Учреждений».
Доказывал, что «только одно Правительство может судить, нужно ли произвести расход и в какой степени он неотложен. <…> Государственная дума, как молодое Законодательное Учреждение, несомненно склонна давать деньги, не считая, на благотворительные, учебные и другие приятные цели». Государственный совет должен «сдерживать такие весьма естественные стремления Государственной Думы». И мотивировал вполне убедительно: «Министр финансов гр. С. Ю. Витте совершенно правильно возражал, что Россия не есть такая страна, в которой во всякое время можно найти деньги, это не Франция, не Англия, не Германия, где внутренний заем может дать сотни миллионов. Россия есть государство, в котором должен быть денежный запас для разных непредвиденных и неотложных потребностей, и это совершенно оправдалось действительностью».
По мнению П. Н. Дурново, «правительство обязано» отстаивать свою точку зрения перед Думой и не спешить с нею соглашаться. «Взвешивать мотивы того или иного решения Государственной Думы есть обязанность тех учреждений, которые с Государственной Думой имеют дело».
Справедливо упрекал Думу в низком уровне юридической техники: «Законопроекты, которые поступают к нам большею частью, позволю себе сказать, в редакционном смысле недостаточно хорошо составлены, не обоснованы на действующих законах по другим отраслям законодательства, часто они заключают в себе декламационный характер, мало того, нередко заключают в себе такие основные мысли, которые стоят вне русского государственного управления и устройства. Поэтому мы, в Государственном Совете, очень часто беремся за переделку этих законов, и на переделку эту затрачивается очень много времени и, по правде сказать, иногда даже сил больше, чем мы можем затратить»[857]. По мнению Л. А. Тихомирова, это одна из заслуг Дурново как государственного человека: он «учил Гос[ударственный] Совет и Гос[ударственную] думу умно законодательствовать, учил их законодательной технике. Последнему Дурново придавал огромное значение, и – как сам мне высказывал – считал эту деятельность достаточной траты своих сил. “Это было, – говорил он – очень важно”. Тут вопрос не в направлении, а в правильной технике, соображении всех обстоятельств, предохранения закона от противоречий и т. п.»[858]
П. Н. Дурново был категорически против спешки в законодательной деятельности, которой, по его мнению, страдали как Дума, так и правительство. «Разрушить все старое гораздо легче, нежели создать что-либо новое: проектируются новые, небывалые у нас учреждения, новые институты с такой поспешностью, о которой мы никогда не слыхали, и делается страшно, а что если это вдруг вступит в действие, старое упразднится, а затем, что совершенно неизбежно, многое или почти все новое окажется негодным?» «Во имя государства, во имя необходимости, – призывал он, – надлежит охранять то, что существует. Мы не знаем, что будет дальше, но вести законодательство в темную комнату нельзя, нужно всегда сохранять уверенность куда мы идем».
При этом непременно следовало соблюдать ту благоразумную и осторожную «постепенность, которая требует – чтобы законы <…> не были круто издаваемы и чтобы существующий порядок жизни по возможности постепенно изменялся».
И, наконец, закон нужно писать «так, чтобы разумные люди его понимали и чтобы смысл его был применяем ко всем тем случаям, которые в законе не предусмотрены и которых предусмотреть невозможно»[859].
П. Н. Дурново и новая редакция Основных Законов
С. Ю. Витте «стоял за необходимость издания Основных законов до Думы», полагая, что их издание закрепит «новый государственный строй, провозглашенный 17-го октября»; в противном случае – «Дума обратится в учредительное собрание, что вызовет необходимость вмешательства вооруженной силы», в результате чего «новый строй погибнет». «Такого же мнения, – замечает С. Ю. Витте, – были все члены Совета, включая Дурново и Акимова, кроме князя Оболенского». Мемория Совета министров как будто подтверждает это единодушие[860].
По-видимому, это не совсем так. По крайней мере, на первом из заседаний на квартире С. Ю. Витте, посвященных обсуждению проекта Основных законов, 10 марта 1906 г. позиция министра внутренних дел была иной. «По проекту “Основных законов” я нахожу, – писал П. Н. Дурново, – что в этом проекте нет ни одной статьи, которая бы вносила в действующее ныне положение что-либо новое. Повторение в более общей форме недавно изданных законов при настоящих обстоятельствах в высшей мере опасно, ибо опять ставит на очередь те жгучие вопросы, которые после Манифеста 17 октября породили смуту во всей России и едва не погубили Правительство. Еще более опасно вторично объявлять свободу личности и неприкосновенность жилища, не предоставляя никаких гарантий в том, что то и другое будет соблюдаться. Признавая, что теперь первенствующая задача Правительства есть охранение порядка, думаю, что рисковать достигнутыми результатами, ради опубликования теоретических положений в роде “droits de l’homme”[861], будет действием безумным и противным интересам Государя и Государства. Даже самое обсуждение таких проектов, слухи о чем без малейшего сомнения проникнут в печать, я признаю крайне неосторожным. Провозглашать принципы “всех свобод”, когда половина Империи по закону, остающемуся в силе, ими не пользуется, ради неизвестно чего, не соответствует требованиям практической политики, и такое провозглашение будет новым оружием, которое правительство, без малейшей нужды, с ребяческим благодушием, передает в руки революционеров.
Начертание законов, подобных изложенному в проекте, есть дело будущего и может иметь место лишь после водворения в Империи полного порядка и спокойствия, согласно новым условиям управления.
Наконец, возбуждение вопроса об отношениях Империи к Финляндии грозит такими осложнениями, которые даже нельзя предвидеть. В настоящее смутное время таких вопросов ни возбуждать, ни решать нельзя.
В виду изложенных соображений, я прихожу к заключению, что проект подлежит отклонению безусловно, без подробного обсуждения по статьям»[862].
В апреле 1906 г., участвуя в Царскосельских совещаниях по пересмотру Основных законов, П. Н. Дурново высказался за то, чтобы Основные законы «могли быть изменяемы не иначе, как по усмотрению государя» и «без всякого участия Думы и Совета», утверждая при этом, что «такое постановление вовсе не противоречит манифесту 17 октября и закону 20 февраля»[863]. Вместе с тем при обсуждении ст. 4 Основных законов он заявил, что «после 17 октября и 20 февраля неограниченность монарха перестала существовать»[864].
П. Н. Дурново и еврейский вопрос
В России начала XX столетия еврейский вопрос на глазах становился одним из острейших. «Еврейский вопрос, – писал П. П. Извольский, – не религиозный, не национальный, не экономический, не культурный вопрос. Он – все вопросы вместе, величайший и страшнейший вопрос нашего времени. Еврейство, вчера еще ютившееся в кривых закоулках гетто, сегодня стоит перед нами как грозный фактор всемирной истории. <…> еврейство как целое дожило до наших дней в виде чуждого типа в семье арийских народов. Но теперь оно вышло из подполья, от обороны перешло в наступление и для этого пользуется тем оружием, которое дает ему современное общество и государство; оружие это – политическая сила денег. <…> пока государство будет таковым, каково оно теперь, т. е. языческим, сила в нем будет за деньгами, а следовательно – за еврейством»[865].
В российском правящем слое не только программы его решения – единого понимания не было.
Антисемиты, указывая на противоположность расовых свойств арийцев и евреев, на стремление последних к господству (сначала экономическому, а затем и политическому), считали, что мирное сожительство с евреями невозможно, и выход видели в одном: исторгнуть их, как поступали с ними другие народы в древности и в более близкое время.
Другим еврейский вопрос не представлялся столь простым, а его решение столь легким. Так, П. П. Извольский, указывая на «связь еврейского вопроса с социальным, а последнего – с религиозным», видел его решение не на узком пути «вражды и ненависти», а на широкой дороге «любви и понимания мирового значения того народа, которому, по свидетельству апостола, вверено слово Божие»[866].
П. Н. Дурново был слишком трезвым политиком и слишком хорошо знал положение дел в этой области, чтобы быть примитивным антисемитом, и всегда, какую бы должность ни занимал, был способен войти в проблемы конкретного еврея (как и человека любой иной национальности), понять, сочувствовать, помочь. «Я лично, – говорил он в заседании Совета министров 20 января 1906 г., – не враг евреев, многих евреев лично знаю и уважаю, когда ко мне обращаются лично евреи – я обыкновенно выполняю их просьбы как по поводу разрешения жительства вне черты оседлости, так и по поводу поступления в учебные заведения сверх нормы»[867].
Г. Б. Слиозберг подтверждает: «Фактическим вершителем еврейских дел являлся директор Департамента полиции, которым был Петр Николаевич Дурново… Он всегда был доступен резонам, и я по совести должен сказать, что если применение того или другого ограничительного правила… находилось в явном противоречии с гуманностью, то от [Дурново] всегда можно было ожидать и внимания, и благосклонного к делу отношения»[868].
По свидетельству С. Ю. Витте, «Дурново являлся всегда в Сенате защитником евреев, когда слушались дела, в которых администрация старалась софистическими толкованиями сузить и без того крайне узкие и несправедливые законы для еврейства»[869].
Иногда масштабы такой помощи были значительны. В 1893 г. Сенат отменил циркуляр МВД 1880 г., по которому оставлялись на местах все евреи, уже поселившиеся вне черты оседлости без законного на то основания. Таковых оказалось около 70 тысяч семей. С помощью П. Н. Дурново, вспоминает Г. Б. Слиозберг, были изданы «спасительные пункты, которые предотвратили, в конце концов, угрожающее огромное бедствие»[870].
В 1903 г., будучи товарищем министра внутренних дел, П. Н. Дурново, по свидетельству С. Д. Урусова, «особенно резко и прямо высказывался за расширение еврейских прав и против существующего “бессмысленного” законодательства о евреях»[871].
Циркуляром за № 55 от 16 ноября 1905 г. начальникам губерний и областей, еврейское население которых пострадало осенью 1905 г. «во время народных волнений», МВД «с целью возможного облегчения участи пострадавших семей, предложило безотлагательно выяснить обстоятельства приема в войска в минувший призыв евреев льготных первого разряда по семейному положению» с тем, чтобы освободить их от военной службы.
15 декабря 1905 г. по всеподданнейшему докладу П. Н. Дурново Николай II предоставил министру внутренних дел право «своей властью» освобождать «от дальнейшего прохождения службы в войсках, с зачислением в ратники ополчения II разряда, принятых в призыв этого года евреев льготного I разряда из семей, пострадавших во время антиеврейских беспорядков». В связи с этим было дано распоряжение «задержать на сборных пунктах новобранцев евреев льготных первого разряда по семейному положению» для решения вопроса об их увольнении (Циркуляр от 29.12.1905 г. № 66)[872].
15 марта 1906 г. П. Н. Дурново нашел возможным сохранить применявшееся до того времени московскою полицией дозволение евреям купцам 1-й гильдии, приписанным к городам вне черты еврейской оседлости, проживать в Москве и Московской губернии, без ограничения числа приездов и времени пребывания. Сделано это было для «успокоения умов еврейского торгово-промышленного класса»[873].
Такой легкий, сквозь пальцы, взгляд на несоблюдение ограничительных законов против евреев был обусловлен не только гуманизмом П. Н. Дурново, но и тем, что, возглавив образованное В. К. Плеве в 1902 г. Особое совещание для разработки вопросов по пересмотру «Временных правил о евреях от 3 мая 1882 г.», он оказался хорошо осведомленным и убедился не только в неэффективности и, следовательно, бесполезности этих ограничений, но и в их величайшей вредности для государства.
П. Н. Дурново был врагом погромной агитации и погромов. Так, в заседании Совета министров 24 февраля 1906 г., где слушали заявления некоторых еврейских общин об опасности еврейских погромов вследствие устной и печатной погромной агитации, «министр внутренних дел объяснил, что подобные опасения не имеют достаточных оснований и возникавшие уже несколько раз слухи о предстоящих массовых насилиях над евреями оказывались ложными, тем не менее со стороны министерства приняты предупредительные меры к тому, чтобы подобные явления не могли в действительности происходить»[874].
Совершенно адекватной была реакция П. Н. Дурново на погром в Гомеле 13–14 января 1906 г. По отчету командированного расследовать причины беспорядков Г. Г. Савича он предложил Могилевскому губернатору прекратить деятельность революционных организаций в Гомеле и закрыть «Союз русских патриотов», усилить полицию в городе, а начальнику штаба Отдельного корпуса жандармов – уволить ротмистра Подгоричани и упорядочить пожарную часть в городе[875].
26 февраля 1906 г. С. Ю. Витте получил от И. Ф. Мануйлова при письме прокламацию «Воззвание к русскому народу. Причины всех несчастий России. Меры пресечения зла от евреев». Она была разрешена цензурой и отпечатана в типографии петербургского градоначальства. С. Ю. Витте приказал обсудить дело в Совете министров с приглашением в заседание градоначальника и начальника Главного управления по делам печати. И хотя решение Совета министров не было оформлено, П. Н. Дурново поставил «на вид С.-Петербургскому цензурному комитету неправильность дозволения к печати означенного воззвания, а подписавшему его цензору С. С. Соколову, согласно 1007 ст. Улож. о нак., объяв[ил] выговор» и циркулярно распорядился изъять из обращения упомянутое воззвание[876].
Признавая за собою и другими право удовлетворять те или иные нужды евреев в нарушение закона[877], П. Н. Дурново категорически возражал против законодательной отмены даже отдельных ограничений евреев, не говоря уж о введении еврейского равноправия[878]. Когда И. И. Толстой предложил Совету министров «отменить все особые правила, ограничивающие права евреев при поступлении в высшие учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения», П. Н. Дурново, А. А. Бирилев и М. Г. Акимов были решительно против, находя «огульное» решение вопроса «капитальною ошибкою» (неизвестно, как отнесется к еврейскому вопросу Государственная дума, поднимется буря «негодования в широких кругах и поведет к новым серьезным беспорядкам», евреев вряд ли успокоит, а еврейское влияние в русской студенческой среде усилит, затруднит доступ в высшие учебные заведения для русских) и рекомендуя «придерживаться прежних по сему делу правил». Имелось в виду предоставленное Комитетом министров в 1886 г. министру народного просвещения право «принимать частные меры к ограничению приема евреев в учебные заведения». Преимущество такого порядка, по мысли П. Н. Дурново и др., состояло в том, что правительство сохраняло «необходимый в столь спорном вопросе простор»[879].
Такая позиция П. Н. Дурново (и его единомышленников) определялась следующими обстоятельствами.
Собственно еврейский вопрос не составлял для правительства особой сложности его разрешить, если бы не был, в представлениях тогдашней российской элиты, частью действительно сложного и грозного вопроса о революции.
На секретном заседании Совета министров на квартире И. Л. Горемыкина 1 июня 1906 г. по вопросу о борьбе с революционным движением П. М. фон Кауфман говорил: «В заключение я позволю себе повторить те общие соображения, которые я уже высказывал не раз, в объяснение причин и последствий охватившей ныне Россию смуты. Я держусь того убеждения, что наша смута – эпизод той же великой революции, которая началась в 1789 г. во Франции, повторилась в 1830 г., перешла в 1848 г. на остальную Европу и ныне разразилась у нас. Как в Европе, так и у нас основная причина (одно слово неразборчиво. – А. Б.) одна и та же: стремление еврейского всемирного союза, слившегося со всемирною масонскою организацией, добиться гражданских и политических прав для евреев, а через них – подчинить Россию верховенству еврейского синдиката капиталистов, как ему уже подчинены все государства и народы Европы. Думаю, что общей судьбы и нам не миновать. Завоевание России этою силою могло бы быть отсрочено и надолго, если бы взрывом патриотизма и чувства национального достоинства мог быть дан наседающему врагу дружный отпор всем народом, но за два последних года я убедился, что русский патриотизм притупился, чувство национальной гордости исчезло, космополитизм пустил в интеллигентных классах глубокие корни, а в массе развился индифферентизм. При таких условиях, кажется, самым благоразумным было бы признать существование той силы, о которой я говорю, фактом и войти с ним в сношения de puissance a` puissance[880], чтобы договориться. Пока мы находимся в том положении, в котором была наша армия после потери Ляояна. Нужен ли нам удар Цусимы и Мукдена, чтоб заговорить о мире. Условия тогда будут другие. Полученным покоем мы должны воспользоваться для самоукрепления, а когда окрепнем – стряхнуть с себя наносные путы будет не трудно».
«После заседания, – делает примечание П. М. Кауфман, – в котором Гор[емыкин] ни звуком не отозвался на мои слова, он с глазу на глаз сказал мне, что ему довелось в Париже лично познакомиться с некоторыми видными представителями всемирного еврейского союза (масонского) и что в существе мое представление о значении этого союза и его целях верно, но что почвы для соглашения с ним у нас нет, ибо если бы правительство согласилось на объявление равноправия евреев, то народ начал бы их вырезать. Я ему ответил, что я сам в этом убежден, но с тем ограничением, что резня вспыхнула бы лишь в черте оседлости и то не везде: в Польше и Бессарабии этого бы не произошло, но именно в виду такой перспективы и следовало бы объявить равноправие, ибо тогда сами евреи завопили бы, что его не надо. В таком случае вопрос оказался бы исчерпанным надолго: ограничения оказались бы для евреев спасительною бронею. Г[оремыкин] со мною согласился, но предложить это героическое средство не решился»[881].
Дело было не только и не столько в участии евреев в революции (хотя и это не было мелочью[882]), сколько в ее финансовом обеспечении. Активная финансовая поддержка революционного движения в России зарубежными евреями не была тайной для русской политической полиции. Две попытки «сговора русского императорского правительства с иностранным еврейством о прекращении им поддержки революционного движения в России» при Александре III и Николае II провалились. «Слишком поздно и никогда с Романовыми», – был ответ еврейских банкиров[883].
Знал ли об этих попытках П. Н. Дурново? Наверное утверждать нет оснований, но предположить можно: если от С. Ю. Витте это знал Л. Ф. Давыдов, от последнего, в бытность его директором Кредитной канцелярии (1908–1914), – А. В. Давыдов, автор воспоминаний, то мог знать и П. Н. Дурново, бывший с С. Ю. Витте в тесном общении на протяжении весьма долгого времени; это будет еще более вероятным, если учесть, что борьба с революцией была их общим делом.
Если П. Н. Дурново не знал об этих попытках, то, на протяжении двух десятилетий непосредственно борясь с революционерами, не мог не осознавать, что они «не только в своих крайних проявлениях, – но и в умеренных, так называемых либеральных, отрица[ют] не частности строения, а самую строющую силу, треб[уют] от нее не тех или иных мер, а того, чтобы она – устранила самою себя, отдала Россию им. Но на такой почве возможна только борьба, полное торжество победителя, полное уничтожение побежденного»[884]. В этой ситуации никакие уступки невозможны: любая из них, ослабляя власть, усиливала революцию. Борьба же давала если не шанс, то надежду на победу.
Разделял, надо полагать, П. Н. Дурново и то предположение, общее тогда для многих, что отмена всех ограничительных мер не устранит антисемитизма и, следовательно, не разрешит еврейский вопрос. Так думал и С. Ю. Витте. «Однажды за завтраком, – пишет М. М. Ковалевский, – он сказал мне: “А какое последствие будет иметь, по Вашему, упразднение черты оседлости? По-моему – избиение евреев”»[885].
Последующее подтвердило всю основательность этих опасений. Так, А. В. Давыдов свидетельствует: «Погромов, к счастию, за 25 лет, что я бывал в наших краях, ни в Александровке, ни в Каменке не было ни одного, но их риск всегда был. А вдруг приставу, у которого не было никакой вооруженной силы, не удастся, несмотря на получаемое от кагала “пособие”, предотвратить погром? В первый же день революции 1917 года, после того как исчезли приставы и урядники, местечки Каменка и Александровка были начисто разграблены и большинство евреев перебито. Так печально кончились для этих несчастных иллюзии, что революция принесет им равноправие и свободу»[886].
П. Н. Дурново и П. А. Столыпин
Впервые П. Н. Дурново и П. А. Столыпин встретились в августе 1904 г. П. Н. Дурново после убийства В. К. Плеве исполнял обязанности министра внутренних дел. П. А. Столыпин, тогда саратовский губернатор, просивший у В. К. Плеве отпуск (с 1 июля), но так и не получивший ответ (Плеве не успел), 31 июля приехал в Петербург. П. Н. Дурново из-за торжеств по случаю рождения наследника принял П. А. Столыпина только 2-го августа. «Дурново встретил меня крайне неприятно; высказал, что перед холерою, казалось бы, я должен быть в Саратове и проч. Уходя после длинной деловой беседы, я ему высказал, насколько неприятно меня поразила манера его встречи. Он засмеялся и сказал – не обращайте внимания». «Все хорошо и прекрасно, – замечает по-французски П. А. Столыпин, – но я к подобному не привык»[887]. Заподозрив П. А. Столыпина в манкировании службой, П. Н. Дурново к концу беседы был, по-видимому, вполне удовлетворен состоянием дел в губернии и деловыми качествами П. А. Столыпина.
В 1905 г., в условиях охвативших страну крестьянских волнений, министр внутренних дел оценил саратовского губернатора: 4 января 1906 г. по докладу П. Н. Дурново император телеграммой объявил П. А. Столыпину «сердечную благодарность» за подавление «беспорядков в пределах Новоузенского уезда Самарской губернии», отметив при этом «примерную распорядительность», «личную инициативу» и «верную службу»[888].
Ходили слухи, что П. А. Столыпин из губернаторов попал в министры по рекомендации П. Н. Дурново[889]. Тем не менее добрые отношения между ними не сложились.
Скоро они стали политическими противниками, и П. Н. Дурново, по свидетельству Б. А. Васильчикова, «не упускал случая атаковать Столыпина в его слабых пунктах»[890].
Правые, работая против П. А. Столыпина, выдвигали П. Н. Дурново, находя его «по уму и умению куда выше Столыпина»[891].
П. А. Столыпин, отдавая должное П. Н. Дурново (он сослужил царю «и России в 1905 году большую службу»), характеризовал его как «политического противника», создающего премьеру «искусственную обструкцию» в Государственном совете[892], инкриминировал ему закулисную работу «против кабинета»[893]. Современникам был очевиден факт борьбы П. А. Столыпина против П. Н. Дурново[894].
После ссылки в принудительный отпуск в марте 1911 г. П. Н. Дурново характеризовался современниками как «непримиримый враг» П. А. Столыпина, готовый на организацию убийства последнего[895].
При этом, по утверждению В. И. Гурко, П. Н. Дурново «руководствовался преимущественно личными соображениями и чувством личной неприязни к Столыпину»[896]. «Личное нерасположение [к П. А. Столыпину] у Петра Николаевича было», – подтверждает С. Е. Крыжановский[897]. Основания для этого, по-видимому, были. Так, когда П. Н. Дурново решил «прибрать к рукам выборы» в I Думу и попытался через посланных чиновников «внушить» эту идею губернаторам, П. А. Столыпин уклонился от этого поручения[898]. Будучи саратовским губернатором, П. А. Столыпин помнил об имении П. Н. Дурново (так, собираясь в начале июля 1905 г. в поездку по Сердобскому и Петровскому уездам, чтобы «лично воздействовать на крестьян», он намеревался заглянуть и в Трескино[899]), однако осенью 1905 г. оно в ряду многих других было разорено. Саратовские помещики были озлоблены на губернатора, и не без основания[900]. Возможно, эти чувства разделял и П. Н. Дурново.
В марте 1906 г. они разошлись в оценке положения в Саратовской губернии: «губернатор не шел в своих требованиях далее объявления некоторых уездов в усиленной охране», министр же находил положение губернии «настолько тревожным, что введение в ней, частью или полностью, военного положения являлось бы мерой вполне целесообразной»[901].
Превратное представление о мотивах оппозиции П. Н. Дурново сложилось в результате сознательной и целенаправленной клеветы его политических противников. Так, весной 1909 г. они истолковали позицию П. Н. Дурново и его единомышленников по законопроекту о Морском генштабе как «голую интригу», продиктованную желанием «спихнуть Столыпина, добиться реакционного министерства, кинуть Думу влево, а затем, может быть, ее и распустить»; при этом, выставляя себя патриотами, утверждали, что «о России никто из этих господ не думает»[902].
Такого рода инсинуации, громко и широко раздутые тогда, а затем закрепленные в советской историографии, не имеют под собой ничего реального. «Что касается вопроса о генер[альном] штабе морского министерства, – писал в частном письме А. С. Стишинский, – то Вы правы, указывая на нарастание всякого вздора в газетных о нем статьях. Вопрос очень простой и имеет чисто политическое, принципиальное значение и вовсе не поднят с какими-то посторонними целями свержения Столыпина, о чем в нашей среде никто не думает. Единственное правильное толкование закона установляет, что дело Г[осударственной] думы и Г[осударственного] совета ассигновать кредиты на военные учреждения, утверждение же штатов в пределах этих кредитов принадлежит Верховной власти, по представлениям Военного Совета. Бесспорно, что при обсуждении кредитов законодательные учреждения могут входить в рассмотрение частных итогов, из которых слагается кредит и, сообразно своему на то взгляду, уменьшать кредит, но утверждение штата, т. е. определение числа должностных лиц, содержания их и т. д. не их дело. Поэтому Шубинский в своем разговоре с репортером “Нового Времени” допустил несомненную передержку. В указанном выше смысле Гос[ударственный] Совет большинством голосов высказался в прошлом году. Морской министр в своем последнем представлении в Думу просит утвердить кредит, штат же приложен только для сведения, а Дума и его утвердила. В Гос[ударственном] Совете правительство в лице Коковцова распиналось за принятие решения Думы под тем луковым соусом, что этот частный случай не может предрешать общего вопроса о компетенции Думы в делах этого рода, и все министры голосовали по приказу Столыпина за Думу, и этим дали центру перевес. Вот правда в этом деле без прикрас»[903].
Оппозиция П. Н. Дурново имела своей основой иные, более весомые обстоятельства.
В беседе с другом юности бароном Ф. Ф. Врангелем летом 1907 г. П. Н. Дурново так отозвался о П. А. Столыпине и его политике: «По моему мнению, П. А. Столыпин, человек безусловно достойный и мужественный, грешит тем, что слишком много придает весу общественному мнению».
Роспуск II Думы и изменение избирательного закона П. Н. Дурново одобрял, однако с оговорками. Он находил этот шаг правительства «слабым, а потому не соответствующим» своим взглядам: «Поводов было достаточно распустить их, а теперь сделали это с обходцем: не назначили прямо крайнего срока ответа на требование министерства, вдруг как бы испугались возможности благоразумного решения Думы, скоропалительно закрыли пресловутый парламент, с которым нянчились, как с серьезным законодательным собранием, тогда как его несостоятельность, вернее сказать – непристойность, была давно очевидна. <…> Cest le ton gui fait la chanson[904]; власть, себя уважающая и желающая, чтобы ее уважали, должна во всем и всегда действовать прямо, открыто, твердо и честно. Все эти оглядыванья направо и налево, выплясывание то на одной, то на другой ноге, суть признаки слабости и потому вредны».
Избирательный закон, продолжал он, «надо было изменить, в этом, конечно, ни один здравомыслящий человек не сомневается, но я и здесь не вижу каких-либо определенных, для всех понятных, руководящих начал. Так себе, взяли да на глаз прикинули: прибавим-ка тут столько-то голосов, там скинем столько-то, авось ладно выйдет! Да и срок новых выборов слишком близок».
П. Н. Дурново не против временных положений и полевых судов: «Время несомненно ненормальное, и потому для защиты мирных граждан требуются и особые меры, как это было и бывает и в самых правомерных государствах. Но военные суды – это не произвол. Они в областях, охваченных смутою, ведают совершенно определенного рода преступлениями и к этим исключительным правонарушениям применяют сокращенные формы правосудия и более строгие меры наказания, чем суды обыкновенные. Но нельзя применять эти определенные формы произвольно, в одной губернии так, в смежной иначе, смотря по личным взглядам местного сатрапа. Это не сила власти, а дикий произвол».
П. Н. Дурново не разделял надежд на правительство Столыпина: «Я думаю, что нам еще предстоят большие испытания и что, может быть, тогда потребность в мощной руке и выведет сильного человека из мрака неизвестности. Но это так только, мечты для собственного утешения, не основанные на фактах, а только на личном желании»[905].
«Столыпин страшнее революционеров, – говаривал он, по утверждению газеты. – Он разрушает государственность России. Мне легче видеть министром внутренних дел любого социал-демократа, чем Столыпина. Он вносит туман и смуту. Он подрывает самые корни российского строя»[906].
П. А. Столыпин, в свою очередь, говорил: «Если я уйду, меня может сменить только кто-нибудь вроде Дурново или Стишинского. Я глубоко убежден, что и для правительства, и для общества такая перемена будет вредна. Она может остановить начинающееся успокоение умов, задержать переход к нормальному положению, может даже вызвать Бог знает что»[907]. Николаю II в марте 1911 г. П. А. Столыпин заявил: «Ваше Величество, если вы одобряете в общем мою политику, направленную к постепенному, все более широкому приобщению общественности к государственному управлению, то благоволите исполнить мои пожелания, без чего я работать в избранном направлении не могу. Но, быть может, Ваше Величество находите, что мы зашли слишком далеко, что надо сделать решительный шаг назад. В таком случае увольте меня и возьмите на мое место П. Н. Дурново»[908].
Отношение П. Н. Дурново к реформам П. А. Столыпина определялось не чувствами его к личности премьера, а соображениями политической осторожности и предусмотрительности.
Что же делало П. Н. Дурново столь осторожным и умеренным? Главным здесь было, нам представляется, отношение к крестьянской массе. Мужик воспринимался как враг, удовлетворить требования которого было немыслимо; заключить соглашение с ним – невозможно. Такое восприятие крестьянства, общее для правой части политического спектра после 1905–1906 годов[909], остановило П. Н. Дурново перед не одним законопроектом из программы Столыпина.
Так, выступая 19 мая 1914 г. в Государственном Совете против волостного земства, он говорил: «Новый закон передает все дело местного управления и хозяйства в руки крестьян, – тех самых крестьян, которые только 8 лет тому назад грабили и жгли землевладельцев и которые до настоящего времени хранят в себе земельные вожделения за счет помещиков. Подавляющее большинство неразвитых и несостоятельных людей в новых волостных учреждениях будет стремиться перенести бремя расходов на более состоятельное меньшинство. Отсюда, прежде всего, последует потрясение едва-едва приходящих в порядок расшатанных грабежами и поджогами 1905–1906 гг. экономических отношений. Поэтому я нахожу, что рискованно создавать самоуправляющиеся единицы, смешивая в них большое число людей неимущих с весьма малым числом имущих, совершенно различных по воспитанию, образу жизни и обычаям, и, наконец, самое главное, когда все помыслы неимущих направлены к отобранию земли у имущих. Вообще, образование местных самоуправляющихся организаций может обещать успех только при условии существования на местах имущественно-обеспеченного большинства. <…> Новые формы землевладения, следует надеяться, помогут образованию класса мелких, но состоятельных собственников, которые и будут служить фундаментом, на котором наши потомки построят всесословную волость. <…> Дело это затеяно несвоевременно. Я отнюдь не закрываю глаз на несовершенства и неурядицу существующего положения, но, к сожалению, далеко запоздавшие условия и отношения нашей жизни не дозволяют резко их изменять и необходимая в таких вопросах политическая осторожность требует от нас жертвы, для одних большей, для других меньшей. Жертва эта есть отклонение перехода к постатейному рассмотрению»[910].
Где же тут личное чувство к П. А. Столыпину? Трезвая оценка состояния крестьянской массы и ничего более.
Может показаться, что П. Н. Дурново разделял надежды П. А. Столыпина на крестьян-собственников. И в литературе встречается утверждение, что «его взгляды на крестьянскую реформу Столыпина изменились» и он «признал необходимость перехода к индивидуальному владению наделами»[911]. Думается, не все так однозначно. Конечно, разложение крестьянства и формирование класса крестьян-собственников было для П. Н. Дурново очевидным и объективным фактом. Он и допускает (видимо, в неблизком будущем) возможность введения всесословной волости, когда этот класс состоятельных крестьян образуется. Однако от трезвого взгляда П. Н. Дурново (и многих других близко стоящих к крестьянству) не укрылось активное участие в аграрных волнениях как раз состоятельных крестьян – факт настораживающий!
С другой стороны, пока у народной массы, при всех ее «земельных вожделениях» и «принципах бессознательного социализма», была одна привлекательная черта – русский простолюдин не искал политических прав. Превратившись в собственника, он потянулся бы и за правами, заявляя о себе и в волости, и в земстве, и в Государственной думе. Смутно, но вырисовывались очертания многомиллионной крестьянской демократической России – «царство мужика», по распространенному тогда среди правых выражению.
Поэтому, по мнению П. Н. Дурново и его единомышленников, «быстрый и малообоснованный переход земельной собственности из рук среднего и крупного землевладения в руки крестьян нежелателен». С государственной точки зрения, полагали они, важно, «чтобы, по возможности, средние и крупные землевладения оставались непоколебимо в руках тех лиц, которые теперь ими обладают»: «в самых помещичьих губерниях земские начальники – присланные из Петербурга, молодые чиновники, которые никаким имущественным цензом не обладают. Во многих уездах России нельзя найти выборного уездного предводителя». Отсюда следовала негативная оценка деятельности Крестьянского банка по покупке и продаже земли за свой счет. Чтобы владельцы меньше продавали, банк следует, настаивал П. Н. Дурново, лишить права самостоятельной покупки, ибо она создает «соблазн для слабых землевладельцев»[912].
Если считать основной чертой государственного таланта «способность угадывать лучшее и осуществлять его» (М. О. Меньшиков), то придется, сравнивая П. Н. Дурново и П. А. Столыпина, первого поставить выше второго.
Согласимся с П. Б. Струве: да, П. А. Столыпин «прозревал неизбежные формы новой России и готов был железной рукой пролагать им путь. <…> Столыпин политически смотрел не назад, а вперед, и то, что он в будущем прозирал, – Великая Россия как правовое государство с сильной властью, творчески дерзающей и дерзновенно творящей, – является и теперь великим государственным замыслом русского возрождения. Этот огромный политический замысел требовал для своего осуществления широкого социального фундамента, и его Столыпин увидел в крепком крестьянстве, призываемом к новой, опирающейся на начала частной собственности и хозяйственной свободы жизни. Русский крестьянин из государственного “тяглеца” должен был стать устроенным на своей земле свободным собственником»[913].
П. А. Столыпин понимал (и говорил!), что для успеха предпринятого им необходимо «20 лет покоя внутреннего и внешнего»[914]. Коли так, то следовало в первую голову усиленно готовиться и к войне, и к революции (не хотеть их – мало! стараться избегать их – мало!). Другого способа обеспечить необходимый покой не было: хочешь мира – готовься к войне. Где теперь его реформы? Все: и планы, и что успелось – все было сметено войной и революцией, которые следовало предвидеть[915]. Вот в этом П. А. Столыпин явно уступал П. Н. Дурново.
Создается впечатление, что П. А. Столыпин и созданная им Дума, расставляя приоритеты, не учитывали в должной мере ни международное положение империи, ни ее внутриполитическую ситуацию.
Вот счет, предъявленный П. А. Столыпину современником.
«Плохо» понимая психологию преступного, «слишком медлил в борьбе с преступностью». Будучи «благородно доверчив, <…> верил в “успокоение”, которое еще не наступило». «На слишком крутую борьбу у него не хватало сил». Нередко обнаруживал «непонятную нерешительность». «Его связывали странные колебания», в результате «множество драгоценного времени упускалось невозвратно». В нем, заключал М. О. Меньшиков, был явный недостаток «тех грозных свойств, которые необходимы для победы. <…> Он был слишком культурен и мягок для металлических импульсов сильной власти»[916].
Поэтому: «арестованные злодеи, покушавшиеся на его жизнь, щадились, надзор за ними был так плох, что они один за другим бежали с каторги»; революция была разгромлена, но «оставлено было без серьезного основания слишком много бродильных начал»; «проявил много нерешительности в эпоху второй Думы, роспуск последней принадлежал не его инициативе»; допустил «присутствие в Государственной думе официальных сообщников преступных партий»; «кадеты и кадетоиды выборгского типа почти не преследовались»; борьба с революционным лагерем, «излишне мягкая», не наносила ему разгрома; «жидокадетская печать, основная сила революционного возбуждения, была оставлена в неприкосновенности»; «долго терпелась и осталась почти нетронутой анархия высших школ»; «совсем осталась неприкосновенной анархия деревни»; «нетронутой осталась и гибельная по своей ошибочности система административной ссылки»; черта оседлости «сделалась фикцией, и никогда еще паразитное племя не делало таких ужасных завоеваний в России»; «поставленные довольно робко национальные вопросы Столыпин, подобно Сизифу, докатив доверху, выпускал из рук»; «реформа полиции, предмет первой необходимости, до сих пор еще находится in spe[917]»; недостаточно глубоко был пересмотрен избирательный закон[918].
Последние просчеты были, пожалуй, самыми существенными, предопределившими крах империи. «Только тот парламент есть парламент, – справедливо заметил М. О. Меньшиков, – который усиливает способность власти достигать ее целей»[919]. Государственная дума, созданная П. А. Столыпиным, оказалась не способной стать таким парламентом: она помешала государству лучше подготовиться и к войне, и к революции.
А вот если бы, говорил П. Н. Дурново, наверху сочувствовали его «взглядам и приемам, а не взглядам П. А. Столыпина» и предложили бы ему быть премьером, то он, Дурново, «убежденный конституционалист», после роспуска второй Думы «года полтора не созывал парламента, изменил бы, кроме избирательного закона, еще несколько очевидно негодных, из наскоро сочиненных “основных”, подготовил бы все спокойно и обдуманно, а тем временем управлял бы без парламента, но строго законно, не стесняя “свобод”, которые совместимы с мирною гражданскою жизнью!»[920]
П. Н. Дурново не сомневался в объективной возможности осуществить эту программу: «Явного восстания теперь опасаться нечего, а тайные убийства не переставали действовать и особенно процветать, когда их подстрекатели заседали в Думе и пользовались правом, на казенных харчах, проповедовать разложение государства! Время слишком серьезное, чтобы можно было сообразовывать свои действия с общественным мнением в России или Европе, которое есть ведь мнение людей в государственных делах не сведущих, притом безответственных»[921].
К сожалению, это мнение «не сведущих» и «безответственных» принималось во внимание и многое определяло: Противники Столыпина, – записывал в дневнике А. А. Киреев, – «указывают на Дурново (Петр Ник[олаевич]), но у него хвост замаран <…>, положим это не важно для политического деятеля <…>, положим и Думу можно прогнать безнаказно, восстания не будет. Но ведь Столыпин “большой” человек в общественном мнении и он Думой владеет!»[922]
«Я рад, – делился П. Н. Дурново с товарищем кадетских лет, – что отбыл свою повинность государству, езжу на заседания Совета, высказываю там свое мнение, когда долг службы мне это велит».
Однако мало кто его услышал: нет пророка в своем отечестве!
Обеспокоенный («почему к постройке кораблей приступают так поздно, почему потеряно два с половиной года?»), П. Н. Дурново популярно пояснял в июле 1908 г. при обсуждении в Государственном Совете сметы морского министерства: «Хороший хозяин, прежде чем заниматься устройством своего дома внутри, должен озаботиться, чтобы дом был крепко заперт снаружи от непрошенных гостей. Все средства, все усилия, все могущество власти должно быть направлено к восстановлению наших вооруженных сил, к созданию флота и к приведению в боевой порядок армии. <…> В моих глазах все так называемые культурные потребности отступают на второй план перед насущными нуждами, от которых зависит самое существование России как великой державы»[923]. Такую позицию следует поставить в заслугу П. Н. Дурново, не подозревая за ней одну лишь заботу об имидже империи и не допуская, будто он не понимал, что Россия может существовать и обеспечивать нормальную жизнь населяющих ее народов только в качестве великой державы. После русско-японской войны, обнаружившей слабость вооруженных сил империи[924], и в условиях назревания мировой войны можно ли было думать иначе?
Показательна в этом отношении речь П. Н. Дурново в Государственном Совете в январе 1912 г. при обсуждении законопроекта о введении всеобщего начального образования. Он совсем не против «обеспечить в кратчайший по возможности срок всем русским детям школьного возраста возможности получить начальное образование»; для него это «бесспорно». Сомневался он в целесообразности прогрессивной фиксации на десять лет государственных ассигнований на устройство всеобщего обучения (речь шла о том, чтобы обязать правительство израсходовать в течение десяти лет сверх 70 млн рублей ежегодно расходуемых еще 700 млн рублей. И это без учета того, что тратили и собирались истратить земства и города). «Я, – обращался он к “мудрости Государственного Совета”, – прошу Вас с необходимым спокойствием взглянуть на этот вопрос не с точки зрения временной политики и увлекающихся молодых людей, а с точки зрения холодного рассудка, всецело обладающего способностью оценивать последствия предпринимаемых действий. Оглянитесь кругом, – горизонт со всех сторон представляется не только неясным, но покрыт мрачными тучами: на севере – мятежная провинция, которая не хочет ничего и никого слушать, на западе – вооруженные с головы до ног могущественные государства, на юге и дальнем востоке горят пожары, которые грозят нам ближайшими опасностями, даже возможностью вооруженных вмешательств. Спрашивается, при таких чрезвычайных условиях переживаемого нами времени, куда должны быть направлены заботливые и осторожные взоры людей, которые обязаны открыто высказывать свои мысли, не считаясь ни с предстоящими выборами, ни с поголовным почти увлечением такой заманчивой фантазией, что будто бы через десять лет мы своими школами побьем всех наших вероятных и маловероятных врагов? Ответ на этот вопрос может быть только один: все наши финансовые усилия должны быть направлены, прежде всего, на оборону нашего отечества». На следующий день он уточнил свою позицию: «В данную минуту, которую я считаю весьма серьезной в жизни России, если есть какие-нибудь лишние средства против того, что тратится, то их надо употребить на оборону»[925].
Эта тревога о состоянии обороноспособности усиливалась по мере того, как П. Н. Дурново углублялся в анализ международной обстановки. 5 февраля 1914 г. он говорил в общем собрании Государственного Совета: «Разве не усилилась международная конкуренция, разве не назрели новые и неотложные государственные нужды? Наконец, разве наше внешнее положение вполне прочно охраняется совершенно готовою боевою силою, крепостями, путями сообщения, техническими устройствами? На этот последний жгучий вопрос мы с прискорбием отвечаем отрицательно. <…> обеспечение широких ассигнований на нужды обороны государства есть наша первейшая забота и священная обязанность и потому всякие предположения, клонящиеся к рискованному поступлению государственных доходов, по нашему разумению, неприемлемы и подлежат отклонению»[926].
«Оселком и мерилом всей т. н. “внутренней“ политики как правительства, так и партий, – справедливо считал П. Б. Струве, – должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует т. н. внешнему могуществу государства?»[927] Внутренняя политика в России 1907–1914 гг. содействовала внешнему могуществу страны далеко не в той мере, в какой могла, не говоря уже о той, в какой следовало.
Россия к войне не готова, констатировал П. Н. Дурново в известной записке Николаю II: остаются нерассмотренными законодательными учреждениями многие законопроекты военного и морского ведомств «и, в частности, представленный в Думу еще при статс-секретаре Столыпине план организации нашей государственной обороны»; недостаточны наши запасы из-за малой производительности наших заводов; наша промышленность чрезмерно зависит от иностранной; недостаточно количество тяжелой артиллерии; мало пулеметов; «к организации нашей крепостной обороны почти не приступлено»; сеть стратегических железных дорог недостаточна, их подвижной состав не соответствует требованиям европейской войны; техническая отсталость нашей промышленности не позволяет быстро усваивать новые военные изобретения[928].
Так же не услышали П. Н. Дурново, когда он ратовал за сильную, самостоятельную, властную и дееспособную администрацию и, конечно же, не из-за своего «полицейского мировоззрения»[929]. Опыт 1905–1906 гг., когда администрация оказалась не на высоте ставших перед нею задач[930], и его личный опыт борьбы с революцией заставили его расстаться с либеральными сомнениями в целесообразности чрезвычайных мер и привели его к выводу о необходимости всемерно укреплять административную власть вообще и репрессивный аппарат в частности. Этот вывод находил подтверждение в факте малой способности различных слоев общества к самоуправлению, в межэтнических трениях и конфликтах. К этому побуждала и забота об усилении боеспособности войска. «При трехлетней службе, – говорил он, – армия должна быть призываема к полицейским обязанностям лишь в самых крайних случаях, а для этого необходимо иметь хорошую полицию, которая бы одна своей силой была способна обеспечивать порядок. Пусть всякий из нас спросит себя: обеспечен ли порядок при настоящем крайне слабом составе полиции?»[931]
Последующее показало всю правоту П. Н. Дурново. С. Е. Крыжановский справедливо констатировал: «Сохранил он (П. А. Столыпин. – А. Б.) и основной недостаток полученной им в наследство программы устроения России – отсутствие в ней мер к усилению защиты государственного строя от посягательств и потрясений. Он полностью разделил в этом отношении ошибку предшествовавших реформаторов (кн. Мирского и гр. Витте), полагавших центр тяжести в удовлетворении общественного мнения и видевших гарантии порядка не столько в организации и усилении власти, сколько в идеях и поддержке общества. Все попытки, не раз возобновлявшиеся, встать на путь органического переустройства аппарата власти успеха не имели. Он боялся пойти в разрез с настроениями в Думе и оттягивал решение. <…> В результате по уходе Столыпина Россия осталась при той же архаической и бессильной администрации и при том же несовершенстве средств внутренней охраны, как и в момент его появления на государственном поприще. И даже земельная реформа оказалась построенной на песке, так как не было власти, способной охранить новый порядок и дать ему время подняться на степень действительного оплота государственности. Полицейская защита порядка в столице Империи по-прежнему была в пять раз менее действительна, чем в столице Франции и в семь раз слабее, чем в столице Англии. В результате при первом порыве революционной бури столица оказалась во власти безоружных почти толп запасных солдат и черни и в наступившем параличе власти рушился весь государственный строй, а с ним и все результаты земельной реформы».
В сентябре 1915 г. С. Е. Крыжановский пытался довести до сведения царя, что необходимо «немедленное и весьма значительное усиление столичной полиции с образованием в составе ее специальных частей, поставленных, как в Париже, на военную ногу, сформированных из отборных офицеров и нижних чинов, способных к подавлению мятежных движений не только среди фабричных рабочих, но и среди запасных войск С.-Петербургского гарнизона, в то время уже затронутых пропагандой»[932]. Но и тогда не хватило, видимо, не только воли, но и понимания.
«Отсутствие хорошо организованной полицейской силы и безусловно преданной правительству силы военной парализовало» и Временное правительство, справедливо утверждал В. Д. Набоков[933].
Превосходство П. Н. Дурново как государственного деятеля ярко и убедительно показал Л. А. Тихомиров; он хорошо знал и того, и другого; и сравнил их, когда обоих уже не было, – он ничего не искал и был независим.
«Я очень любил и высоко уважал Столыпина, и по типу своему он мне виделся именно таким госуд[арственным] человеком, какой нужен. Это был человек идейный, человек, думающий об общественном благе. Все остальное: он сам, его карьера, Царь, народное представительство – все у него подчинялось высшему критериуму – благо России. Но он многого не знал, и особенно много сравнительно с величием своих целей. Поэтому я не могу считаться “столыпинцем”, ибо я постоянно не соглашался с ним и старался его перетянуть, переубедить. Однако это был мой человек, никого другого я не видел, и в этом смысле я был “столыпинцем”.
<…> Что касается Дурново – то, конечно, это был уже совсем “не мой” человек. Я уважал его громадные способности и его преданность делу, ибо в это время он служил делу. Он стал истинно государственным человеком. Но то, чему он служил, – было, по-моему, лишь частично верным, а в других частях уже совершенно неверным.
Его идея состояла в великой государственной власти, проникнутой высоким государственным разумом. Этому-то разуму он и служил больше всего. Не знаю, был ли он в принципе против народного представительства. Думаю, что он бы признал умное народное представительство более или менее аристократизированное. Но наличное представительство Госуд[арственной] думы он презирал и, пожалуй, ненавидел, как голос ничтожества, искажавшего смысл государства и закона. Он считал ее язвой России и находил необходимым ее уничтожить[934]. Отсюда его нелюбовь к Столыпину, к которому он относился с пренебрежением.
“Это – негосударственный человек, – сказал он мне. – Человек, который не воспользовался безобразиями I Думы для того, чтобы совершенно упразднить это учреждение – не имеет государственного разума”[935].
Очень трудно провести сравнение между Дурново и Столыпиным. Собственно как ум, как умственный аппарат, Дурново был несомненно выше. В этом отношении ему помогала безусловная самоуверенность, безапелляционная уверенность, что он все понимает, все знает, и что то, что он думает, – есть бесспорная истина. Столыпин – тоже умный – но неизмеримо более искренний, честный, дорожащий более всего общественным благом, – наоборот, часто колебался, допускал охотно, что другие знают или понимают какое-нибудь дело лучше, чем он. Поэтому он и расспрашивал, и спорил, и колебался, и терял время[936].
Только вполне убедившись, он проявлял громадную энергию, пожалуй, не меньше Дурново, ломил, как бешеный бык, напролом.
Бывало, говоришь что-нибудь Дурново… Не успеешь сказать первых основ своей мысли, как Дурново, сначала молчавший и внимательно слушавший, через 3–4 минуты прерывает: “Значит – Ваша мысль такая”, – и он образно, в ярких словах, формулирует совершенно верно то, чего я еще не успел сказать. Понимает необычайно проницательно, с двух слов. Затем столь же быстро следовал его приговор: “Нет, из этого ничего не выйдет”, или “Да, это совершенно верно!”… И если – “ничего не выйдет”, то разговору конец: не станет спорить, не будет ничего доказывать, не будет слушать возражений. Если же “совершенно верно”, то значит нужно сейчас же приводить в исполнение, не теряя слов, не теряя времени.
Потому-то у него, как все говорили, все дела решались моментально, и все делалось необычайно быстро.
Не то у Столыпина. Бывало, делаешь доклад или высказываешь соображения, приведешь массу данных. Он слушает, спрашивает и делает очень умные возражения. В ответ на них исчерпываешь до самого дна все доводы и фразы, какие только у тебя были. Он как будто склоняется на твою сторону. Потом оказывается, однако, что он спрашивал еще других, значит, проверял тебя, и сам думал, а в результате иногда – месяца через два ничего не сделано, и снова приходится начинать доказывать сначала. Впрочем, иногда оказывается, кое-какие части доклада приняты во внимание где-нибудь в законопроекте.
<…> Столыпин нередко замечал, что он не знает предмета, и начинал стараться узнать, на что, конечно, тратилось много времени. Совсем не то у Дурново. Раз как-то я указал ему литературу предмета. Но он прервал меня: “Неужто Вы думаете, что я стану читать этих господ? На что мне их мнение. Государственный человек должен сам все знать и понимать”. Он, безусловно, полагался на какую-то интуицию своего государственного ума. И нужно сказать, что это интуитивное знание у него было поразительным. Это ум с характером гениальности. Конечно, нужно принять во внимание, что он имел громадный житейский и деловой опыт, бесконечное число фактов, наблюдений, соображений, слышал множество разных мнений. Так что с таким запасом давно продуманных фактов и мнений, пожалуй, и мог уже “все сам знать и понимать”, не нуждаясь больше ни в каких доказательствах и просто кладя представляющие новые явления на какие-то внутренние весы своей души, и ум его только смотрел на стрелку – и произносил тотчас безапелляционное решение.
Эту разницу лет и опыта у Столыпина и Дурново необходимо принять во внимание для того, чтобы их сравнивать. Конечно, Столыпин, проживи он еще десять лет, уже обладал бы тоже огромным накопленным знанием, которое точно так же подсказывало бы ему более быстрые решения. Но, во всяком случае, Дурново был не прав, называя его человеком “негосударственным”. У Столыпина были огромные способности именно “государственного человека”, и он, будучи еще недостаточно опытным, сделал все-таки гораздо больше, чем Дурново за вдвое более долгую жизнь и за в семь раз более продолжительную службу государству»[937].
Л. А. Тихомиров не договаривает, однако вывод из сказанного им очевиден: П. А. Столыпин был недостаточно подготовлен для занимаемого им поста.
Проигрывал П. А. Столыпин П. Н. Дурново и в глазах своих ближайших сотрудников. «Однажды, – вспоминал А. В. Бельгард, – я получил от Столыпина уже поздно вечером, с надписью “срочно”, большую пачку адресованных на Высочайшее имя телеграмм различных провинциальных организаций Союза русского народа с указанием опубликовать в ближайшем номере “Правительственного вестника”. Телеграммы эти содержали в себе не только открытое требование немедленного роспуска Государственной думы, но и прямую брань по отношению к этому высшему государственному учреждению. Вместе с тем на большинстве этих телеграмм были собственноручные резолюции Государя, изложенные в таких резких словах осуждения по отношению к Государственной думе, что, при всем моем тогда определенно недоброжелательном к ней отношении, я все же усомнился в возможности напечатания этих телеграмм в официальном правительственном органе, да еще с имевшимися на них Высочайшими резолюциями, а между тем у меня было определенное письменное предписание Государя, подтвержденное в записке на мое имя Столыпина, опубликовать их <…> вместе с резолюциями Государя.
Невзирая на сравнительно поздний час, я решился все же потревожить Столыпина и по привычке, усвоенной мною с его предшественником П. Н. Дурново, отправился лично к Столыпину.
<…> Столыпин, как оказалось, уже спал, или, вернее, собирался ложиться спать. Настроение в домашнем окружении министра настолько изменилось, что я с некоторым трудом мог добиться, чтобы ему доложили обо мне. Он вышел ко мне в халате, как мне показалось, недовольный моим поздним посещением, и в первую минуту как будто даже не понимал, в чем именно я вижу затруднение, требующее его вмешательства. Я объяснил Столыпину, что в полученных мною <…> телеграммах <…> имеется прямое Высочайшее указание опубликовать эти телеграммы <…> в завтрашнем номере <…>. Между тем, во-первых, Высочайшие резолюции до сих пор никогда в таком виде не опубликовывались, а во-вторых, в большинстве этих телеграмм содержится не только прямое требование роспуска Думы, но выражения и слова, заключающие в себе определенные оскорбления по адресу высшего государственного учреждения, т. е. прямое преступление, предусмотренное законом. Кроме того, на этих телеграммах имеются очень резкие резолюции Государя, которые, как мне кажется, могли бы быть в крайнем случае опубликованы только с одновременным роспуском Думы. Столыпин перечитал наиболее характерные телеграммы и резолюции и сказал мне: “Знаете что – вычеркните просто наиболее резкие слова и выражения”. Я со своей стороны заметил, что это тоже совершенно невозможно. Ясно поняв, что Столыпин не знает, как выйти из создавшегося положения, я решил всю ответственность за неисполнение Высочайшего повеления <…> взять на себя»[938].
П. Н. Дурново был начисто лишен некоторых свойств П. А. Столыпина (всегдашняя его склонность «к некоторому преувеличению защищаемой темы», «слабость, которую он питал к аплодисментам и к успеху», увлечение «выигрышными вопросами, не имевшими действительного государственного значения» и т. п.[939]), совокупность которых дала М. О. Меньшикову основание назвать его «маркизом Позой», что – уже в советское время – повторял Е. Д. Черменский.
П. Н. Дурново о задачах внешней политики России
После русско-японской войны и революции 1905–1906 гг. новая война представлялась немыслимой. Ее гибельность осознавалась на самом высоком уровне. Так, в ответ на «весьма доверительное» письмо А. П. Извольского, где он «считал долгом совести привлечь самое пристальное внимание правительства на опасные стороны настоящего положения», в частности – на возможность в скором времени общеевропейской войны с Германией в качестве ее инициатора, П. А. Столыпин писал: «Вы знаете мой взгляд – нам нужен мир: война в ближайшие годы, особенно по непонятному для народа поводу, будет гибельна для России и династии»[940]. По свидетельству Л. А. Тихомирова, П. А. Столыпин «боялся сближения с Англией и старался не отталкивать Германию»[941].
Однако министерство иностранных дел все более отходило от принципа балансирования, сближаясь с Англией[942], что неизбежно грозило серьезными осложнениями в отношениях с немецкими монархиями и вызывало большую обеспокоенность в русском обществе, особенно – в его правой части[943]. «Как это ни странно, – отмечал Ю. А. Соловьев, – в области внешней политики большее понимание проявляли черносотенные элементы и их органы печати»[944]. Английская ориентация российского министерства иностранных дел стала объектом критики ряда общественных, военных и государственных деятелей, преимущественно правого толка. Однако «они были бессильны реально помешать ходу событий»[945], но не потому, что «оказывались в меньшинстве перед прагматичными сторонниками более тесного сближения с республиканской Францией и демократической Англией»[946] (такие вопросы не решаются голосованием). Причина политического бессилия правых (и не только в решении внешнеполитических вопросов[947]) – в угасающем влиянии их на монарха в предвоенные годы. Это хорошо было заметно со стороны: «Небольшая кучка крайне правых русских (вокруг Дурново, Маркова, Сабурова) еще до войны не имела в стране никакого значения»[948].
Это подтверждает и Ю. С. Карцов. В 1910 г. он отправился в Берлин «познакомиться с видными политическими деятелями, депутатами и журналистами и, указав им на приближение войны, постараться убедить их в необходимости действовать неотложно и решительно». Встретившись с немцами, Ю. С. Карцов изложил цель своего визита: «Континентальная война разорит нас и погубит. Избежать ее надо во что бы то ни стало. Вместо того, чтобы воевать и истощать наши силы, давайте заключим союз и отнимем у Англии господство на море». Однако немцы, уточнив, что Карцов говорит от имени «небольшой группы деятелей правой стороны», ответили: «Когда перейдет к вам власть, мы с вами потолкуем, а сейчас это бесполезно»[949].
Внешнеполитическую позицию П. Н. Дурново и его единомышленников в Государственном Совете определяло стремление избежать войны во что бы то ни стало. Отсюда, например, резко выраженное весной 1909 г. в среде правых членов Государственного Совета недовольство дипломатией А. П. Извольского: Россия, по их мнению, не должна вмешиваться в австро-сербские дела, и следовало с самого начала дать это понять. Либеральные их оппоненты при этом с некоторым удивлением отмечали «полное отсутствие у правых славянофильских тенденций»[950].
Второе, что определило и конкретизировало взгляды П. Н. Дурново на задачи внешней политики России, – это сделанный им прогноз: в Европе назревает англо-германская война из-за стремления Англии «удержать ускользающее от нее господство над морями».
Свой взгляд на международное положение России и задачи ее внешней политики П. Н. Дурново изложил в Записке[951], поданной им Николаю II в феврале 1914 г. (копии ее были вручены ведущим министрам). Это была смелая[952] попытка побудить Николая II изменить внешнеполитическую ориентацию с Англии на Германию и тем предотвратить участие России в катастрофической мировой войне. П. Н. Дурново подверг резкой критике внешнюю политику Николая II, противопоставляя ей политику Александра III. Последняя характеризовалась оборонительным союзом с Францией и добрососедскими отношениями с Германией. “Благодаря этой конъюнктуре, – считал П. Н. Дурново, – в течение целого ряда лет мир между великими державами не нарушался, несмотря на обилие в Европе горючего материала»[953].
Внешняя политика Николая II полна просчетов. Первый из них – русско-японская война[954]. По мнению П. Н. Дурново, «все задачи России на Дальнем Востоке, правильно понятые, вполне совместимы с интересами Японии. Эти задачи, в сущности, сводятся к очень скромным пределам. Слишком широкий размах фантазии зарвавшихся исполнителей, не имевший под собою почвы действительных государственных интересов – с одной стороны, чрезмерная нервность и впечатлительность Японии, ошибочно принявшей эти фантазии за последовательно проводимый план – с другой, вызвали столкновение, которое более искусная дипломатия несомненно сумела бы избежать. России не нужны ни Корея, ни даже Порт-Артур. <…> С другой стороны, и Япония, что бы ни говорили, не зарится на наши дальневосточные владения. <…> Почва для соглашения напрашивается сама собою».
Оставаясь в границах поставленной перед собой задачи и не напоминая всего букета негативных последствий войны, П. Н. Дурново обращает внимание царя на важнейшее из международных: «Русско-японская война в корне изменила взаимоотношения европейских держав и вывела Англию из обособленного ее положения».
Второе недоразумение: во время войны «Англия и Америка соблюдали благоприятный нейтралитет по отношению к Японии, между тем как мы пользовались столь же благожелательным нейтралитетом Франции и Германии. Казалось бы, здесь должен был быть зародыш будущей, наиболее естественной для нас политической комбинации. Но после войны наша дипломатия совершила крутой поворот и определенно стала на путь сближения с Англией».
Пока каких-либо выгод из этого Россия не извлекла: мы не укрепили своего положения ни в Маньчжурии, ни в Монголии, ни в Урянхайском крае (Туве); «попытка наша завязать сношения с Тибетом встретила со стороны Англии резкий отпор»; в Персии мы «потеряли по всей линии, погубив и наш престиж и многие миллионы рублей и даже драгоценную кровь русских солдат, предательски умерщвленных и в угоду Англии даже не отмщенных»; «но наиболее отрицательные последствия» этого сближения «оказались на Ближнем Востоке» (присоединение Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, «прикрепление Турции к Германии»). «Единственный плюс – улучшившиеся отношения с Японией» – не является, по мнению П. Н. Дурново, последствием сближения с Англией.
В будущем же это сближение «сулит нам вооруженное столкновение с Германией», вероятные последствия которого, даже в случае нашей победы, ужасны: «главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю; <…> роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам»; отсюда – неисчислимые жертвы, расходы, намного превышающие ограниченные ресурсы России и финансово-экономическая кабала у кредиторов; «уступки экономического характера» за благожелательный нейтралитет Японии и Америке; «новый взрыв вражды против нас в Персии»; «волнения мусульман на Кавказе и в Туркестане»; выступление против нас Афганистана; «весьма неприятные осложнения в Польше и в Финляндии».
Между тем Россия «к столь упорной борьбе» не готова. Тем не менее поведение нашей дипломатии «по отношению к Германии не лишено до известной степени даже некоторой агрессивности, могущей чрезмерно приблизить момент вооруженного столкновения».
Ориентация эта, говорит далее П. Н. Дурново, не верна. «Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства»[955].
Каких-либо выгод от разгрома Германии ждать не приходится. Присоединение Познани и Восточной Пруссии, густо населенных поляками, лишь усилит центробежные стремления в Привислинском крае. «Явно не выгодно» присоединять и Галицию из-за неизбежного в будущем малороссийского сепаратизма. «Немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам проливов», да и «не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами проливов»: вход в Черное море будет закрыт, выхода же в открытое море они нам «не дают, так как за ними идет море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, например, английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть все входы и выходы, независимо от проливов»[956]; предпочтительнее комбинация, «которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечивала бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота»: вполне достижима без войны и не нарушает интересов балканских народов. «Едва ли желательно» и приобретение в Закавказье областей, населенных армянами с их революционными настроениями и мечтами о великой Армении.
Однако там, где территориальные и экономические приобретения были бы России полезны (Персия, Памир, Кульджа, Кашкария, Джунгария, Монголия, Урянхайский край), она встречает сопротивление Англии, а не Германии.
Заключение приемлемого для России торгового договора с Германией отнюдь не требует предварительного ее разгрома. Более того: «разгром Германии в области нашего с нею товарообмена для нас невыгоден»: мы «не только потеряем все же ценный для нас потребительский рынок, но еще приобретем соседа, который вынужденно наводнит наш рынок своими, не находящими другого сбыта продуктами».
Что касается указаний на гнет немецкого засилья в экономике России и немецкую колонизацию, то – полагает П. Н. Дурново – опасения эти «в значительной степени преувеличены»; во-вторых, последствия их нельзя считать однозначно негативными; в-третьих, решение этих вопросов вполне возможно и без войны.
«Высказываться за предпочтительность германской ориентации, – подчеркивал П. Н. Дурново, – не значит стоять за вассальную зависимость России от Германии и поддерживая дружескую, добрососедскую с нею связь, мы не должны приносить в жертву этой цели наших государственных интересов».
Политические последствия «противоестественного союза» с Англией еще более значительны: ослабление мирового консервативного начала; «в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая силою вещей перекинется и в страну победительницу».
«Английская ориентация нашей дипломатии по самому существу глубоко ошибочна, – заключает П. Н. Дурново. – С Англией нам не по пути, она должна быть предоставлена своей судьбе и ссориться из-за нее с Германией нам не приходится. Тройственное согласие – комбинация искусственная, не имеющая под собою почвы общих интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному, тесному сближению России, Германии, примиренной с последнею Франции и связанной с Россией строго оборонительным союзом Японии. Такая лишенная всякой агрессивности по отношению к другим государствам политическая комбинация на долгие годы обеспечит мирное сожительство культурных наций. <…> В этом направлении, а не в бесплодных исканиях почвы для противоречащего по самому своему существу нашим государственным видам и целям соглашения с Англиею, и должны быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии».
Читал ли записку Николай II? какова была его реакция? – мы не знаем; в литературе на этот счет – различные предположения.
Нам представляется, что Николай II читал: он отдавал себе отчет в значении и сложности внешнеполитических проблем и по личному опыту знал, что П. Н. Дурново глупостей не говорит. Хотя смелость сановника, надо полагать, ему было крайне неприятна.
Что касается реакции, то она вряд ли могла отличаться от реакции на попытки других обратить внимание монарха на пагубность английской ориентации. Об одной из них вспоминает М. А. Таубе[957].
С уходом с политической сцены В. Н. Коковцова, способного сдерживать воинственные страсти своих коллег по Совету министров, заметно возросла угроза внешнеполитических осложнений и даже войны. В этих условиях, по свидетельству М. А. Таубе, среди «лиц, близко стоявших к нашим государственным делам», возникла мысль заменить С. Д. Сазонова на посту министра иностранных дел П. С. Боткиным, «спокойным, уравновешенным человеком, известным Государю с очень положительной стороны», камергером, тогда представителем России в Марокко, с личным титулом посланника и полномочного министра.
«И вот, – продолжает М. А. Таубе, – в первые два месяца 1914 года в Петербурге составился настоящий заговор для приведения в исполнение этого плана. Надо было так или иначе обратить серьезное внимание императора Николая II на то, что безрассудное англофильство Сазонова может нас привести к конфликту с Германией, о чем в Лондоне давно уже только и мечтали». Роль «публичного обвинителя» неудачной политики Сазонова выпала М. А. Таубе: ему предстояло в середине марта читать доклад на годичном собрании Русского исторического общества об австро-русской политике времен Николая I; «заговорщики» сочли удобным закончить доклад «легким экскурсом» в область современной международной политики, чтобы «в деликатных, но достаточно прозрачных выражениях показать Государю, что, как упорное австрофильство графа Нессельроде заставило его проспать образование противорусской коалиции на Западе и привело к катастрофе Крымской войны из-за “восточного вопроса”, так и в наше время тот же “восточный вопрос” может привести нас к еще худшей катастрофе».
И вот что получилось: «Слушали меня с большим вниманием, и, в частности, государь не спускал глаз с докладчика, дошедшего, наконец, до критической части – послесловия – своего доклада. И тут сразу почувствовалось, что атмосфера моей аудитории изменилась. Прежде всего, бросилось в глаза – государь теперь все чаще наклонялся к лежавшему перед ним листу бумаги и стал тщательно выводить на нем какие-то арабески; сидевший от него справа, его личный друг, граф Сергей Дмитриевич Шереметев, поглядывал с видимым любопытством, но и с некоторым смущением; наконец наш фактический председатель Общества великий князь Николай Михайлович не скрывал своего неудовольствия, то метая на меня строгие взгляды, то пожимая плечами и беспрерывно “ерзая” на своем кресле слева от государя. Остальные присутствовавшие теперь уставились каждый в лежавший перед ним лист бумаги».
После доклада «никакого обмена мнений не случилось», Николай II стал прощаться, обходя членов собрания. Подавая руку докладчику, он «со своей обычной приветливостью громко сказал: “Благодарю Вас за Ваш чрезвычайно интересный и серьезный доклад”». Великий князь Николай Михайлович, уже по дороге в Петербург, выразил «неудовольствие: “Как это Вас дернуло превратить свой научный исторический доклад о Фикельмоне в политическую атаку против теперешней нашей внешней политики? Хорошо еще, что при этом не было Сазонова”».
На следующий день великий князь по телефону успокоил М. А. Таубе: «Его Величество остался чрезвычайно доволен всеми вчерашними докладами, в частности и Вашим. О нем мы говорили довольно много – и государь находит, что все это очень сложные и трудные вопросы, о которых нужно серьезно подумать». «Заговорщики» были обрадованы: появилась надежда на «какие-то реальные результаты, раз <…> было признано необходимым “серьезно подумать”». Однако, с грустью констатировал М. А. Таубе, «реальные результаты стали проявляться лишь в форме городских слухов и сплетен: “Вы знаете, Сазонов вновь назначается куда-то за границу”».
И только 29 декабря 1914 г., после всеподданнейшего доклада, М. А. Таубе узнал, где была зарыта собака. «А вы знаете, – сказал Николай II, – при Вашем последнем докладе в Обществе я во время чтения был Вами несколько недоволен: вот, думал я, теоретик-профессор, который из прошлой неудачной русской политики времен моего прадеда, выводит свои опасения относительно сохранения мира при мне, – а я ведь был твердо уверен, что если когда-нибудь дело дойдет до столкновения с Германией, то это будет, во всяком случае, уже не при мне»[958].
Сегодня известно, что дело зашло так далеко, что развернуться даже психологически было почти невозможно, а по мнению многих специально занимавшихся вопросом, вступление России 1 августа 1914 г. в войну «фактически не имело альтернативы»[959]. И можно, казалось бы, не сомневаться, что записка П. Н. Дурново просто очень запоздала. Оказывается, однако, все куда проще: «при мне» войны с Германией не будет (наверное, потому, что он ее не хотел). Не хотел он и революции: «На упрямо отрицавшего революцию царя, даже в те дни, когда революция уже ломилась в двери, записка Дурново <…> должного впечатления не произвела»[960].
В этих условиях блестящий анализ и страшный прогноз П. Н. Дурново никакого значения не имели и никакой роли сыграть не могли. «Не умудрила записка и немудрого и легкомысленного С. Д. Сазонова»[961].
П. Н. Дурново: клеветнические слухи
«Знаю на опыте и вижу ежедневно, – заметил К. П. Победоносцев, – каким могучим орудием интриги и злобы служит ныне сплетня и клевета, намеренно сочиняемая и распускаемая. Трудно и поверить, до какого развития доведено это искусство»[962].
Сплетни и клевета сопровождали П. Н. Дурново всю жизнь и не оставили его и после смерти: злословили любители перемывать косточки; завидовали; не прощали ума, характера, успеха; много было любителей топтать поверженного; намеренно клеветали политические оппоненты и враги.
Удаление из департамента полиции в Сенат вызвало пересуды: в салоне Богдановичей живописали безобразия, «которые производил Дурново в течение 5 лет: посылал своих любовниц агентами тайной полиции в Париж, давал 5 тысяч на путешествие и, не бывши уверенным, что там они останутся ему верны, отправлял туда же следить за их поведением настоящих сыщиков»; в департаменте полиции родилась другая байка: «Узнав о своем предстоявшем увольнении, он пришел в Департамент, призвал казначея и спросил его, сколько у него в кассе секретных денег. Тот ответил: 75 тысяч. “Запишите их в расход по агентуре и принесите мне”. Деньги были принесены, директор вынул из кармана салфетку, завернул деньги, положил их в карман, ушел домой и больше в Департамент не возвращался»[963].
Так, по слову, без санкции товарища министра, заведующего полицией, деньги из секретных сумм не расходовались. По-видимому, в основе пущенной сплетни лежит факт получения П. Н. Дурново 5 тыс. рублей выходного пособия. «Согласно разрешению Вашего Превосходительства, – писал П. Н. Дурново 3 февраля 1893 г. своему непосредственному начальнику, – имею честь испрашивать дозволение на выписку в расход из секретных сумм Департамента пять тысяч рублей для получения мною таковых в виде пособия»[964].
П. Н. Дурново нуждался в деньгах, но вором-казнокрадом не был: последние покупают имения, он же имение жены заложил в Дворянском банке за 12 тыс. рублей. Да и не мог он опускаться до этого. Не будем говорить о чести и достоинстве П. Н. Дурново: политические противники, а затем и советские «историки» так оболгали его, вылили на него столько грязи, что все еще в общественном сознании они – честь, достоинство и Дурново – не совместимы. П. Н. Дурново был слишком умен (а ум его признавали и признают), чтобы рубить сук, которым он только и держался: государственная служба была единственным источником его существования.
О Дурново-министре особенно много сплетничали: «очень легкомысленный», его министерство «менее других бывает осведомлено», «умный человек, а делает глупость», «ненадежный», «от строгих мер и арестов толку не будет», «премьером не годится ради его прошлого», уходит – не уходит и т. д., и т. п.[965]
В 1905 г. А. А. Стахович[966] опубликовал в газете «Молва» (5.12) письмо, которое не единожды тогда пересказывалось в либеральных и революционных газетах и листках с единственной целью – замарать, скомпрометировать министра. Тем не менее многие с легкостью готовы были верить. Так, А. А. Киреев записывает: «Стахович (Александр) уличает и[сполняющего] д[олжность] министра внутр[енних] дел П. Дурново в том, что он, Д[урново], сделал со своим овсом какой-то паскудный гешефт; легко может быть»[967].
Некоторые из пересказов воспроизводятся и в постсоветское время: А. Стахович «в очень решительных выражениях и очень определенно обвинял Д[урново] в том, что, продав ему, Стаховичу, как уполномоченному военного ведомства на нужды армии, находившейся на Д[альнем] В[остоке], 15 000 пудов овса из своего имения и получив задаток в размере 80 %, он отказался поставить в армию этот овес, как только обнаружилось, что продажная цена на него значительно повысилась, и требовал от военного ведомства возмещения убытков, в действительности, по утверждению Стаховича, им не понесенных. Письмо это осталось без опровержения»[968].
Обращение к тексту письма А. А. Стаховича обнаруживает нечто совсем иное: Стахович купил у Дурново 15 000 пудов овса по 46 коп.; овес следовало поставить на станцию Колышлей не позже 01.03.1905; Дурново получил 5500 рублей (80 % причитающейся ему суммы); Стахович не вывез своевременно закупленный овес; Дурново попросил «добавочную плату за несвоевременную приемку» от него овса; Стахович предложил «сперва прибавку 1 коп. на пуд за летнюю доставку и за хранение с 1-го марта – сперва по 2 руб. 40 коп. с 1000 пудов, а затем, по просьбе Дурново, по 3 руб. с каждого вагона (750 пудов)»; из-за неурожая цены выросли «более чем на 10 коп.»; Дурново письмом от 18.06. попросил «освободить» его от поставки овса; 13.07 Стахович ответил: «Я, соглашаясь, что формально вы, пожалуй, и имеете право отказаться от поставки, указывал вам, что нравственного на то права я не могу за вами признать: в виде задатка вы получили почти полную стоимость овса; за хранение его в своих же амбарах вам назначена очень высокая плата, и, кроме того, за летнюю доставку вам прибавлено по 1 коп. с пуда. Указывал, что за это время цена на овес сильно поднялась и что потому, освободив вас от поставки, я нанесу тем крупный ущерб казне. Основываясь на этом, я не согласился на расторжение сделки, указав вам, что соглашаюсь в виде льготы, принять у вас овес зимним путем»; Дурново согласился; Стахович уехал на 1,5 месяца в отпуск; в начале сентября представитель интендантства приехал принимать овес, однако жена Дурново «отказалась от сдачи овса и внесла в казначейство 5500 рублей (сам Дурново был в Петербурге); Главный интендант освободил Дурново от сделки; Дурново попросил «возместить убытки от продолжительного хранения овса» (1500 руб.); Стахович не согласился: «продержать 10 месяцев без процентов 5500 рублей не убыточно, а выгодно»; Дурново продал овес по 64 коп.
«Но общественное мнение, – заключает Стахович письмо, – к которому я и обращаюсь, наверное, достойно заклеймит ваши поползновения выхватить из казны не причитающиеся вам, собираемые с нищего народа деньги».
Что же получается? А. А. Стахович, видимо, в заботах о «нищем народе» в течение 6-ти месяцев не удосужился вывезти купленный овес. Дурново деньги вернул, за хранение овса ни копейки не получил, да – вдобавок – был Стаховичем ославлен.
В 1906 г. газета «Страна» (14.09) пустила слух, что Дурново не платил земских сборов, которых к 1906 г. накопилось 12 418 рублей.
28 сентября 1906 г. у Богдановичей «Мордвинов (Н. Л., директор канцелярии МВД по делам дворянства в 1902–1906 гг. – А. Б.) говорил про отчаяние Григориянца (смотритель домов МВД), что он вчера должен был доложить Столыпину, что П. Н. Дурново из казенной квартиры увез всю мебель к себе. Столыпин приказал донести себе об этом официально. Вот срам!»[969]
В 1908 г. новый слух: за Дурново накопилась столь большая недоимка по квартирному налогу, что решено было не выдавать заграничного паспорта «впредь до уплаты» всего долга.
1915 год. «“Русское слово” настолько партийно оподлилось, – возмущался Л. А. Тихомиров, – что в огромной статье обливает труп только что скончавшегося всяческими помоями, вынося все, что только можно найти предосудительного в жизни этого врага революции, и без сомнения даже сочиняя (насчет какой-то поставки овса из своего имения). Разумеется, не упускает из виду и известной истории с бразильским посланником, упуская только один эпизод из нее: что Дурново лично исколотил этого посланника из-за этой прелестницы»[970].
М. А. Алданов в эмиграции, познакомившись с Запиской П. Н. Дурново и заинтересовавшись его личностью, обнаружил, что «в русской новейшей историографии это совершенно неосвещенная фигура». Расспрашивая и «бывших сановников», и «некоторых революционеров-эмигрантов», пришел к такому заключению: «В денежном отношении он был человек честный, и ни в какой форме продажности его никто никогда не обвинял. Но состояния у него не было, а была семья, и он постоянно нуждался в деньгах. Играл на бирже без особого успеха»[971].
В деньгах П. Н. Дурново действительно нуждался. Так, в 1883 г. семейные обстоятельства (рождение сына, болезнь жены) побудили его просить отпуск и взять «заимообразно» 2 тыс. рублей из секретных сумм департамента полиции «с тем, чтобы долг этот погашался ежемесячными взносами»[972].
П. Н. Дурново: имущественное положение
Относительно имущественного положения П. Н. Дурново в нашей литературе бытует весьма преувеличенное представление. Так, еще С. П. Трапезников приписал ему родовое имение (3250 дес.) И. Н. Дурново (1834–1903) в Черниговской губернии[973]. Широко распространено заблуждение, будто дача на Полюстровской набережной Петербурга, захваченная в Февральскую революцию анархистами, принадлежала П. Н. Дурново[974], в то время как ее владельцем был П. П. Дурново (1835–1923), крупнейший земле– и домовладелец (123 600 дес. в 8-ми губерниях и 5 домов в Петербурге), бывший в июле – ноябре 1905 г. московским генерал-губернатором.
П. Н. Дурново никогда богатым не был. В 1892 г. за его женой значилось имение при селе Трескино (по имени основателя, помещика И. Т. Трескина) в Сердобском уезде Саратовской губернии (ныне Колышлейский район Пензенской области) – 700 дес., заложенные за 12 тысяч рублей в Дворянском банке; позднее земли прикупили, и в 1905 г. за женой же значилось 1400 дес. Здесь он построил в конце XIX в. двухэтажный особняк с лепными потолками и дубовым паркетом и одноэтажное здание из красного кирпича, где был его кабинет и библиотека[975]. Был каретник, фруктовый сад (сдавался в аренду). В имении подолгу жила Е. Г. Дурново. Осенью 1905 г. имение было сожжено.
Квартиру в Петербурге П. Н. Дурново снимал (будучи членом Гос. совета – по адресу: Моховая, 27–29, кв. 27; жена и дочь его жили здесь до 1925 г. В этом же доме до революции снимали квартиры В. Н. Коковцов, В. И. Тимирязев, В. И. Ковалевский), а казенную занимал короткое время, будучи министром.
Имение, по-видимому, было малодоходным. Так, летом 1907 г. на вопрос «А в деревню к себе не поедете?» П. Н. Дурново отвечал: «Прежде ездил каждое лето, но это слишком дорого обходится. Я в хозяйстве толку не знаю, поэтому им не занимаюсь; жена также ничего не понимает, но зато вводит всякие “рациональные” нововведения, которые стоят больших денег и дохода не дают. Я нашел, что дешевле ехать заграницу, чем к себе в имение улучшать хозяйство»[976].
Каких-либо должностей в акционерных, промышленных, торговых и кредитных обществах и товариществах он не занимал[977].
Источником существования П. Н. Дурново были жалование по службе, а также ценные бумаги: в 1912 г. он значился среди акционеров Петербургского учетного и ссудного банка, имея 325 акций (номинальная стоимость акции – 250 рублей; дивиденд за 1912 г. – 30 рублей на акцию; цена акции на Петербургской фондовой бирже составляла на 31 декабря 1912 г. 449 рублей)[978].
Болезнь и смерть
В конце декабря 1914 г. П. Н. Дурново заболел. Вот как отражает это С. Д. Шереметев в своем дневнике и письмах: «почувствовал ослабление, приняв сильную дозу лекарства, а главное ради волнений с назначением Булыгина, а еще более ради мероприятий Голубева, уже начавшем вводить новшества в духе, противоположном Акимову». 8 января 1915 г. С. Д. Шереметев застал его в постели[979].
Болезнь П. Н. Дурново опечалила правых. 15 и 17 января 1915 г. П. Н. Дурново не был в Мариинском дворце. «Дурново не приехал [на заседание группы правых], и это меня расстроило», – записывает С. Д. Шереметев[980]. «Я очень сожалею о болезни Дурново – это столб, потеря которого была бы большим несчастьем для дела правых в Государственном Совете» – вторит А. К. Варженевский[981].
7 февраля «вид его гораздо крепче, – отмечал С. Д. Шереметев. – Видимо поправился. <…> Радуюсь, что здоровье Д[урново] действительно поправилось»[982]. Однако 26 марта С. Д. Шереметев заключил из слов Е. Г. Дурново, «что едва ли можно на него рассчитывать как на деятеля. И она думает только о том, как бы его увезти в Кисловодск, а затем в Саратовское имение»[983].
Действительно, в мае 1915 г. жена возила П. Н. Дурново в Кисловодск, где он останавливался в санатории С. Ганешина.
Во время XI сессии Государственного Совета А. Г. Булыгин сообщает С. Д. Шереметеву: «Петр Николаевич очень жалок. При плохом состоянии здоровья он, конечно, не может серьезно работать, а с другой стороны, не может и примириться, что не он назначен [председателем Государственного Совета]. Поэтому он все и всех бранит, а от этого дело не выигрывает»[984]. Десять дней спустя: «Дурново очень ослабел и, председательствуя в группе, засыпает. По-видимому, он сознает свою немощность и отказался от председательствования»[985].
11 сентября 1915 г. в 12 часов дня от паралича сердца у себя на квартире П. Н. Дурново скончался. «Еще утром, проснувшись, покойный почувствовал себя дурно. Немедленно были приглашены врачи. Несколько оправившись, Дурново попросил перенести его в кресле в кабинет. Во время чтения газет с ним произошел припадок, и когда явился проживавший в соседнем доме врач, то он уже был мертв»[986].
«Скончался Петр Николаевич Дурново, – пометил Л. А. Тихомиров, – Царство ему небесное»[987]. «Это очень большая потеря для правых в Государственном Совете <…>, – писал А. К. Варженевский. – С его смертью правая группа еще больше разобьется на кружки и потеряет свою силу, зависящую в подобных собраниях исключительно от сплоченности[988].
«С 10 часов церковь в доме шефа жандармов – полна. Золотые мундиры сановников узорной нитью сплетаются с походной формой офицеров и траурным крепом дам. Торжественно и тихо. Плывут звуки погребальных песнопений, до глубины души трогает проникновенная служба. Рядом с блестящими мундирами – много незаметных штатских, много молодых офицеров – все идейные поклонники скончавшегося великого государственного мужа». Среди пришедших проститься: Н. Е. Марков, А. В. Кривошеин, кн. Щербатов, А. Д. Самарин, И. Я. Голубев, С. С. Игнатьева, Г. Г. Замысловский[989].
Гроб по железной дороге был перевезен до станции Колышлей, где был встречен собравшимися крестьянами. Похоронили в ограде церкви во имя Рождества Христова села Трескино в специально построенном склепе, перед входом в который был установлен огромный камень из черного мрамора с надписью «Петр Николаевич Дурново. Скончался 11-го сентября 1915-го года».
Церковь в советское время была частью разрушена, а частью приспособлена под больницу. В начале 2003 г. в селе Трескино открыт мужской монастырь. На месте разрушенной церкви воздвигнут каменный храм, обнесенный каменной оградой. У алтаря храма – сохранившаяся могила П. Н. Дурново.
Приложение
Из речи П. Н. Дурново в общем собрании Гос. Совета 17 дек. 1910 г. // Гос. Совет. Ст. отчеты. 1910–1911 годы. Сессия четвертая. СПб., 1911. Стб. 595–597, 598.
«По моему понятию, в совести каждого человека или около нее, там, где-то в недрах человеческого духа, существуют создаваемые воспитанием, жизнью, условиями общественного быта сдерживающие элементы или, что то же самое, понятие о нравственной дисциплине. Эта дисциплина, по внушениям веры, законов, традиций, на всех многочисленных путях, по которым двигаются страсти, слабая воля и человеческие немощи, ставит как бы сторожевые столбы. Перед этими столбами совесть останавливается. Дисциплинированная совесть задумывается, и человек переходит на путь долга, чести, верности клятвам и нерушимости обетов. Люди с недисциплинированной совестью идут по другой дороге. Дорога эта приводит солдата к бегству перед неприятелем и священников – в чиновники. Упомянув раз о солдате, я должен сказать, что есть солдаты, которые, лежа в суровую погоду в траншеях, думают, что, как бы хорошо было идти отдохнуть, мысли их могут доходить до таких даже пределов, что для чего война, для чего нас сюда послали? Но это не мешает таким солдатам по приказанию стрелять и идти на неприятеля. Есть монахи и священники, которые, стоя 5 часов ночью за церковной службой, думают о том только, чтобы идти спать и отдохнуть. В это время мысли их бросаются на разные предметы в этой области. Они могут сомневаться, нужно ли, вообще, так долго стоять за церковной службой, какие это правила, которые устанавливают утомлять человека до болезненности, и что этого можно избежать и молиться только мысленно. Но такие солдаты и такие монахи, если они возвращаются к своему долгу, как я уже сказал, не плохие солдаты и не плохие монахи. Солдаты эти могут совершить чудеса храбрости и создавать ореолы для народной славы и доблести. Эти монахи и священники, которые, повинуясь во что бы то ни стало церковным установлениям и церковной дисциплине, содействовали укреплению Церкви и религиозного благочестия в народе. Что бы ни говорили, что бы ни писали, монастыри существуют столетия, и что бы в этих монастырях ни делалось, монастыри тем не менее остаются живыми, как Церковь, и в этих монастырях среди монахов, которые, может быть, в головах своих думают о том, как бы хорошо идти спать вместо того, чтобы стоять у всенощной, – народ черпает свое благочестие, и религиозное чувство его укрепляется. Я думаю, что, применяя эти мысли к вопросу, нас занимающему, быть может, и вдовые священники и в особенности те, которые удручаются тем, что перестают верить в истины христианской Церкви, представятся Вам в несколько ином свете. Я помню не то оперу, не то драму, в которой воины обвиняли своего военачальника в том, что он сделал что-то такое неправильное. Он им говорил, что и какая-то дама очень красивая, что и дети плачут, и еще что-то такое, что у него было в мыслях, а они ему отвечали только двумя фразами: “ты обещал, ты клятву дал”. Эти древние или средневековые люди были крепки духом, они не смущались ни теориями, ни разными соображениями социал-демократов, трудовиков и т. п. людей, но они твердо шли по пути создания царств и укрепления их могущества. <…> Кто может сомневаться, что совесть свободна? Кто может сомневаться в том, что каждый в совести своей решает вопросы по своему добровольному побуждению, но что это не мешает человеку поступать так, как приказывает закон».
Примечания
1
См., напр.: Зимина В. Д. Крах монархической контрреволюции на Северо-Западе России // Вопросы истории. 1987. № 7. С. 41; Искендеров А. А. Закат империи. М., 2001. С. 60; на с. 204 автор помещает П. Н. Дурново «в окружение царя», а на с. 474 утверждает: «В 1906 г. вместе с остальными членами правительства С. Ю. Витте он вышел в отставку (?! – А. Б.) и несколько лет (?! – А. Б.) провел за границей. Вернувшись в Россию после убийства (?! – А. Б.) П. А. Столыпина, он вновь занял свое место в наиболее консервативной части Государственного Совета»; Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 732. Комментарий 48; Савич Н. В. После исхода: Парижский дневник. М., 2008. С. 532. Примечание.
(обратно)2
Антонов П. Л. Автобиография // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 91; Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах. Т. 2. М., 1964. С. 157–158; Иванчин-Писарев А. Воспоминания о П. Н. Дурново // Каторга и ссылка. 1930. Кн. 7 (68). С. 43, 51; Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 514; ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 225 (Биографические сведения о жизни и деятельности В. М. Андреевского). Л. 31; Воспоминания губернатора (1905–1914 гг.). Пг., 1916. С. 17–18; Любимов Д. Н. События и люди (1902–1906) // РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 458; Шинкевич [Е.Г.]. Воспоминания и впечатления. 1904–1917 гг. // Там же. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 51. Л. 9.
(обратно)3
Дневник С. Д. Шереметева // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5051. Л. 18.
(обратно)4
Мемуары протоиерея Буткевича Тимофея // ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 382. С. 3885.
(обратно)5
См., напр.: Болотов А. В. Святые и грешные. Воспоминания бывшего человека. Париж, 1924. С. 189; А. К. Варженевский – С. Д. Шереметеву, 13 сент. 1915 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5129. Л. 65–65 об.; Васильчиков Б. А. Воспоминания. М., 2003. С. 225; Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. СПб., 2003. С. 133, 263; Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 95; Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 42–44; Государственный совет (Гос. совет). Стенографические отчеты Ст. отчеты). 1911–1912 годы. Сессия седьмая. СПб., 1912. Стб. 1313, 3576 (речи П. М. фон Кауфмана и Д. И. Багалея); Гурко В. И. Указ. соч. С. 483, 484; Дневник Г. О. Рауха // Красный архив. 1926. Т. 6 (19). С. 98; Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 21–22; Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 271, 277, 311; Львов Л. (Клячко Л. М.). За кулисами старого режима. Т. 1. Л., 1926. С. 46; Мартынов А. П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // «Охранка»: Воспоминания руководителей политического сыска Т. 1. М., 2004. С. 106; Милюков П. Либерализм, Радикализм и Революция (По поводу критики В. А. Маклакова) // Современные записки. Т. LVII. Париж, 1935. С. 305; Раздор палат // Новое Время. 1910. 14 (27) дек.; Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 589; Шинкевич [Е.Г.]. Указ. соч. Л. 8 об.–10; Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. Запись 12 сент. 1915 г. М., 2008. С. 127; Дневник С. Д. Шереметева. Запись 4 янв. 1911 г. // Д. 5056. Л. 4 об.; Алданов Марк. Предсказание П. Н. Дурново // Журналист. 1995. № 4. С. 59.
(обратно)6
Алданов М. А. Ключъ. Берлин, 1929. С. 162.
(обратно)7
Алданов Марк. Указ. соч. С. 58.
(обратно)8
Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 183.
(обратно)9
См., напр.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. С. 15, 16; Кожинов Вадим. Загадочные страницы истории XX века // Наш современник. 1993. № 10. С. 137; Павлович М. Вступительная статья к записке П. Н. Дурново // Красная новь. 1922. № 6 (10). С. 180–182; Тарле Е. В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг. // Соч. в 12 томах. Т. V. М., 1958. С. 266–269; Он же. Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г. // Там же. Т. XI. M., 1961. С. 506–507; Lieven Dominic. Russia,s Rulers Under the Old Reqime. Yale University Press. New Haven and London. 1989. P. 229; и др.
(обратно)10
Тарле Е. В. Германская ориентация… С. 507. По оценке К. А. Кривошеина, П. Н. Дурново предвидел «с фотографической точностью» (Кривошеин К. А. А. В. Кривошеин (1857–1921). Его значение в истории России начала XX века. Париж, 1973. С. 201).
(обратно)11
Записка П. Н. Дурново Николаю II. Февраль 1914 г. // Красная новь. С. 197.
«В своих предсказаниях правые оказались пророками, – признал позднее В. А. Маклаков. – <…> И их предсказания подтвердились во всех мелочах» (Маклаков В. А. Из прошлого // Современные записки. Т. 38. Париж, 1929. С. 280).
(обратно)12
Lieven D. Op. сit. P. 229.
(обратно)13
Л. А. Тихомиров – А. А. Кирееву, 28 янв. 1906 г. // РО РНБ. Ф. 349. Д. 66.
(обратно)14
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 8 янв. 1915 г. // Д. 5060. Л. 7.
(обратно)15
Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 405, 400–401.
(обратно)16
С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 27 янв. 1912 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 3007. Л. 225–226.
(обратно)17
Цит. по: «Перевод статьи Диллона в Daily Telegraph» // Там же. Д. 5090. Л. 211.
(обратно)18
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия седьмая. Стб. 389.
(обратно)19
«Личным мужеством и физической храбростью Дурново также отличался в высшей степени», – удостоверяет В. И. Гурко (Гурко В. И. Указ. соч. С. 483). Д. Н. Любимов возвращался с П. Н. Дурново 28 ноября 1905 г. с панихиды по П. Л. Лобко в здание МВД пешком и его «поразило» то обстоятельство, что его, «опытный в этом отношении взгляд не мог найти никаких даже признаков охраны министра. Во время своих выездов из дому Дурново ее совершенно отменил» (Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 458). П. Н. Дурново, подтверждает С. Ю. Витте, «бравировал опасностью» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 492). И. И. Толстой очень удивился, встретив 8 мая 1907 г. «П. Н. Дурново, прогуливавшегося с дочерью по Невскому пр[оспекту]» (Толстой И. И. Дневник в двух томах. Т. I. 1906–1909. СПб., 2010. С. 319).
(обратно)20
Редигер Александр. История моей жизни. Т. 2. М., 1999. С. 403.
(обратно)21
Так, 7 декабря 1914 г. М. М. Андронников обратился к П. Н. Дурново с предложением подписать адрес И. Л. Горемыкину: «Если Вы его одобрите и найдете не противоречащим Вашим убеждениям – благоволите подписать и прислать мне обратно для немедленной отсылки другим лицам». П. Н. Дурново не пожелал быть в одной компании с князем: «Милостивый Государь князь Михаил Михайлович, по общепринятому обычаю, адреса политического характера подаются в самый день, к которому приурочиваются празднования юбилеев или годовщина известных событий, причем тексты адресов составляются по общему согласию лиц, принимающих на себя заботу о чествовании юбиляров. Между тем в данном случае мне совершенно неизвестно, по чьему почину был составлен адрес Ивану Логгиновичу, а представление его почти через 2 м-ца после 27-го Октября едва ли может быть оправдано какими-либо основаниями. Поэтому, не взирая на мое глубокое уважение к Ивану Логгиновичу, с которым нахожусь в течение многих лет в наилучших добрых отношениях, я затрудняюсь тем не менее подписать присланный Вами адрес». Андронников был уязвлен и, раздосадованный, отвечал колкостями (РГИА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 274. Л. 1–2).
Днями ранее Андронников прислал этот адрес графу С. Д. Шереметеву с предложением подписать его. Шереметев запросил А. Г. Булыгина и в ответ получил: «Что касается адреса Горемыкину, то обязываюсь сказать, что Андронников – великий прохвост» (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5124. Л. 113).
Андронников князь Михаил Михайлович (1875–1919) – сын М. А. Андронникова, адъютанта в. к. Михаила Николаевича. Учился в Пажеском корпусе, отчислен по болезни (1895). Причислен к МВД (1897–1914). Камер-юнкер. Титулярный советник. В 1914–1916 гг. – чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода. В окружении Г. Е. Распутина (до февраля 1916: выслан в Рязань). С 23 марта по 11 июля 1917 г. – в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Расстрелян ВЧК.
Его «били даже в специальных классах за его бросавшуюся в глаза извращенную безнравственность» (Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1986. С. 45).
«По натуре, по его скромности он большой сыщик и провокатор и в некотором отношении интересный человек для власть имущих. <…> Одно понятно, что это дрянная личность. Он не занимает никакого положения, имеет маленькие средства, неглупый, сыщик не сыщик, плут не плут, а к порядочным личностям, несмотря на его княжеское достоинство, причислиться не может» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 747; Т. 2. С. 238).
«Княжеский титул, неимоверный апломб, беглый французский язык, красивая остроумная речь, то пересыпанная едкой бранью, то умелой лестью и комплиментами, а также бесконечно великий запас сведений о том, что было и чего не было, – все это делало князя весьма интересным и для многих нужным человеком. И его принимали, хотя за глаза и ругали, ибо все отлично знали, что нет той гадости, мерзости, сплетни и клеветы, которыми бы он не стал засыпать человека, пошедшего на него войной.
<…> Он знал все, кроме революционного подполья» (Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция 1914–1917 гг. Кн. I. Нью-Йорк, 1960. C. 217, 218).
(обратно)22
Когда внутренняя и внешняя политика В. Н. Коковцова подверглась резкой критике со стороны правой группы Государственного Совета, П. Н. Дурново выражал к нему лично «крайне внимательное отношение» (Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Т. 2. Париж, 1933. С. 319).
(обратно)23
В. Ф. Джунковский, будучи в мае 1911 г. проездом в Берлине, навестил в больнице ожидавшего операцию П. Н. Дурново. «Мое посещение в такое тяжелое для него время (Дурново был в опале, одинок: его никто не посещал. – А. Б.), – вспоминал В. Ф. Джунковский, – оставило в нем благодарное ко мне чувство, и когда я уже был товарищем министра внутренних дел, то, несмотря на некоторую разность наших взглядов относительно ведения дел в Департаменте полиции, он всегда относился ко мне не только доброжелательно, но и предупредительно» (Джунковский В. Ф. Указ. соч. Т. 1. М., 1997. С. 566).
П. Ф. Лесгафт лечил сына П. Н. Дурново. «Да, когда никто не помог, за мной прислали. И, – Петр Францевич лукаво улыбается, – зато при нем меня пальцем не трогали» (Фигнер Вера. После Шлиссельбурга. Избранные произведения в трех томах. Том третий. М., 1933. С. 202). URL: (дата обращения: 27.02.2013).
(обратно)24
Connait non homme – ведун, а не человек (фр.).
(обратно)25
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 21 февр. 1911 г. // Д. 5056. Л. 36–37.
(обратно)26
«Подозрительность вообще не в моем характере», – заметил он в письме к С. Ю. Витте (РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 312. Л. 1 об.).
(обратно)27
Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 411. Запись 16 ноября 1906 г.
(обратно)28
Бельгард А. В. Воспоминания. М., 2009. С. 343.
(обратно)29
Гурко В. И. Указ. соч. С. 484. В. И. Гурко, по свидетельству А. В. Бельгарда, «выделялся всегда действительным знанием дела, точной определенностью своих взглядов и исключительной способностью легко и ясно формулировать свою мысль» (Бельгард А. В. Указ. соч. С. 338). «В. И. Гурко был человек редкой личной одаренности и блестящий представитель той умной, живой и изумительно работоспособной бюрократии, которую создала императорская Россия и в создание которой вложились такие люди, как М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, М. А. Корф, Д. А. и Н. А. Милютины и многие другие крупные люди. Это сочетание личной одаренности и групповой культуры поражало в покойном В[ладимире] И[осифовиче]» (Струве П. Б. Дневник политика (1925–1935). М.; Париж, 2004. С. 236). «Являлся одной из самых крупных фигур бюрократии, – выдающегося ума, непреклонного характера и крайнего монархического направления, – и мог бы сыграть очень серьезную роль, если бы остался в рядах правительства» (Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1992. С. 177).
(обратно)30
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 336.
(обратно)31
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 452–454.
(обратно)32
Николаевский Б. И. История одного предателя. М., 1991. С. 177.
А. В. Герасимов – «интересный и умный человек» (Б. И. Николаевский – М. А. Алданову, 17 янв. 1930 г. // Источник. 1997. № 2. С. 61).
(обратно)33
П. Н. Дурново – И. Л. Горемыкину, 25 апр. [1906 г.] // РГИА. Ф. 1626. Оп. 1. Д. 741. Л. 7–8.
(обратно)34
П. Н. Дурново – И. Л. Горемыкину, 29 сент. [1906 г.] // Там же. Л. 4–4 об.
(обратно)35
Гурко В. И. Указ. соч. С. 483.
(обратно)36
РГИА. Ф. 878 (Татищевы). Оп. 2. Д. 205. Л. 1–2. Заявление подписали 37 членов правой группы, первым – П. Н. Дурново.
(обратно)37
Ковалевский М. М. Указ. соч. С. 400.
(обратно)38
В обновленной России. Впечатления. Встречи. Мысли. Барона Ф. Ф. Врангеля, бывш. директора Императорского Александровского Лицея. СПб., 1908. С. 50.
(обратно)39
Любимов Дм. На рубеже 1905 и 1906 годов // Возрождение. 1934. 17 июня. С. 5; Бельгард А. В. Указ. соч. С. 311.
(обратно)40
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. Запись 12 сент. 1915 г. М., 2008. С. 128–129, 130. Подчеркнуто автором.
(обратно)41
Извольский А. П. Указ. соч. С. 21.
(обратно)42
Сазонов С. Д. Воспоминания. Берлин, 1927. С. 358.
(обратно)43
Факт, подтверждающий данное утверждение В. И. Гурко, – буквально накануне войны С. Ю. Витте, будучи в русском посольстве в Париже, отрицал возможность войны: «Итак, повторяю еще раз, никакой войны быть не может и не будет» (Татищев Б. А. На рубеже двух миров. Во Франции – в первую мировую войну // Новый журнал. Кн. 138. Нью-Йорк, 1980. С. 137–138).
Граф Борис Алексеевич Татищев служил по дипломатическому ведомству; во время войны был во Франции.
(обратно)44
Гурко В. И. Указ. соч. С. 225, 474, 485.
(обратно)45
Высказано предположение, что родоначальник был чех: не «Индрос», а «Индржих» – чешское «Андрей» (Калиткин Н. Н., Калиткина Е. Н. Предок Толстых и Дурново – чех? // Известия АН. Серия литературы и языка. Т. 52. М., 1993. № 4. С. 69–71).
(обратно)46
Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887; Савелов Л. М. Родословные записи. Вып. 3. М., 1909. С. 133–137; РГИА. Ф. 1343 (Третий департамент Сената). Оп. 51. Д. 232. Л. 63 об.–77 об.
Кроме Толстых и Дурново, из потомства Индроса выделились дворянские роды Васильчиковых, Молчановых, Тухачевских и Федцовых.
(обратно)47
Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский архив. Т. VII. М., 1996. С. 387–388.
(обратно)48
Алексеев А. И. Геннадий Иванович Невельской. 1813–1876. М., 1984. С. 21.
(обратно)49
О нем: Записки графа Е. Ф. Комаровского. М., 1990. С. 143.
(обратно)50
А. Н. Дурново, по словам С. М. Голицына, считал П. Н. Дурново двоюродным братом своего деда; в этом случае Н. Н. Дурново – двоюродный племянник П. Н. Дурново (Голицын С. М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 304)
(обратно)51
Дудаков С. Ю. Петр Шафиров. Иерусалим, 1989. С. 99.
(обратно)52
См.: La Noblesse de Russie. Publes par Nicolas Ikonnikov. Paris, 1957. Vol. C. 2. Р. 579–580. № 86 (Копия, хранящаяся в Отделе генеалогии Государственного музея А. С. Пушкина. Автор весьма признателен сотрудникам Отдела за любезно предоставленную возможность познакомиться с нею).
(обратно)53
См. обоснование: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. Изд. 2-е. СПб., 2002. С. 263.
В Полном послужном списке лейтенанта П. Н. Дурново (РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 717. Л. 381) датой рождения указано 24 ноября 1842 г.
(обратно)54
Флоренский П. Тайна имени. М., 2007. С. 372.
(обратно)55
«Тигр рожден под знаком мужества. Он – фигура властная, придерживается твердых убеждений и взглядов. У Тигра сильная воля, он человек решительный и делает все с огромной энергией и энтузиазмом; очень подвижен, обладает быстрым умом, чрезвычайно активен. Он привык к оригинальному мышлению, полон новых идей и всегда готов взяться за осуществление какого-либо нового проекта.
Тигр обожает, когда ему бросают вызов, любит участвовать в мероприятиях с интересным будущим. Он готов пойти на риск и очень не любит, когда его связывают условности или диктат со стороны других людей. Тигр стремится к свободе действий и по крайней мере раз в жизни способен отбросить осторожность и делать то, что хочет. У тигра беспокойный характер. Он способен полностью отдаться какому-либо проекту, но может случится, что его энтузиазм погаснет, если появится что-либо более увлекательное.
Он может быть очень импульсивным, но может пожалеть о совершенных поступках.
Тигр, как правило, удачлив в делах, но в результате провала способен впадать в довольно длительную депрессию. Жизнь Тигра всегда состоит из взлетов и падений.
Однако Тигр легко приспосабливается к обстоятельствам. Он предприимчив и редко остается подолгу на одном месте. На ранних этапах жизни может сменить несколько профессий и часто переезжает с места на место.
Тигр честен и открыт в деловых отношениях с партнерами, ненавидит лицемерие и ложь, склонен откровенно и четко выражать свое мнение. Он способен возмутиться, если на него оказать авторитарное давление, это может создать конфликтную ситуацию, но Тигр никогда не отступает и твердо отстаивает свои убеждения.
Тигр всегда выступает в роли лидера, достигает самой верхней ступеньки на профессиональной лестнице. Однако не любит бюрократии и неохотно подчиняется приказам. Тигр упрям, имеет независимый нрав, не желает ни перед кем отчитываться. Он склонен считать, что никому не обязан своими успехами, кроме самого себя, и редко обращается за помощью к другим людям. Как ни странно, несмотря на свою самоуверенность и качества лидера, Тигр может быть нерешительным и откладывать принятие важного решения до последнего момента. Он также болезненно воспринимает критику.
Несмотря на то, что Тигр зарабатывает немало денег, он может быть расточительным и не всегда выгодно вкладывает деньги. Однако он бывает очень щедрым, осыпая дарами своих друзей и родственников. Тигр очень заботится о своей репутации и о том, какое впечатление производит на окружающих, ведет себя с достоинством, ему нравится быть в центре внимания. Он любит, когда говорят о нем или о деле, которое он возглавляет.
У водяного Тигра чрезвычайно широкий круг интересов, он всегда готов экспериментировать с новыми идеями и исследовать далекие земли. Он широко образован, умен и добр. Он остается спокойным в кризисной ситуации, однако временами проявляет досадную нерешительность. У него складываются хорошие взаимоотношения с окружающими, он умеет убеждать людей и, как правило, достигает своих целей в жизни. У него живое воображение, и он легко может стать талантливым оратором или писателем» (Нейл Сомервилл. Ваш китайский гороскоп. М., 2004).
(обратно)56
Дурново Николай Сергеевич (10.03.1817, Москва – не ранее 1869) – из дворян Московской губ. Православный. Окончив частный пансион в Москве, поступил унтер-офицером в Гусарский е. в. короля Вюртембергского полк (1835). Юнкер (1835). Корнет (1838). Уволен по домашним обстоятельствам для определения к статским делам (1838). Определен прапорщиком в С.-Петербургский жандармский дивизион (1839). Прикомандирован к штабу Корпуса жандармов (1840), затем – к III отделению с. е. и. в. канцелярии для исправления должности цензора (1840). Перемещен в Дербент в той же должности (1840). Произведен в поручики (1841, за отличие). Перемещен в С.-Петербургскую губернию (1841). Уволен от службы штабс-капитаном по болезни (1842). Определен (по прошению) в III департамент министерства государственных имуществ и переименован Сенатом в губернские секретари (1842). Уволен по прошению (1843). И. д. городничего в г. Вилькомир Виленской губ. (1844). Благодарность министра внутренних дел (1844). Уволен по прошению (1845). Определен штатным смотрителем Слонимского уездного для дворян училища (1845). Председатель Слонимской Еврейской комиссии (1845). Произведен в коллежские асессоры (1845). Уволен по прошению (1851). Определен (по прошению) кандидатом для занятия должности (в губернии) по МВД (1851). Командирован в Могилевскую губ. для сбора сведений по народному продовольствию (1852). Произведен в надворные советники (1852, по выслуге лет). Командирован в Саратовскую губ. «для произведения исследования о пропавших в Саратове двух мальчиков, которые впоследствии найдены умерщвленными» (1853). «Окончив поручение с отличным усердием, возвратился в С.-Петербург» (1853). И. о. саратовского вице-губернатора (1854). Отозван в С.-Петербург (1855). И. д. виленского вице-губернатора (1855, не отбывал). И. о. олонецкого вице-губернатора (1856). Уволен (1857) (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 4880. Л. 4–6; РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 735. Л. 74–74 об.)
(обратно)57
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – внебрачный сын помещика и крепостной. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. Магистр (1844). Адъюнкт-профессор Киевского университета (1846). Сблизившись с украинскими учеными и литераторами, стал одним из организаторов Кирилло-Мефодиевского общества, автором его программы. Арестован (1847) и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Сосланный в Саратов, познакомился и сблизился с Н. Г. Чернышевским, А. Н. Пыпиным, поляками, сосланными за участие в восстании 1830–1831 гг.; изучал национально-освободительную борьбу под руководством Б. Хмельницкого и восстание С. Разина. Освобожденный от полицейского надзора (1856), служил секретарем саратовского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. С 1859 г. – экстраординарный профессор Петербургского университета. На его «вторниках» бывали Чернышевский, Т. Г. Шевченко, Н. А. Добролюбов, Н. А. Некрасов, В. В. Стасов и многие другие представители «передовой интеллигенции». После выхода в отставку (1862) занимался исследованиями по широкому спектру проблем русской и украинской истории, беллетристикой и публицистикой. Похоронен на Волковском кладбище (музей-некрополь «Литераторские мостки»).
(обратно)58
Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Русские нравы. М., 1995. С. 495, 499–501.
Анпион – Аппиан – грек, римский историк, автор «Римской истории».
Антиох IV Эпифан – царь Сирии из династии Селевкидов (175–163 гг. до н. э.) – в 171 г., возвращаясь из похода в Египет, подавил восстание в Иудее и подверг разгрому Иерусалим; с целью окончательного покорения Иудеи предпринял новый поход (168 г.): храм Яхве и город были разграблены, более 10 тысяч жителей обращены в рабов, иудейская религия была запрещена, введен культ греческих богов.
Дион Кассий – древнегреческий историк начала III в., автор труда по римской истории.
Кирена – греческая колония на средиземноморском побережье Африки.
Губернатором был Матвей Львович Кожевников, брат декабриста, члена Северного общества А. Л. Кожевникова (1802–1867). Участник Хивинского похода В. А. Перовского (1839), бывший в 1839–1845 гг. наказным атаманом Уральского казачьего войска, кавалер ордена св. Георгия IV ст. (1844), генерал-майор, перешел на гражданскую службу действительным статским советником и с 1846 г. управлял Саратовской губ. Холостяк, отличался «любовью к веселой компании, шумному застолью, соленым шуткам и к лошадям». В своем кабинете «имел обыкновение заниматься за конторкой, сидя верхом на серебряном, усыпанном кораллами и бирюзой, казачьем седле на высокой подставке». Положение его как губернатора было непростым: в 1847–1848 гг. вспышки холеры и более 10 тысяч умерших; сильная засуха и пожары; усилившиеся грабежи; лично честный (уволенный в 1854 г., доживал в небольшом имении сестры очень стесненный в средствах), он не имел ни «вкуса», ни достаточной подготовки к административным и судебным делам, оказался слишком доверчив к подчиненным, что повело к процветанию взяточничества (особенно страдали преследуемые старообрядцы); губерния дворянская, а губернатор испортил отношения с дворянами, потребовав остричь длинные бороды и волосы; не заладилось с губернским предводителем дворянства Н. И. Бахметевым, да так, что обоих вызвали в 1850 г. в Петербург; губернатор получил три выговора от Сената, а министр внутренних дел уволил, по жалобе предводителя, начальника канцелярии губернатора и старшего советника губернского правления; серьезные недоразумения возникли у губернатора с архиепископом Афанасием; ко всему, губернатор еще и либеральничал: на обедах у него бывали вернувшийся после сибирской ссылки декабрист А. П. Беляев, студент Н. Г. Чернышевский (Семенов В., Семенов Н. Саратов дворянский // Волга. 1998. № 11–12. С. 41; Записки и дневник Н. И. Бахметева // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. Т. XII. М., 2003. С. 286–289; Шомпулев В. А. Провинциальные типы сороковых годов. URL: http://old-saratov.ru/foto.php?id=108 (дата обращения: 16.10.2011).
(обратно)59
Всеподданнейшее прошение Н. С. Дурново // РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 735. Л. 63–63 об. Прошение, датированное 20 июля 1857 г., было доложено царю, и он повелел препроводить прошение министру внутренних дел для личного ему, царю, доклада.
(обратно)60
Записка о Надворном Советнике Дурново. Копия // Там же. Л. 67–68 об. Записка эта составлена в МВД в связи со следующим. В. П. Дурново как «племянница покойного Адмирала Лазарева и сестра убитого в Севастополе Лейтенанта Львова» обратилась к вел. князю Константину Николаевичу с жалобой на «неправильное» увольнение от службы ее мужа. Вел. князь 30 июля 1857 г. просил министра С. С. Ланского доставить ему «о службе и увольнении от оной Г-на Дурново те сведения», которые могли бы дать «правильное и ясное понятие об этом деле» (Там же. Л. 61). 15 августа 1857 г. С. С. Ланской представил указанную записку вел. князю и довел до его сведения, что подробности этой записки он будет докладывать царю «при первом [ему] докладе» (Там же. Л. 66). 16 августа 1857 г. доклад царю был сделан (копия его на Л. 69–71 об.)
(обратно)61
Всеподданнейшее прошение Н. С. Дурново. Л. 63 об. – 64.
(обратно)62
Записка о Надворном Советнике Дурново. Л. 67 об. – 68.
Доносы писал и губернатор А. Д. Игнатьев (см. копии секретного письма его министру от 2 июля и «Особенной записки» от 4 августа 1855 г. // Там же. Л. 1–2, 4–5 об.), желая избавиться от Н. С. Дурново: сам злоупотреблял властью, покрывал насильников, «имел» с откупщиков виноторговли; позднее прославился жестокими преследованиями рабочих-строителей Волго-Донской железной дороги, кровавой расправой с крестьянами помещика Кочубея – все эти безобразия были раскрыты специально командированными в Саратов флигель-адъютантом Рылеевым и чиновником особых поручений МВД Арсеньевым. Комитет министров настаивал на увольнении Игнатьева, но его «прикрыл» родственник, военный министр Н. О. Сухозанет, и только после публикаций в «Колоколе» Герцена он был уволен (Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. Т. 15. М., 1958. С. 268, 271).
(обратно)63
Всеподданнейшее прошение Н. С. Дурново. Л. 64.
(обратно)64
Записка о Надворном Советнике Дурново. Л. 68.
(обратно)65
Всеподданнейшее прошение Н. С. Дурново. Л. 64.
(обратно)66
Записка о Надворном Советнике Дурново. Л. 68–68 об.
(обратно)67
Всеподданнейшее прошение Н. С. Дурново. Л. 64 об. Царь приказал оставить прошение без последствий (Л. 69).
(обратно)68
РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 735. Л. 62–62 об.
(обратно)69
Там же. Л. 73–73 об.
(обратно)70
РГИА. Ф. 577 (Главное выкупное учреждение М-ва финансов). Оп. 6. Псковская губ. Д. 2337 (Ду[р]ново В. П. Селение Большие Жиряны).
(обратно)71
РГИА. Ф. 577. Оп. 6. Д. 1494. Л. 3–3 об.
(обратно)72
«Милостивый Государь Князь Владимир Федорович, – писал Н. С. Дурново. – По Вашему ходатайству, через посредство Е. П. Эйлер, 21 августа я причислен к М-ству Внутренних Дел и в тот же день командирован Г. Министром в Новгородскую Губернию. С определением на службу мое политическое существование обновилось, т. е. то, чего я так настоятельно добивался в продолжение почти десяти лет через посредство разных сильных и влиятельных лиц, Ваше Сиятельство восстановило единственным вашим словом.
Ни уверения, ни излияния благодарности слишком недостаточны за Ваше доброе дело в отношении к целой семье; неизменное Ваше направление на помощь ближнему известно всем. Мне остается только с огромною семьею молиться за Ваше благодеяние, чтобы Бог сохранил Вас на долгое время для спасения погибающих от злобы и неправды.
При этом я осмеливаюсь прибегнуть к Вашему Сиятельству с покорнейшею просьбою, быть может, дерзкою – подарите мне Вашу карточку: я желаю, чтобы портрет благодетеля, Ангела хранителя целой семьи сохранился навсегда в моем потомстве; и если Ваше Сиятельство будете столь милостивы к моей просьбе, соблаговолите выслать карточку на мое имя в Г. Крестцы Новгородской г., где я нахожусь в сию минуту по делам службы. С истинным высокопочитанием и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Сиятельства покорнейший слуга Н. Дурново» (Дурново Николай, чиновник МВД – В. Ф. Одоевскому, 30 авг. 1865 г. // РНБ. Ф. 539 (Архив В. Ф. Одоевского). Оп. 2. Д. 493. Л. 1–1 об.).
В г. Крестцы Н. С. Дурново был командирован для производства следствия в связи с появлением листовок с угрозой сожжения города.
Одоевский князь Владимир Федорович (30.06.1804, Москва – 27.02.1869, Москва) – писатель, критик, композитор, философ, журналист. Двоюродный брат декабриста А. И. Одоевского, родственник Е. В. Львовой. Женат на О. С. Ланской (1797–1872), сестре С. С. Ланского (1787–1862), члена Государственного совета (1850), министра внутренних дел (1855–1861), женатого на В. И. Одоевской, тетке В.Ф.
Гофмейстер. Сенатор в московских департаментах Сената (1862–1869), с 1864 г. – первоприсутствующий.
Известный благотворитель. Учредитель Елисаветинской клинической больницы для малолетних детей (1844). Один из организаторов и председатель «Общества посещения бедных просителей в С.-Петербурге» (1846–1855), целью которого было посещение бедных, «обращающихся с просьбами о пособии к разным благотворительным лицам, входить в посредничество между этими лицами и нуждающимися и содействовать, чтобы благотворение достигало своей цели». Помощь оказывалась самая разная: пособия бедным семьям, учреждение женских рукоделен, семейных квартир для бедных семей, перемещаемых из сырых подвалов и холодных чердаков, общей квартиры для старых одиноких женщин с последующим их помещением в богадельни и другие общественные заведения, организация двух (для мальчиков и девочек) детских ночлегов. Председатель Комиссии по управлению Максимилиановской больницей (1855), Комитета по управлению Крестовоздвиженской общиной.
По словам современников, «благотворительность для князя Одоевскаго была не долгом, который он на себя налагал, не средством к получению награды в будущем мире; нет! она была для него потребностию – наслаждением жизни»; «каждый шел к нему, как к родственнику, к другу, к наперснику, к покровителю, и каждый находил приветливое слово, добрый совет, a в случае надобности, и горячее заступничество»; «нужно ли было слово замолвить, поправить ошибку, поддержать перед сильными мира сего – Одоевский уже там, забывает, что он слаб и нездоров, хлопочет, объясняет, ездит, просит и добивается своего».
В случае с Н. С. Дурново сыграло, возможно, свою роль и то обстоятельство, что родная тетка князя Екатерина Сергеевна была замужем за Г. И. Дурново, четвероюродным братом Н. С. Дурново; был князь родственно связан и с В. П. Дурново через бабушку свою Елизавету Алексеевну, урожденную Львову.
(обратно)73
См.: Детство и отрочество художника В. В. Верещагина. Т. 1. М., 1895. С. 265, 200, 215.
(обратно)74
Бородин А. П. П. Н. Дурново: портрет царского сановника // Отечественная история. 2000. № 3. С. 48.
(обратно)75
Копия с постановления Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия. Заседание 16 авг. 1878 г. // РГИА. Ф. 577. Оп. 6. Д. 1494. Л. 2.
(обратно)76
Лобанов М. Е. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 51; Оленина В. А. Иван Андреевич Крылов // Там же. С. 139.
(обратно)77
Львова Е. Н. Иван Андреевич Крылов // Там же. С. 41.
(обратно)78
Глумов А. Н. А. Львов. М., 1980.
(обратно)79
Только что переехав из Киева в Петербург и заняв место управляющего судебным отделом департамента государственной полиции, П. Н. Дурново 18 декабря 1881 г. обращается к министру с просьбой о двухнедельном отпуске в Москву «по случаю тяжкой болезни дочери». 14 января он просит В. К. Плеве «испросить» у министра месячный отпуск в Москву, Пензу и Саратовскую губернию: «Третьего дня врачи объявили, что 2-недельные страдания моей дочери заканчиваются уже начавшимся туберкулезным воспалением мозга. Болезнь эта признается неизлечимой, или по крайней мере больной не умирает лишь в редких, исключительных случаях. Наиболее возможный результат, т. е. смерть, наступает через 2 недели. Столь чрезвычайные и в высшей степени несчастные обстоятельства, постигшие меня и жену мою, вероятно, оправдают в Ваших глазах мое новое ходатайство о разрешении мне отпуска на 1 месяц. Если дочь наша не вынесет болезни, то мы повезем ее в деревню, и нужно полагать, что месяца будет даже много для всего этого, – если же, паче чаяния, она явит собою один из редких примеров излечения, то я очевидно приеду немедленно по миновании опасности» (ГАРФ. Ф 102. Д.-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 16, 22–23).
(обратно)80
Список Генерального штаба. Испр. по 1 июня 1914 г. Пг., 1914; Авалов, кн. П. В борьбе с большевизмом. Гамбург, 1925. С. 240–242; Волков С. В. Офицеры Российской гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 179; Русская военная эмиграция 20-х–40-х годов. Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 94, 96, 98, 99.
(обратно)81
Источник. 1996. № 4. С. 8.
(обратно)82
«Она вела знакомство с Распутиным. Однажды Дурново, явившись внезапно на небольшое собрание почитателей Старца, застал момент, когда Старец обнимал его жену. Сильным ударом гусар сбил Старца с ног, увел жену, а Распутин, лежа, кричал: “Я тебе припомню”. Скоро затем супруги развелись». Марина Эриковна вышла замуж за штабс-ротмистра Х. И. фон Дерфельдена (Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция. 1914–1917 гг. Кн. 2. Нью-Йорк, 1960. С. 204)
(обратно)83
Н. П. Дурново – С. Ф. Платонову, 22 марта [1927?] // РО РНБ. Ф. 585 (С. Ф. Платонов). Оп. 1. Д. 2850. Л. 1–2.
(обратно)84
Дурново, машинистка библиотеки АН СССР. Объяснительная записка в Центральную комиссию по руководству чисткой советского аппарата о несогласии с решением комиссии уволить ее со службы из библиотеки АН СССР по первой категории. Машинописный черновик, с карандашными атрибутивными приписками С. Ф. Платонова и неустановленного лица [сент. 1929 г. Ленинград] // Там же. Д. 684. Л. 1–1 об.
Фигатнер Яков Исаакович (1889–1937) – советский партийный и государственный деятель.
(обратно)85
Священник Владислав Кумыш. Оболенская Кира Ивановна и другие // Газета Эском-Вера 4. URL: (дата обращения: 16.10.2011).
Оболенская княжна Кира Ивановна (1889–1937) окончила Смольный институт благородных девиц (1904), работала учительницей (1910–1930); арестована (14 сент. 1930 г.) и осуждена на 5 лет исправительно-трудовых лагерей; освобождена досрочно и поселилась на 101 километре от Ленинграда (1934); снова арестована (21 нояб. 1937 г.) по делу «контрреволюционной организации»; виновной себя не признала; приговорена к расстрелу.
(обратно)86
Память. Исторический сборник. Вып. 4. М., 1979. С. 471, 474, 483; Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области. Т. 1: (1937 г.). Новгород, 1993. С. 14.
(обратно)87
Начало Морского кадетского корпуса. Составил А. С. Кротков. СПб., 1899. С. 5–7. См. также: Веселаго Ф. Очерк истории Морского Кадетского Корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. СПб., 1852.
«Кадет» от фр. cadet – младший. Так во Франции назывались зачисленные на военную службу дворянские юноши до первого офицерского чина.
(обратно)88
Станюкович К. М. Маленькие моряки // К. М. Станюкович. Собр. соч. в десяти томах. Т. 4. М., 1977. С. 253. Сочинение впервые опубликовано в 1893 г. в ж. «Русская школа» (№ № 1–4) с подзаголовком «Из воспоминаний о Морском корпусе».
Станюкович Константин Михайлович (1843, Севастополь – 1903, Неаполь) – писатель-маринист, учился в МКК с 5 нояб. 1857 г. по 12 дек. 1861 г.
Обращаясь к воспоминаниям К. М. Станюковича, следует иметь в виду некоторые обстоятельства жизни и черты характера автора. В МКК он был переведен из Пажеского корпуса волею отца-адмирала, потерявшего старшего сына-моряка и не желавшего, чтобы фамилия исчезла из списков флота: Николай Михайлович Станюкович (1822–1857), участник обороны Севастополя (1854–1855), кавалер ордена св. Георгия IV ст., капитан-лейтенант, командир парового клипера «Пластун», умер в Кронштадте от холеры, собираясь в кругосветное плавание.
В семье отца, тогда военного губернатора Севастополя, ему давал уроки петрашевец И. М. Дебу (1819–1890), отбывавший после двух лет военно-арестантских рот наказание в качестве рядового военно-рабочей роты в Севастополе. В Корпусе он испытал сильное влияние преподавателя словесности Ф. И. Дозе (1831–1879), арестованного в 1862 г. и заключенного в Петропавловскую крепость за антиправительственную пропаганду. В Корпусе его привлекали общеобразовательные предметы, он читал «Современник», посещал знакомых студентов, писал стихи (часто обличающего характера), тяготился своим пребыванием в Корпусе, решил перейти в университет, однако отец не разрешил и только в 1864 г. сдался – и К. Станюкович вышел в отставку лейтенантом. В 1884 г. он был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и в 1885 г. сослан в Томск.
Воспоминания писались в нелюбимое либералами время, и 30 лет спустя – многое забылось (даже инициалы любимых преподавателей перепутаны), и неслучайно, наверное, они беллетризованы.
В 1869 г. отец умер, и К. Станюкович огорчен: «Как я и ожидал, отец оставил вздор. Деньгами 1800 рублей и аренду на 9 лет (по полторы тысячи в год); <…> говорят, его обобрали».
Характерную деталь отмечает А. К. де Ливрон, мичман на «Калевале» в 1860–1861 гг.: «Во время тропического плавания команде были розданы азбуки и книги для чтения, а офицеры и гардемарины должны были учить людей грамоте и читать им рассказы и повести. Последнее было одним из любимых наших занятий, тем более что мы всегда были окружены очень внимательной аудиторией. <…> Матросы также в свою очередь рассказывали на баке свои сказки. В круг обыкновенно собиралась кучка слушателей, к которым примащивались иногда наши гардемарины и кадеты. К. М. Станюкович, служивший у нас кадетом, всегда держался далеко от команды; он скорее сторонился ее и казался барчонком, и никто в нем в начале 60-х годов не замечал зачатков будущего талантливого морского писателя» (Де Ливрон А. К. Корвет «Калевала» // Морской сборник. 1909. Т. 353. № 8. С. 23. 5-я пагинация).
Крайне несимпатичен он и по кондуитным спискам МКК: за январь-февраль 1859 г. за поведение – 8 баллов, «порядочен и ведет себя гораздо лучше прежнего», по фронту – 7, опрятность – 5; за март-апрель 1859 г. за поведение – 7, «требует надзора (–1)», наказан «за удары дневального лакея», по фронту – 7, опрятность – 5 (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4210. Л. 5, 12). Кондуит – журнал для записи провинившихся.
К. М. Станюковичу, как и В. В. Верещагину и в меньшей степени Н. А. Римскому-Корсакову (таким же индивидуалистам, душа которых не лежала ни к морю, ни к военной службе, и к тому же не склонных к точным наукам, а главное, обуреваемых – чем дальше, тем больше – страстью в других направлениях) многое в МКК не нравилось, огорчало и отталкивало. В. В. Верещагин, например, страдал от качки, ему долго не давалась выправка, маршировка, ружейные приемы, «в продолжение целого года, если не больше» не мог получить погоны и не зачислялся в батальон. Это, естественно, не могло не окрасить их воспоминания; было, конечно, и стремление, может быть, и не осознанное, объяснить-оправдать свой отказ от военно-морской карьеры.
«Морской сборник» (1848–1917) – ежемесячный журнал Морского министерства. 23 окт. 1860 г. его редактором назначен капитан-лейтенант В. П. Мельницкий (1827–1866). «Основанный на развалинах дряхлых и безжизненных записок Ученого комитета, “Морской сборник” вносил уже жизнь и свет в общество моряков, воскресавших духом, в чаянии близких и благотворных реформ. Люди с талантом и познаниями, живо интересовавшиеся развитием научных сведений и богатые опытом, приняли в нем деятельное участие. <…> Их пример заставил многих из нас работать и трудиться для общей пользы» (Горковенко А. С. Взгляд на прошедшее. Воспоминания // Морской сборник. 1876. Т. 154. № 6. С. 75).
Константин Николаевич (1827–1891) – великий князь, сын Николая I. Генерал-адмирал русского флота (1831–1891), шеф Гвардейского экипажа (1831), член Государственного совета (1850–1891), его председатель (1865–1881). Адмирал (1855). Фактически управлял флотом (1853–1881), активно участвовал в разработке и проведении реформ своего старшего брата, Александра II.
«Мне кажется, – писал он князю А. И. Барятинскому, – что первая наша обязанность должна состоять в том, чтобы отбросить всякое личное славолюбие и сказать, что наша жизнь должна пройти в скромном, неблестящем труде, не в подвигах, которые могли бы в настоящем возвысить наше имя, но в работе для будущего, чтобы дети наши получили плоды с той земли, которую мы при благословении Божьем можем вспахать, удобрить и засеять. Посему не о морских победах следует думать, не о создании вдруг большого числа судов при больших пожертвованиях…, но о том, чтобы беспрерывными плаваниями небольшого числа хороших судов приготовить целое поколение будущих опытных и страстных моряков» (Цит. по: Бунич И. Л. Великий реформатор Российского флота // Гангут. Вып. 8. СПб., 1995. С. 124).
По свидетельству современника, «вдохнул во флот душу живу и обладал талантом выбирать своих сотрудников» (М. К. Морской кадетский корпус в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов прошлого столетия /Прошлое и пережитое/ // Море. СПб., 1909. № 4. С. 105). См. также: Колыбель флота. Навигацкая школа – Морской корпус. К 250-летию со дня основания школы математических и навигацких наук. 1701–1951 гг. Париж, 1951. Отдел VIII. Царствование императора Александра II (1855–1881).
Гвардейский экипаж – военно-морское формирование в составе российской императорской гвардии.
Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – выдающийся хирург и крупнейший педагог-просветитель. Из семьи чиновника. Окончил Московский университет (1828). Доктор медицины (1832). Профессор Дерптского университета (с 1834) и Медико-хирургической академии (с 1841). Член-корреспондент АН (1847). Во главе Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных был в осажденном Севастополе. Попечитель Одесского (1856) и Киевского (1858–1861) учебных округов. Его статья «Вопросы жизни» опубликована в июльской книжке Морского сборника (1856). Четырежды лауреат Демидовской премии (1841, 1844, 1851 и 1860).
(обратно)89
М. К. Указ соч. С. 101–104.
(обратно)90
Завалишин Дмитрий. Воспоминания о Морском кадетском корпусе с 1816 по 1822 год // Русский вестник. 1873. Т. 105. № 5–6. С. 649.
Сбитень – горячий напиток из меда с пряностями.
Пеклеваная булка, пеклеваник – хлеб из ситной (мелко молотой и просеянной) ржаной муки.
(обратно)91
Давыдов Алексей Кузьмич (16.05.1790, Москва–19.12.1857, СПб.) – из семьи отставного коллежского регистратора. Вследствие смерти отца до 13-ти лет оставался неграмотным. Определен дядей в МКК (1803), где обнаружил большие способности. Окончил 1-м в выпуске (1809). Участник войн со Швецией (1808), Отечественной (1812) и Заграничных походов (1813). Переведен в МКК поручиком (1814); преподаватель, затем – ротный командир; плавал с гардемаринами (1815–1819); командир корпусных фрегатов «Ураган» и «Надежда» (1819–1832). Капитан-лейтенант (1824). Капитан 2-го ранга (1829, за отличие). Инспектор классов 1-го штурманского полуэкипажа (1832), его командир (1837). Генерал-майор, инспектор Корпуса штурманов (1839). Генерал-лейтенант (1851). Директор МКК с переименованием в вице-адмиралы (27.03.1855) (Общий Морской список. Ч. VII. С. 2–3).
Был награжден орденами: св. Анны III ст. (1820), св. Владимира IV ст. (1823), св. Станислава III ст. (1834), св. Георгия IV ст. (1834, за выслугу 25 лет в офицерских чинах), св. Владимира III ст. (1840), св. Станислава I ст. (1844), св. Анны I ст. (1847), св. Анны I ст. с имп. короною (1850), св. Владимира II ст. (1855). Имел знаки беспорочной службы за XV, XX, XXV, XXX, XXXV, XL и XLV лет. Был пожалован бриллиантовым перстнем (1829), табакеркою с портретом императора (1855) и денежными наградами (2 тыс. руб. в 1836 и 14 тыс. в 1856). 20 раз был отмечен высочайшим благоволением и монаршею благодарностью. Женат был на дочери статского советника Елене Михайловне Зряховой и имел трех сыновей: Николая (1832), Владимира (1834) и Василия (1842). Без недвижимого имущества (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3935 /Формулярные списки личного состава/. Л. 6–18).
Глазенап Богдан (Готлиб Фридрих) Александрович, фон (1811–1892) – флигель-адъютант (1838). Капитан I ранга (1846). Контр-адмирал (1852). Генерал-адъютант (1858). Вице-адмирал (1861). Адмирал (1869). Окончил МКК 41-м из 72-х (1826). Участник кругосветного плавания на шлюпе «Сенявин» (1826–29), Польской кампании (1830–1831). В Главном морском штабе (1834–1838). На Кавказе (1839–1840, награжден Георгиевским крестом и золотой саблей «За храбрость»). Плавал в Средиземном море (1840–1846). Член Морского ученого комитета (1847). Редактор «Морского сборника» (1848). Член Комитета по пересмотру морских узаконений (1850). Директор МКК (1851–1855). Морской представитель России в скандинавских странах (1855–1857). Военный губернатор в Архангельске, главный командир Архангельского порта (1857–1860). Главный командир Николаевского порта и военный губернатор Николаева (1860–1871). Член Адмиралтейств-Совета (1871) и Александровского комитета о раненых. Автор статей в «Морском сборнике» (1858–1860). Почетный гражданин г. Николаева. Почетный член Николаевской Морской академии (1877). Действительный член РГО. Его именем названа гавань в Беринговом море (Общий Морской список. Ч. VIII. СПб., 1896).
«Тонкий и образованный. <…> Это был милейший человек, добрый и, как говорится, бывалый» (Боголюбов А. П. Записки моряка-художника // Волга. 1996. № 2–3. С. 30, 110). «Светский, легковесный человек, далеко не специалист-педагог. Только изредка порхал он по ротам, обыкновенно сопровождая какое-нибудь важное лицо; был всегда приветлив, ласково улыбался – и только» (Детство и отрочество художника В. В. Верещагина. Т. 1. М., 1895. С. 142).
(обратно)92
Краткое жизнеописание Александра Николаевича Мосолова. Воспоминания // НИОР РГБ. Ф. 514.1.4. Л. 14–14 об., 19 об.–20.
(обратно)93
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 249–250.
(обратно)94
Лебедев А. К. Василий Васильевич Верещагин. Жизнь и творчество. 1842–1904. М., 1972. С. 16–22.
(обратно)95
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980. С. 17.
(обратно)96
Детство и отрочество художника… С. 205.
(обратно)97
Де-Ливрон К. Ф. Отрывочные воспоминания старого моряка. Поступление в Морской корпус и выход в офицеры // Морской сборник. 1890. Т. 237. № 5. С. 59. 4-я пагинация.
К. Ф. Де-Ливрон учился в МКК в 1803–1815 гг.
Это же утверждает и В. К. Пилкин. См.: Морской корпус сто лет тому назад (По рассказам и воспоминаниям отцов и дедов) // Морской журнал. Ежемесячник. Издание Кают-кампании в Праге. 1938. № 130–131 (10–11). С. 13.
(обратно)98
Боголюбов А. П. Указ. соч. С. 8.
Боголюбов Алексей Петрович (1824–1896) – художник-маринист, близкий к передвижникам. Действительный член Академии художеств (1893). Внук, по матери, А. Н. Радищева. Учился в МКК в 1835–1841 гг. Мичман (1841). С 1853 г. – в отставке. Художник Главного морского штаба (1854). Профессор Академии художеств (1861). Создатель «уникальной по художественной значимости и историческому значению серии картин, воспевающих историю отечественного флота за два века его существования».
Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) – из дворян. Окончил Морской шляхетный кадетский корпус (1788). Помощник директора (1826) и директор (1827–1842) МКК; реформировал его: обновил преподавательский состав; ввел новые учебные дисциплины; основал библиотеку, музей, физический кабинет, астрономическую обсерваторию, офицерские классы; повысил нравственный и общеобразовательный уровень воспитанников. Трижды лауреат Демидовской премии.
(обратно)99
Детство и отрочество художника… С. 76.
(обратно)100
Белли В. А. В Российском Императорском флоте: Воспоминания. СПб., 2005. С. 20. В. А. Белли учился в МКК в 1900–1906 гг.
С 1867 г. Морской корпус относился к разряду высших учебных заведений.
(обратно)101
Боголюбов А. П. Указ. соч. С. 12, 13.
(обратно)102
Крылов А. Н. Мои воспоминания // Собрание трудов академика А. Н. Крылова. Т. I. Часть первая. М.; Л., 1951. С. 63–55. Подчеркнуто нами. – А. Б.
Крылов Алексей Николаевич (1863–1945) – кораблестроитель, математик, механик; генерал флота (1916); академик РАН (1916); Герой социалистического труда. Учился в Морском училище в 1878–1884 гг.
Епанчин Алексей Павлович (1823–1913) – директор Морского училища (1871–1882), одновременно (с 1877) – начальник Морской академии. Адмирал (1909).
В. В. Верещагин и К. М. Станюкович приводят несколько иной распорядок дня: 6 – подъем, умывание, фронтом – в зал, молитва; 7 – свежая булка и сбитень, позднее – чай; 8–11 – классы; 11 – пеклеванник (позднее – 2 тонких ломтя черного хлеба); 1130–13 – фронтовые учения (гимнастика или танцы); 13 – обед; до 15 – свободное время; 15–18 – классы; 18–20 – приготовление уроков; 20 – ужин; 22 – отбой.
(обратно)103
Из записок Д. Ф. Мертваго. Морской кадетский корпус. 1856–1858 гг. // Морской сборник. Пг., 1918. Т. CDVI. № 12. Декабрь. С. 45–61.
(обратно)104
Детство и отрочество художника… С. 142–143.
(обратно)105
Крылов А. Н. Памяти князя Б. Б. Голицына. Речь на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества // Природа. 1918. № 3.
(обратно)106
Там за Невой моря и океаны. История Высшего военно-морского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Ушакова училища имени М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 77.
(обратно)107
Детство и отрочество художника… С. 143, 178, 197, 215–216. Речь идет о сыне директора МКК Василии Давыдове.
Это «долбление» и борьба за место в классе Верещагина отодвигали на второй план даже любимое рисование: «В Морском корпусе я рисовал, но нельзя сказать, чтобы особенно много, так как погоня за баллами и нежелание дать другим обогнать себя по классу брали у меня все время» (В. В. Верещагин – В. В. Стасову, 20 марта/1 апреля/ 1882 г. // Верещагин В. В. Избранные письма. М., 1981. С. 120).
(обратно)108
См.: Б. Ш – т [Б. К. Шуберт]. Новое о войне. Воспоминания о морских походах 1904–1905 гг. СПб., 1907.
Команды судов у нас комплектовались «жителями центральных губерний, многие из которых видели воду только в колодце», – отмечает А. Н. Крылов, объясняя «Цусиму» (Собрание трудов академика А. Н. Крылова. Т. I. Часть первая. С. 241).
«Раз дисциплина признана как единственное средство для поддержания порядка в воинских командах и как залог успешного выполнения их назначения, – справедливо утверждает Б. К. Шуберт, – она должна быть поддерживаема всячески, и начальник не смеет останавливаться ни перед какими мерами, чтобы во всякий момент поддержать во вверенной ему части как дисциплину, так и всю силу своего авторитета. Никакие послабления, чем бы они не были вызваны, здесь недопустимы». А по поводу позорных страниц в истории русского флота (восстания в Кронштадте, на крейсере «Память Азова» и др.) с горечью замечает: «Все это плоды системы мирного успокоения и компромиссов, к которым прибегало начальство в то время, когда движение могло быть еще задушено строгими мерами» (Указ. соч. С. 159–160, 162).
(обратно)109
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 280–282, 273.
Голодай – один из островов в дельте Невы, Смоленское поле – район Петербурга; тогда – пустынные места.
Бессребреничество будущих офицеров отмечал и А. С. Зеленой: «Во все продолжительное пребывание мое в Морском корпусе я никогда не слышал, чтобы кто-либо из воспитанников, кадет и гардемарин, когда-либо говорил или рассуждал о размерах ожидаемого его после выпуска в офицеры жалования, хотя оно было действительно весьма ограниченное. Мы в корпусе никогда об этом не говорили и не думали» (Зеленой А. С. Воспоминания о Морском кадетском корпусе // Исторический вестник. 1901. Т. 83. № 2. С. 605. Автор провел в Морском корпусе с января 1836 г. по август 1844 г. и «около двух лет офицером в Офицерских классах»).
(обратно)110
Римский-Корсаков Н. А. Указ. соч. С. 36–37, 39.
(обратно)111
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 247, 248.
(обратно)112
Рейнгард Федор. Из воспоминаний. 1917–1918 // Звезда. 2008. № 7. С. 153.
(обратно)113
Пилкин В. К. Указ. соч. С. 13; Смирнов Валентин. Кадеты и… повивальная бабка. Как жил Морской корпус в середине XIX века // Санкт-Петербургские ведомости. 2006. 27 мая (№ 094).
(обратно)114
Пилкин В. К. Указ. соч. С. 14; Станюкович К. М. Указ. соч. С. 277.
(обратно)115
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 251. Так было раньше: «Никто не смел, не хотел, да и не расчет было хотеть, сделаться “задорным” (т. е. ябедой, фискалом. – А. Б.). Коренной закон всех воспитанников корпуса был таков: с “задорным” никому не говорить. Как только кадеты узнают, что кто-нибудь “прозадорился”, тотчас же оповещают: “господа, NN – задорный! с ним никто говорить не должен!” и этот закон исполнялся свято. <…> “задорного” могли простить, если он просил прощения – так или предварительно “отдуть”» (Зеленой А. С. Указ. соч. С. 609). Так было и в начале XX столетия: «К чести наших нравов следует отнести полное отсутствие фискальства. <…> со стороны начальников разных категорий никак не поощрялось. Системы информации начальников о деятельности товарищей никогда не было» (Белли В. А. Указ. соч. С. 36).
(обратно)116
Детство и отрочество художника… С. 84–85, 131, 204.
(обратно)117
Esprit de corps – корпоративный дух, спаянность (фр.).
(обратно)118
Пещуров М. Очерк моей жизни. СПб., 1881. С. 15.
Пещуров Михаил Алексеевич (1823–?) окончил МКК мичманом (1841), лейтенант (1847); уволен для определения к статским делам (1850).
(обратно)119
Горковенко А. С. Взгляд на прошедшее. Воспоминания // Морской сборник. 1876. Т. 154. № 6. С. 60, 61.
Горковенко Алексей Степанович (1821–1875) – воспитанник МКК (1832–1837), мичман (1837), окончил офицерские классы лейтенантом (1841), адъютант начальника 2-й флотской дивизии А. А. Дурасова (1841), офицер на «Камчатке» (1848–1851); упал с мостика и расшиб голову, более месяца в госпитале (1851); капитан-лейтенант, адъютант инспектора морских учебных заведений (1851); капитан 2-го ранга, воспитатель вел. князя Николая Константиновича (1856); капитан 1-го ранга (1858); вице-директор Гидрографического департамента Морского министерства (1860); контр-адмирал (1862); вице-адмирал, член Ученого отделения Морского технического комитета (1874).
(обратно)120
Детство и отрочество художника… С. 128, 130–131. Это подтверждают В. К. Пилкин (Указ. соч. С. 12), А. П. Боголюбов (Указ. соч. С. 12–13).
(обратно)121
Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 626, 627.
«Нравы самих кадет и их обращение друг с другом и в мое время были по истине варварские. И чем старше рота, тем жестче и грубее нравы и обычаи воспитанников. <…> Мы беспрестанно дрались. Вставали – дрались, за сбитнем – дрались, перед обедом, после обеда, в классном коридоре, вечером ложась спать – дрались; в умывальниках – сильнейшие драки. Мы дрались за все и про все, и просто так, ни за что, и не то, чтобы шутили, а серьезно, до крови и синяков, дрались. В этом отношении мы были воспитанники заведения действительно военно-учебного» (Зеленой А. С. Указ. соч. С. 608). Во второй половине 50-х годов, по свидетельству Д. Ф. Мертваго, «нравы воспитанников Морского корпуса несколько смягчились» (Из записок Д. Ф. Мертваго. С. 54).
(обратно)122
Детство и отрочество художника… С. 146. И позднее, в начале XX столетия, в этом отношении ничего не изменилось: «А нравы наших юношей в младшем общем классе не соответствовали, казалось бы, тому привилегированному сословию, к которому эти юноши принадлежали. Сквернословие было в полном ходу. Обман начальства и ложь никак не считались низостью» (Белли В. А. Указ. соч. С. 35).
(обратно)123
Детство и отрочество художника… С. 83–84. Это было, по-видимому, характерно для дореформенной школы в целом: «Совместное жительство [старших возрастов и младших] влекло за собою немало дурных последствий; <…> мальчики эти начинали слишком рано предаваться всевозможным, преимущественно запрещенным, удовольствиям, в ущерб здоровью и нравственной чистоте» (Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в воспоминаниях одного из ее воспитанников. 1845–1849 гг. // Русская старина. СПб., 1884. Т. XLI. Январь. С. 214).
(обратно)124
Отчет по Морскому кадетскому корпусу, присланный и. д. директора контр-адмиралом Нахимовым за 1860 г. // Морской сборник. СПб., 1861. Т. LII. № 3. С. 2. 2-я пагинация.
(обратно)125
Пилкин В. К. Указ. соч. С. 13.
(обратно)126
Детство и отрочество художника… С. 134, 135–136, 137, 138, 228.
(обратно)127
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 265–266.
(обратно)128
Пилкин В. К. Указ. соч. С. 15.
(обратно)129
Кронштадтский вестник. 1875. № 56. С. 224–225.
Де Ридель барон Александр Александрович (?–1875) – из дворян Смоленской губ. Православный. Окончил МКК мичманом (1831), плавал в Балтийском море. Лейтенантом поступил в МКК отделенным офицером гардемаринской роты, затем в чине капитан-лейтенанта командовал гардемаринской ротой, назначен батальонным командиром (1860), а в 1863 г. – помощником директора. Контр-адмирал (1867). Начальник Инженерного артиллерийского училища (1868). Член Комитета морских учебных заведений (1869). Вице-адмирал (1874). Женат на дочери умершего генерал-майора Надежде Павловне Левицкой и имел сына Николая (1850) и дочь Марию (1857).
В 1856 г., будучи капитаном II ранга и командуя 2-й кадетской ротой, он получал 430 руб. штатного жалования, 142 руб. 86 коп. столовых, 430 руб. за 10-летнюю выслугу при Корпусе и 200 руб. на воспитание сына (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3935. Л. 88–97).
(обратно)130
Детство и отрочество художника… С. 132, 134–135.
(обратно)131
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 248.
(обратно)132
Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 648.
(обратно)133
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 251.
(обратно)134
Боголюбов А. П. Указ. соч. С. 12.
(обратно)135
Пилкин В. К. Указ. соч. С. 14. 7 октября 1858 г. и. д. директора МКК С. С. Нахимов отменил «еженедельный сбор по субботам прилежных и ленивых воспитанников на том основании, что недельные отметки учителей не могут еще определительно охарактеризовать воспитанника относительно его занятий. <…> чтобы с большим разбором подвергать воспитанников похвале или наказанию, вменено в обязанность Ротных Командиров представлять через каждые два месяца на благоусмотрение исправляющего должность Директора Корпуса именно тех воспитанников, которые в течение этого времени выказали действительное прилежание или леность» (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4032. Л. 16–16 об.)
(обратно)136
Из записок Д. Ф. Мертваго. С. 45, 61.
(обратно)137
Чайковский И. И. Эпизоды из моей жизни // Исторический вестник. Т. CXXXI. №. 1. С. 83.
(обратно)138
Горковенко А. С. Указ. соч. С. 61.
(обратно)139
Де Ливрон К. Ф. Указ. соч. С. 58–59. 4-я пагинация.
(обратно)140
Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 630, 624, 625–626.
(обратно)141
Детство и отрочество художника… С. 131.
По Отчету по МКК за 1858 г., наказания, принятые в Корпусе, были пяти разрядов: выговор, неувольнение к родственникам в праздники, арест при ротном дежурстве, арест при главном дежурстве, телесное наказание, которое употребляется только в виде посрамления, но отнюдь не в виде кары (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4031. Л. 24).
(обратно)142
Отчет по Морскому кадетскому корпусу <…> за 1860 г. С. 3. 2-я пагинация.
(обратно)143
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 276.
Не столько по отношению к младшим, сколько к т. н. «рябчикам» – физически слабым новичкам, робким и слезливым (Зеленой А. С. Указ. соч. С. 611).
(обратно)144
Фабрицкий С. С. Из прошлого: Воспоминания флигель-адъютанта Государя Императора Николая II. Берлин, 1926. С. 10.
(обратно)145
Детство и отрочество художника… С. 82.
(обратно)146
Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 627. «Старикашка» имел и «внешние признаки: широкие брюки с перехватом у колен, широкий в груди мундир, он много ел, ноги – колесиками; нюхал табак; говорил басом» (Зеленой А. С. Указ. соч. С. 611).
(обратно)147
Римский-Корсаков Н. А. Указ. соч. С. 17.
(обратно)148
Пилкин В. К. Указ. соч. С. 14. Это утверждает и Д. И. Завалишин (Указ. соч. С. 629).
(обратно)149
Горковенко А. С. Указ. соч. С. 61. Это подтверждает и А. С. Зеленой: «В гардемаринской роте <…> не было в тесном смысле ни “старикашек”, ни “рябчиков”, но “старикашками” можно было назвать всех старших гардемарин, а “рябчиками” всех младших, потому что младшим от старших житья не было <…>. С нашего выпуска это положение несколько изменилось; мы своих младших гардемарин уже не притесняли» (Указ. соч. С. 611).
(обратно)150
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 278.
(обратно)151
Это подтверждает исследователь: «Если кто-либо из воспитанников нарушал дисциплину, то “наказания делались соразмерно проступкам”. Это был выговор, неувольнение к родственникам в праздничные дни, арест при ротном дежурстве, арест при главном дежурстве, телесные наказания (“употреблявшиеся только в виде посрамления, но отнюдь не в виде кары”). В 1857 г. число “наказанных телесно” составило 6,8 % от всего контингента воспитанников» (Смирнов Валентин. Указ соч.). Это, примерно, человек 40.
(обратно)152
По воспоминаниям А. П. Боголюбова видно, что «вы» по отношению к старшим гардемаринам было нормой уже тогда: «Скотина Юхарин перед экзаменом злобно сказал мне: “Ну, я думаю, что вы угодите в матросы”»; «Ну, будете вы в арестантах, вспомяните мое слово», – говорил ему и А. И. Зеленой (Боголюбов А. П. Указ. соч. С. 13).
Юхарин Яков Матвеевич (1802–1865) окончил МКК 1-м в выпуске (1820). Плавал в Балтийском и Белом морях. Лейтенантом определен в МКК (1827). «Фигура [его] вообще не гармонировала с строем юных воинов; физиономия же, как всегда, заявляла о лишнем стакане вина и о бессонной ночи». Кадеты его не любили (Пещуров М. Указ. соч. С. 17, 18). В дальнейшем: капитан-лейтенант (1835), капитан II ранга (1844, за отличие), капитан I ранга (1846), контр-адмирал (1855), вице-адмирал (1864); командовал отрядом фрегатов (1844), бомбардирским судном «Перун» (1846), командир 2-го учебного морского экипажа и заведующий Николаевским флотским училищем (1847), командир школы флотских юнкеров (1852), командир отряда судов, защищавших Николаев (1854), и морским батальоном из рекрутов запасных рот (1855).
(обратно)153
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 245, 248, 253–255, 265, 276.
«Лефоша» – это, по-видимому, Жан Мари Лявсор, из иностранцев, не принявших российское подданство, католик, холостяк, в 1856 г. ему было 47 лет. «В казенном заведении не обучался. Подвергался испытанию в Московской Губернской Гимназии на право обучать в частных домах чтению и письму на французском языке и выдержал оное удовлетворительно, в чем и снабжен свидетельством» (1840). В феврале 1854 г. принят в МКК «по обязательству». В декабре 1855 г. «вследствие предложения г. Попечителя С.-Петербургского учебного округа допущен был в Экзаменационном комитете Императорского С.-Петербургского университета к специальному испытанию на звание учителя французского языка и литературы в гимназиях и выдержал оное удовлетворительно, почему Экзаменационным комитетом удостоен сего звания, в чем и снабжен свидетельством». Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству от 12 января 1856 г. определен младшим учителем 5-й Петербургской гимназии, а 2 апреля 1856 г. переведен в МКК учителем французского языка (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3935. Л. 712–714).
(обратно)154
М. К. Указ. соч. С. 104–105.
(обратно)155
Евдокимов С. В. Воспоминания контр-адмирала // Военно-исторический журнал. 2006. № 3. С. 67.
(обратно)156
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 277–282.
(обратно)157
Отчет по Морскому кадетскому корпусу <…> за 1860 г. С. 3; Смирнов Валентин. Указ. соч.
(обратно)158
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 276–277.
(обратно)159
Евдокимов С. В. Указ. соч. С. 66.
(обратно)160
Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 648. Об этом же В. К. Пилкин (Указ. соч. С. 12).
(обратно)161
Обзор преобразований Морского кадетского корпуса с 1852 года. С приложением списка выпускных воспитанников. 1753–1898 гг. СПб., 1897. С. 17–18.
(обратно)162
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 277.
О доброте А. К. Давыдова свидетельствует и Д. И. Завалишин: «Алексей Кузьмич был очень бедный человек, и однако же, получая как учитель дополнительное жалование к жалованию по званию его кадетского офицера, поддерживал из него своего женатого и семейного брата» (Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 637).
(обратно)163
Из записок Д. Ф. Мертваго. С. 51–53, 57–59.
(обратно)164
Морской кадетский корпус. Из воспоминаний Николая Александровича Энгельгардта. 1822–1829 гг. // Русская старина. СПб., 1884. Т. XLI. Февраль. С. 375, 379.
(обратно)165
Завалишин Дмитрий. Указ. соч. С. 625.
(обратно)166
Детство и отрочество художника… С. 177–178, 268. Сын директора Алексей, «хороший, добрый мальчик, поступил в наш класс и сел третьим» (Там же. С. 178).
(обратно)167
Там же. С. 141, 135.
Зеленой Александр Ильич (1809, Псковская губ.–1892, СПб.) окончил МКК мичманом, 1-м по выпуску (1826). Офицер МКК: адъюнкт, преподаватель математики, помощник инспектора, инспектор классов (с 1851). Капитан-лейтенант (1841). Капитан 2-го ранга (1849). Капитан 1-го ранга (1852). Начальник Штурманского училища в Кронштадте (1860). Генерал-майор (1861). Генерал-лейтенант (1868). Член Комитета морских учебных заведений (1869). Начальник Технического училища Морского ведомства в Кронштадте (1872). Член конференции Николаевской морской академии (1877). Переименован в вице-адмиралы, член Адмиралтейств-совета (1879). Адмирал (1880). Кавалер ордена св. Георгия IV ст. (1854). Автор «Исторического очерка Штурманского училища» (1872), статей по морской истории.
(обратно)168
Обзор преобразований Морского кадетского корпуса с 1852 года. С. 18.
Нахимов Сергей Степанович (1805–1872) – из дворян Смоленской губ., православный. Окончил МКК 10-м из выпуска (1820). Плавал на судах Балтийского флота (1820–1842), адъютант контр-адмирала С. Г. Шишмарева (1830–1836). Временный член ученого и кораблестроительного комитета (1836–1842). Эконом, казначей, затем на корпусных фрегатах обучал кадетов морской практике (1843–1850), помощник директора (1855) и директор (1857) МКК. Член Морского генерал-аудиториата (1861), Главного военно-морского суда (1867).
Был награжден орденами: св. Станислава III ст. (1841), св. Анны II ст. (1850), св. Георгия IV ст. (1851, за 25 лет службы в офицерских чинах), св. Анны с имп. короною (1854), св. Владимира IV ст. (1856, за 35 лет службы), св. Владимира III ст. (1857), св. Станислава I ст. (1864). Имел бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг., знаки отличия за XV, XX, XXV и XXX лет. Отмечен монаршим благоволением (1854) и денежною наградою (400 руб. в 1855 г.).
Женат на Александре Семеновне Шишмаревой, имел сына Павла (1840) и дочь Александру (1837). Без недвижимого имущества (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3935. Л. 19–38).
(обратно)169
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 269.
(обратно)170
Детство и отрочество художника… С. 268.
(обратно)171
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 269. В 1859 г. А. И. Зеленого сменил А. П. Епанчин.
(обратно)172
Детство и отрочество художника… С. 300, 135, 268.
(обратно)173
Боголюбов А. П. Указ. соч. С. 12.
(обратно)174
Фабрицкий С. С. Указ. соч. С. 20–21, 22–23.
(обратно)175
Римский-Корсаков Н. А. Указ. соч. С. 37.
Скрыдлов Николай Илларионович (1844–1918, Петроград) окончил МКК (1862). Отличился на Дунае в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. (орден св. Георгия IV ст.). Командующий Черноморским флотом и портами Черного моря (1906–1909). Адмирал (1909). В отставке (1909). Умер от голода.
(обратно)176
Крылов А. Н. Памяти князя Б. Б. Голицына.
(обратно)177
Станюкович К. М. Указ. соч. С. 266.
(обратно)178
Там же. С. 289–290.
(обратно)179
Римский-Корсаков Н. А. Указ. соч. С. 37. Ругань не исчезла и позже. «По старинной шкале только плохой моряк не извергал ежеминутно бранных, нецензурных слов, чему придерживался и Владимир Павлович, уснащая свою речь или приказания зачастую такими трехэтажными выражениями, что мы, воспитанники, только удивлялись красоте и мощности русского языка» (Фабрицкий С. С. Указ. соч. С. 18.).
Мессер Владимир Павлович (1840–?) окончил МКК (1859), имел репутацию опытного моряка, строгого и принципиального командира, командовал Учебным отрядом судов МКК (1894–1895), Учебной эскадрой Балтийского моря (1899). Вице-адмирал (1898).
«Тогда на флоте процветала ругань, во время учений ругались все» (Евдокимов С. В. Указ соч. С. 68).
(обратно)180
Крылов А. Н. Мои воспоминания. С. 65.
(обратно)181
Чайковский И. И. Указ. соч. С. 82, 83–84. Линек – отрезок веревки (линя), иногда с завязанным на конце узлом; употреблялся для телесных наказаний на судне.
(обратно)182
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3916. Л. 46–47 об.
Кузнецов Дмитрий Иванович (1805–1889) окончил МКК (1822). Плавал на Балтийском море. Участвовал в обороне Кронштадта (1854–1855). Капитан II ранга (за отличие). Капитаном I ранга возглавил 1-й Амурский отряд (1857). Контр-адмирал (1858). Служил на Каспийском море (1860–1861). Второй кронштадтский комендант (1864). Вице-адмирал (1871). Член Главного военно-морского суда. Адмирал (1878).
(обратно)183
См.: Отчет по Морскому кадетскому корпусу… за 1860 г.
(обратно)184
Зеленой А. С. Указ. соч. С. 605.
(обратно)185
Аурова Н. Н. Атмосфера и быт в кадетских корпусах Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX вв. // Военно-историческая антропология. Ежегодник 2002: Предмет, задачи, перспективы развития. М., 2002. С. 193.
(обратно)186
Крылов А. Н. Памяти князя Б. Б. Голицына.
(обратно)187
Пещуров М. Очерк моей жизни. СПб., 1881. С. 11.
(обратно)188
Из записок Д. Ф. Мертваго. Морской кадетский корпус. 1856–1858 гг. // Морской сборник. Пг., 1918. Т. CDVI. № 12. Декабрь. С. 49.
(обратно)189
Крылов А. Н. Мои воспоминания. М., 1963. С. 51–52.
(обратно)190
Чайковский И. И. Эпизоды из моей жизни // Исторический вестник. 1913. Т. CXXXI. № 1. С. 74.
(обратно)191
Детство и отрочество художника В. В. Верещагина. Т. 1. М., 1895. С. 76, 128, 197–198.
«У отца нашего, – пишет художник, – было большое состояние: по нескольку деревень в Вологодской и Новгородской губерниях, с огромными лесами на судоходной реке Шексне» (Там же. С. 77).
Александровский кадетский корпус учрежден Николаем I в 1830 г. с целью воспитания малолетних сирот от 7-ми до 10-ти лет, детей воинов-дворян, с тем чтобы они могли поступать в кадетские корпуса. Воспитанники 4-й роты корпуса по достижении 10-летнего возраста переводились в МКК.
(обратно)192
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 7. Д. 1184. Л. 2–2 об. Копия.
Адмирал М. П. Лазарев умер 14 апр.1851 г.
(обратно)193
Там же. Л. 2.
До В. А. Римского-Корсакова «в Морской корпус, для подготовки к исполнению на судах офицерских обязанностей, принимались только дети потомственных дворян, и притом еще по очереди, по кандидатским спискам, в которые своих сыновей родители записывали как можно раньше, и все-таки некоторым приходилось ждать очереди очень долгое время» (Из записок Д. Ф. Мертваго. С. 46).
(обратно)194
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 7. Д. 1184. Л. 3–3 об.
(обратно)195
Там же. Д. 4880. Л. 3.
(обратно)196
Там же. Д. 1184. Л. 4.
(обратно)197
Там же. Д. 3860. Л. 8.
«Мальчика, поступившего в комплект, экзаменовали для того, чтобы знать, в какой класс посадить» (Воспоминания В. П. Одинцова // Исторический вестник. 1900. Т. 82. № 11. С. 484).
В МКК было 7 классов: 1-й – приготовительный, 2-й – младший кадетский, 3-й – средний кадетский, 4-й – старший кадетский, 5-й – младший гардемаринский, 6-й – средний гардемаринский, 7-й – старший гардемаринский; в каждом – от 3-х до 5-ти параллелей.
Кадет – здесь воспитанник закрытого среднего военно-учебного заведения.
Гардемарин (фр. garde-marine, означавшее «страж моря», «морской гвардеец») – воинское звание, учрежденное в 1716 г. как переходное от кадета к мичману. Присваивалось выпускникам Академии морской гвардии, зачисленным в гардемаринскую роту. С 1716 по 1852 и с 1860 по 1882 гг. звание было строевым, в другие годы гардемаринами называли воспитанников старших классов Морского корпуса в отличие от кадет младших классов.
(обратно)198
Чайковский И. И. Указ. соч. С. 76. В 1854 г. автору было 11 лет.
(обратно)199
Детство и отрочество художника… С. 176, 198–200, 202–203, 214–215, 230–232, 275.
(обратно)200
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 3817. Л. 24; Д. 4029. Л. 38, 50–51, 52 об., 69 об.
(обратно)201
Там же. Д. 3791. Л. 81 об.–82, 87 об.–88.
В графе «характер и наклонности» у кадетов встречаются следующие отметки: «отличные», «весьма хорошие», «очень хорошие», «живой благороден», «хорошие», «довольно хорошие», «вялый», «посредствен», «резвой», «строптив», «скрытен», «дурные», «шаловлив», «неровен», «хорош», «неопрятен», «тих», «дурно учится», «молчалив», «не старателен», «склонен к шалостям», «упрям», «бедов».
(обратно)202
Там же. Д. 4286. Л. 27.
Унтер-офицер был помощником командира отделения и учил кадетов фронту. О положении унтер-офицера среди кадет дает представление картинка из воспоминаний В. П. Одинцова: «Строились кадеты во фронт, чтобы идти к обеду; по тогдашней форме воротники у курток должны были быть застегнуты на все четыре крючка, чего я не сделал. Унтер-офицер, стоявший перед фронтом, спросил меня грубым голосом: “Отчего у тебя воротник не застегнут?” Заметив, что у него воротник также не застегнут, я ответил ему таким же вопросом; тогда унтер-офицер начал на меня кричать и ударил меня, я ответил тем же; за такую предерзость на меня напали другие унтер-офицеры и отколотили порядочно, но зато я сразу стал молодцом в глазах товарищей и пользовался уважением» (Воспоминания В. П. Одинцова. С. 484).
(обратно)203
Там же. Д. 4029. Л. 18.
(обратно)204
Там же. Д. 4279. Л. 27.
(обратно)205
Фрегат был построен фирмой братьев Скайлеров (США) по заказу русского правительства и по русским чертежам (1839–1841) за большую по тому времени сумму – 400 тысяч долларов; водоизмещением в 2120 т. и мощностью паровой машины в 540 л. с.; корпус был сооружен из материалов, пропитанных в солевом растворе, что обеспечило долгую жизнь судна. Фрегат отлично зарекомендовал себя и долго оставался лучшим в российском военно-морском флоте. Плававший на нем лейтенантом А. П. Боголюбов увековечил его картиной «Пароход – фрегат “Камчатка”» (1848, Центральный военно-морской музей, СПб.).
Гейкинг 1-й барон Вильгельм Морицович (1821–?) окончил МКК 19-м из 63-х мичманом (1839). Плавал в Балтийском море. Лейтенант (1844). Капитан-лейтенант (1853). Командир почтового парохода «Владимир» (1853–1855), пароходо – фрегатов «Камчатка», «Смелый», «Гремящий» (1856–1875). Контр-адмирал, младший флагман Балтийского флота, командующий отрядом броненосных судов (1875). Командир Кронштадтского порта (1876). Вице-адмирал, командир Петербургского порта (1885) (Общий морской список. Ч. IX. С. 560–561).
(обратно)206
Боголюбов А. П. Записки моряка-художника // Волга. 1996. № 2–3. С. 25.
Узел – 1 морская миля (1,852 км.) в час.
(обратно)207
Детство и отрочество художника… С. 234–235.
(обратно)208
Пещуров М. Указ. соч. С. 20.
(обратно)209
«Joli metier!» – «хорошенькое дело!» (фр.).
(обратно)210
Детство и отрочество художника… С. 236–237.
(обратно)211
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 9495. Л. 3; Д. 9276. Л. 41–42.
(обратно)212
Там же. Д. 4119. Л. 4.
Врангель Фердинанд – сын адмирала и полярного исследователя Ф. П. Врангеля (1796–1870), будущий профессор Морской академии по кафедре гидрологии и метеорологии, друг С. О. Макарова, его биограф.
(обратно)213
Там же. Д. 4031. Л. 42 об.
(обратно)214
Детство и отрочество художника… С. 238–239, 252.
(обратно)215
Там же. С. 265.
(обратно)216
Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860–1862. М., 1999. С. 361, 364, 365.
(обратно)217
Там за Невой моря и океаны. История Высшего военно-морского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Ушакова училища имени М. В. Фрунзе. М., 1976. С. 101–102; Знаменский М. С., Белоголовый Н. А. Исчезнувшие люди: повести, статьи, воспоминания. Воспоминания Сибиряка. Иркутск, 1988. С. 480.
Дьяконов Владимир Александрович (1841–1887) окончил МКК гардемарином флота (1860, 43-м из 59-ти). Арестован на фрегате «Олег» (13.06.1862) за приобретение герценских изданий и распространение их среди матросов. Заключен в Петропавловскую крепость. Приговорен военно-судной комиссией к разжалованию в рядовые с правом выслуги. Командирован в Аральскую флотилию (1863). Приговором Морского генерал-аудиториата присужден к заключению в крепость на 3 месяца, с дальнейшим оставлением под строгим надзором начальства, и обходу 1 раз производством в офицеры. Переведен в Балтийский флот (1864). Мичман (1864). Лейтенант (1868). Вышел в отставку (1870). Служил нотариусом в Петербурге.
(обратно)218
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4112. Л. 19 об.
«Гангут» – парусный линкор (84 пушки, 650 человек команды), был построен в 1824 г. на Адмиралтейских верфях, участвовал в Наваринском сражении (7.10.1827), переоборудован в винтовой корабль (1856).
Дюгамель Михаил (Михель Адам) Осипович (1812–1896) – из дворян Лифляндской губ. Окончил МКК мичманом (1831). Плавал на судах Балтийского флота (1831–1836). Кругосветное плавание на корабле «Св. Николай» (1837–1839). Командир отряда судов в Каспийском (1843–1845) и Балтийском (1846–1856), корабля «Выборг» (1856–1857), отряда судов в Тихом океане (1858), корабля «Гангут» (1859–1860). Контр-адмирал (1861). Младший флагман Черноморского (1861) и Балтийского (1867) флотов. Вице-адмирал (1868). Старший флагман Балтийского флота (1868–1872). Член Адмиралтейств-Совета (1872). Адмирал (1881). Брат А. О. Дюгамеля (1801–1880), члена Государственного Совета.
18 июня 1859 г. великий князь Константин Николаевич, осмотрев корабли на большом Кронштадтском рейде, пометил в дневнике: «В самом большом порядке “Гангут” (Дюгамель)» (1857–1861: Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича. М., 1994. С. 173).
(обратно)219
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980. С. 26, 40.
Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский либеральный историк и социолог-позитивист, автор «Истории цивилизации в Англии».
Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) – английский историк, публицист и политический деятель; автор пятитомного труда «История Англии от восшествия на престол Якова II».
Милль Джон Стюарт (1806–1872) – английский политический деятель, экономист, философ и логик.
(обратно)220
Морской сборник. СПб., 1860. № 1 (XLV). С. 32–40. 4-я пагинация.
(обратно)221
Это была одна из досадных ошибок реформаторов: «В конце 50-х и начале 60-х годов, когда в “Морском сборнике” помещались талантливые статьи по части педагогии знаменитого хирурга и педагога Пирогова, стали появляться и статьи В. А. Римского-Корсакова и И. А. Шестакова <…> почти все статьи касались воспитания морской молодежи на новых началах». Доказывали, «что из Морского Корпуса не следует по окончании курса наук производить в мичманы, а необходимо учредить особое звание аспирантов или корабельных гардемарин. <…> Звание гардемарин пользы не принесло» (Денорвиль П. Отрывки из воспоминаний старого моряка // Море. 1906. № 7–8. С. 264–265, 268).
(обратно)222
Эта практика – посылать лучших воспитанников, «по выдержании [ими] экзамена на старших гардемарин» в заграничное плавание, так что они курсов старшего гардемаринского класса не слушали – началась при А. К. Давыдове (Из записок Д. Ф. Мертваго. С. 60).
(обратно)223
Чайковский И. И. Указ. соч. // Исторический вестник. 1913. Т. CXXXI. № 2. С. 87.
(обратно)224
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4279. Л. 7, 23–23 об., 26–26 об., 27–28, 34–34 об., 40; Ф. 406. Оп. 3. Д. 555. Л. 1197.
(обратно)225
Пещуров М. Очерк моей жизни. СПб., 1881. С. 19.
«Я всегда любил шторм и сейчас с наслаждением вспоминаю рев ветра, белые барашки, сизые тучи…» (Пилкин В. К. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918–1920. М., 2005. С. 122. Запись 6.03.1919).
(обратно)226
С. О. Макаров. Документы. Т. 1. М., 1953. С. 51 (Из дневника. Запись 27 авг. 1867 г.).
(обратно)227
Речь 13 июня 1908 г. при обсуждении сметы Морского министерства // Гос. Совет. Ст. отчеты. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 1712–1713).
(обратно)228
«Гайдамак» – деревянный винтовой клипер водоизмещением в 1094 т., с паровой машиной мощностью в 250 л. с., с 3-мя бомбическими и 4-мя малыми десантными орудиями, построен в Норфолке (Англия) в 1860 г. В 1863–1864 гг. в составе эскадры контр-адмирала А. А. Попова ходил в Сан-Франциско, затем вернулся в Кронштадт. В 1869–1870 гг. в составе отряда капитана I ранга К. П. Пилкина перешел из Кронштадта на Дальний Восток. Нес крейсерскую службу и занимался описными работами в Японском и Беринговом морях. Исключен из списков флота в 1886 г. В его честь названы бухта и гавань в заливе Петра Великого, мыс в бухте Провидения в Беринговом море, пролив в Желтом море и улица Владивостока.
Пещуров Алексей Алексеевич (1834, с. Лосево Мосальского у. Калужской губ. – 1891, СПб.) – двоюродный племянник светлейшего князя А. М. Горчакова. Окончил МКК мичманом 1-м в выпуске (1853). Адъютант вице-адмирала Е. В. Путятина, на фрегате «Паллада» перешел на Дальний Восток (1852–1854), участвовал в гидрографических работах у восточного побережья Кореи и залива Посьета. На фрегате «Диана» под командованием С. С. Лесовского ходил в Японию (1854), составил планы ряда японских портов. После крушения «Дианы» в бухте Симода, на построенной шхуне «Хеда» перешел в Николаевск-на-Амуре. Сопровождал Е. В. Путятина в Петербург (через Сибирь). Лейтенант (1855). Адъютант начальника штаба военного генерал-губернатора Кронштадта (1855–1856). Агент по заказам Морского министерства в Англии и Франции (1857). Капитан-лейтенант (1860, за отличие). Командир «Гайдамака», провел клипер из Англии на Дальний Восток (1860–1861), участвовал в составе Тихоокеанской эскадры контр-адмирала А. А. Попова в Американской экспедиции в Сан-Франциско (1863–1864). Капитан II ранга (1865). Командир броненосного фрегата «Минин» (1865–1866). Командирован в США в ранге специального правительственного комиссара (1867) и подписал (14.10) в Новоархангельске протокол о передаче Америке владений Российско-Американской компании на Аляске и Алеутских островах. Капитан I ранга (1868, за отличие). Вице-директор (1868) и директор (1875) канцелярии Морского министерства. Контр-адмирал (1874, за отличие). Назначен в свиту е. и. в. (1878). Товарищ управляющего (1880) и управляющий (1880) Морским министерством. Главнокомандующий Черноморским флотом и портами и военный губернатор г. Николаева (1882). Вице-адмирал (1882, за отличие). Главный командир флота и портов Черного и Каспийского морей с оставлением в д. военного губернатора г. Николаева. Член Государственного совета (1890). Автор статей по различным вопросам морской службы в Морском сборнике. Похоронен на Новодевичьем кладбище Петербурга. Его именем назван мыс в заливе Петра Великого и мыс на полуострове Корея (Общий морской список. Ч. X. С. 187–188).
«Это был только хороший морской офицер и человек безупречной нравственности» (Денорвиль П. Отрывки из воспоминаний старого моряка // Море. 1906. № 7–8. С. 272).
«Любимец графа Путятина» (Арсеньев Д. С.).
«Лесовский [министр] взял Пещурова [заместителем]. И если когда административный брак представлял собою идеал счастливого брака, так это именно здесь, в сочетании пыла, быстроты и детской откровенности адмирала, – с невозмутимым, вынесенным из продолжительного пребывания в Англии, спокойствием и чисто английскою выдержкою, молодого моряка. Пещуров был тоже моряк из лихих: он так разбил свой клипер в кругосветном плавании, что это поставлялось в образец даже старыми моряками. “Вот как надо разбивать клипера”, – говорили они одобрительно и Пещурова признавали своим. Своим же не могли не признать его и так называемые старыми моряками “чернильницы”, то есть письменная часть, чиновники министерства. Он писал едва ли не лучше их, во всяком случае, последовательнее и логичнее его изложения мне не приходилось встречать в бумагах. И писал он бумаги большею частью всегда сам, не только в бытность директором канцелярии, но и товарищем министра. Цифры Морского ведомства вместо позорных поражений, начали одерживать блистательные победы в департаменте экономии [Государственного совета], где Пещуров разбивал не хуже своего клипера, пасовавшего Заблоцкого-Десятовского.
<…> Промежуточное управление [министерством] Пещурова было непродолжительно, м. б., потому, что оно соединяло все условия хорошего управления министерством, ровного, спокойного и всесторонне обдуманного. Уступки, лицеприятия были немыслимы при его, можно сказать, математически точном и последовательном образе действий. Кто просил – ничего не значило, но чего и зачем он просил, – только то имело значение. Он, со спокойствием некогда его не покидавшим, – отказывал уже нареченному генералу Алексею Александровичу в разных требованиях, между прочим, в усилении каких-то украшений в гвардейском экипаже, которым этот великий князь командовал.
– В смете не имеется кредита на этот предмет, – процеживал он по своей привычке сквозь зубы и немного в нос.
Бережливая великая княгиня Екатерина Михайловна присылает дворцового чиновника просить казенных флагов, к какому-то высокоторжественному дню.
– Обратитесь к капитану над портом. Он даст, если можно.
Поступки и не особенно отчаянные, однако в глазах людей сведущих, вполне достаточные, чтобы погубить человека.
– Уж сломит себе шею Алексей Алексеевич, – пророчили они. И он ее в самом деле сломил…
Нужен был его английский такт (он и женат был на англичанке), чтобы держать курс между рифами заслуженных и влиятельных адмиралов, от которых он получал когда-то приказания, стоя у них на вахте, и которые должны были теперь являться в его кабинет за приказаниями.
<…> Сдавши министерство [И. А. Шестакову], он взял подчиненное место главного командира Черноморского флота и уехал в степное захолустье заметаемого зимой метелями, а летом пылью Николаева…
И вот, в стенах министерской квартиры не стало обходительного, невысокого, с тонкими чертами, умного и приветливого лица Пещурова» (Ковалевский П. М. Власти предержащие // Русская старина. 1909. Т. 137. № 1. С. 84, 85–86, 87.
Ковалевский Павел Михайлович /1823–1907/ – поэт, писатель, литературный критик).
«Высокодаровитый. <…> Будучи от природы малообщительным и притом не принадлежа по происхождению к высшему обществу, Алексей Алексеевич даже будучи министром, вел дружбу и знакомство преимущественно с бывшими своими товарищами по корпусу и собирал их на свои скромные вечера по средам. На этих вечерах играли по маленькой в обычный тогда ералаш, немного танцевали и после скромной закуски расходились, благодаря гостеприимных хозяев. Супруга министра была родом англичанка (женился на вдове врача, на квартире которой стоял в Англии. – А. Б.) и других языков, кроме своего родного, не знала; поэтому понятно, что и она избегала чопорных знакомых, предпочитая им, одинаково с мужем, моряков, как лиц, говоривших по-английски.
В летние месяцы эти среды прекращались, и, отправив семью в деревню, Пещуров посвящал свой досуг музыке и, как музыкант-самоучка, часами просиживал за роялем, отчасти фантазируя, а отчасти разыгрывая по памяти довольно трудные вещи.
Министром пробыл <…> недолго – менее двух лет. Невзлюбил его почему-то новый Генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович, и ему была предложена должность главного командира Черноморского флота.
<…> При последнем нашем свидании за месяц до его смерти в скелете, обтянутом кожею, с трудом можно было признать прежнего красивого, моложавого и всегда молодцеватого адмирала» (Мамантов Н. При шести министрах (1875–1897) // Вестник Императорского Общества ревнителей истории. Вып. III. СПб., 1916. С. 88, 90).
(обратно)229
«Мрачный поселок Дуэ расположен на западном берегу Сахалина у самого моря и имеет совершенно открытый рейд, на котором опасно стоять при западных ветрах». Тогда «в поселке жили ссыльно-каторжные, около 50 челов[ек] и охранявшие их 150 челов[ек] линейных солдат под общим начальством некоего штабс-капитана Николаева из бурбонов. Это было грубое и жестокое создание. Два бежавших каторжанина, вновь пойманные в тайге с отмороженными конечностями, были им посажены в мерзлый подвал; он не хотел даже допустить к ним наших судовых врачей для ампутирования ног, так что в этом случае понадобилось вмешательство нашего адмирала. В Дуэ находятся угольные копи, и каторжники обязаны были ежедневно на урок вывозить в склад известное количество выламываемого угля» (Де Ливрон А. К. Корвет «Калевала» // Морской сборник. 1909. Т. 353. № 9. С. 60. 5-я пагинация).
О населении Дуэ встречаются и др. данные: в 1863 г. «до 200 арестантов, присланных на каторжную работу, да человек 80 линейных солдат» (Зеленой К. Из записок о кругосветном плавании (1861–1864 гг.) // Морской сборник. Т. 79. № 8. С. 228).
(обратно)230
П. Денорвиль по этому случаю замечает: А. А. Пещуров «лихо управлялся» на «Гайдамаке», и добавляет: «Молодцеватость Пещурова во время шторма в Дуэ, на Сахалине, поэтично очерчена покойным К. М. Станюковичем в его морских рассказах» (Из воспоминаний старого моряка // Море. 1906. № 33–34. С. 1179).
(обратно)231
Де Ливрон А. К. Указ. соч. // Морской сборник. 1909. Т. 354. № 9. С. 42–43, 60–61. Более точное, в деталях и хронологически, описание этого случая см.: Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского флота. СПб., 1874. С. 140–156.
(обратно)232
Парусно-винтовой транспорт, был построен в Бостоне (1858) для службы на Амуре и Тихом океане. При водоизмещении в 1380 т., мощностью машины в 300 л. с., имел скорость до 8 узлов под парами и до 11 – под парусами; вооружен 8-ю пушками по бортам и 2-мя орудиями на поворотных станах. Выполнял грузовые перевозки в Татарском проливе и лимане Амура, ходил на Сахалин и в японские порты; высаживал десанты для занятия постов в юго-восточные гавани, обеспечивал посты продовольствием; с его борта велись магнитные и гидрологические наблюдения. Исключен из списка судов Сибирской флотилии после аварии 1892 г.
Шкот Николай Яковлевич (1829, Костромская губ.–1870, СПб.) окончил МКК мичманом (1848). Плавал на кораблях Черноморского флота (1848–1854). Участник Крымской войны и обороны Севастополя (на Корниловском бастионе контужен разрывом бомбы в голову; на Камчатском редуте ранен осколком в ногу; орден св. Анны III ст. с мечами). Лейтенант (1855, за отличие). Назначен в 47-й Сибирский флотский экипаж, капитан-лейтенант, командир пароходо-корвета «Америка» (1856). Ст. офицер (1857) и командир (1858–1864) транспорта «Японец». Капитан II ранга, и. д. помощника командующего портами Восточного океана, Главный начальник южных гаваней (1864). Участвовал в переходе из Николаевска в Тяньцзин с дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина, в открытии залива Владимира и описи залива Ольги, в гидрографических работах в Амурском заливе, в развертывании военного поста в Новгородской гавани; ходил по русским портам Охотского и Японского морей, в Татарском проливе и по Амуру; снабжал углем Тихоокеанскую эскадру в Печелинском заливе. За 10-летнюю службу на Амуре назначена пенсия – 435 рублей в год; переведен в 7-й флотский экипаж Балтийского флота (1866). Капитан I ранга (1868). Его именем назван мыс в заливе Ольги, остров и полуостров в заливе Петра Великого, поселок (Шкотово) в Приморском крае. В качестве командира «Японца» был причастен к основанию Владивостока, многих постов на материковом побережье и на Сахалине. Энергичный, честный и прямолинейный, очень ценился контр-адмиралом П. В. Казакевичем как один из деятельных офицеров (Общий морской список. Ч. XII). Брат П. Я. Шкота (1815–1880), вице-адмирала и общественного деятеля.
(обратно)233
Деревянный парусно-винтовой клипер «Наездник» построен на Архангельской верфи (1856); водоизмещением в 615 т., паровой машиной в 300 л. с., вооружен 3-мя (по др. данным – 6-ю) орудиями; экипаж из 9-ти (7-ми?) офицеров и 92-х (99-ти?) матросов. В 1856–1859 гг. плавал на Балтике. В 1859 г. ушел из Кронштадта на Дальний Восток, где участвовал в описных работах. В 1862 г. отозван для капитального ремонта в Кронштадт. Из-за недостатка средств простоял у стенки 3 года и в 1866 г. выведен из боевого состава флота. В 1869 г. использован в качестве мишени на маневрах Балтийского флота и исключен из списка судов флота. В честь его названа бухта.
Желтухин Федор Николаевич (1826, Московская губ.–1898, СПб.) окончил кадетский корпус и гардемаринское отделение МКК (1844). Служил на Балтийском флоте. Лейтенант (1855). Командуя канонерской лодкой «Шквал», принял бой на подходе к Кронштадту с английским фрегатом и двумя пароходами. Капитан-лейтенант (1859). Ст. офицер (1859) и командир (1862) клипера «Наездник»; переходит из Кронштадта в Печелинский залив (1859–1860). В 1862–1863 гг., командуя корветом «Калевала», участвовал в гидрографических и описных работах подполковника В. М. Бабкина в западной части залива Петра Великого и в составе эскадры контр-адмирала А. А. Попова – в Американской экспедиции. Из-за болезни вернулся в Кронштадт (1864). Капитан II ранга (1864). Командир строящегося броненосного фрегата «Адмирал Чичагов» (1867). Капитан I ранга (1868). Плавал в Балтийском море (1871–1873), командуя броненосным фрегатом. Командующий 1-м флотским экипажем (1874). Вице-адмирал с увольнением в отставку по болезни (1879). Похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем назван остров и банка в заливе Петра Великого.
Ф. Н. Желтухин «оказался симпатичным и добрым начальником. Это был человек живой, общительный и большой жуир», – вспоминал А. К. Де Ливрон (Указ. соч. // Морской сборник. 1909. Т. 354. № 9. С. 61).
(обратно)234
Винтовой корвет «Посадник» построен на Охтинской верфи (1856); водоизмещением 885 т., с одним подъемным винтом, с паровой машиной в 200 л. с., вооружение – 11 пушек, скорость – до 13 узлов. Как все этой серии, крейсер вызывал восхищение своим наружным видом. Исключен из списков в 1871 г.
Бирилев Николай Алексеевич (1829, Калязинский у. Тверской губ.–1882, СПб.) окончил МКК мичманом (1847). Служил на Черном море (1845–1855). Лейтенант (1854). Участник Синопского сражения, герой защиты Севастополя (командовал аванпостами 3-го бастиона, отличился ночными вылазками в расположение противника, награжден орденами св. Георгия IV ст., св. Владимира IV ст. с мечами и золотым оружием, св. Анны II ст. с мечами и императорской короной; капитан-лейтенант /1855, за отличие/, флигель-адъютант /1855/; контужен в голову картечью, послан для лечения в Висбаден). Назначен в свиту (1855). Командир яхты «Королева Виктория» (1856–1857). Ст. офицер на «Выборге» (1858). Командуя корветом «Посадник», совершил переход на Дальний Восток и плавал у берегов Японии (1859–1863). Капитан II ранга (1862). Капитан I ранга (1863). Командир фрегата «Орел» (1863–1872). Вице-адмирал (1872, за отличие). В отставку с производством в контр-адмиралы (1872).
Женат на дочери Ф. И. Тютчева Марии (1865). Похоронен на Новодевичьем кладбище Петербурга. Его именем назван остров в Японском море (1886).
«Флигель-адъютант Бирилев, Севастопольский герой, был добрый человек, но без всякого воспитания и образования и, несмотря на свою доказанную храбрость, был самый пошлый человек. К несчастью Мария Федоровна Тютчева (младшая дочь поэта, девица умная, образованная, очень милая и с такой возвышенной натурой) влюбилась в него. Самая его пошлость принималась ею за простоту и прямоту храбреца, и даже полная невоспитанность Бирилева ей нравилась, принимаемая как противоположность с банальным лоском светских кавалеров; со мной она была очень коротко знакома, почти дружила, и она мне высказала о своем чувстве и о желании выйти за него замуж. Хотя я, зная Бирилева с Морского Корпуса, где мы одновременно были кадетами (он вышел двумя годами раньше меня), не делал себе никаких иллюзий на его счет, но все-таки считая его добрым и честным человеком, полагал, что он будет хорошим мужем и, что раз он нравится Марии Федоровне, так это дело вкуса, то нет причины не исполнить ее желания и не дать ему совета искать ее руки. Я это и сделал. Анна Федоровна тоже этому сочувствовала, вероятно смотря на Бирилева сквозь призму его геройства в Севастополе. Но отец – Тютчев был сильно против этого брака и даже раз (я не могу вспомнить без тяжелого чувства сожаления и некоторого даже угрызения совести) он утром пришел ко мне и просил меня повлиять на дочь его против этого брака и постараться, чтобы он не состоялся. Но я в ослеплении думал, что он ошибался в Бирилеве и что его неодобрительное о нем мнение основано на том, что его коробило слышать, как Бирилев ужасно говорит по-французски. “Он не говорит двух слов, за которые не надо бы краснеть. Это, может быть, лев, но во всяком случае это не орел” (сказано Ф. И. Тютчевым по-французски. – А. Б.). Притом же всякие доводы Марии Федоровне против брака с Бирилевым ни к чему бы не повели; она была в него влюблена и решилась выйти за него замуж. Скоро предложение было сделано, дано согласие, и перед масленицей они были обвенчаны в нашей православной церкви в Ницце. Сначала Мария Федоровна была счастлива, у нее через год родилась дочка, которая была ей великой радостью; но в то же время у мужа стали проявляться, даже скоро после свадьбы, признаки размягчения мозгов (вероятно, вследствие контузии в голову во время Севастопольской осады); мало-помалу он стал впадать в идиотизм; через год дочка их умерла, и скоро и сама Мария Федоровна умерла, а Бирилев еще прожил несколько лет в состоянии почти совершенного идиотизма» (Из записок адмирала Д. С. Арсеньева // Русский архив. 1910. Кн. 3. Вып. 11. С. 430–431).
(обратно)235
Винтовая канонерская лодка «Морж» построена в Англии (1860). В 1860–1862 гг. под командою лейтенанта А. Е. Кроуна перешла из Кронштадта на Дальний Восток через Магелланов пролив. Проводила гидрографические работы у берегов Сахалина. Ее именем названы гора и бухта в Анивском, озеро и полуостров в Корсаковском районах Сахалина.
Линден Александр Михайлович (1834–1902) окончил МКК мичманом, 2-м в выпуске (1853). На фрегате «Паллада» перешел на Дальний Восток (1852–1854). В составе сухопутных отражал атаку англичан в бухте Де-Кастри (1855). Лейтенант (1855). Участвовал в исследованиях и картографировании побережья морей Тихого океана; «за отличные труды и усердие, сопряженные с особыми лишениями» награжден орденами св. Станислава III ст. и св. Владимира IV ст. Командир пароходов «Аргунь» (1859), «Амур» (1860), винтовой лодки «Морж» (1862), корвета «Богатырь» (1864–1865). Капитан-лейтенант (1863, за отличие). При генерал-губернаторе графе Н. Н. Муравьеве, по особым поручениям по морской части (1865). Капитан II ранга (1871). Делопроизводитель канцелярии Морского министерства (1871). Капитан I ранга (1875). Член правления Обуховского завода (1876–1881). Вице-директор канцелярии Морского министерства (1881). Генерал-майор (1885). Генерал-лейтенант (по адмиралтейству), член Главного военно-морского суда (1893). Печатался в Морском сборнике (1858–1864). Один из способнейших учеников адмирала А. А. Попова.
(обратно)236
Деревянный парусно-винтовой корвет, построен в Або (1858), водоизмещение 1858 т., мощность машины – 250 л. с., скорость – 11 узлов, вооружение – 15 орудий, экипаж – 15 офицеров и 167 нижних чинов. Под командованием лейтенанта В. Ф. Давыдова перешел из Кронштадта на Дальний Восток. Участвовал в Американской экспедиции А. А. Попова (1863–1864). Возвратился в Кронштадт (1865). Плавал на Балтике. В 1872 г. исключен из списков флота. По имени корвета названа бухта в заливе Петра Великого. По утверждению А. К. Де Ливрона, «красивее <…> корвета не было <…> другого судна» (Морской сборник. 1909. Т. 354. № 10. С. 26).
(обратно)237
Там же. С. 70.
(обратно)238
Чайковский И. И. Эпизоды из моей жизни // Исторический вестник. 1913. Т. 131. № 2. С. 476–477. Об Американской экспедиции русских эскадр см.: Столетняя годовщина прибытия русских эскадр в Америку. 1863–1963 // Зарубежные записки. № 1. Washington, 1963.
Копытов Николай Васильевич (1833–1901) окончил МКК мичманом (1852). Плавал на линкорах «Лефорт», «Императрица Александра», «Константин», корвете «Новик». Лейтенант (1855). Участник войны 1853–1856 гг. (оборонял Кронштадтский рейд и столицу). В составе отряда капитана I ранга Д. И. Кузнецова на корвете «Новик» перешел на Тихий океан (1857). Капитан-лейтенант (1860). Командир корвета «Гридень» (1861). Кругосветное плавание (1862). Автор статей в Морском сборнике. Командир фрегата «Пересвет». Участник американской экспедиции. Контр-адмирал (1882). Командующий отрядом судов на Тихом океане. Вице-адмирал (1888). Главный командир Черноморского флота и портов и военный губернатор Николаева. Генерал-адъютант и член Государственного Совета (1898).
(обратно)239
Де Ливрон А. К. Указ. соч. // Морской сборник. 1909. Т. 355. № 11. С. 75–76, 77.
(обратно)240
Чайковский И. И. Указ. соч. С. 486–487.
(обратно)241
Л. П. Семечкин – родителям, Нью-Йорк, 14 сент. [1863 г.] // РГАВМФ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 69 (Письма Л. П. Семечкина родителям из плавания. 1860–1864 гг.). Л. 354 об.
(обратно)242
Де Ливрон А. К. Указ. соч. С. 77–78.
Среди молодежи на судах эскадр были и однокашники П. Дурново по МКК: Николай Быков и Михаил Верховский – на «Гайдамаке», Александр Леман и Константин Самсыгин – на «Абреке», Яков Гильтебандт – на «Калевале», Николай Вишняков – на «Александре Невском», Виктор Вернандер и Василий Давыдов – на «Пересвете», Дмитрий Булыгин и Нил Черкасов – на «Витязе» (Тарсаидзе А. Г. К 90-летнему юбилею прихода русских эскадр в Америку, 1863–1953 // Морские записки. Нью-Йорк, 1953. Т. XI. № 3. С. 17–21).
(обратно)243
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980. С. 45.
(обратно)244
Л. П. Семечкин – родителям, Нью-Йорк, 18 марта 1864 г. Л. 10 об.
(обратно)245
«Богатырь» – винтовой паровой корвет, построен по проекту Н. Г. Коршикова в Новом Адмиралтействе (1859–1862); водоизмещение – 2155 т.; машина – 360 л. с.; вооружение – 17 196 мм гладкоствольных бомбических пушек; скорость – до 10 узлов под парусами, до 11 под парами; имел богатую библиотеку; в 1861–1866 и 1871–1876 гг. – длительные заграничные плавания в Атлантическом и Тихом океанах; с 1888 г. – блокшив; исключен из списков флота в 1900 г.
Скрыплев Константин Григорьевич (1826–1900) окончил МКК мичманом (1845). Плавал на судах Балтийского флота (1845–1856). Лейтенант (1850). Участвовал в отражении попытки англичан бомбардировать Ригу (орден св. Владимира IV ст. с мечами). Капитан-лейтенант (1859). Командуя корветом «Новик» (с 1860), перешел на Дальний Восток, участвовал в гидрографических работах (его именем назван маяк при входе в залив Петра Великого). После гибели «Новика» назначен А. А. Поповым командиром корвета «Богатырь»; отличился при тушении пожара в Сан-Франциско 23.10.1863 г., организовав эффективную работу матросов. Капитан II ранга (1866). Командир клипера «Жемчуг» (1868). Капитан I ранга (1870). Главный командир Кронштадтского порта (1873). Вышел в отставку в чине контр-адмирала (1882). Его именем назван остров в проливе Босфор Восточный.
(обратно)246
Крылов А. Вице-адмирал С. О. Макаров. URL: (дата обращения: 3.03.2013)
Быков, Николай Андриянович – однокашник П. Н. Дурново по МКК.
(обратно)247
Де Ливрон А. К. Указ. соч. // Морской сборник. 1909. Т. 354. № 9. С. 63.
(обратно)248
Из записок адмирала Д. С. Арсеньева. С. 390.
В 1896 г. исполнилось 35 лет со времени назначения А. А. Попова командующим эскадрой Тихого океана. «Сослуживцы, почитатели и ученики Адмирала, находившиеся в составе эскадры Тихого океана в 1861–1864 гг.», почтили Андрея Александровича обедом в ресторане «Донон» 2 апреля. От имени 88-ми собравшихся А. А. Бирилев сказал приветственное слово, отметив заслуги и достоинства своего Учителя и выразив чувства благодарности и любви. Пел хор Гвардейского экипажа. Звучала музыка М. И. Глинки, А. П. Бородина, П. И. Чайковского и др. Здесь, через 30 с лишним лет, П. Н. Дурново встретился со многими из тех, с кем плавал на судах эскадры А. А. Попова; из однокашников был, к сожалению, лишь один – Я. А. Гильтебандт (РО РНБ. Ф. 736 /Станюкович К. М./. Д. 83 /Приглашение на обед в честь адмирала А. А. Попова. 14 марта 1896 г./).
(обратно)249
Врангель Ф. Ф. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Ч. 1. СПб., 1911. С. 57.
(обратно)250
Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского флота. СПб., 1874. С. 187–195.
(обратно)251
Врангель Ф. Ф. Указ. соч. С. 5–6.
Тыртов Сергей Петрович (1839–1903) – вице-адмирал (1894), главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор г. Николаева (1899), начальник соединенной эскадры в Тихом океане. «Выдающийся моряк» (А. Н. Крылов).
Макаров Степан Осипович (1849–1904) – флотоводец, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (1896). В рассматриваемое время – кадет Морского училища в Николаевске-на-Амуре.
(обратно)252
«Рында» – деревянный парусно-винтовой корвет, построен на Охтинской верфи (1855–1856) под руководством корабельных инженеров А. Иващенко и Л. Шведе; водоизмещение – 885 т., один подъемный винт, мощность паровой машиной – 200 л. с., скоростью – до 13 узлов, вооружение – 11 пушек; имел «замечательно красивый наружный вид» и славился богатой судовой библиотекой. В 1861–1863 гг. перешел из Кронштадта на Дальний Восток, участвовал в Американской экспедиции контр-адмирала А. А. Попова. В 1864 г. вернулся на Балтику. Исключен из списков в 1871 г. В честь корвета названы бухта в заливе Петра Великого, гавань и остров в архипелаге Александра и залив на материковом побережье Японского моря.
Фесун Николай Алексеевич (1835–?) окончил МКК мичманом 5-м в выпуске (1853). На фрегате «Аврора» под командой И. Н. Изыльметьева перешел из Кронштадта вокруг м. Горн на Дальний Восток (1853–1854) и участвовал с 18 по 27 авг. 1854 г. в отражении нападения англо-французской эскадры на Петропавловск Камчатский (награжден орденом св. Владимира IV ст. с бантом; оставил записки о сражении 20–24 авг., где дело доходило до рукопашной). Лейтенант (1854, за отличие). В 1855 г. перешел из Петропавловска в устье Амура и участвовал в сражении в заливе Де-Кастри (орден св. Анны III ст.). На «Авроре» же вернулся вокруг м. Доброй Надежды в Кронштадт (1856–1857). В 1858–1859 гг. плавал в Средиземном море (в 1859 г. награжден Золотой медалью на Владимирской ленте за спасение погибавших). В 1860–1862 гг. на винтовой лодке «Морж» под командой А. Е. Кроуна перешел из Кронштадта на Дальний Восток через Магелланов пролив, составив его подробное описание. Командуя корветом «Рында» вернулся в Кронштадт, награжден орденом св. Станислава II ст., произведен в капитан-лейтенанты и назначен для особых поручений при управляющем Морским министерством. Командир башенной лодки «Ураган» (1865–1867). Награжден орденом св. Станислава II ст. с имп. короной (1865). Уволен для службы на коммерческих судах (1870). В 1884 г. уволен от службы с производством в контр-адмиралы. Печатался в Морском сборнике (1855, 1859–1861, 1863–1864). Зять адмирала В. С. Завойко.
«Он был умный и развитой молодой человек, верующий и вполне порядочный, но большой пессимист и болезненно самолюбивый, что, положительно, отравляло его жизнь. <…> здоровье было, что называется, скрипучее. <…> был всегда мрачный, все видел в черном цвете» (Из записок адмирала Д. С. Арсеньева. 1860 г. // Русский архив. 1910. Кн. 3. Вып. 10. С. 258, 272, 286).
Д. С. Арсеньев был ст. офицером на лодке «Морж» в 1860–1862 гг.
(обратно)253
Монитор «Ураган» построен в России по американским чертежам (1863–1864); водоизмещение – 1566 т, скорость – 7 узлов, броня – 5 мм, вооружение – два 9 мм орудия и два скорострельные.
(обратно)254
«Светлана» – деревянный парусно-винтовой фрегат, построен в Бордо (Франция) в 1856–1858 гг.; водоизмещение – 3188 т, паровая машина – 450 л. с., скорость – 10,5 узлов, вооружение – 50 орудий, экипаж – 24 офицера и 414 матросов. Отлично ходил под парусами. В 1860–1862 гг. совершил кругосветное плавание. Исключен из списков флота в 1892 г. По мнению капитана I ранга Лисянского, «фр[егат] “Светлана” есть самое красивое судно подобного рода, когда-либо виденное, и, конечно, делает честь способностям г. Армана. Можно положительно сказать, что нет точки, откуда фрегат не представлялся бы в поразительно изящных и благородных формах». По словам Лисянского, английский контр-адмирал Sir Charles Elliot, «решительно в восторге от фрегата и громко, во всеуслышание, говорит, что никогда в жизни не видел такого превосходного судна» (Морской сборник. 1858. Т. 35. № 5. С. 217. 2-я пагинация).
Дрешер Яков Матвеевич (1826, Томская губ.–1876, СПб.) – в службе с 1844 г. из вольноопределяющихся в I Финском флотском экипаже. В 1847 г. выдержал экзамен в МКК и произведен в мичманы. Плавал по Балтийскому и Немецкому морям (1847–1852). Лейтенант (1852). Участвовал в обороне Свеаборга (1854) и за отличие назначен старшим офицером винтового корвета «Медведь», на котором плавал по Средиземному морю. Капитан-лейтенант (1862) с назначением командиром фрегата «Кастор». В 1866–1869 гг., командуя фрегатами «Светлана», а затем «Дмитрий Донской», совершил несколько практических плаваний с гардемаринами по Атлантическому океану и Черному и Средиземному морям. Капитан II ранга (1868, за отличие). Командир корветов «Память Меркурия» и «Львица» (1869–1870). Капитан I ранга, командир винтового фрегата «Ослябя» (1870). Начальник отряда судов Морского училища (1875). Участник различных правительственных комиссий, участвовал в разработке Положения о воинской повинности и в составлении «Сборника материалов для свода морских постановлений», печатался в Морском сборнике и повременных изданиях. Владея в совершенстве английским и шведским языками, занимался переводами. Награжден орденами св. Анны III ст. (1860), св. Станислава II ст. (1864), св. Анны II ст. (1876).
Из числа «дельных командиров», «энергичный» (Денорвиль П. Указ. соч. // Море. 1906. № 33–34. С. 1180).
(обратно)255
«Дмитрий Донской» – парусно-винтовой фрегат, построен на Галерном островке (1859–1861); водоизмещение – 4562 т, паровая машина – 800 л. с., полное парусное вооружение, скорость – до 11 узлов, вооружение – 51 орудие; экипаж – 22 офицера и 719 нижних чинов. Отличался замечательными мореходными качествами. В 1872 г. сдан на слом в Кронштадте.
(обратно)256
РГАВМФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 12 (Приказы бывшего фрегата «Дмитрий Донской» за 1868 и 1869 гг). Л. 66 об.–67.
(обратно)257
Врангель Ф. Ф. Указ. соч. С. 36.
(обратно)258
РГАВМФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 9 (Формулярные списки гг. офицеров и нижних чинов бывшего фрегата «Дмитрий Донской». 1867–1868). Л. 456.
(обратно)259
Там же. Д. 13 (Приказы бывшего фрегата «Дмитрий Донской» за 1869 г.). Л. 64 об.–65.
(обратно)260
С. О. Макаров. Документы. Т. 1. М., 1953. С. 57; РГАВМФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 9. Л. 477. Добрые отношения они сохранили на всю жизнь, и П. Н. Дурново сочтет нужным сослаться на мнение своего ученика: «Покойный мой приятель, безвременно погибший Адмирал Макаров, говорил, что мичмана народ хороший» (Речь 13 июня 1908 г. при обсуждении сметы Морского министерства // Гос. Совет. Ст. отчеты. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 1720).
(обратно)261
Семанов С. Н. Макаров. М., 1972. С. 40.
(обратно)262
РГАВМФ. Ф. 686. Оп. 1. Д. 9. Л. 448 об., 475.
(обратно)263
«Память Меркурия» – деревянный парусно-винтовой корвет 2-го ранга, построен в Николаеве (1863–1865); водоизмещение – 885 т, паровая машина – 382 л. с., скорость – до 8,5 узлов, вооружение – 11 гладкоствольных орудий; экипаж – 175 человек, в т. ч. 13 офицеров. Крейсерства (борьба с контрабандой и поставками оружия) у берегов Кавказа (1866–1869). В 1869–1870 гг. – в составе учебного отряда Черноморской флотилии. Перевооружен (1871) и капитально отремонтирован (1874), однако, как устаревший, не был назначен в кампанию 1877–1878 гг., а использовался как учебный корабль в Николаеве и для доставки Кавказской армии в Батум. Передан в состав Дунайской флотилии (1878). В 1883 г. переоборудован в блокшив и поставлен на мертвые якоря в южной бухте Севастополя. В 1910 г. сдан на слом.
Юрьев Дмитрий Федорович (1831–?) окончил МКК мичманом, назначен в Черноморский флот (1849). Участник обороны Севастополя (на бастионе Корнилова 30 марта 1855 г. контужен в спину осколком бомбы; командуя батареей, был ранен в грудь штуцерной пулей; награжден орденами св. Анны III ст. с бантом и св. Владимира IV ст. с бантом). Лейтенант (1855). Командир шхуны «Редут-кале». Орден св. Станислава II ст. с мечами за отличие в делах против горцев (1861). Императорская корона к ордену св. Станислава II ст. с мечами (1865). Капитан-лейтенант (1866). Орден св. Анны II ст. с мечами. Командир корвета «Память Меркурия» (1868–1870). Императорская корона к ордену св. Анны II ст. с мечами (1870). Младший помощник командира над Николаевским портом (1871). Капитан II (1874) и I (1878) рангов. Уволен от службы с производством в контр-адмиралы (1885).
(обратно)264
Журнал Конференции Военно-Юридической Академии № 25. 31 авг. 1870 г. // РГВИА. Ф. 348. Оп. 1. Д. 202. Л. 8–8 об.
Переводной экзамен П. Дурново сдал отлично, получив по энциклопедии законоведения, государственным законам России, гражданскому праву, уголовному праву и уголовному судопроизводству по 12 баллов (Там же. Д. 200 /Аттестационный список штаб– и обер-офицерам 1-го (младшего) курса Военно-Юридической Академии за курс 1869–1870 года/. Л. 20).
На выпускном экзамене он подвергся испытанию по 12 дисциплинам (энциклопедии права, истории русского права, государственному праву, гражданскому праву, гражданскому судопроизводству, уголовному праву, уголовному судопроизводству, полицейскому праву, военно-административному праву, русским военно-уголовным законам, военно-уголовным законам важнейших иностранных государств, военно-уголовному судопроизводству с практическими занятиями), получив высший балл (12) по всем, кроме двух: по истории русского права и военно-уголовному судопроизводству с практическими занятиями – по 11 баллов. Это был третий результат: трое штатных слушателя набрали по 144 (100 %), один штатный – 143 и двое штатных и вольнослушатель П. Дурново – по 142 (Аттестационный список штаб– и обер-офицерам, окончившим курс наук в Военно-Юридической Академии в 1868/1869–1869/1870 учебном году. 1870 года // Там же. Д. 202. Л. 1–6).
(обратно)265
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 717. Л. 381.
(обратно)266
Зеленой А. С. Воспоминания о Морском кадетском корпусе // Исторический вестник. 1901. Т. 83. № 2. С. 605.
(обратно)267
Из записок Д. Ф. Мертваго. Морской кадетский корпус. 1856–1858 гг. // Морской сборник. Пг., 1918. Т. CDVI. № 12. Декабрь. С. 50.
(обратно)268
Завалишин Дмитрий. Воспоминания о Морском кадетском корпусе с 1816 по 1827 гг. // Русский вестник. М., 1873. Т. 105. № 5–6. С. 630.
(обратно)269
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 221–222.
Монтескье Шарль Луи (1689–1755) – французский просветитель, видел в принципе разделения властей основное средство обеспечения законности.
Пален, фон дер, граф Константин Иванович (1833–1912) окончил юридический факультет Петербургского университета кандидатом прав (1852). Тайный советник (1867). Статс-секретарь (1867). Действительный тайный советник (1878). И. д. товарища (1867) и товарищ министра (1867), управляющий министерством (1867) и министр (1868) юстиции. В 1878 г. вследствие «дела Засулич» подал в отставку с поста министра и назначен членом Государственного Совета.
«Был все-таки лучшим из м[инистров] ю[стиции]» (А. Ф. Кони – П. А. Гейдену, 16 июля 1906 // Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 8. М., 1969. С. 239).
«Высоко державший знамя судейской независимости от всяких посторонних давлений и влияний, ревниво оберегавший нравственный престиж судейского звания и всемерно ввиду этого стремившийся к тщательному подбору личного состава судей и прокурорского надзора <…> Он был известен необыкновенной прямотой характера и отличался безупречной, можно сказать, рыцарской в лучшем смысле этого слова, честностью. <…> говорил он <…> всегда деловито и убедительно, умея в каждом вопросе сразу схватить сущность, и хотя на ломаном русском языке, но все же ясно высказать свое, чувствовалось, искреннее и чуждое всяких посторонних соображений, мнение» (Гурко В. И. Указ. соч. С. 100).
«Весьма почтенн[ый] и достойнейш[ий] человек. <…> высокопочтеннейший человек, <…> выдающийся государственный деятель, по своему благородству и по своей порядочности человек, <…> человек, во всех без исключения отношениях достойнейш[ий], <…> рыцар[ь] без страха и упрека» (Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. СПб., 2003. Т. 1. С. 454, 878; Т. 2. С. 36, 351).
«Пален был дворянином старой школы, который пользовался большим расположением при дворе, но отличался абсолютной независимостью по отношению к правительству и был всеми уважаем за свой свободолюбивый и благородный характер. <…> хорошо известный своим независимым характером и прямотой» (Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 74, 165).
Известна и негативная оценка К. И. Палена как человека и как министра (Ратьков-Рожнов В. А. Служебные воспоминания. 1854–1894. Ч. 1 (1854–1881). 1893 г.// РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1148. Л. 47 об. – 53), однако продиктована она обидой: автор воспоминаний претендовал на должность товарища прокурора Сената, а министр назначил другого.
(обратно)270
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 262.
(обратно)271
Гурко В. И. Указ. соч. С. 222.
«Граф Пален добрый и честный человек, но вовсе не способен быть в настоящее время министром юстиции. Неудачными назначениями и частными распоряжениями он не только не устранил народного антагонизма между судебною и административными властями, который возник, к сожалению, при самом начале введения судебной реформы, а напротив, усилил этот антагонизм, и суд принял у нас весьма прискорбное направление, поставив себя в какое-то особое положение вне круга общих государственных интересов и ставя себе как бы в заслугу не сообразовываться с действительным ходом и явлениями жизни. Это отрицательное отношение к действительности, с одной стороны, и безыскусственное пристрастие к форме, преобладающей в решениях Кассационного департамента Сената, с другой стороны, дали нашему суду какое-то болезненное и безжизненное направление, которое очень трудно будет исправить.
<…> внутреннее брожение в России с каждым днем усиливается, и чтобы бороться с ним, правительство должно явиться во всеоружии. Суд должен быть верным и надежным орудием для ограждения общества. По политическим делам решительно настоящий порядок производства следствия и суда неприемлем» (Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879. СПб., 2005. С. 431–432, 433. Запись 3 апр. 1878 г.).
(обратно)272
Гурко В. И. Указ. соч. С. 222.
П. Н. Дурново по должности тов. прокурора Киевской судебной палаты получал 3 тыс. рублей (2 – жалование и 1 – столовые).
(обратно)273
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1908–1909 годы. Сессия четвертая. СПб., 1909. Стб. 807, 808.
(обратно)274
«Департамент полиции, образованный из упраздненного III отделения, при возникновении своем отказался от услуг прежних чиновников, и был приглашен новый личный состав исключительно из судебных деятелей» (Департамент полиции в 1892–1908 гг. /Из воспоминаний чиновника/ // Былое. 1917. № 5–6 /27–28/. С. 17).
П. Н. Дурново принял предложение занять эту должность «с душевной благодарностью» и выразил готовность «тотчас по получении приказа выехать из Киева и более не возвращаться» (П. Н. Дурново – Н. А. Манасеину, 24 окт. 1881 г. // ГАРФ. Ф. 102. Д-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 1).
Министр назначил ему 1 тыс. рублей «в возмещение издержек по переезду из Киева в Петербург».
(обратно)275
Плеве фон Вячеслав Константинович (8.04.1846, Мещовск Калужской губ.–15.07.1904, СПб.) – сын чиновника «из иностранцев». Православный. Окончил Калужскую гимназию с золотой медалью (1863), юридический факультет Московского университета кандидатом прав (1867). Служба с 1867 г. кандидатом на судебную должность при прокуроре Московского окружного суда. Секретарь Владимирского (1868), товарищ прокурора Тульского (1870) окружных судов. Вологодский губернский прокурор (1873). Прокурор Вологодского окружного суда (1874). Товарищ прокурора Варшавской судебной палаты (1876), ревизовал Киевский губернский прокурорский надзор (1879). И. д. прокурора (1879) и прокурор (1880) Петербургской судебной палаты. И. о. прокурора в Особом присутствии Сената (1881, дело об убийстве Александра II). 15.04.1881 назначен директором Департамента государственной полиции. Женат (1869) на З. Н. Уржумецкой-Гриневич (?–1921); дети: Елизавета (1870–после 1941, США) и Николай (1872–1934, умер в лагере).
(обратно)276
Бельгард А. В. Воспоминания. М., 2009. С. 144.
(обратно)277
Крыжановский С. В. К. Плеве // Новый журнал. Нью-Йорк, 1975. Кн. 118. С. 138–139.
(обратно)278
Записки Михаила Васильевича Сабашникова. М., 1995. С. 282.
(обратно)279
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Воспоминания. М., 1991. С. 227–228.
Упоминаемый здесь граф Д. А. Толстой (1823, Москва–1889, СПб.) – министр внутренних дел (1882–1889), гофмейстер (1861), сенатор (1861), член Государственного Совета (1865), действительный тайный советник (1872), кавалер ордена св. Андрея Первозванного (1883).
«Был ли он умен? – задавался вопросом С. Е. Крыжановский. – По общему отзыву – да. Многие считали его даже человеком ума выдающегося. П. А. Столыпин, вспоминая свои встречи с Плеве, любил говаривать, что тот был “ума палата”. Думаю, что впечатление это объяснялось недостатком знакомства с Плеве, при котором естественно воспринимаются по преимуществу лишь внешние риторические эффекты. Справедливость требует, однако, отметить, что мнение П. А. Столыпина разделял и человек, хорошо знавший Плеве, – Д. Н. Любимов, его Управляющий канцелярией, который преклонялся и перед умом и перед личностью Плеве и имел мужество выступить печатно в защиту его памяти, притом в то время, когда все бранили Плеве; того же мнения был и В. И. Гурко, связанный с Плеве прежней службой в Государственной канцелярии и взятый им в Управляющие Земским Отделом». Сам С. Е. Крыжановский вынес «иное впечатление» (Крыжановский С. Указ. соч. С. 139–140).
(обратно)280
Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. СПб., 2003. Т. 2. С. 262.
М. Т. Лорис-Меликов (1824, Тифлис – 1888, Ницца) – граф (1878), министр внутренних дел (1880–1881). Н. П. Игнатьев (1832, СПб.–1908, Киевская губ.) – граф (1877), министр внутренних дел (1881–1882).
(обратно)281
Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. Вып. 2. СПб., 1911. С. 41, 47, 69.
(обратно)282
Заварзин П. П. Жандармы и революционеры // «Охранка»: Воспоминания руководителей политического сыска. Т. 2. М., 2004. С. 39–40.
(обратно)283
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 148.
Эти планы В. К. Плеве подтверждает, несколько конкретизируя, Д. Н. Любимов: Плеве «не любили, многие даже ненавидели, но с ним все считались, а было меньшинство, которое его поддерживало. Это несомненно; я помню ту массу писем, которую он получал от своих сторонников; помню в их числе были и письма, и записки профессора В. О. Ключевского. Была переписка и с киевским профессором Пихно, издателем “Киевлянина”. Припоминаю, когда Плеве ездил в Киев, он познакомился с Пихно и тот произвел на него большое впечатление. Пихно подал мысль (о чем я слышал от самого Плеве) о преобразовании Государственного Совета в том смысле, чтобы к Государю восходили бы лишь только те проекты законов, которые одобрит большинство членов Государственного Совета, и совершенно отпадали бы те, которые не соберут большинства. Таким образом, Государь волен утверждать или не утверждать решение Государственного Совета, но только лишь тогда, когда за него выскажется большинство. Получалась видимость, будто ничего не менялось, но в то же время это была какая-то своеобразная конституция. При этом предполагалось ежегодно обязательно назначать в Государственный Совет нескольких общественных или ученых деятелей. Какая постигла судьба это во всяком случае очень остроумное предположение, имевшее вид как бы уступки общественному мнению, мне неизвестно, но помню, что Плеве носился с этой мыслью и даже докладывал ее Государю. Но Государь в то время, видимо, не сочувствовал никаким ограничениям самодержавной власти» (Любимов Д. Н. События и люди /1902–1906/ // РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 275–276).
Подтверждает это и С. Е. Крыжановский: «Плеве же, как это ни странно, пришлось быть первым проводником мысли о народном представительстве, приспособленном к обстоятельствам времени» (Крыжановский С. Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 118).
О признании В. К. Плеве «неизбежности введения у нас конституционного режима» свидетельствовали и А. И. Чупров, и Д. Н. Шипов, и Н. П. Харламов (См.: Записки Михаила Васильевича Сабашникова. С. 282).
(обратно)284
Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 337, 338, 423.
(обратно)285
Выписка из письма Кривошеина, СПб., от 16 июля 1904 г. к Е. Г. Кривошеиной, в Воскресенск Моск. губ. // ГАРФ. Ф. 102. ДП. Оп. 265. 1904. Д. 27. Л. 97.
(обратно)286
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1908–1909 годы. Сессия четвертая. СПб., 1909. Стб. 275–276.
(обратно)287
ГАРФ. Ф. 102. Д-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 74–74 об.
В свою очередь и министр производит на П. Н. Дурново весьма благоприятное впечатление. «В Августе [1884 г.] мне пришлось провести почти целый день с Графом Д[митрием] А[ндреевичем Толстым] при поездке в Шлиссельбург, – делился он с В. К. Плеве. – <…> я был буквально очарован его строго логическим умом, большими познаниями, ясным взглядом» (П. Н. Дурново – В. К. Плеве, 23 авг. [1884 г.] // ГАРФ. Ф. 586 /Плеве В. К./. Оп. 1. Д. 689. Л. 1 об.–2).
(обратно)288
В связи с этим он пишет В. К. Плеве: «Душевноуважаемый Вячеслав Константинович, сегодня состоялся Высочайший приказ о назначении меня ис[правляющим] д[олжность] Директора Д[епартамен]та. Вполне отдавая себе отчет, поскольку я обязан Вам этим чрезвычайным по моим служебным качествам возвышением, я не могу при настоящем случае не выразить Вам еще раз мою душевную признательность за Ваше заботливое ко мне участие и редкое внимание к моим скромным заслугам. В какой мере мне удастся удовлетворить разнообразнейшим требованиям, предъявляемым к лицу, занимающему это место – Бог один ведает – мне все кажется, что я, по своей простоте, непременно должен оборваться и очень скоро, – но утешает меня только мысль, что вы совершенно искренне заверяли меня, что все обойдется благополучно. В действительности, пока, не взирая на значительные осложнения, возникающие в Варшаве, Харькове и Одессе, дела идут довольно ровно, и мне мало-помалу удается сосредоточивать в своей голове все нити, связующие дела, разбросанные по всей России» (Там же. Л. 1).
(обратно)289
Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–1917). М., 2000. С. 39.
(обратно)290
Лопатин Герман Александрович (1845–1918) впервые арестован в связи с делом Каракозова (1866), освобожден за отсутствием улик. Уехал за границу и вступил в ряды волонтеров Гарибальди (1867). Вернулся в Россию (1868) и арестован по делу «Рублевского общества» (распространение грамотности в народе). Выслан в Ставрополь под надзор родителей. Арестован за попытку бежать в Америку. Бежал из-под ареста. Освободил из ссылки П. Л. Лаврова и уехал с ним за границу. Вернулся в Россию (1870) и пытался освободить из ссылки Н. Г. Чернышевского. Арестован. Бежал за границу (1873). Вернулся (1879). Арестован и сослан в Ташкент, затем в Вологду. Бежал за границу (1883). Сблизился с народовольцами, вернулся в Петербург восстанавливать народовольческую организацию. Арестован на улице столицы (1884); по спискам привлеченных им к работе полиция арестовала остававшихся на свободе 97 народовольцев. Приговорен к смертной казни (1887), замененной бессрочной каторгой. Освобожден (1905).
Салова-Яцевич Неонила Михайловна (1860 – после 1934) – слушательница Мариинских курсов в Петербурге. Член «Народной воли» (1880). Участница Парижского народовольческого съезда (1884). Член Распорядительной комиссии. Арестована и заключена в Петропавловскую крепость (1884). Приговорена Петербургским военно-окружным судом к смертной казни, замененной 20-ю годами каторги (1887).
Манучаров (Манучарьянц) Иван (Ованес) Львович (1861–1909) – студент Петербургского университета. Член «Народной воли». Арестован по делу о нелегальной типографии (1884). При попытке бежать из Харьковской тюрьмы оказал вооруженное сопротивление. Приговорен к смертной казни, замененной 10-ю годами каторги. Заключен в Шлиссельбургскую крепость. Сослан на Сахалин (1896). Переехал в Благовещенск (1902).
Антонов Петр Леонтьевич (Свириденко, Владимир Антонович, «Кирилл») (1859–1916) – рабочий. Участвовал в подготовке покушения на Александра II в г. Николаеве. При аресте оказал вооруженное сопротивление (1879). Примкнул к «Народной воле» (1880). Арестован в 1885 г. на улице Харькова. Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. После 18 лет в Шлиссельбурге освобожден (1905).
Лисянский Саул Абрамович (?–1886) – студент Петербургского университета. Член Южной группы «Народной воли». При попытке его арестовать, застрелил околоточного надзирателя и ранил в руку жандарма (2.05.1885). Было выяснено участие Лисянского в подготовке ограбления почтового вагона. Военным судом приговорен к повешению.
Группа «Рабочий» – первая с.-д. организация в Петербурге (1885).
Оржих Борис Дмитриевич (1864, Одесса – 1947, Чили) – один из руководителей народовольцев на юге Европейской России, организовал подпольную типографию в Таганроге. Арестован в Екатеринославе (22.02.1886). Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Подал прошение о помиловании (1898), поселен в Никольск – Уссурийском, затем – Владивостоке. Активно участвовал в революционном движении в 1905–1906 гг. Бежал в Японию (1906). Обосновался в Чили.
Раппопорт Ю. ехал в Россию для переговоров об активизации террористической работы; арестован на границе (1889).
Сабунаев Михаил Васильевич – организатор московского народовольческого центрального студенческого кружка. Привлечен к дознанию по делу Г. А. Лопатина и выслан в Восточную Сибирь на 5 лет (1886). Бежал из ссылки (1888), пытался создать революционную организацию в приволжских городах. Арестован в Костроме (1890) и после года одиночного тюремного заключения выслан в Восточную Сибирь на 10 лет.
(обратно)291
Предупреждение покушений на жизнь Александра III надолго останется в памяти современников и будет отмечено (12.02.1916) председателем Государственного Совета А. Н. Куломзиным в Слове о скончавшемся П. Н. Дурново как «существенная услуга» его государству (Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия XII. 1916 год. Пг., 1916. Стб. 58).
(обратно)292
Гедеоновский А. В. Ярославский революционный кружок 1881–1886 гг. // Каторга и ссылка. 1926. № 3 (24). С. 104–106.
(обратно)293
Департамент полиции в 1892–1908 гг. С. 17, 19.
Семякин Георгий Константинович (?–1902) окончил Училище правоведения (1877), заведующий 3-м делопроизводством, затем – член совета министра внутренних дел, вице-директор Департамента полиции.
Е. В. Плеве вышла замуж за Н. И. Вуича 6 февр. 1894 г.
(обратно)294
По свидетельству П. П. Менделеева, «это собственно пережиток старого обычая давать заслуженным деятелям в бесплатную аренду участок казенной земли. Впоследствии такая аренда была заменена выдачами определенной суммы из кредитов министерства государственных имуществ. Аренда жаловалась весьма редко и только престарелым заслуженным сановникам» (Менделеев П. П. Воспоминания. 1864–1933 гг. // ГАРФ. Ф. 5971. Оп. 1. Д. 109. Л. 27–28).
(обратно)295
Гурко В. И. Указ. соч. С. 222–223.
(обратно)296
Иванчин-Писарев А. Воспоминания о П. Н. Дурново // Каторга и ссылка. 1930. Кн. 7 (68). С. 55.
Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849–1916) учился в Московском, затем Петербургском университетах. В 1872 г. в имении Потапово Ярославской губ. устроил тайную типографию. Член кружка «сепаратистов». В 1877 г. жил в самарском поселении, в 1878 г. служил волостным писарем в Саратовской губ. В начале 80-х годов был близок к «Народной воле». Арестован (1881), административно выслан в Сибирь. Сотрудничал в «Деле», «Слове», «Сибирской газете», «Волжском вестнике» и других изданиях. Член редакции ж. «Русское богатство» (1892–1913).
(обратно)297
Там же.
(обратно)298
Писаренко Э. Е. Кадет князь В. А. Кугушев // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 150.
Кугушев князь Вячеслав Александрович (1863–1944) – из дворян Тамбовской губ. Окончил 1-ю Петербургскую военную гимназию (1881), Лесной институт (1886). Член группы Д. Н. Благоева (1883). Арестован в связи с делом Г. А. Лопатина (1884). Освобожден по ходатайству отца. Служил помощником казенного лесничего в Уфимской губ. Новый арест по делу группы «Освобождение труда» (1887), тюрьма; выпущен под залог с поселением в имении отца; уволен от службы; по требованию отца и под угрозой лишения наследства подал прошение о помиловании. Снова помощник лесничего (1888–1893). На частной лесной службе (1893–1917, заведовал лесами князя Кугушева), член Уфимской губернской земской управы (с 1898). Сочлен П. Н. Дурново по Государственному Совету (1906–1909). Член Комитета помощи голодающим (1919–1923). Инспектор Всероссийского кооперативного банка (1923–1930).
(обратно)299
Иванчин-Писарев А. Указ. соч. С. 51–52.
(обратно)300
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 262–263.
(обратно)301
Водовозова Е. Н. На заре жизни и другие воспоминания. Т. 2. Л., 1934. С. 403, 406, 416–420, 439, 440.
(обратно)302
Чудновский С. Л. Из давних лет. Воспоминания. М., 1934. С. 241–242, 243.
Чудновский Соломон Лазаревич (1851–1912) в 1869 исключен из Медико-хирургической академии. В 1874 г. арестован. По процессу 193-х приговорен к 5 годам каторги, замененной ссылкой в Тобольскую губ.
(обратно)303
Фигнер В. Н. По поводу автобиографической записки П. Л. Антонова // Голос минувшего. 1923. № 2 (28.03.1922).
Временно управляя министерством после убийства В. К. Плеве, П. Н. Дурново разрешил известной благотворительнице княжне М. М. Дондуковой-Корсаковой видеться с В. Н. Фигнер наедине, передать заключенным шлиссельбуржцам книги. Причем тут «интересы сыска»?
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) училась в Цюрихе и Берне (1872–1875). Вступила в революционную группу «Фричей» (1874); член «Земли и воли» (1876). Вела пропаганду в деревне (1877–1879). Член Исполнительного комитета «Народной воли». Участвовала в организации покушений на Александра II под Одессой (1879), в Одессе (1880) и в Петербурге (1881). Арестована в Харькове (1883). Приговорена Петербургским военно-окружным судом к смертной казни (1884), замененной бессрочной каторгой, и заключена в Шлиссельбургскую крепость.
(обратно)304
Иванчин-Писарев А. Указ. соч. С. 57.
Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914) учился в Казанском, затем Петербургском университетах. Активно участвовал в народническом движении (с 1871). Арестован (1879) и выслан (1881) в Сибирь, где весьма успешно занялся научными изысканиями в области археологии, географии, геологии и этнографии малоизвестных областей Сибири и Центральной Азии. После ссылки – сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН, организатор и руководитель этнографического отдела Русского музея. Ученый археолог, географ, геолог и этнограф.
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) учился в Петербургском технологическом институте, затем в Петровской земледельческой и лесной академии. Исключен за участие в студенческих волнениях (1876). В конце 1870-х годов в Петербурге вращался в среде революционных народников. Арестован, заключен в тюрьму (1879), затем выслан в Вятскую губернию; за отказ от присяги Александру III сослан в Якутию. С 1885 г. в Нижнем Новгороде уже известный писатель, сотрудник многих журналов, активный общественный деятель.
Анненский Николай Федорович (1843–1912) участвовал в народническом движении с конца 1860-х годов, административно выслан (1880). С 1896 г. руководитель статистическим отделом Петербургской городской управы, сотрудник «Русского богатства», публицист, общественный деятель.
(обратно)305
Репников Александр. «…Силам добра нет доступа к власти» // Наш современник. 2006. № 4. С. 215.
(обратно)306
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. Запись 12 сент. 1915 г. М., 2008. С. 126.
(обратно)307
Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах. Т. 2. М., 1964. С. 158. Подозреваю, грешный человек, что и в этом случае в присутствии 35-летней красавицы П. Н. Дурново «потерял равновесие».
(обратно)308
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия четвертая. Стб. 277–278.
(обратно)309
Там же. 1910–1911 годы. Сессия шестая. СПб., 1911. Стб. 385–386.
(обратно)310
Иванчин-Писарев А. Указ. соч. С. 43–44.
(обратно)311
Там же. С. 49–50.
(обратно)312
Дневник Л. А. Тихомирова. Запись 12 сент. 1915 г. С. 127.
(обратно)313
Антонов П. Л. Автобиография // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 91–92.
(обратно)314
«Но Дурново возмутил меня до глубины души, – писал А. И. Бычков. – Я был рад бросить ему в лицо обвинение в том, что он торгует сделками с совестью» (Бычков А. Два побега. Отрывки из воспоминаний // Каторга и ссылка. 1926. № 3 /24/. С. 178).
Бычков Александр Иванович (1862–1925) – член «Народной воли». Арестован в 1881 г. в Киеве. Решением Киевского военно-окружного суда сослан на поселение в Верхоленск Иркутской губ. (1883). Бежал; был снова арестован. Петербургским окружным судом приговорен к 4 годам каторги (1890). Отправлен в Акатуй, затем переведен на Кару. На поселение вышел в декабре 1892 г. После ссылки работал в Москве, Томске, в Сумах, Харьковской губ.
(обратно)315
«Директор департамента полиции Дурново отказал маме в разрешении переписываться, отказал снять с нее портрет перед разлукой, причем, топая ногами, сказал ей, что не советует ей даже справляться о Соне первые два года, так как ей предстоят еще сюрпризы. Естественно, что в силу этих угроз мать присмирела и первое время боялась даже справляться» (К биографии С. М. Гинсбург // Каторга и ссылка. 1926. № 3 (24). С. 218).
(обратно)316
Дневник Л. А. Тихомирова. Запись 12 сент. 1915 г. С. 128.
(обратно)317
Алданов Марк. Предсказание П. Н. Дурново // Журналист. 1995. № 4. С. 59–60.
(обратно)318
«Имел слабость к женщинам», – отмечали как одну из важнейших его черт близко и долго его знавшие (См..: Дневник С. Д. Протопопова. 1896–1917 // РГАЛИ. Ф. 389. Оп. 1. Д. 46. Л. 92 об.).
Эту способность увлечься красивой женщиной П. Н. Дурново пронес через всю жизнь. П. М. Кауфман пометил в дневнике 8 декабря 1900 г.: «Из театра поехали пить чай к Петру Дурново. Его дома не застали; он теперь увлечен М-ме Митусовой, рожд[енной] Роговскою, брошенной мужем. Каждый вечер у нее. Жена его, Екатерина Григорьевна, махнула на него рукою и помирилась с неизбежным и умно делает» (Кауфман П. М. Дневник. Ч. 2. // РО РНБ. 1975. 22. Л. 101 об.). «Дурново имел и до сего времени сохраняет некоторую слабость к женскому полу, – писал С. Ю. Витте в авг. 1909 г., – хотя в смысле довольно продолжительных привязанностей» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. СПб., 2003. С. 263).
Черта неслабых людей. Многие современники отмечали женолюбие государственного канцлера А. М. Горчакова. Яркая личность, сильный характер, Л. Б. Красин (1870–1926) признавался: «И вот, все тянет меня… к женщинам… и тяготение это сильнее меня самого… сильнее всех моих революционных стремлений… Ничего не поделаешь – гони природу в дверь, она влезет в окно. <…> Скажу прямо и просто: честолюбие это у меня велико и вечно толкает меня. Но, с другой стороны, мне мало одного “инженерного” честолюбия. Беда в том, что честолюбие у меня многогранное и тянет меня чуть не во все стороны… и особенно к женщинам…» (Соломон Г. А. «Присоединившийся», или история одной дружбы // Вопросы истории. 2009. № 2. С. 21–22).
Соломон Георгий Александрович (1868–1934) – потомственный дворянин, племянник сенатора и члена Государственного Совета П. И. Саломона (1853–1908), один из организаторов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», близкий друг Л. Б. Красина; невозвращенец; автор воспоминаний о В. И. Ленине, книги «Среди красных вождей» (1930).
Было нечто рыцарское в отношениях П. Н. Дурново к женщине. Вдова А. Л. Шанявского в хлопотах об университете посетила и его, и он обещал ей не выступать в Государственном Совете против университета. Однако 17 июня 1908 г., накануне заседания, надо полагать, после собрания правой группы, он предупреждает Л. А. Шанявскую: «Милостивая Государыня Лидия Алексеевна, несколько дней тому назад Вам угодно было посетить меня, и во время нашей беседы о народном университете я сказал Вам, что не буду говорить в заседании Государственного Совета по этому вопросу. Очень сожалею, что мне приходится в настоящее время изменить свое первоначальное предположение, и я считаю себя обязанным сообщить Вам, что завтра намерен представить Государственному Совету свои соображения по интересующему Вас делу – соображения мои склоняются к тому, чтобы проект был отвергнут. Пожалуйста, не посетуйте на меня за такое мое намерение и благоволите принять уверения в моем совершенном почтении и преданности». На это Л. А. Шанявская сочла долгом ответить: «Только что вернувшись от всенощной, получила Ваше письмо – очень мне прискорбно Ваше решение, но каждый человек поступает по своему убеждению, и мне остается Вас поблагодарить за Ваше рыцарское предупреждение: “Иду на Вы с войной”. С глубоким уважением и совершенной преданностью» (НИОР РГБ. Ф. 554 /Шанявские/. Оп. 1. Д. 59. Л. 1; Д. 34; Записки Михаила Васильевича Сабашникова. М., 1995. С. 334–335).
В общем собрании Государственного Совета 18 июня 1908 г. П. Н. Дурново подверг законопроект детальному анализу и убедительно показал, что «положение написано с целью, чтобы университет никому не подчинялся», и предупредил: «Если Вы утвердите это положение, то утвердите такое учебное устройство, которое ровно ничего не обеспечивает, ни правильность преподавания, ни надзор за порядком, и главным образом Вы не обеспечите тех мер, которые препятствовали бы лекциям обратиться в ряд публичных митингов». «Время ли, – задавался он вопросом, – давать ход такому делу и пускать его прямо под чрезвычайную охрану. <…> правильно ли, заведомо понимая, что это так будет, рисковать тем, что это заведение может быть закрыто путем чрезвычайной охраны, и не лучше ли написать для него такие законы, которые обеспечивали бы его от такой горькой судьбы?» И, расходясь со своими политическими единомышленниками, сделал попытку спасти университет, предложив Государственному Совету утвердить «это положение на известный срок», чтобы «Министр Народного Просвещения, наблюдая, что выйдет из всего этого», мог войти с новым представлением и в этом новом представлении предусмотреть все те неправильности, предусмотреть все те мелочи, те обстоятельства, которые необходимо иметь в виду при устройстве подобного заведения» (Гос. Совет. Ст. отчеты. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 1947–1953).
Любопытные сведения о П. Н. Дурново конца 80-х – начала 90-х годов оставил Л. А. Тихомиров: «Он, конечно, препровождал жизнь далеко не добродетельную. Организм ему был дан могучий. Небольшого роста, коренастый, П. Н. Дурново дышал нервной силой и энергией. Физическую крепость он сохранил до поздней старости. Развивать нервную энергию мог в громадных размерах, и говорят, был страшен в порывах своих. Натуру он имел властную. Полагаю, что у него должны были быть пылкие страсти. <…> Насколько мне известно, любил-таки наслаждаться жизнью. Может быть, я даже видел у него эту даму, из-за которой он пал.
Мои визиты к нему сначала были строго официальны, в момент его служебных приемов, но потом он сказал: “Заходите на квартиру, тут дела мешают”, и я раза два был уже на квартире его (на Владимирской). Это было огромное помещение, которое меня поражало своей пустынностью. Множество комнат, меблировка прекрасная, и – ни души, ни звука. “Есть ли у него семья?” – спрашивал я себя. Я уже тогда слыхал о том, что у него есть какая-то любовница. И вот, когда мы с ним сидели и пили чай, – вошла какая-то особа. Замечательно стройная, высокая, в полном смысле красавица, совсем молодая, она вошла с какими-то пустячными вопросами к нему. Он меня представил ей, но так неясно пробурчал, кто она такая, что я не мог разобрать ровно ничего. Через минуту – это видение исчезло. Я тогда объяснил себе это появление так, что, вероятно, эта особа полюбопытствовала взглянуть на столь редкого зверя, каким в это время был я.
Возможно, что это была именно она» (Дневник Л. А. Тихомирова. Запись 12 сент. 1915 г. С. 128, 129).
(обратно)319
История эта закрепилась в разных редакциях. См., напр.: Дневник А. В. Богданович. Записи 4, 6, 7 и 8 февр. 1893 г. // РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 256. Л. 13, 15, 16; Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 263; Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 44; Гурко В. И. Указ. соч. С. 223; Иванчин-Писарев А. Указ. соч. С. 59; Кафафов К. Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы истории. 2005. № 5. С. 82; Суворин А. Дневник. М., 1992. С. 22–23, 24 (Записи 4 и 8 февр. 1893 г.); Дневник Л. А. Тихомирова. Запись 12 сент. 1915 г. С. 128; Алданов Марк. Указ. соч. С. 60.
(обратно)320
Суворин А. Указ. соч. С. 26–27. Запись 28 февр. 1893 г.). Растакуэр – пройдоха.
(обратно)321
Дневник кн. В. М. Голицына.1892–1893. Записи 5 и 9 февр. 1893 г. // НИОР РГБ. Ф. 75.17. С. 482, 487–488. Подчеркнуто нами. – А. Б.
(обратно)322
Иванчин-Писарев А. И. Указ. соч. С. 59.
(обратно)323
ГАРФ. Ф. 102. Д-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 178.
(обратно)324
Там же. Оп. 13. 1893. Д. 1640. Л. 2–3. Александр III согласился на выдачу пособия в размере 1 тыс. рублей.
(обратно)325
К. П. Победоносцев – Александру III, б. д., 1881 г. // Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 347.
(обратно)326
Гурко В. И. Указ. соч. С. 223; Тхоржевский И. И. Последний Петербург. Воспоминания камергера. СПб., 1999. С. 66.
(обратно)327
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. СПб., 2003. С. 263. Подобным образом С. Ю. Витте аттестовал П. Н. Дурново и М. М. Ковалевскому: «Он пользовался репутацией самого либерального из сенаторов» (Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 401).
(обратно)328
Дневник Л. А. Тихомирова. Запись 12 сент. 1915 г. С. 129, 130.
(обратно)329
Сипягин Дмитрий Сергеевич (5.03.1853, Киев–2.04.1902, Петербург) – из русского дворянского рода 1-й половины XVII века. Православный. Земле– и домовладелец: приобретенное имение (803 дес.) его и родовое жены (имение «Клусово») в Московской губ. и каменный дом в Петербурге. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1874). Служба с 1876 г. по МВД. Волоколамский уездный предводитель дворянства (1881–1887). Камергер (1885). Харьковский вице-губернатор (1886–1888). Исправляющий должность курляндского губернатора (1888). Дсс (1890). Курляндский (1890–1891), московский (1891) губернатор. Товарищ министра гос. имуществ (1893). Товарищ министра внутренних дел (1894–1895). Егермейстер (1894). Главноуправляющий с. е. и. в. канцелярией по принятию прошений (1895–1899). Управляющий МВД (1899), министр внутренних дел (1900–1902). Смертельно ранен эсером С. В. Балмашовым. Свояк графа С. Д. Шереметева. Шурин Ф. В. Дубасова.
«Ретроград и не подготовленный ни к какой деловой работе» (Романов В. Ф. Старорежимный чиновник /Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874–1920/ М/п. 1922 // ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 598. Л. 112).
«Вообще, это человек со здравым смыслом, но что касается знаний, таланта, опыта, то он гораздо ниже Плеве. Но зато Сипягин – это человек убеждений; убеждения его очень узкие, чисто дворянские, он придерживается принципа самодержавия, патриархального управления государством на местах; это его убеждения и убеждения твердые. Вообще, Сипягин своих убеждений не меняет; человек он прекрасной души, по натуре весьма гуманный, твердый и представляет собою в истинном смысле слова образец русского благородного дворянина. <…> Человек безусловно честный и порядочный, дворянин в лучшем смысле этого слова, неглупый, был отличный губернатор в Балтийском крае, человек не без знаний, но не орел, честного и твердого характера. <…> Был честнейший и благороднейший человек, совершенный дворянин, ультраконсерватор» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 338, 424; Т. 2. С. 34, 60).
(обратно)330
Там же. Т. 2. С. 264.
(обратно)331
Там же.
(обратно)332
Гурко В. И. Указ. соч. С. 88.
(обратно)333
Дневник В. М. Голицына за 1900–1901 гг. // НИОР РГБ. Ф. 75.22. С. 309.
(обратно)334
То же за 1901–1902 гг. // Там же. Ф. 75.23. С. 131, 132–133.
(обратно)335
Гурко В. И. Указ. соч. С. 221.
(обратно)336
Кауфман П. М. Указ. соч. Л. 102.
(обратно)337
Гурко В. И. Указ. соч. С. 129.
(обратно)338
Там же. С. 223–224.
Самостоятельность П. Н. Дурново в Главном управлении почт и телеграфов подтверждает и С. Д. Урусов: «В узкой сфере выделенного ему почтового ведомства был полным хозяином и П. Н. Дурново» (Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 594).
Позднее, будучи уже министром, П. Н. Дурново не оставил своей заботы о почте. МВД обратило внимание на пересылку почтовой корреспонденции из казенных учреждений и обнаружило невероятное: «Военное ведомство пересылало по почте из С.-Петербурга в Иркутск солдатские сапоги, Иркутское же военное начальство весь укупорочный материал» (рогожи, веревки) по той же почте возвращало в столицу; «пересылали даже паркет». По инициативе П. Н. Дурново Государственный Совет издал правила, которые регулировали порядок почтовой пересылки (Гос. Совет. Ст. отчеты. 1913–1914 годы. Сессия девятая. СПб., 1914. Стб. 3087–3088).
И будучи членом Государственного Совета, он продолжал заботиться о развитии почтово-телеграфного дела. Так, при обсуждении сметы расходов ведомства на 1909 г. он, демонстрируя высокую осведомленность о состоянии дела в России и мире, убедил Государственный Совет «выразить пожелание об усилении расходов по Почтово-Телеграфному ведомству» (То же. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 1189–1193).
(обратно)339
Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 285–286. Запись 21 мая 1903 г. Сыграло тут, быть может, определенную роль и то, что личность В. К. Плеве была, по свидетельству С. Е. Крыжановского, «чрезвычайно непривлекательна. <…> Все нити его души были глубоко недоброкачественны. Плеве был величайший циник, для которого не существовало ничего святого. Он всегда и везде усматривал лишь мелкое, смешное и пошлое. Он был весь подозрение и весь недоверие. Он презирал всех вокруг себя, и это презрение проистекало из глубокого убеждения, что прочие люди – такие же циники, как и он, но менее умные. Владея внешней формой, умея быть приветлив и любезен, очаровывая дам, Плеве на всех, входивших с ним в близкие деловые отношения, производил отталкивающее впечатление и рано или поздно отвращал от себя» (Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 131).
(обратно)340
Гурко В. И. Указ. соч. С. 350.
(обратно)341
Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) – князь, из дворянского рода польского происхождения. Православный. Окончил Пажеский корпус (1875) и Академию ген. штаба (1881). Участник русско-турецкой войны (1877–1878). Генерал-майор (1894). Пензенский (1895–1897), Екатеринославский (1897–1900) губернатор. Товарищ министра внутренних дел (1900–1902). Виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор (1902–1904). Генерал-адъютант (1904). Владелец приобретенного имения (800 дес.) в Харьковской губ. Жена – графиня Е. А. Бобринская (1864–1926, Париж), владелица родовых имений (5500 дес.) в Московской, Орловской и Пензенской губерниях.
«Он, несомненно, уступал своему предшественнику в отношении способностей, служебной подготовки, твердости характера и умения подчинять окружающих людей своему авторитету, но вместе с тем он был лишен и тех свойств жесткости, подозрительности и замкнутости, которыми Плеве был наделен в избытке. Внутренней политике, поскольку последняя проявляется в деятельности МВД, Мирский с первых дней вступления своего в должность дал направление, противоположное бывшему при Сипягине и Плеве. Им были вновь провозглашены забытые во время царствования последних двух императоров лозунги доверия и благожелательности по адресу общественных сил, самоуправления таких государственных учреждений, как независимый от администрации суд. Вспомнилось время “диктатуры сердца” и попытка Лорис-Меликова связать правительство и общество общей работой и взаимным доверием. В министерстве внутренних дел нахмурились и насупились приближенные к Плеве чиновники и подняли головы люди, которых он держал в черном теле». Был критически настроен по отношению к Николаю II (Урусов С. Д. Указ. соч. С. 491, 537).
«Был высокопорядочным человеком <…>, а также человеком с хорошими связями и общественным положением» (Бельгард А. В. Указ. соч. С. 145).
(обратно)342
Богданович А. В. Указ. соч. С. 295 (запись 17 сент. 1904 г.), 300 (22.10.1904), 306 (7.11.1904), 329 (1.01.1905), 338 (15.01.1905).
(обратно)343
Тхоржевский И. И. Указ. соч. С. 65. Имеется в виду председательство С. Ю. Витте в Комитете министров.
(обратно)344
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 265, 133, 131.
(обратно)345
Гурко В. И. Указ. соч. С. 379.
(обратно)346
Журналы Комитета министров по исполнению Указа 12 декабря 1904 г. СПб., 1905. С. 99–108. Товарищ министра юстиции С. С. Манухин полностью солидаризировался с П. Н. Дурново.
(обратно)347
Гурко В. И. Указ. соч. С. 379.
(обратно)348
Там же. С. 379–380.
(обратно)349
Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 119.
(обратно)350
Гурко В. И. Указ. соч. С. 224.
(обратно)351
Суворин А. Дневник. Запись 31 июля 1904 г. С. 372.
(обратно)352
Спиридович А. И. Записки жандарма. Харьков, 1928. С. 173–174; Любимов Д. Н. Гапон и 9 января // Вопросы истории. 1965. № 9. С. 116; Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 174.
(обратно)353
Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. СПб., 2003. С. 263–264.
(обратно)354
«Преддверие смуты». 1905. Отрывки из воспоминаний С. Д. Шереметева // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5580. Л. 48–48 об. По-видимому, С. Ю. Витте считал возможным просто купить Дурново, ибо незадолго перед тем характеризовал его С. Д. Шереметеву так: «Дайте 10 000 р. он будет за конституцию, дайте 20 000 – он будет за Самодержавие».
(обратно)355
Дневник кн. Е. А. Святополк – Мирской за 1904–1905 гг. // Исторические записки. Т. 77. М., 1965. С. 278.
(обратно)356
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 134, 133.
(обратно)357
Там же. С. 237.
(обратно)358
Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 312.
(обратно)359
Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 655. С. Ю. Витте, видимо, со слов П. Н. Дурново, пишет о найденном в портфеле письме «русской еврейки» о готовящемся покушении на царя и «живом участии» в нем его, Витте.
(обратно)360
Там же. Т. 2. С. 31; Дневник кн. Е. А. Святополк-Мирской. Запись 17 авг. 1904 г. С. 241. Это подтверждает и В. И. Гурко: «После кончины Плеве, когда был произведен осмотр находящихся в его кабинете бумаг, между прочим выяснилось, что он хранил у себя, не передавая их в департамент, бесчисленное количество копий перлюстрированных писем таких лиц, заподозрить участие которых в какой-либо конспирации не было возможности. Все эти письма были строго классифицированы, и на них имелся азбучный указатель» (Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 132).
(обратно)361
Тарле Е. В. Соч. в 12 томах. Т. V. М., 1958. С. 550; Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 207.
(обратно)362
Бельгард А. В. Воспоминания. М., 2009. С. 253.
(обратно)363
Дневниковые записи С. Д. Шереметева о С. Ю. Витте. Запись 25 окт. 1905 г. // Отечественная история. 1998. № 2. С. 160.
(обратно)364
Гурко В. И. Указ. соч. С. 487.
«Столь несвоевременная рассылка манифеста, которая, вероятно, имела место не только по отношению ко мне, но и по отношению к другим губернаторам, повлекла за собой неизмеримые, вредные для всей России последствия. Если принять во внимание, что самый текст манифеста заключал в себе лишь обещания будущих законов, необходимо было о содержании его заранее поставить в известность губернаторов, преподав им определенные указания об общей и единообразной деятельности местных властей при разрешении, по опубликовании манифеста, вытекающих из него практических вопросов. В равной мере не определен был и высочайше утвержденный доклад графа Витте, так как он далеко не содержал в себе необходимой с точки зрения правильно понимаемой государственной власти точности и твердости. Произошло нечто невообразимое: в каждой губернии манифест истолковывали и применяли по-своему, что одно представляло уже большую опасность при стремлении антиправительственных партий толковать манифест в самом широком смысле. Отсюда – смута в умах народа, разразившаяся эксцессами и чуть-чуть не доведшая Россию до революции» (Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1991. С. 51–52).
(обратно)365
Шульгин В. Годы. Дни. 1920 год. М., 1990. С. 114.
(обратно)366
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 252–253.
(обратно)367
Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого. 31 октября 1905 г.–24 апреля 1906 г. М., 1997. С. 153.
(обратно)368
Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 910; Т. 2. С. 316.
(обратно)369
Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 588.
(обратно)370
Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 822, 910; Т. 2. С. 207, 262–265, 317, 318.
И. И. Колышко «шарахнулся», когда услышал от С. Ю. Витте, что во главу МВД тот наметил П. Н. Дурново. Однако у С. Ю. Витте все было продумано: «Дурново знает прекрасно полицейское дело, и он за еврейское равноправие… А еврейский вопрос – самый острый. <…> Вводить конституцию буду я. На его обязанности будет подавить революцию…» (Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 153).
(обратно)371
См.: Менделеев П. П. Воспоминания. 1864–1933 гг. // ГАРФ. Ф. 5971. Оп. 1. Д. 109. Л. 42. Правда, не все разделяли это подозрение. «До сих пор еще не замерла легенда, что Плеве, в день своей гибели, вез царю доклад, изобличающий Витте в сношениях с иностранными революционерами, и что этот доклад попал в руки Дурново, почему Витте и вынужден был пригласить его себе в сотрудники», – писал в эмиграции И. И. Колышко (Указ. соч. С. 156).
(обратно)372
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 262.
(обратно)373
Гурко В. И. Указ. соч. С. 472. В. И. Гурко приводит еще и такой факт: «Витте счел себя настолько обязанным Андронникову за оказанную ему услугу (через Андронникова Витте добился приема М. А. Ушакова вел. князем Николаем Николаевичем. – А. Б.), что, вернувшись 17 октября из Царского Села с подписанным манифестом, он тотчас написал записку П. Н. Дурново, прося его причислить к министерству внутренних дел М. М. Андронникова. Любопытно, что просьбу эту он обратил не к Булыгину, как ни на есть все еще занимавшему должность министра внутренних дел, а к Дурново, видя в нем в то время будущего заместителя Булыгина» (Там же. С. 466).
О том, что П. Н. Дурново не сомневался в своем назначении министром внутренних дел еще до манифеста 17 октября (что, естественно, могло иметь своим основанием только твердое обещание или обязательство С. Ю. Витте) свидетельствуют и другие современники. «Было три часа ночи [с 17 на 18 окт. 1905 г.]. В кабинете Булыгина, в доме Министра Внутренних Дел на Фонтанке, еще виделся огонь. Я зашел к нему. <…> “Кажется и мне приходит конец”, – сказал Булыгин и рассказал, что днем приходила к ним гувернантка П. Н. Дурново, по прозванию Кикиша, которая была у них в доме своим человеком (Булыгин был через Акимовых в свойстве с Дурново), осматривала Министерскую квартиру и вымеряла простенки, видимо распределяя, где и как разместить мебель. “И подумайте только, какая бесцеремонность у Дурновых. Уже переезжать на мое место собираются, а мне ничего не говорят”» (Крыжановский С. Е. Воспоминания. Из бумаг С. Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи. Б. м.: Петрополис, б. г. С. 56–57). «Булыгин, – пишет А. В. Бельгард, бывший у министра также в ночь на 18-е октября, – <…> сообщил мне, что <…> от товарища министра П. Н. Дурново он уже знает, что Дурново определенно назначен его преемником» (Бельгард А. В. Указ. соч. С. 253).
(обратно)374
См.: Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977. С. 15–19. Хотя А. И. Гучков расставлял акценты иначе: Возражения общественных деятелей «имели в виду не столько политическую, сколько моральную фигуру кандидата. Ведь политическая физиономия господина Дурново в то время еще мало обрисовалась, а я лично имел некоторые веские данные, чтобы считать будущего борца против революции не столь непримиримым реакционером, каким он, видимо, перейдет в потомство. Я имел основание считать его достаточно гибким и покладистым, чтобы сделаться верным слугою всякого политического порядка, лишь бы этот порядок был прочен. На основании этих данных я легко мог себе представить господина Дурново в качестве министра внутренних дел при том конституционно-монархическом строе, который был заложен Манифестом 17 октября, правда, при условии, чтобы этот строй был вне посягательств. Повторяю, главные возражения против этой кандидатуры относились к нравственной личности кандидата, к событиям из его прошлого, между прочим, и к тому происшествию, которое нашло себе характеристику в одной высочайшей отметке» (Гучков А. Письмо в редакцию // Новое время. 1911. 27 сент. Цит. по: Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 905–906). И сам П. Н. Дурново именно так понимал претензии к нему общественных деятелей. «Не могу точно передать дальнейших его слов, – писал С. Д. Урусов, – но смысл их был тот, что у него имеются твердые принципы и что свою служебную деятельность он не боится открыть свободной критике, но что, насколько ему известно, этой стороны его личности никто не критиковал» (Урусов С. Д. Указ. соч. С. 593). «Для нас (коллег П. Н. Дурново по Совету министров. – А. Б.) не было секретом, – говорил И. И. Толстой, – что комбинация с общественными деятелями не удалась из-за Дурново, но мы тогда не приписывали это отрицательному отношению к деятельности Дурново, ибо ведь тогда он не считался вовсе крайним реакционером» (Львов Л. Беседа с гр. И. И. Толстым // Речь. 1911. 22 окт. Цит. по: Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 1052). Да и С. Ю. Витте на вопрос П. Н. Дурново – «Что же они против меня имеют?» – «ответил, что они не объясняют, но, вероятно, все это женские его истории, довольно в свое время нашумевшие» (Там же. Т. 2. С. 318).
(обратно)375
Любимов Д. Н. События и люди (1902–1906) // РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 451.
(обратно)376
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 318, 498.
(обратно)377
Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 114. Запись 1 дек. 1905 г. П. П. Менделеев подтверждает: «Бесспорно человек выдающийся, незаурядный. Широкий умственный кругозор, большой государственный опыт, сильная непреклонная воля, смелость в решениях и действиях – резко выделяли его из состава новых министров» (Указ. соч. Л. 42).
(обратно)378
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 498, 118.
(обратно)379
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 451–452, 462.
«Витте написал несколько собственноручных писем к Государю, умоляя его согласиться на назначение Дурново, – и безуспешно. Только четвертое письмо вернулось – в мое дежурство – с памятною собственноручною надписью Государя синим карандашом: “Хорошо, только ненадолго”» (Тхоржевский И. И. «Джиоконда» Витте: из воспоминаний // Возрождение. 1933. 2 марта /№ 2830/. С. 2). Это подтверждает и П. П. Менделеев: «Николай II долго не соглашался на назначение Дурново; уступил только настойчивым просьбам Витте» (Указ. соч. Л. 42).
(обратно)380
Шинкевич [Е.Г.]. Воспоминания и впечатления. 1904–1917 гг. // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 51. Л. 9.
(обратно)381
Киреев А. А. Дневник. С. 114.
(обратно)382
Гурко В. И. Указ. соч. С. 472–475.
(обратно)383
Александр Иванович Гучков рассказывает… М., 1993. С. 41–42.
(обратно)384
Тхоржевский И. И. Последний Петербург. Воспоминания камергера. СПб., 1999. С. 66. «План Витте был ясен: взять “полицейскую собаку” Дурново для репрессий и свалить на него весь “одиум”, а самому рисоваться налево “Джиокондою”» (Тхоржевский И. И. «Джиоконда» Витте).
(обратно)385
«Как строгий консерватор, Булыгин не сочувствовал усиливающемуся в обществе освободительному движению, очень опасался его последствий, но как администратор действовал в приличных и законных формах. Азартно бороться с этим неприятным явлением, не обращая внимания на выбор средств, он по своей натуре, воспитанию и барским привычкам не мог. Поэтому он в скором времени, не покидая своего поста, упустил из рук власть и превратился как бы в главу фирмы, оказывающего лишь малое влияние на ход дел. Впоследствии я слышал о нем от его товарища П. Н. Дурново такой отзыв: “Что такое был Булыгин? Толстый человек, который сидел в кресле и улыбался”» (Урусов С. Д. Указ. соч. С. 517).
(обратно)386
Другие современники подтверждают Д. Н. Любимова: «От Витте я поехал к Булыгину <…>. Булыгин ничего не знал официально о последовавших переменах, и лишь по моем прибытии ему принесли из редакции “Правительственного вестника” черновой оттиск доставленного туда для обнародования Манифеста 17 октября. Булыгин спокойно негодовал» (Крыжановский С. Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 121–127; № 3. С. 121–123, 127–129). А. В. Бельгард привез министру «первый корректурный оттиск Манифеста. <…> А. Г. Булыгин, как оказалось, ничего не знал о Манифесте, так как все было сделано помимо него» (Бельгард А. В. Указ. соч. С. 252).
(обратно)387
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 439–442. См. также: Любимов Дм. На рубеже 1905 и 1906 годов. События и люди. По личным воспоминаниям и документам // Возрождение. 1934. 27 мая (№ 3280). С. 4.
Таким образом, С. Ю. Витте, настаивая во время переговоров с общественными деятелями на кандидатуре П. Н. Дурново, говорил правду: Дурново «в своих руках держит весь узел борьбы с революционными течениями. <…> Если государь в безопасности и жив, если мы с вами спокойно обсуждаем эти вопросы, то только благодаря ему, потому что на нем все держится» (Александр Иванович Гучков рассказывает… М., 1993. С. 41).
(обратно)388
И. И. Толстой отмечал бросившийся ему в глаза факт, подтверждающий подозрения В. И. Гурко: с 18 октября «полиция с нескрываемым злорадством не только стала все допускать, но даже как бы поощряла всякие эксцессы, и все ее поведение явно носило характер: делайте как можно больше, пусть все видят последствия свободы» (Львов Л. Беседа с гр. И. И. Толстым // Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 1051).
(обратно)389
Гурко В. И. Указ. соч. С. 511.
(обратно)390
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 257; Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 43–46; Гурко В. И. Указ. соч. С. 487–493.
«Крестьянским движением в настоящее время, – докладывал Д. Ф. Трепов 17.11.1905. Николаю II, – охвачены 19 губерний. <…> крестьяне жгут и грабят помещичьи усадьбы, убивают помещичий скот, расхищают хлебные и иные запасы, рубят фруктовые сады и лес в помещичьих дачах» (ГАРФ. Ф. 595 /Д. Ф. Трепов/. Оп. 1. Д. 24 /Докладные записки генерала Трепова Д. Ф. Николаю II/. Л. 7).
(обратно)391
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 258.
(обратно)392
Любимов Д. Н. События и люди. Л. 452–453.
(обратно)393
Беседа с гр. И. И. Толстым // Речь. 1911. 12 окт. Цит. по: Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 1051.
(обратно)394
Мартынов А. П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // «Охранка»: Воспоминания руководителей политического сыска. Т. 1. М., 2004. С. 105.
(обратно)395
Забелин И. Е. Дневники 1905 г. // Забелин И. Е. Дневники. Записные книжки. М., 2001. С. 215.
(обратно)396
Гурко В. И. Указ. соч. С. 511. Генерал-адъютант А. И. Пантелеев, командированный 23.11.1905 г. в Орловскую, Курскую, Полтавскую и Черниговскую губернии для выяснения причин аграрных беспорядков и их прекращения, доносил 30 декабря 1905 г. С. Ю. Витте: «По имеющимся у меня сведениям во многих местах должностные лица своими речами и действиями поддерживают противоправительственную агитацию» (РО РНБ. Ф. 781 /Толстой И. И./. Д. 249 /Пантелеев, ген. – адъютант. Копии шифрованных телеграмм Николаю II и С. Ю. Витте о необходимости принятия особых, крайних мер для удаления из правительственных и общественных учреждений лиц, поддерживающих революционное движение. М/п. 30.12.1905–1.01.1906/. Л. 3).
(обратно)397
Гурко В. И. Указ. соч. С. 511.
В 1905 г. «был такой момент, когда полиция совершенно вышла из строя, она не знала, что делать и как себя вести, а главное, абсолютно потеряла веру в себя и без гвардейской кавалерийской охраны боялась куда-либо показаться. В этот короткий момент самые парадные улицы Петербурга – Невский проспект и Морская – превратились в какой-то непристойный притон. Из каких-то совершенно невероятных трущоб вылезли типы, которым могло быть место только в старину в Муромских лесах; на Невском в 12 часов дня бегали полуголые мальчики, предлагавшие свои услуги педерастам, вместе с ними шлялись почти совершенно голые, одетые в крупную сетку девчонки 13–14 лет, предлагая услуги любителям этого жанра. И все это не встречало ни малейшего вмешательства полиции» (Ивановский А. В. Воспоминания // НИОР РГБ. Ф. 414.2.2. Л. 220).
(обратно)398
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 258.
(обратно)399
Забелин И. Е. Указ. соч. С. 216; Гурко В. И. Указ. соч. С. 493–506.
(обратно)400
Гурко В. И. Указ. соч. С. 487.
(обратно)401
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 452–453.
(обратно)402
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 265.
«За время моей сравнительно продолжительной государственной службы, – продолжает А. В. Бельгард, – мне пришлось иметь непосредственные деловые отношения с целым рядом министров внутренних дел. Не касаясь личных достоинств каждого из них как государственных деятелей, я должен признать, что в отношении техники работы и знания мельчайших подробностей всех отраслей управления министерством, а также в отношении быстрого охватывания сути каждого дела и определенности предъявляемых требований П. Н. Дурново значительно превосходил всех других министров.
В виде общего правила, он никогда не покидал вечером своего служебного кабинета, пока не подпишет всех представленных ему на подпись бумаг и не ознакомится самым тщательным образом со всеми лежащими у него на столе докладами и переписками. При этом на каждой требующей дальнейшего направления или решения бумаге он своим четким бисерным почерком надписывал всегда очень точную и ясную резолюцию, никогда не смешивая, кому и когда бумага или дело должны быть направлены» (Там же).
(обратно)403
«Чины полиции, – подтверждает и А. В. Бельгард, – уклонялись от исполнения своих прямых служебных обязанностей» (Там же. С. 258).
Мин Георгий Александрович (1855–1906) – из дворян. Окончил 1-ю классическую гимназию в Петербурге. Служба с 1874 г. вольноопределяющимся 2-го разряда в л. – гв. Семеновском полку. Участник русско-турецкой войны (1877–1878). Полковник (1898). Командир 12-го Астраханского гренадерского полка. Командир л. – гв. Семеновского полка (1904–1906). Подавил московское вооруженное восстание (14–19.12.1905). Флигель-адъютант (1905). Генерал-майор свиты (1906). Убит 13 августа на перроне станции Новый Петергоф эсеркой З. В. Коноплянниковой на глазах дочери и жены, урожденной княжны Волконской, Екатерины Сергеевны.
(обратно)404
Гурко В. И. Указ. соч. С. 511–512.
Красноречиво в этом отношении свидетельство харьковского уездного предводителя дворянства: «Я никогда не забуду того разговора, который подслушал 17 октября 1905 года, приехав из своей деревни на станцию Мерефа, чтобы дачным поездом следовать в Харьков. Я застал там всеобщую железнодорожную забастовку. Жизнь на крупной дачной станции замерла; все служащие толпились возле телеграфиста, который передавал отрывочные сведения из Харькова. Сообщение о назначении П. Н. Дурново Министром Внутренних дел произвело сенсацию. Пошли комментарии, и общее мнение сводилось к тому, что, по сведениям из революционных кругов Харькова, “этот живо скрутит всякое поползновение к восстанию; этот – шутить не будет. Держи ухо востро”» (Голицын А. Д. Воспоминания. М., 2008. С. 536, 234. Очевидно: автор запамятовал дату разговора).
(обратно)405
Мартынов А. П. Указ. соч. С. 106.
(обратно)406
Урусов С. Д. Указ. соч. С. 594.
(обратно)407
Бельгард А. В. Указ соч. С. 226.
(обратно)408
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 452–454.
(обратно)409
Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. М., 1935. С. 48, 51.
(обратно)410
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 462.
(обратно)411
Там же. Л. 463–464. Любимов Дм. На рубеже 1905–1906 гг. // Возрождение. 1934. 17 июня (№ 3301). С. 5.
(обратно)412
Гурко В. И. Указ. соч. С. 484–485.
(обратно)413
«После образования в конце октября 1905 года нового министерства в его составе немедленно обозначился раскол. На одной стороне оказались все министры, кроме одного, а на другой – один П. Н. Дурново, сумевший сразу занять обособленное положение» (Урусов С. Д. Указ. соч. С. 608). С. Д. Урусов был товарищем министра внутренних дел с октября 1905 г. по февраль 1906 г.
(обратно)414
Редигер А. Ф. История моей жизни. Т. 1. М., 1999. С. 474.
(обратно)415
Воспоминания министра народного просвещения. С. 161.
(обратно)416
Там же. С. 162.
(обратно)417
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 463.
(обратно)418
Урусов С. Д. Указ. соч. С. 602.
Широко распространенное обвинение П. Н. Дурново: «игнорировал общественное мнение», презирал его, не считался с ним. Но он и не мог на него опереться, ибо оно ориентировалось на революцию. Это уже позже, при Столыпине, появилась возможность опереться на общественное мнение: «эксцессы 1905 года испугали многих так называемых либералов, почувствовавших серьезную опасность для своего кармана. Провинциальные либеральные деятели среди дворянства и земства значительно поправели и пошли навстречу мероприятиям П. А. Столыпина по восстановлению государственного порядка» (Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1992. С. 110). Не мог не понимать П. Н. Дурново и того, что было очевидно для М. О. Меньшикова: «Так называемое общество у нас (образованный класс) насчитывает едва один процент населения, причем этот один процент разбит на 33 партии, навязывающие правительству каждая свою программу, <…> под именем общественного мнения следует понимать чаще всего кошачий концерт озлобленных еврейчиков, заполонивших печать» (Подъем власти // Новое Время. 1907. 21 авг.).
(обратно)419
Урусов С. Д. Указ. соч. С. 602.
(обратно)420
РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 312. Л. 1–1 об.
(обратно)421
Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 450.
(обратно)422
Воспоминания министра народного просвещения. С. 162.
(обратно)423
Дневник А. А. Половцова // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 87.
Правда, в «Воспоминаниях» С. Ю. Витте значительно смазал свою тогдашнюю позицию: «Я, со своей стороны, признавая, что такие явления, к сожалению, бывают, заявил, что, вообще, судебные места действуют правильно, и было бы ошибочно обобщать обвинение и подрывать одно из наиболее культурных ведомств в империи». Все свалил на П. Н. Дурново («указывая на слабость репрессии», договорился-де до «забастовки судебных мест»), К. И. Палена («более склонялся к нападению на С. С. Манухина, <…> нежели к его защите») и «наушничество» Д. Ф. Трепова, «главного недоброжелателя С. С. Манухина (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 351).
(обратно)424
Beau frère – шурин (фр.)
(обратно)425
Дневник Г. О. Рауха. Запись 22 дек. 1905 г. // Красный архив. 1926. Т. 6 (19). С. 93.
(обратно)426
Гурко В. И. Указ. соч. С. 475.
(обратно)427
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 353.
(обратно)428
Щегловитов И. Г. Памяти Михаила Григорьевича Акимова. Пг., 1914. С. 6–7.
(обратно)429
Николай II – императрице Марии Федоровне, 12 янв. 1906 г. // Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 187.
(обратно)430
См., напр.: Труды второго съезда уполномоченных дворянских обществ 31 губернии. 14–18 ноября 1906 г. СПб., 1907. С. 92, 107.
(обратно)431
Королева Н. Г. Первая российская революция и царизм. Совет министров России в 1905–1907 гг. М., 1982. С. 61, 69.
(обратно)432
Вот как отразилась обстановка тех дней в дневнике А. В. Богданович (Указ соч. С. 361–362):
10 ноября: «Обостряется вопрос почтово-телеграфный. Чиновники устроили союз. Начальство, Дурново и Севастьянов, запретили эти союзы. Чиновники угрожают забастовкой».
16 ноября: «Забастовали все телеграфы по всей России. В почтамте осталось мало чиновников на местах. Говорят, что завтра и почта забастует. На Николаевской железной дороге между Петербургом и Москвой только железнодорожный телеграф пока действует».
17 ноября: «Отрезаны мы от России и Европы – телеграфного сообщения нет, почта тоже забастовала, вагоны в Москве с корреспонденцией не разгружались. На 21-е ожидается здесь общая забастовка всего, даже полиции».
18 ноября: «Почтовая забастовка Бог весть когда кончится <…>. Положение в России все более и более становится тревожным. Пресса все смелеет».
20 ноября: «Почтовая стачка продолжается. Завтра ожидается общая забастовка всего, т. е. и железных дорог. Говорят, будто 3 тыс. извозчиков забастовали. Идут слухи, что якобы и полиция забастует».
22 ноября: «Много лиц из общества работали сегодня на почте. “Русь” им угрожает».
23 ноября: «Забастовка почты продолжается. Требований их не исполняют».
(обратно)433
«Забастовка на правительственном телеграфе <…> причинила наибольший ущерб действиям правительства, так как она лишила правительство возможности давать распоряжения», – вспоминал позднее С. Ю. Витте (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 491).
(обратно)434
«Почтово-телеграфная забастовка – большое лишение, почти несчастье. Она волей-неволей выбивает вас из колеи, в которой каждый из нас более или менее сознательно движется с сорокалетнего возраста. Она отнимает Вас от “собственного Вашего мира” и лишает равновесия. И во главе самого важного МВД стоит “продажный” Дурново» (И. С. Беляев – графу С. Д. Шереметеву, 23 нояб.[1905 г.] // Отечественные архивы. 2005. № 6. С. 97).
(обратно)435
Богданович А. В. Указ. соч. С. 497–498. Запись 2 авг. 1911 г.
Довяковский – инспектор почт и телеграфов.
(обратно)436
ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 3. Д. 188 Донесение начальника Иркутского почтово-телеграфного округа Пономарева управляющему МВД П. Н. Дурново о революционном движении почтово-телеграфных служащих.
«Дух» петиций чиновников он изложил следующим образом:
«Первое: чины требуют шестичасового дня работы, закрытия учреждений в праздники, уменьшения ночной работы; требования тяжелые и в Европе не имеющие места, но урегулировать рабочие часы надо, и это безусловно.
Второе: чины требуют прибавки жалования огульно в 50 процентов – требование огромное и тяжелое, но урегулировать вопрос о жаловании надо, установить ценз знаний для вознаграждения надо, урегулировать прибавки в зависимости от срока службы надо: так делают в Европе.
Третье: чины требуют товарищеского суда, выборных должностей старшего и других; требование, может быть, невозможное, но урегулировать причины и поводы к увольнениям и наказаниям надо – здесь больше всего нужна полная закономерность.
Четвертое: чины требуют союза и съездов, чтобы разработать и заявить свои нужды; Европа не допускает этого и это, может быть, противоречит Государственному праву, но собраться на съезд представителям округов нужно, разработать нужды ведомства нужно и разбить этим вечный антагонизм между округами и Главным управлением нужно».
П. Н. Дурново признавал справедливость многих требований бастовавших и готов был пойти им навстречу, но лишь после восстановления нормальной жизни страны. Об этом свидетельствует М. М. Осоргин. Тульская губерния, где он был губернатором, не примкнула к почтово-телеграфной забастовке. М. М. Осоргин просил П. Н. Дурново «поощрить чинов тульской почтово-телеграфной конторы». В ответной телеграмме П. Н. Дурново, находя «возбуждение ходатайства о поощрении совершенно» несвоевременным, выразил «свое удовольствие, что среди общей разрухи остались чины, верные своему долгу и присяге», и уполномочил М. М. Осоргина объявить почтово-телеграфным служащим Тульской губернии, «что по водворении порядка в России будет приступлено к выработке мер для улучшения служебных условий и быта чинов почт-телеграфного ведомства» (Осоргин М. М. Воспоминания /1905–1914/ // НИОР РГБ. Ф. 215.2.7. Л. 114–115).
(обратно)437
Воспоминания министра народного просвещения. С. 164; Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 491.
(обратно)438
Этим указом политические стачки государственных служащих признавались незаконными; предусматривались наказания за антиправительственные стачки: рядовым участникам – тюремное заключение до 1 года и 4 месяцев, организаторам – до 4 лет.
(обратно)439
Любимов Д. Н. События и люди. Л. 459; Любимов Дм. На рубеже 1905–1906 гг. // Возрождение. 1934. 17 июня. № 3301. С. 5.
(обратно)440
Ответная телеграмма министра внутренних дел управляющему Иркутской губернией. 2 янв. 1906 г. // Карательные экспедиции в Сибири в 1905–1906 гг. Документы и материалы. М.; Л., 1932. С. 88.
(обратно)441
Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1991. С. 57–58.
(обратно)442
Гурко В. И. Указ. соч. С. 515.
(обратно)443
Воспоминания министра народного просвещения… С. 164.
(обратно)444
Там же.
(обратно)445
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 47–49; Бельгард А. В. Указ. соч. С. 219; Николаевский Б. И. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. М., 1991. С. 162–163.
(обратно)446
Русское слово. 1905. 10 дек./ 27 нояб.
(обратно)447
«Манифест» призывал отказаться от взноса выкупных и всех других платежей; требовать при всех расчетах, включая заработную плату и жалование, уплаты только золотом; изымать вклады из ссудо-сберегательных касс и из Государственного банка; иностранные государства предупреждались, что народ не допустит уплаты долгов по займам правительства. Манифест был издан от имени Петербургского Совета рабочих депутатов, Главного комитета Всероссийского крестьянского союза, ЦК РСДРП, ЦК ПСР и ЦК Польской социалистической партии.
Характерна реакция на этот «манифест» М. А. Кузмина: «Сегодня вышел “манифест” всех мерзавцев. Я говорю сам для себя и называю все своими именами; жиды и жидовствующие нахалы, изменники и подлецы губят Россию; они ее не погубят, но до полнейшей нищеты и позора могут довести. <…> Я ненавижу всеми фибрами души этих наглых выскочек и их прихвостней <…>. И эти гадости: “Зритель”, “Стрелы”. “Пулеметы”… Что им Россия, русская культура, история, богатство? Власть, возможность изблевывать свое лакейское, поганое краснобайство, дикая пляска наглых осатанелых жидов. “Манифес”! Проклятые, проклятые, проклятые» (Кузмин М. А. Дневник. 1905–1907. СПб., 2000. С. 79. Запись 2 дек. 1905 г.).
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) – поэт, прозаик, литературный критик, переводчик.
(обратно)448
Гурко В. И. Указ. соч. С. 516; Д. Н. Любимов также утверждает, что Совет рабочих депутатов «был арестован по приказанию Дурново» (Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 472).
Был арестован Совет и его исполком – всего 267 человек во главе с Л. Д. Троцким; закрыты большевистская «Новая жизнь» и меньшевистское «Начало».
(обратно)449
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 490.
(обратно)450
Гурко В. И. Указ. соч. С. 518.
(обратно)451
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 47–49.
Камышанский П. К. (1862–1910) – прокурор Петербургской судебной палаты (1905–1909).
О выдающейся роли А. В. Герасимова в переходе правительства к репрессиям см.: Бельгард А. В. Указ. соч. С. 219–220, 229; Воспоминания министра народного просвещения. С. 162; Николаевский Б. И. Указ. соч. С. 162–163.
(обратно)452
Гурко В. И. Указ. соч. С. 516, 518–519.
(обратно)453
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 50.
(обратно)454
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 421–422.
13 декабря 1905 г. Николай II телеграммой приказал генерал-адъютанту Н. П. Линевичу «безотлагательно возложить на генерал-лейтенанта Ренненкампфа восстановление среди всех служащих на Забайкальской и Сибирской железных дорогах полного с их стороны подчинения требованиям законных властей». П. Н. Дурново об этом поручении Ренненкампфу узнал лишь 23 декабря (Карательные экспедиции в Сибири в 1905–1906 гг. Документы и материалы. М.; Л., 1932. С. 16).
(обратно)455
Доклад управляющего министерством внутренних дел Дурново Николаю II. 20 дек.1905 г. // Там же. С. 50–51.
(обратно)456
Дневник Г. О. Рауха. Запись 26 дек.[1905 г.]. С. 94.
(обратно)457
Там же. Запись 29 дек.[1905 г.]. С. 95.
(обратно)458
«Провокация» или не провокация // Речь. 1906. 26 февр. (№ 4).
(обратно)459
Катков Г. М. Февральская революция. М., 1997. С. 410.
(обратно)460
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 299.
(обратно)461
Крыжановский С. Е. Воспоминания. С. 74.
(обратно)462
Гурко В. И. Указ. соч. С. 519.
(обратно)463
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 403; см. также С. 304; Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 138. Это утверждает и И. И. Толстой, правда, противореча себе: в самом деле, если роль П. Н. Дурново «в этом деле была минимальна, а может быть, и отрицательная», то каким образом «исход декабрьского восстания в Москве» мог иметь «еще большее [чем подавление всероссийской почтово-телеграфной забастовки] для него значение в этом смысле [роста влияния и престижа]»? (Воспоминания министра народного просвещения. С. 164, 165).
(обратно)464
Джунковский В. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 110.
(обратно)465
РГАВМФ. Ф. 9 (Дубасов Ф. В.). Оп. 1. Д. 415. Л. 2–3 об.
(обратно)466
Из дневника Ф. В. Дубасова // Исторический архив. 1998. № 5–6. С. 83–97.
(обратно)467
Эта просьба Ф. В. Дубасова была исполнена. Когда, по свидетельству В. И. Гурко, «Московское вооруженное восстание не только вспыхнуло, но приняло грозные размеры, а московские власти не проявили для его подавления ни умения, ни должной решимости, Дурново командировал в Москву вице-директора департамента полиции Рачковского лично руководить действиями полиции и войск» (Гурко В. И. Указ. соч. С. 519).
(обратно)468
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 51–52.
(обратно)469
Богданович А. В. Указ. соч. С. 389–390. Запись 10 мая 1906 г.
(обратно)470
Крыжановский С. Е. Воспоминания. С. 74.
(обратно)471
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 74.
(обратно)472
Троцкий Л. Внеоктябрьская литература // Минувшее. Исторический альманах. Т. 8. М., 1992. С. 333.
(обратно)473
П. Н. Дурново – Ф. В. Дубасову, телеграмма 14 марта 1906 г.; П. Н. Дурново – Ф. В. Дубасову, письмо 21 марта 1906 г. // Революция 1905–1907 гг. в России. Второй период революции. 1906–1907 годы. Ч. 1. Январь – апрель 1906 года. Кн. 1. М., 1957. С. 306, 312.
(обратно)474
См., напр.: Богданович А. В. Указ. соч. С. 414. Запись 12 янв. 1907 г.; Воспоминания министра народного просвещения. С. 165; Тхоржевский И. И. Последний Петербург. С. 67.
(обратно)475
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 301–302, 304, 400. К П. Н. Дурново «Дубасов всегда относился весьма отрицательно, не уважал его и игнорировал», – утверждает и В. Ф. Джунковский (Указ. соч. Т. 1. С. 138).
(обратно)476
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 402; см. также С. 304. Это подтверждает и В. Ф. Джунковский (Указ. соч. Т. 1. С. 110).
(обратно)477
Джунковский В. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 110.
(обратно)478
Из дневника Ф. В. Дубасова. С. 92.
(обратно)479
Джунковский В. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 138–139.
(обратно)480
Королева Н. Г Указ. соч. С. 66.
(обратно)481
Маркс К. и Энгельс Ф. Победа контрреволюции в Венгрии // Собр. соч. 2-е изд. Т. 5. С. 494.
(обратно)482
Энгельс Ф. Демократический панславизм // Там же. Т. 6. С. 299, 305–306.
(обратно)483
Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 11. С. 47, 270, 342. Курсив автора.
(обратно)484
Выражение В. В. Розанова (Преступная атмосфера // Новое Время. 1911. 8 сент.)
(обратно)485
ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 2554. Л. 32–32 об.
(обратно)486
Гурко В. И. Указ. соч. С. 483; Из архива графа С. Ю. Витте. Т. 2. С. 492.
Осенью 1904 г. в Париже совещание руководителей Боевой организации и членов ЦК партии эсеров наметило ряд террористических актов. Один из них приурочивался к 24-й годовщине убийства Александра II (1/14 марта 1905 г.). Предполагалось воспользоваться торжественной панихидой в Петропавловском соборе, куда обычно съезжались виднейшие представители власти: запереть все пути к собору и бросить бомбы в командующего Петербургским военным округом великого князя Владимира Александровича, петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, министра внутренних дел А. Г. Булыгина и его товарища П. Н. Дурново. Подготовкой покушения руководил М. Швейцер, глава петербургского отряда Боевой организации. Однако в ночь на 26 февр. (11 марта) он подорвался у себя в номере гостиницы «Бристоль», а 29–30 марта были арестованы все члены его отряда.
В январе 1906 г. ЦК эсеров решил возобновить террор, и были намечены покушения на П. Н. Дурново, «которого считали главным вдохновителем реакционного курса правительственной политики», и Ф. В. Дубасова – за подавление московского восстания. При этом находили «покончить с Дурново <…> как можно скорее, потому что в апреле должна была быть созвана Государственная дума». Подготовку покушения на П. Н. Дурново вели две группы – под руководством Е. Азефа и Б. Савинкова. Однако первую выследила полиция (Азеф предупредил о готовящемся покушении), а работа второй была свернута из-за угрозы ареста.
Тогда А. Р. Гоц предложил план открытого нападения на дом, где жил П. Н. Дурново: террористы, «одетые в особые “панцири” из динамита, должны были силой прорваться внутрь дома и там взорвать себя, чтобы под развалинами здания похоронить Дурново и всех, кто был в его квартире». План был отвергнут по ряду причин: не было нужного количества динамита, не знали план дома, мало времени оставалось до открытия Государственной Думы.
Однако от мысли убить П. Н. Дурново и Ф. В. Дубасова не отказались. За подготовку покушения на П. Н. Дурново взялся Б. Савинков, однако «все усилия <…> остались безрезультатными»: «меры предосторожности, принятые для охраны Дурново, были настолько велики, что террористам не удалось ни одного раза даже просто увидеть его» (Гоц А. Из недавнего прошлого /Отрывки из воспоминаний А. Р. Гоца/ // За свободу. Нью-Йорк, 1947. № 18. С. 144–147; Зензинов В. Памяти А. Р. Гоца // Социалистический вестник. 1947. № 5 (597). С. 80–81; Он же. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 279; Савинков Борис. Воспоминания террориста. Л., 1990. С. 224–227, 229, 231, 387; Николаевский Б. И. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. М., 1991. С. 99–100, 105, 133, 145, 150, 154; Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 11; Охранка: Воспоминания руководителей охранных отделений. М., 2004. Т. 2. С. 148, 210–215, 263; Бельгард А. В. Воспоминания. М., 2009. С. 424).
19 августа (1 сент.) 1906 г. убить П. Н. Дурново попытались эсеры-максималисты: бывшая студентка Лозаннского университета Т. А. Леонтьева застрелила в отеле «Юнгфрау» в Интерлакене (Швейцария) рантье из Парижа Шарля Мюллера, приняв его за П. Н. Дурново: ей, как она заявила на допросе, было известно, что он путешествует по Швейцарии под именем Мюллера. Инициатором покушения была Е. Ковальская, участвовали С. Копельзон, Б. Герман (ГАРФ. Ф. 102 ОО. 1906. Оп. 235. Д. 434. Л. 9, 11, 34; Савинков Борис. Указ. соч. С. 133; Герасимов А. В. Указ. соч. С. 14–15; Богданович А. В.Три последних самодержца. М., 1991. С. 397. Запись 23 авг. 1906 г.)
Леонтьева Татьяна Александровна – дочь якутского вице-губернатора; некоторое время сообщала Боевой организации эсеров сведения о высокопоставленных лицах, затем участвовала в покушении на Д. Ф. Трепова, была арестована; после 17 октября 1905 г. освобождена «за душевной болезнью»; выехала за границу, где примкнула к эсерам-максималистам. 28 марта 1907 г. была приговорена швейцарским судом к четырем годам тюрьмы, но вскоре переведена в психиатрическую лечебницу; 28 сентября 1910 г. освобождена за окончанием срока.
Была, по-видимому, еще одна попытка убить П. Н. Дурново: 30 мая 1907 г. перед заседанием общего собрания Государственного совета «курьеры совершенно случайно открыли три адские машины под пюпитрами Акимова, Дурново и Дубасова» (Мемуары протоиерея Буткевича Тимофея // ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 383. С. 4241).
(обратно)487
Из архива Л. Тихомирова // Красный архив. 1924. Т. 6. С. 144.
(обратно)488
Русское слово. 1906. 23/10 янв. (Правительственное сообщение.)
(обратно)489
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 260. Д. 145. Л. 94.
Ст. 17 Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия (14 авг. 1881 г.) предусматривала право министра внутренних дел и генерал-губернаторов по их усмотрению передавать на рассмотрение военного суда дела о преступлениях, предусмотренных общими уголовными законами.
П. 1-й указа от 29 нояб. 1905 г. предоставлял губернаторам и градоначальникам право объявлять местности, вверенные их управлению, в положении чрезвычайной охраны.
(обратно)490
См., напр.: Флоренский П. А. Вопль крови. Слово в неделю Крестопоклонную. Сказано в храме МДА за литургией 12 марта 1873 г. от смерти И[исуса] Хр[иста]. М., 1906. Издание М-на и Х-ва.
(обратно)491
Карательные экспедиции в Сибири в 1905–1906 гг. Документы и материалы. М.; Л., 1932. С. 61.
(обратно)492
Телеграмма министра внутренних дел временному Иркутскому генерал-губернатору генералу Ласточкину, 8 янв. 1906 г. // Там же. С. 87.
(обратно)493
Там же.
(обратно)494
Мемория Совета министров 20 и 23 декабря 1905 года, 10 и 13 января 1906 года // РНБ. Ф. 781 (Толстой И. И.). Д. 248. Л. 1–7.
(обратно)495
Особое мнение министра внутренних дел по мемории Совета министров 5 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 318–319.
В высочайшем повелении военному министру от 18 янв. 1906 г. говорилось: «Вообще, военное положение следовало бы отменять лишь с согласия местного начальства, близко знакомого с положением дел».
(обратно)496
Друцкой-Соколинский В. А. Да благословенна память. Записки русского дворянина (1880–1914). Орел, 1996. С. 182. Автор в то время – правитель канцелярии Петроковского губернатора М. В. Арцимовича.
(обратно)497
Гучков А. И. Письмо в редакцию // Новое время. 1911. 27 сент. Цит. по: Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 906.
(обратно)498
Минцлов С. Р. 14 месяцев «свободы печати» (17 октября 1905 – 1 января 1907 г.). Заметки библиографа // Былое. 1907. № 3 /15/ С. 124–132.
(обратно)499
Русское слово. 1906. 17/4 февр.
Вот один из этих «сатириков» – Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1929). В 1905 г. издавал «Жупел» и «Адскую почту». З. Н. Гиппиус, хорошо его знавшая, писала о нем: «проходимец», «прохвост». «Прирожденный паразит и мародер интеллигентной среды. Вечно он околачивался около всяких литературных предприятий, издательств, – к некоторым даже присасывался, – но в общем удачи не имел. Иногда промахивался: в книгоиздательстве “Шиповник” раз получил гонорар за художника Сомова, и когда это открылось – слезно умолял не придавать дело огласке. До войны бедствовал, случалось – занимал по 5 рублей; во время войны уже несколько окрылился, завел журналишко, самый патриотичный и военный, – “Отечество”. С первого момента революции он, как клещ, впился в Горького <…> Но, присосавшись к Горькому, Зиновий делает попутно и свои главные дела: какие-то громадные, темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой, <…> живет <…> в громадной квартире бывшего домовладельца, покупает сразу пуд телятины (50 тысяч), имеет свою пролетку и лошадь (это в 1919 г. – А. Б.)». «Матерый паук» (Гиппиус З. Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 483; Кн. 2. С. 21, 100, 215–217).
«У Гржебина (на Потемкинской, 7) поразительное великолепие. Вазы, зеркала, Левитан, Репин, старинные мастера, диваны, которым нет цены, и т. д. Откуда все это у того самого Гржебина, коего я помню сионистом без гроша за душою, а потом художничком, попавшим в тюрьму за рисунок в “Жупеле” (рисунок изображал Николая II-го с оголенной задницей). Толкуют о его внезапном богатстве разное» (Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 104. Запись 17 марта 1919 г.).
(обратно)500
Козлинина Е. И. За полвека. 1862–1912 гг. Воспоминания, очерки и характеристики. М., 1913. С. 510.
(обратно)501
Дж. Дейли, д. и. н., проф. Иллинойского университета, Чикаго // Вопросы истории. 2001. № 10. С. 26.
(обратно)502
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 311–312.
(обратно)503
Богданович А. В. Указ. соч. С. 363. Запись 24 нояб. 1905 г..
(обратно)504
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 359.
(обратно)505
Там же. С. 259–260.
(обратно)506
Его редактор Н. Г. Шебуев заключен в крепость и привлечен к судебной ответственности по ст. 103 (оскорбление Величества) и ст. 128 («дерзостное неуважение к верховной власти») Уголовного уложения; по решению судебной палаты издание прекращено, а редактор – на 1 год в крепость.
(обратно)507
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 311–312.
(обратно)508
Русское слово. 1906. 6 февр./24 янв.
(обратно)509
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 44. Любопытный штрих: «Довольно терпеливо снося руготню по своему адресу революционных зоилов, Витте положительно не мог переварить критику, исходящую справа. Неоднократно обращался он к Дурново с требованием принять против сатириков суровые меры, но Дурново оставался на это неизменно глух, хотя и сам подвергался насмешкам юных юмористов, и причем знал, кто они» (Гурко В. И. Указ. соч. С. 507. Речь идет о группе правой молодежи). Кстати: «Столыпин отличался повышенной чувствительностью к личным на него нападкам» (Из воспоминаний С. Е. Крыжановского, товарища министра внутренних дел в 1906–1911 гг // Правые партии. Т. 1. М., 1998. С. 629).
(обратно)510
Богданович А. В. Указ. соч. С. 364. 2.12.1905.
(обратно)511
П. Н. Дурново – С. Ю. Витте, 6 янв. 1906 г. // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 143.
(обратно)512
Циркуляр министра внутренних дел П. Н. Дурново генерал-губернаторам и губернаторам о порядке разрешения митингов и собраний. 21 янв. 1906 г. // Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 годы. Ч. I. январь – апрель 1906 года. Кн. I. М., 1957. С. 141–142.
(обратно)513
Циркуляр министра внутренних дел П. Н. Дурново генерал-губернаторам и губернаторам об усилении борьбы с революционной пропагандой // Там же. С. 148.
(обратно)514
Воспоминания министра народного просвещения. С. 62.
(обратно)515
Туманова А. С. Законодательство об общественных организациях России в начале XX в. // Государство и право. 2003. № 8. С. 82–86.
П. Н. Дурново был достаточно сведущ в этом вопросе: при МВД межведомственное совещание под руководством директора департамента общих дел А. Д. Арбузова разрабатывало постоянный закон об обществах и союзах.
(обратно)516
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 455–456. Делал это Дурново достаточно независимо от Совета министров (см.: Королева Н. Г. Указ. соч. С. 103).
(обратно)517
Осоргин М. М. Воспоминания (1905–1914) // НИОР РГБ. Ф. 215.2.7. Л. 88 об.
(обратно)518
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 456–457.
(обратно)519
Осоргин М. М. Указ. соч. Л. 115 об.–120.
(обратно)520
Революция 1905 г. Материалы и официальные документы. М., 1925. С. 381.
(обратно)521
Болотов А. В. Святые и грешные. Воспоминания бывшего человека. Париж, 1924. С. 132, 144–145, 188–189.
(обратно)522
Циркуляр губернаторам, градоначальникам, начальникам губернских жандармских управлений, начальникам железнодорожных жандармских полицейских управлений и начальникам почтово-телеграфных округов. 23 декабря 1905 г. № 36 // РГИА. Ф. 1282 (Канцелярия министра внутренних дел). Оп. 3. Д. 107 (Циркуляры по МВД за 1905 г. Копии). Л. 182–183.
(обратно)523
Карательные экспедиции в Сибири в 1905–1906 гг. Документы и материалы. М.; Л., 1932. С. 89.
(обратно)524
Там же. С. 91.
(обратно)525
Как землевладелец, он достаточно близко наблюдал жизнь крестьян, так или иначе непосредственно с ними соприкасался, а осенью 1905 г. имение жены оказалось в эпицентре аграрных волнений, было разграблено и сожжено.
(обратно)526
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 225. Л. 31–32.
Луженовский Г. Н. (1870–1906) – советник губернского правления; член «Союза русских людей»; убит М. А. Спиридоновой по постановлению тамбовского комитета партии с.-р.
«Среди многих сообщенных мною фактов, – продолжает В. М. Андреевский, – в особенности привлек его внимание следующий: уволенный за растрату каких-то сумм волостной старшина Жабин, собственник 150 десятин земли, оказался во главе погромного и разбойного движения Ржаксанской волости. Непонятная вещь – зачем такому богатому человеку вздумалось заниматься погромами и грабежами. Однако непонятное объяснялось просто: сын его – студент Технологического института, эсер или эсдек» (Там же. Л. 32).
«Хотя нужда в земле и наблюдается в некоторых сельских обществах, – писал смоленский губернатор, – но нет оснований утверждать, что беспорядки получили развитие там, где существует острая нужда в земле, так как «случаи беспорядков имели место нередко и среди крестьян тех селений, которые, кроме надельной, имеют вполне достаточное количество купленной земли. <…> Смуту в деревнях поддерживала главным образом местная молодежь; <…> Поэтому достаточно было изъять из деревни двух-трех главарей, чтобы все остальное население образумилось» (Сводка из годовых отчетов губернаторов о революционном движении 1905 года // Революция 1905 года и самодержавие. М.; Л., 1928. С. 250).
«Причиною беспорядков 1905 года [до 17 октября], независимо от общих тяжелых экономических условий крестьянской жизни (малоземелья, отсутствия пастбищ, нередко дурных отношений между экономическою администрацией и окрестными крестьянами и рабочими), было несомненно широкое и умелое развитие революционной пропаганды» (Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 300).
Это подтверждается и с другой стороны: «Из города к нам часто приезжали ораторы, привозили нелегальные брошюры и листовки. В лесу, оврагах по ночам проводили митинги. Под влиянием городских агитаторов мы стали открыто выражать свой протест против существующих порядков. Весной 1905 года в помещичьих имениях начали самовольно косить траву и увозить сено по домам. Урожай в предыдущем году был хороший, много необмолоченного хлеба осталось лежать в скирдах до весны, по ним загулял “красный петух”» (Колузанов Н. М. Крестьянские волнения в Саратовской губернии весной и летом 1905 года // Революция 1905–1907 годов. Документы и материалы. М., 1975. С. 248–249).
Колузанов Н. М. – крестьянин деревни Медведка Даниловской волости Аткарского уезда.
(обратно)527
Так, например, «энергичное и быстрое осуществление положений» указа 10 апреля 1905 г., по мнению П. Н. Дурново, «оказало бы отрезвляющее действие на крестьянское население и тем предотвратило бы массовое распространение грабежей частновладельческих земель», однако проект правил о порядке возмещения убытков, разработанный на основе указа, не получил, в силу ряда причин, утверждения.
(обратно)528
Доклад министра внутренних дел П. Н. Дурново Николаю II об ответах губернаторов на запрос Министерства внутренних дел относительно причин крестьянских волнений // Революция 1905–1907 гг. в России. Кн. 1. М., 1957. С. 96–98.
И у П. А. Столыпина нашел П. Н. Дурново подтверждение своего взгляда на малоземелье как неглавную причину крестьянских волнений: «Расширение крестьянского землевладения путем покупки земли он (Столыпин. – А. Б.) считает паллиативною мерою, причем замечает, что громилами нередко являются крестьяне, наделенные полным наделом, а соседние, малоземельные, не нарушают порядок. Губернатор утверждает, что община теперь развращена и терроризирована испорченной молодежью и не может разбогатеть от дешевого приобретения лишней земли» (Там же. С. 98).
(обратно)529
Революция 1905 г. Материалы и официальные документы. М., 1925. С. 296–297.
(обратно)530
Красный архив. 1928. № 6 (31). С. 84.
(обратно)531
РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 97. Л. 11–12; Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 6–7.
(обратно)532
Борьба С. Ю. Витте с аграрной революцией // Красный архив. 1928. Т. 6 (31). С. 81–102.
(обратно)533
Революция 1905–1907 гг. в России. Кн. 1. М., 1957. С. 572.
(обратно)534
Там же. С. 734. См. также С. 735, 639.
Утверждение, что П. Н. Дурново приказывал «истреблять силою оружия бунтовщиков, а в случае сопротивления – сжигать их жилища» (Данилов В. П. Крестьянская революция в России // Политические партии в российских революциях в начале XX века. М., 2005. С. 36; Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 333) не представляется обоснованным, ибо имеет основанием опубликованную в 1925 г. телеграмму со ссылкой на № 47 краковской газеты «Naprzód» («Вперед») (Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. М., 1925. С. 297–298). В других телеграммах П. Н. Дурново подобного нет. Во втором случае неловкость еще большая: автор связывает с телеграммой от 10 января 1906 г. спад волны погромов «к середине ноября 1905 г.».
(обратно)535
Считалось, что в основе новой вспышки крестьянских волнений после 17 октября 1905 г. лежали ложные толкования указанных манифестов (Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 300)
(обратно)536
Циркулярно губернаторам? декабря 1905 г. // РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 107 (Циркуляры по МВД за 1905 г. Копии). Л. 188–189 об.
(обратно)537
Циркулярно губернаторам. 3 декабря 1905 г. // Там же. Л. 188; Проект указа по аграрному вопросу, предложенный министром внутренних дел, дтс П. Н. Дурново [начало 1906 г.] // Совет министров Российской империи. 1905–1906 годы. Документы и материалы. Л., 1990. С. 381.
(обратно)538
Мемория о предоставлении Астраханскому, Оренбургскому и Уральскому казачьим войскам земли в вечное владение [не позднее 5 апр. 1906 г.] // Там же. С. 381.
(обратно)539
Там же. С. 268.
(обратно)540
РО РНБ. Ф.781 (Толстой И. И.). Оп. 1. Д. 278. Л. 1–7.
(обратно)541
РГИА. Ф. 1240. Оп. 1. 1905. Д. 1 (Особое совещание об оказании материального вспомоществования частным лицам, пострадавшим во время аграрных беспорядков). Л. 152–153.
(обратно)542
Управляющий МВД П. Н. Дурново – гр. Д. М. Сольскому, 1 дек. 1905 г. // Там же. Л. 4 об.–5. Граф Д. М. Сольский был председателем выше указанного совещания.
(обратно)543
Управляющий МВД П. Н. Дурново – гр. Д. М. Сольскому, 10 дек. 1905 г. // Там же. Л. 123–123 об.
(обратно)544
Дурново П. Н. Официальное письмо председателю Совета министров С. Ю. Витте… 28 февраля 1906 г. // РО РНБ. Ф. 781. Оп. 1. Д. 274. Л. 1–5.
(обратно)545
Генерал от инфантерии П. Д. Паренсов, состоявший в распоряжении военного министра, «несколько раз приглашал к себе» капитана лейб-гвардии Стрелкового полка К. И. Тришатного. Как-то раз вечером, «в назначенный час», последний застал там А. П. Павлова, полковника для особых поручений при начальнике Главного штаба генерал-лейтенанте Ф. Ф. Палицыне. Павлов повел речь о необходимости дворцового переворота в пользу Михаила Александровича. Тришатный прекратил разговор, а потом доложил командиру полка. Через командира гвардейского корпуса дело дошло до великого князя Николая Николаевича (Дневник Г. О. Рауха. Запись 2 янв. 1906 г. С. 95–96; Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 17–18).
(обратно)546
Дневник Г. О. Рауха. Запись 12 янв. 1906 г. С. 99.
Вел. князь Николай Николаевич с 23 окт. 1905 г. – главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Князь Г. И. Орбелиани – командир 18-го корпуса; ему вел. князь приказал расследовать обвинение войск Лопухиным; О. донес, что Л. оклеветал войска; Л. – в ответ – обвинил О. в недобросовестном и поверхностном расследовании.
(обратно)547
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 195–196.
(обратно)548
Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1912. С. 280.
(обратно)549
Гурко В. И. Указ. соч. С. 508, 509.
«Не подлежит, мне кажется, сомнению, – писал А. А. Киреев 6 ноября 1905 г. из Павловска В. А. Грингмуту в Москву, – что громадное большинство народа (простонародья) относится враждебно к революции. Это выражается и в составлении т[ак] наз[ываемых] “черных сотен“ (в действительности – белых сот[ен]). Беда та, что эти белые сотни или даже миллионы неумело организованы <…>. Вопрос теперь в том, можно ли организовать эти белые сотни, бел[ые] миллионы в нечто стройное, но такое, которое бы не превратилось само в пугачевщину» (РГАЛИ. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 47. Л. 9–10 об.).
(обратно)550
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 262–263.
(обратно)551
Воспоминания В. М. Андреевского // Государственный архив Тамбовской области. Ф. Р–5328. Оп. 1. Д. 7. URL: -kirsanov.ru/source.php?id-doc.andreevsky.vosp (дата обращения: 22.12.2011).
Действительно, движение было всесословное, народное. «Черносотенцами» были Иоанн Кронштадтский, патриарх Тихон, Д. И. Менделеев, В. М. Васнецов, А. И. Соболевский, А. С. Вязигин, К. И. Величко, Б. В. Никольский и многие другие выдающиеся представители народа.
(обратно)552
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 294–295.
Уже после отставки, «как-то в разговоре с Дурново, – пишет С. Ю. Витте, – я обозвал Дубровина негодяем, Дурново мне сказал: “Напрасно Вы его так называете, право, он честнейший и прекраснейший человек”». «Конечно, – продолжает С. Ю. Витте, – только рассчитывая на поддержку великого князя и министра внутренних дел Дурново, Дубровин в одном из манежей собрал толпу хулиганов, говорил зажигательные речи и затем с криками “Долой подлую конституцию и смерть графу Витте!” они вышли из манежа» (Там же).
Дубровин Александр Иванович (1855, Пенза – ?) – из дворян. Окончил Петербургскую Медико-хирургическую академию (1879). Военный врач, работал в детском приюте, занимался частной практикой. Доктор медицины. Статский советник. Член Русского собрания. Основатель (1905), действительный и почетный председатель Союза русского народа. Редактор-издатель газеты «Русское знамя». Председатель вновь созданного Всероссийского Дубровинского СРН (с декабря 1911). В течение 1911 и следующих годов Д. был несколько раз приговорен судом к штрафу и к кратковременному аресту за клевету по адресу как правительственных лиц, так и членов Думы. Владелец 5-этажного доходного дома. С 3 марта по 20 июня 1917 г. в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Арестован и расстрелян ВЧК (по одним данным – в 1918 г., по другим – в 1920, по третьим – в 1921). Женат, имел двух сыновей: оба инженеры. Один служил на железной дороге, другой – в Морском ведомстве.
(обратно)553
С. Д. Кузьмин – инженер путей сообщений, один из организаторов «Общества активной борьбы с революцией и анархией».
(обратно)554
Справка Департамента полиции о боевых дружинах правых организаций. Май 1909 г. // ГАРФ. Ф. 102. Д-7. Д. 8. Ч. 66. Т. 2. Л. 1–1 об.; Рууд Ч. А., Степанов С. А. Фонтанка, 16: Политический сыск при царях. М., 1993. С. 151–152.
(обратно)555
Так он заявил в заседании Совета министров 3 ноября 1905 г. // Совет министров Российской империи: 1905–1906 гг.: Документы и материалы. Л. 1990. С. 37.
(обратно)556
Копия из письма Н. Ознобишина, Москва, от 1 нояб. 1909 г., к П. Н. Дурново, СПб. // ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. 1909. Д. 395. Л. 36.
(обратно)557
Беседа Дворцового коменданта генерал-майора Дедюлина с правым деятелем, делопроизводителем канцелярии С.-Петербургского градоначальника потомственным дворянином Николаем Николаевичем Жеденевым в связи с его всеподданнейшим письмом о грозящей Николаю II опасности // Исторический архив. 2000. № 1. С. 90.
(обратно)558
Из отчета члена Совета министра внутренних дел тайного советника Н. Ч. Зайончковского /по командировке в г. Смоленск в ноябре 1913 г./ на имя министра внутренних дел Н. А. Маклакова // Исторический архив. 2000. № 1. С. 104.
Зайончковский Н. Ч. (1859–1918) – землевладелец Смоленской губернии, чиновник МНП, член Совета министра внутренних дел (с 1906), товарищ обер-прокурора Св. Синода (с октября 1915), сенатор I департамента Сената (с октября 1916).
(обратно)559
Краинский Н. В. Фильм русской революции в психологической обработке. Белград, [192?]. С. 24.
(обратно)560
Из отчета… Н. Ч. Зайончковского. С. 104.
(обратно)561
Беседа Дворцового коменданта… С. 90.
(обратно)562
Из отчета… Н. Ч. Зайончковского. С. 104.
(обратно)563
Там же; Бельгард А. В. Указ. соч. С. 263–264.
«Должен сказать, – свидетельствовал бывший директор департамента полиции в ЧСК 19 марта 1917 г., – правые организации в 1906 году были не те, что в 1908 году, они представляли собою известную идейность, а потом они выродились в чисто коммерческие предприятия» (Падение царского режима. Т. 1. Л., 1924. С. 106).
(обратно)564
Львов Л. Беседа с гр. И. И. Толстым // Речь. 1911. 22 нояб. Цит. по: Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 1052.
(обратно)565
Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России (Воспоминания современника). Т. 3. Париж, 1936. С. 421.
Это было не просто уже в силу сложности их натур. «Знать Витте было легко, но познать очень трудно», – признавался В. И. Ковалевский (Ковалевский В. И. Из воспоминаний о графе Сергее Юльевиче Витте // Русское прошлое. Историко-документальный альманах. № 2. Л., 1991. С. 56).
(обратно)566
Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 359, 360.
(обратно)567
Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 368, 369. Записи 6 и 11 февр. 1906 г.; Киреев А. А. Дневник. С. 111. Запись 16 нояб. 1905 г.
(обратно)568
Гурко В. И. Указ. соч. С. 516–517.
(обратно)569
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 52, 43. «Достойно внимания, – пишет С. Ю. Витте, – что в защиту расширения амнистии [в заседании Совета министров 21 окт. 1905 г.] весьма толково говорил П. Н. Дурново» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 271).
(обратно)570
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 257.
(обратно)571
Гурко В. И. Указ. соч. С. 479.
(обратно)572
Воспоминания министра народного просвещения. С. 165–166.
(обратно)573
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 422–423.
(обратно)574
5–6 дек. 1905 г. в Москве конференция депутатов от 29-ти железных дорог обсуждала вопрос о всеобщей политической стачке. «Необходимость такой стачки и неизбежность перехода ее в вооруженное восстание не встречала возражений». Единогласно принята резолюция: «Конференция объявляет с 7 декабря всеобщую политическую забастовку». 6 декабря депутаты от железных дорог, Московский комитет, Московская окружная организация РСДРП и Московский комитет ПСР объявили всеобщую политическую забастовку и призвали в 12 часов 7 декабря бросить и остановить работу на всех фабриках и заводах, во всех городских и правительственных предприятиях и призвали к вооруженному восстанию (Революция 1905 г. Материалы и официальные документы. М., 1925. С. 78–79).
(обратно)575
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 50–51. Судя по известным публикациям дневника Николая II, этот факт не нашел в нем отражения.
(обратно)576
История Коммунистической партии Советского Союза. В 6 т. Т. 2. М., 1966. С. 139.
(обратно)577
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 52.
(обратно)578
Крыжановский С. Е. Воспоминания. С. 74.
(обратно)579
Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Т. 1. Париж, 1933. С. 116.
(обратно)580
Воспоминания министра народного просвещения. С. 180, 166; Дневник Г. О. Рауха. Запись 22 дек. 1905 г. С. 93.
(обратно)581
Воспоминания министра народного просвещения. С. 167. «Дурново иногда приезжал очень аккуратно, иногда опаздывал, а в январе и феврале очень часто и совсем не являлся» (Там же. С. 175).
(обратно)582
Гурко В. И. Указ. соч. С. 479, 483.
(обратно)583
Киреев А. А. Дневник. С. 127.
(обратно)584
Воспоминания министра народного просвещения. С. 239.
(обратно)585
Дневник С. Д. Шереметева // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5051. Л. 18.
(обратно)586
Сазонов С. Д. Воспоминания. Берлин, 1927. С. 358.
(обратно)587
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 134.
(обратно)588
Богданович А. В. Указ. соч. С. 379. Запись 30 марта 1906 г.
(обратно)589
Воспоминания министра народного просвещения. С. 167.
(обратно)590
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 320. См. также: С. 419–420, 498.
(обратно)591
En cachette – тайком (фр.)
(обратно)592
Там же. С. 321, 390.
«Дурново во все время моего премьерства ни разу мне не говорил о своих докладах и беседах с Его Величеством» (Там же. С. 319).
(обратно)593
Воспоминания министра народного просвещения. С. 180.
«Дурново, – замечает И. И. Тхоржевский, – оказался и сильнее, и умнее, и коварнее, чем думал Витте. Но сгубило в данном случае Витте – его собственное коварство» («Джиоконда» Витте: из воспоминаний // Возрождение. 1933. 2 марта /№ 2830/. С. 2).
(обратно)594
Маклаков В. А. Указ. соч. Т. 3. С. 421–423. П. Н. Дурново, рассказывал В. А. Маклаков, позднее повторял по-французски фразу, ходившую по Петербургу: «Ваша революция еще более глупа, чем ваше правительство».
(обратно)595
Центральный комитет «Союза 17 октября» в 1905–1907 годы. Документы и материалы // История СССР. 1991. № 3. С. 172.
(обратно)596
Дневник С. Д. Шереметева. Д. 5051. Л. 18.
(обратно)597
Былое. 1917. № 4. C. 193.
(обратно)598
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 464.
С. Ю. Витте ошибся в оценке соотношения силы. Он, писал Н. Н. Покровский, «по общему отзыву, растерялся и не сумел взять надлежащий тон. Революции был нанесен ущерб, войска, в громадной своей массе, оставались непоколебленными, а при этих условиях не было основания играть двойную роль. Эта двойная роль, как рассказывают, довела почти до того, что неизвестно было, кто кого арестует: Витте – Хрусталева или Хрусталев – Витте. Поэтому министр внутренних дел П. Н. Дурново, вовремя понявший необходимость решительных действий, взял первый шаг и заслонил С. Ю. Витте» (Воспоминания Н. Н. Покровского о Комитете министров в 90-е гг. XIX в. // Исторический архив. 2002. № 2. С. 195).
(обратно)599
Белецкий С. П. Григорий Распутин. Из воспоминаний // Былое. 1923. № 22. С. 242.
(обратно)600
Маклаков В. А. Указ. соч. Т. 3. С. 421.
(обратно)601
Это представлялось вполне возможным. Д. Н. Шипов в соединенном заседании С.-Петербургского и Московского отделений ЦК «Союза 17 октября» 8 янв. 1906 г. в Москве, констатируя, что «все одинаково относятся с недоверием к политике графа Витте», тем не менее полагал, что «не следует содействовать падению кабинета»: «В случае падения графа Витте вероятна возможность назначения премьером П. Н. Дурново» (Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК. Т. 1. 1905–1907 гг. М., 1996. С. 47).
(обратно)602
ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 537. Л. 4–6 об.; Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 731; Т. 2. С. 419, 501.
И. И. Толстой прокомментировал это следующим образом: «Витте все-таки ввернул в свое письмо указание на невозможность явиться в Думу вместе с Дурново, которого он обвинял прямо только теперь, в последнюю, так сказать, минуту, в неудачных результатах внутренней политики, отказываясь от всякой солидарности с наиболее влиятельным министром своего кабинета. Я позволю себе утверждать, что это было сделано с целью: с одной стороны, он знал, что “общественное мнение” не только в России, но за границею больше всего ставило ему в вину именно то, что творилось по ведомству Министерства внутренних дел, а потому документальный отказ от солидарности с действиями министра, заведовавшего этим ведомством, не мог помешать его репутации, а с другой – говоря Государю, что он не одобряет тактики Дурново, Витте как бы заявлял, что решительно расходится с Его Величеством в оценке людей и событий, так как знал, что Государь ценит энергию Дурново, обвинявшего Витте в неумении справиться с революцией и в заигрывании с нею» (Воспоминания министра народного просвещения. С. 228).
(обратно)603
Гурко В. И. Указ. соч. С. 533.
(обратно)604
Маклаков В. А. Указ. соч. Т. 3. С. 421. «С Дурново у него сохранились хорошие личные отношения, но вследствие разномыслия по многим принципиальным вопросам они виделись редко и избегали деловых разговоров», – писал С. Ю. Витте о себе в третьем лице (Письмо в редакцию «Нового времени», 25 сент. 1911 г. // Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 904). Некоторые их встречи отмечены в его воспоминаниях (См.: Там же. Т. 2. С. 237, 244, 455).
(обратно)605
Любимов Д. Н. События и люди. Л. 462; Любимов Дм. На рубеже 1905–1906 гг. // Возрождение. 1934. 17 июня. № 3301. С. 5.
(обратно)606
Менделеев П. П. Указ. соч. Л. 60, 61.
(обратно)607
Тарле Е. В. Соч. в 12 томах. Т. V. М., 1958. С. 554.
(обратно)608
Гурко В. И. Указ. соч. С. 536.
В. А. Дедюлин, будучи у Богдановичей, рассказывал, «что вчера в полночь был у Дурново, прямо спросил его, уходит ли. Дурново отвечал, что несколько часов назад был у царя, который очень был к нему милостив, благодарил его за его действия и просил его с той же неуклонной твердостью продолжать действовать, что он не уходит» (Богданович А. В. Указ. соч. С. 366. Запись 31 янв. 1906 г.).
(обратно)609
Из архива графа С. Ю. Витте. Т. 1. С. 731.
(обратно)610
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 278.
(обратно)611
Богданович А. В. Указ. соч. С. 389. Запись 8 мая 1906 г.
(обратно)612
Гурко В. И. Указ. соч. С. 534–535.
(обратно)613
Из архива графа С. Ю. Витте. Т. 1. С. 732.
(обратно)614
Дневник А. А. Половцова. 1906 г. Запись 25 апр. // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 105.
А. Ф. Редигер со слов В. Н. Коковцова пишет: «Государь предполагал только частичное преобразование кабинета с назначением Акимова его председателем; но Акимов заявил государю, что у него нет таких способностей, чтобы занять эту должность, и прибавил, что старому кабинету за смутное время столько пришлось совершить беззаконий, что ему лучше не показываться в Думе. Государь с этим согласился, и весь кабинет был сменен, за исключением, кажется, только министров: Двора, Военного и Морского» (Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 48).
(обратно)615
Гурко В. И. Указ. соч. С. 534–535.
(обратно)616
Воспоминания министра народного просвещения… С. 224. «Принял доклад Дурново в последний раз», – пометил царь в дневнике 20 апреля.
(обратно)617
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 580. Д. Н. Любимов слышал это лично от П. Н. Дурново.
(обратно)618
Гурко В. И. Указ. соч. С. 536–537. Для сравнения: В. Н. Коковцов заехал 19 апреля к С. Ю. Витте и застал его «за разбором бумаг перед выездом из Зимнего Дворца и первыми словами его были: “Перед Вами счастливейший из смертных. Государь не мог мне оказать большей милости, как увольнением меня от каторги, в которой я просто изнывал. Я уезжаю немедленно заграницу лечиться, ни о чем больше не хочу и слышать и представляю себе, что будет разыгрываться здесь. Ведь вся Россия – сплошной сумасшедший дом, и вся пресловутая передовая интеллигенция не лучше других”» (Коковцов В. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 166–167).
(обратно)619
Богданович А. В. Указ соч. С. 385. Запись 21 апр. 1906 г.
(обратно)620
Кони А. Ф. Открытие I Государственной думы // Кони А. Ф.Из бранное. М., 1989. С. 101.
(обратно)621
А. Гартунг – директору Департамента полиции, 31 авг./13 сент. 1906 г. // ГАРФ. Ф. 102 ОО. 1906. Оп. 235. Д. 435. Л. 16–16 об.
(обратно)622
Свобода и Жизнь. 1906. 9 окт.
(обратно)623
Биржевые ведомости. 1906. 31 окт.
(обратно)624
Любимов Дм. На рубеже 1905 и 1906 годов // Возрождение. 1934. 17 июня. С. 5.
П. Н. Дурново, не сомневался и А. А. Половцов, «своею энергиею принес, несомненно, большую пользу делу подавления революции» (Дневник А. А. Половцова. 1906 г. Запись 25 апр. // Красный архив. 1923. № 4. С. 105). Так считали и на местах: решительные меры П. Н. Дурново «положили начало к прекращению общего бесчинства» (Из годового отчета Смоленского губернатора // Революция 1905 года и самодержавие. М.; Л., 1928. С. 249).
(обратно)625
Шинкевич [Е.Г.]. Воспоминания и впечатления. 1904–1917 гг. // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 51. Л. 9 об., 10.
(обратно)626
Гурко В. И. Указ. соч. С. 430.
(обратно)627
В. И. Гурко – А. Н. Яхонтову, 1 дек. 1925 г. // Совет министров Российской империи в годы первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 484.
(обратно)628
Воспоминания В. М. Андреевского // URL: (дата обращения: 22.12.11).
(обратно)629
Так полагал, напр., А. И. Спиридович: «И если возникшие уже после манифеста вооруженные восстания не привели к падению тогда монархии, то этим Россия обязана главным образом русской армии и министрам П. Н. Дурново и С. Ю. Витте» (Спиридович А. И. Ох рана и антисемитизм в дореволюционной России // Вопросы истории. 2003. № 8. С. 32).
(обратно)630
Никольский Б. В. К характеристике К. Н. Леонтьева // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. 1891: Литературный сборник. СПб., 1911. Цит. по: Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 362.
(обратно)631
Дневник Г. О. Рауха. Запись 2 янв. 1906 г. С. 95.
(обратно)632
Гурко В. И. Указ. соч. С. 525, 225.
(обратно)633
Голицын А. Д. Воспоминания. М., 2008. С. 138; Крыжановский С. Е. Воспоминания. С. 74; Курлов П. Г. Указ. соч. С. 23, 51–52, 110; Мещерский В. П.. Дневники // Гражданин. 1911. № 30. С. 14; № 45. С.15.
(обратно)634
Lieven D. Op. cit. S. 216.
(обратно)635
Дневник А. А. Половцова // Красный архив. 1923. № 4. С. 107.
(обратно)636
Записки С. И. Тимашева // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 48. Л. 64.
(обратно)637
С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 30 нояб. 1909 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 3005. Л. 55; Дневник С. Д. Шереметева. Запись 30 нояб. 1909 г. // Там же. Д. 5054. Л. 154.
(обратно)638
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Кн. 2. Нью-Йорк, 1955. С. 211–212.
(обратно)639
Н. А. Зверев – С. Д. Шереметеву, 16 окт. 1911 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5105. Л. 219 об.–220.
(обратно)640
Новое Время. 1911. 20 окт./2 нояб.
(обратно)641
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 16 апр. 1912 г. // Д. 5057. Л. 77.
(обратно)642
См., напр.: Русское слово. 1915. 12 сент.
(обратно)643
См., напр.: Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 21–22.
В этом случае следует принять во внимание свидетельство М. М. Ковалевского, с одной стороны, хорошо знавшего ситуацию, а с другой – далекого от симпатий к П. Н. Дурново: «Не следует думать, что в правой [группе Гос. Совета] Дурново представляет собой самое крайнее направление. Имеется целая группа людей, которые стоят по отношению к нему в некоторой оппозиции» (Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 401–402). Имелись в виду кн. А. А. Ширинский-Шихматов, А. П. Струков, В. К. Саблер и некоторые другие.
(обратно)644
Новое время. 1915. 12 сент.
(обратно)645
«В один из своих приездов в Петербург в 1911 г., когда Витте произносил в Гос[ударственном] совете ультраправые речи, я спросил Пихно, как относятся “правые” в Гос[ударственном] совете к этим речам Витте. “Смеются, – ответил он. – Кто ему поверит?”» (Сидоров А. В Киеве /Из воспоминаний бывшего цензора/ // Голос минувшего. 1918. № 7–9. С. 138). См. также: Львов Л. (Клячко Л. М.). За кулисами старого режима (Воспоминания журналиста). Т. 1. Л., 1926. С. 145.
(обратно)646
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 604, 619.
(обратно)647
Беспринципная оппозиция (Редакционная) // Новое время. 1912. 26 апр./9 мая.
«Что ни происходит, как ни толкает, ни вертит, ни учит жизнь – Дурново все также требует “держать и не пущать”; <…> В обычное время деятельность Дурново весьма вредна <…> Так было. Но так уже не есть, ибо сейчас <…> война. <…> Деятельность “Дурново” так вредила России и уже так навредила ее сегодняшней задаче, что едва ли стоит сейчас останавливаться на пояснениях. Сейчас яд этот открыт, губительность его, кажется, ясна для всех. Не слишком ли поздно? Другой вопрос. Но факт, что мы кое-как восприняли в этой стороне наглядный урок жизни. Однако вред – продолжается. <…> Правые – и не понимают, и не идут, и никого никуда не пускают». Вот так «понимала» его З. Н. Гиппиус (Общественный дневник /Август – Сентябрь [19]15 г./ // Гиппиус З. Н. Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 406, 407).
(обратно)648
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1909–1910 годы. Сессия пятая. СПб., 1910. Стб. 2806, 2795.
(обратно)649
Там же. Стб. 2795–2796.
(обратно)650
Это утверждали некоторые современники (см., напр.: Новое Время. 1911. 8/21 марта), это повторил и А. Я. Аврех (Столыпин и третья Дума. М., 1968. С. 319).
(обратно)651
Всеподданнейший отчет председателя Государственного Совета за сессию 1910–1911 гг. СПб., 1911. С. 11–12; Гос. Совет. Ст. отчеты. 1910–1911 годы. Сессия шестая. СПб., 1911. Стб. 155, 772.
(обратно)652
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 25 февр. 1911 г. // Д. 5056. Л. 39.
(обратно)653
Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919. Т. 1. Париж, 1933. С. 452–453.
(обратно)654
Гражданин. 1911. № 6. С. 6–7; № 7. С. 12.
(обратно)655
Дневник С. Д. Шереметева. Д. 5056. Л. 42, 48. Записи 4 и 13 марта 1911 г.; А. И. Шувалова – Е. А. Воронцовой-Дашковой, 11 и 12 марта 1911 г. // НИОР РГБ. Ф. 58.87.4. Л. 47–47 об., 47 об.–59, 59–59 об., 59 об.–48, 48–48 об., 48 об.–58, 51 об. – 57 (листы перепутаны).
(обратно)656
А. И. Шувалова – Е. А. Воронцовой-Дашковой, 11 марта 1911 г. // Там же. Л. 48.
(обратно)657
Там же. Л. 51 об., 57; И. И. Шереметева – Е. А. Воронцовой-Дашковой, 16 марта 1911 г. // Там же. Ф. 58.85.126(1–2). Л. 262 об.–263.
(обратно)658
Дневник С. Д. Шереметева. Записи 27 марта 1911 г. и 15 янв. 1912 г. // Д. 5056. Л. 59; Д. 5057. Л. 13.
(обратно)659
Там же. Д. 5056. Л. 47. Запись 12 марта 1911 г.
(обратно)660
Там же. Л. 49. Запись 15 марта 1911 г.; А. И. Шувалова – Е. А. Воронцовой-Дашковой, 21 марта 1911 г. // НИОР РГБ. Ф. 58.87.4. Л. 60 об.
(обратно)661
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 11 апр. 1911 г. // Д. 5056. Л. 65.
(обратно)662
См.: П. А. Столыпин – Николаю II, 1 мая 1911 г. // П. А. Столыпин: Переписка. М., 2004. С. 70–71.
(обратно)663
Новое Время. 1911. 3/16 мая. С. 4 (Хроника); Дневник С. Д. Шереметева. Запись 2 мая 1911 г. // Д. 5056. Л. 74; ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 384 (Воспоминания Т. И. Буткевича). Л. 174.
(обратно)664
Толстой И. И. Дневник в двух томах. Т. 2. 1910–1916. СПб., 2010. С. 166. Запись 14/27 марта 1911 г.
(обратно)665
См, напр.: Голос Москвы. 1912. 1 февр. С. 3.
(обратно)666
Сам В. Н. Коковцов свидетельствует: «П. Н. Дурново, лично, тем не менее, выраж[ал] ко мне крайне внимательное отношение» (Коковцов В. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 319).
(обратно)667
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1911–1912 годы. Сессия седьмая. СПб., 1912. Стб. 1255–1262.
(обратно)668
С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 20 февр. 1912 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 3008. Л. 286–287.
(обратно)669
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 8 янв. 1913 г. // Там же. Д. 5058. Л. 5.
(обратно)670
Российские либералы: кадеты и октябристы (Документы, воспоминания, публицистика). М., 1996. С. 168–169.
(обратно)671
Au jour le jour – со дня на день (фр.)
(обратно)672
В. И. Гурко – А. А. Бобринскому, 4 июля 1913 г. // РГАДА. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 635. Л. 26.
(обратно)673
П. Н. Дурново «отстаивал всевластие администрации и ее опеку над всеми сословными и местными об-вами, – утверждает В. А. Демин. – В частности, выступил против (успешно) предложенной группой центра (А. А. Сабуровым) проекта реформы Сената в смысле введения его независимости от администрации» (Петр Аркадьевич Столыпин: Энциклопедия. М., 2011. С. 173). Это неверно по существу, да и с русским языком не все ладно.
(обратно)674
Гос. совет. Ст. отчеты. 1907 год. Сессия вторая. СПб., 1907. Стб. 410, 413.
Примечательно, что один из подписавших проект, поляк И. О. Корвин-Милевский, не хотел предоставлять Сенату права «избирать своих сочленов»; при этом мотив был тот же, что и у П. Н. Дурново: это было «совершенно несовместимо» с его понятием «о Правительстве, ограниченном в законодательной сфере, но сильном и едином, которое необходимо для Российской империи» (Там же. Стб. 419).
(обратно)675
Там же. Стб. 403–404.
(обратно)676
Там же. Стб. 414–415.
(обратно)677
Там же. 1911–1912 годы. Сессия седьмая. Стб. 624.
(обратно)678
Там же. 1912–1913 годы. Сессия восьмая. СПб., 1913. Стб.1293–1294.
(обратно)679
Там же. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 1711.
Согласитесь, это совсем не то, что приписывает П. Н. Дурново современный исследователь: «Предлагал тратить средства не на нар. образование, а на армию и полицию» (Петр Аркадьевич Столыпин: Энциклопедия. М., 2011. С. 173).
(обратно)680
Гос. совет. Ст. отчеты. 1907–1908 годы. Сессия третья. Стб. 1712–1715.
(обратно)681
Там же. Стб. 1715, 1719.
Ст. 14 Основных законов гласит: «Государь Император есть державный вождь Российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского Государства. Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления относительно: дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами армии и флота и всего вообще относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского Государства. Государем Императором, в порядке верховного управления, устанавливаются также ограничения в отношении права жительства и приобретения недвижимого имущества в местностях, которые составляют крепостные районы и опорные пункты для армии и флота».
(обратно)682
Там же. Стб. 2011–2014.
(обратно)683
Там же. 1909–1910 годы. Сессия пятая. Стб. 546.
(обратно)684
Русское слово. 1906. 14/27 и 17/30 мая.
(обратно)685
Толстой И. И. Дневник. Т. I. 1906–1909. С. 298. Запись 14 апр. 1907 г.
(обратно)686
Из дневника Льва Тихомирова // Красный архив. 1935. № 5 (72) С. 133. Запись 6 янв. 1908 г.; Толстой И. И. Дневник. Т. I. С. 622–623. Запись 25 мая 1909 г.; Э. Диллон писал: «Стране крайне нужна связная политика, план ее осуществления и министр с непреклонной волей, ясным политическим зрением и необыкновенною находчивостью, для истолкования намерений Монарха. Общественное мнение таким называет г. Дурново» (Цит. по: «Перевод статьи Диллона в Daily Telegraph» // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5090. Л. 217); Донесения Л. К. Куманина из Министерского павильона Государственной Думы, декабрь 1911 – февраль 1917 гг. // Вопросы истории. 1999. № 4–5. С. 21; № 7. С. 8–9; № 9. С. 4.
(обратно)687
Там же. № 11–12. С. 12.
(обратно)688
Новое Время. 1913. 3/16 июля.
(обратно)689
«Много новых членов» – сообщал С. Д. Шереметев А. К. Варженевскому 1 нояб. 1912 г. (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 3008. Л. 207).
(обратно)690
Избрание Тверским земством В. И. Гурко членом Гос. Совета вместо А. А. Кушелева насторожило правых: «Как ни приятна для нас вообще эта реабилитация, но я его почему-то боюсь: конечно, он будет играть роль и не малую, но какую?» (М. Я. Говорухо-Отрок – А. А. Бобринскому, 22 авг. 1912 г. // РГАДА. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 563. Л. 1).
(обратно)691
В. И. Гурко – А. А. Бобринскому, 4 июля 1913 г. // Там же. Д. 635. Л. 25–26.
(обратно)692
Дневник С. Д. Шереметева // Д. 5059. Л. 91.
(обратно)693
Родзянко М. В. Крушение империи (Записки председателя Русской Государственной Думы) // Архив русской революции. Т. XVII. Берлин, 1926. С. 72–73.
(обратно)694
РГИА. Ф. 1162. Оп. 4. 1912. Д. 27. Ч. 2. Л. 1035.
(обратно)695
Кривошеин К. А. А. В. Кривошеин (1857–1921). Его значение в истории России начала XX века. Париж, 1973. С. 217.
(обратно)696
«Это назначение [С. С. Манухина] встречено общим сочувствием» (И. Я. Голубев – Н. С. Таганцеву, 19 июня 1914 г.// РО РНБ. Ф. 760. Д. 138. Л. 1–2).
(обратно)697
А. К. Варженевский – С. Д. Шереметеву, 18 июня 1914 г.// РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5121. Л. 114–114 об.
(обратно)698
Там же. Д. 3011. Л. 213.
(обратно)699
Поливанов А. А. Девять месяцев во главе военного министерства (13 июля 1915 г. – 15 марта 1916 г.) // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 42. Л. 21 об.
(обратно)700
А. Г. Булыгин – С. Д. Шереметеву, 25 авг. и 22 сент. 1914 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5122. Л. 200; Д. 5123. Л. 53.
(обратно)701
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 2 нояб. 1914 г. // Там же. Д. 5059. Л. 154; С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 4 нояб. 1914 г. // Там же. Д. 3012. Л. 4.
(обратно)702
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 5 дек. 1914 г. // Там же. Д. 5059. Л. 172.
(обратно)703
А. Г. Булыгин – С. Д. Шереметеву, 29 дек. 1914 г. // Там же. Д. 5124. Л. 186 об.; Дневник С. Д. Шереметева. Запись 31 дек. 1914 г. // Там же. Д. 5059. Л. 189.
(обратно)704
Имеется в виду И. Я. Голубев, в молодости перенесший операцию.
(обратно)705
Дневник С. Д. Шереметева. Записи 4 и 6 янв. 1915 г. // Там же. Д. 5060. Л. 3, 4.
(обратно)706
Выборы в комиссии 21 янв. 1915 г. подтвердили правоту слов С. Д. Шереметева: за список левой группы было подано 13–12 голосов (9,84–9,09 %), список центра – 47–48 (35,6–36,36 %), список кружка внепартийного объединения – 9 (6,81 %), правого центра – 12–13 (9,09–6,84 %) и список правой – 51–50 (38,63–37,87 %). Правое крыло оказывалось в меньшинстве.
(обратно)707
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 8 янв. 1915 г. // Там же. Л. 6–8.
(обратно)708
С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 9 янв. 1915 г. // Там же. Д. 3012. Л. 127–128.
(обратно)709
А. Г. Булыгин – С. Д. Шереметеву, 3 июля 1915 г. // Там же. Д. 5128. Л. 8 об.–9.
(обратно)710
С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 17 янв. 1915 г. // Там же. Д. 3012. Л. 176.
(обратно)711
С. Д. Шереметев – А. Д. Самарину, 17 июля 1915 г. // Там же. Д. 3013. Л. 122–123.
(обратно)712
Врангель Н. Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков. Глава 6. URL: (дата обращения: 27.02.2013).
(обратно)713
Коковцов В. Н. Указ. соч. Т. 2. Париж, 1933. С. 390–391.
(обратно)714
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 5 дек. 1914 г. // Д. 5059. Л. 172.
(обратно)715
Н. А. Зверев – С. Д. Шереметеву, 10 авг. 1914 г.; С. Д. Шереметев – П. Н. Дурново, 18 нояб. 1914 г.; А. С. Стишинский – С. Д. Шереметеву, 22 нояб. 1914 г. // Там же. Д. 5122. Л. 167–167 об.; Д. 3012. Л. 33–34; Д. 5123. Л. 207–208 об.
(обратно)716
Глобачев К. И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. М., 2009. С. 74.
(обратно)717
С. Д. Шереметев – А. Г. Булыгину, 25 авг. 1915 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 3013. Л. 211.
(обратно)718
С. Д. Шереметев – Н. А. Звереву, 28 авг. 1915 г. // Там же. Л. 225.
(обратно)719
Н. А. Зверев – С. Д. Шереметеву, 2 сент. 1915 г. // Там же. Д. 5129. Л. 22–22 об.
(обратно)720
А. Г. Булыгин – С. Д. Шереметеву, 6 авг. 1915 г. // Там же. Д. 5128. Л. 138 об.–139.
(обратно)721
Нестеров М. В. Воспоминания. М., 1989. С. 377.
(обратно)722
Гиппиус З. Н. Продолжение Общественного Дневника 3 сентября 1915 г. // Гиппиус З. Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 410.
(обратно)723
Наше предположение основано на свидетельстве В. В. Шульгина: «Среди революционеров справа я знавал личностей почтенных, а главное – способных к отпору и борьбе, способных и жизнь свою положить за други своя, чего в других, благородно-умеренных партиях наших, не замечалось (В. В. Шульгин – В. А. Маклакову, 10 дек. 1924 г. // Спор о России: В. А. Маклаков – В. В. Шульгин. Переписка 1914–1939 гг. М., 2012. С. 211). Это – не единственное свидетельство.
(обратно)724
Петроградская газета. 1915. 25 авг.
(обратно)725
З. Н. Гиппиус: «12 сентября. Уже и Дурново умер и, мертвый, торжествует больше, чем когда либо» (Указ. соч. Кн. 1. С. 414).
(обратно)726
Голицын А. Д. Воспоминания. М., 2008. С. 374.
(обратно)727
Это: земцы С. И. Зубчанинов, Я. Н. Офросимов, А. Н. Наумов, представители дворянства В. И. Карпов и князь А. М. Эристов, избранник землевладельцев Дона Н. И. Клунников. «Недовольны П. Н. Дурново и неподвижностью группы. Кн[язь] В. М. У[русов] произнес даже речь, что надо идти в программе “на уступки”, и его отлично отделал Стишинский и немного я», – делился с женою Н. А. Маклаков (ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 685. Л. 175–175 об.)
(обратно)728
Гурко В. И. Царь и царица. Париж, б. г. С. 99.
(обратно)729
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. М., 2008. С. 135. Запись 12 сент. 1915 г.
(обратно)730
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия XI. Заседания 1–10 (19 июля – 3 сентября 1915 г.). Пг., 1915. Стб. 34–36. См. также: Иванов А. А. «Лебединая песня» П. Н. Дурново: выступление лидера правой группы Государственного Совета 19 июля 1915 г. // Вестник МГОУ. История и политические науки. 2011. № 1. С. 53–60.
(обратно)731
Дневник Л. А. Тихомирова. С. 87. Запись 22 июля 1915 г.
(обратно)732
Дурново был прав. «То громадное напряжение, которое требовалось от страны, те невзгоды и тяжести, которые приходилось испытывать населению, требовали особого внимания Правительства к внутреннему положению и особых мер к поддержанию порядка. Если и в мирное время нельзя было обойтись в России без сильной власти, повсюду, особенно в столицах, приходилось вести постоянную борьбу с революционной пропагандой, в самом начале пресекать всякие попытки к нарушению порядка, то казалось бы ясным, что во время войны все эти меры должны быть во много раз усилены, как это и имело место во всех воевавших странах и в такой демократической стране, как Франция, диктаторская власть Клемансо ничем не была ограничена» (Кригер-Войновский Э. Б. Записки инженера. Воспоминания, впечатления, мысли о революции. М., 1999. С. 85).
(обратно)733
Необходимость сильной власти осознавалась широко, однако – лишь в пределах правой части политического спектра. «Необходима единая, сильная власть», – телеграфировал 28 августа 1915 г. из Астрахани Н. Н. Тиханович-Савицкий членам Гос. Совета П. Н. Дурново, И. Г. Щегловитову и др. (Вопросы истории. 1996. № 1. С. 126). «Но поведение власти – приводит в отчаяние, – писал 5 сентября 1915 г. К. Н. Пасхалов из Колосова Н. А. Маклакову в Петроград. – В ответ на прямо изменнические проявления – дряблая жидель и никакого воздействия! Что же это за правительство, в самом деле, которое не умеет и не смеет заставить себе повиноваться и к предписаниям которого относятся с полным пренебрежением. Без власти, приказывающей и наказывающей, государство жить не может» (Источник. 1995. № 6. С. 16).
(обратно)734
Записка с требованием взятия твердого направления в борьбе с оппозицией в стране, с влиянием Думы, требующей ответственного министерства. 1915. // РГИА. Ф. 1576. Оп. 1. Д. 235. Л. 1–3 об. Составлена она директором канцелярии министра путей сообщения 30 марта 1915 г. (Там же. Л. 4–4 об.).
(обратно)735
Ст. 10 Свода Основных Государственных законов 1906 г. гласит: «Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах всего Государства Российского. В управлении верховном власть Его действует непосредственно; в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от Него, согласно закону, подлежащим местам и лицам, действующим Его Именем и по Его повелениям».
Подлинный смысл требований оппозиции и их полнейшая несостоятельность были очевидны и для стороннего человека. «Кадетское собрание (на квартире А. И. Коновалова в Москве. – А. Б.) пользуется нашими поражениями, чтобы добиваться осуществления своей программы – парламентаризма, и это при Думе, где 22 партии и никакого определенного устойчивого большинства! В душе эти господа, вероятно, рады нашим неудачам, ибо при удачах о кадетской программе не было бы и речи. Немцы им выходят лучшими союзниками. Лицемеры. <…> Дума выступает из берегов. Правда, все это облечено в очень почтительные формы, но все же это похоже на 1905 год» (Богословский М. М. Дневники (1913–1919). М., 2011. С. 68. Записи 19 и 20 авг. 1915 г.).
(обратно)736
Анализ и выводы Записки ретроспективно подтвердил бывший начальник Петроградского охранного отделения, отлично осведомленный по долгу службы: «В течение двух лет я был свидетелем подготовлявшегося бунта против верховной власти, никем не остановленного, приведшего Россию к небывалым потрясениям и гибели. <…> Была ли идея у руководителей русской революции? Была, если этим можно назвать личное честолюбие и своекорыстие главарей, вся цель которых заключалась лишь в захвате какой бы то ни было ценой власти в свои руки. <…> При первой же военной неудаче он (т. е. «цвет и мозг нашей интеллигенции». – А. Б.) старается подорвать у народа доверие к верховной власти и к правительству. Мало того, он старается уронить престиж носителя верховной власти в глазах серых масс, обвиняя его с трибуны народных представителей то в государственной измене, то в безнравственной распущенности. Государственная дума – представительный орган страны – становится агитационной трибуной, революционизирующей эту страну. Народные представители, к которым прислушивается вся Россия, не задумываясь о последствиях, решаются взбунтовать темные массы накануне перелома военного счастья на фронте, исключительно в целях удовлетворения своего собственного честолюбия. <…> Работа этого внутреннего врага велась методично в течение двух лет, причем использовались все неудачи, все ошибки, малейшие события и явления последнего времени. Создавались специальные организации, якобы подсобные правительству для успешного ведения войны; на самом же деле предназначенные исключительно для того, чтобы подтачивать изнутри государство и армию. <…> Было использовано все: ложные слухи, клевета в печати, тяжелые экономические условия, воздействие на рабочие массы, подпольное революционное движение, раздоры среди членов правительства, личные интриги и т. п. Словом, все средства были пущены в ход для создания революционной атмосферы, для того, чтобы ни одного защитника старого порядка не нашлось, когда будет поднято знамя восстания в пользу руководящего революционного центра. Правительство своей слабостью и неспособностью невольно шло ему навстречу, не выделив из своей среды за два года ни одного хоть сколько-нибудь талантливого и твердого политического деятеля, способного остановить это злое дело» (Глобачев К. И. Указ. соч. С. 51–53).
(обратно)737
Дневник Л. А. Тихомирова. С. 87, 92, 100, 122, 168. Записи 21 июля, 5 и 15 авг., 10 сент, 9 дек. 1915 г.
(обратно)738
В обновленной России. Впечатления. Встречи. Мысли. Барона Ф. Ф. Врангеля, бывш. директора Императорского Александровского Лицея. СПб., 1908. С. 48–49.
Почти общий голос в среде правых. Вот и С. Д. Шереметев: «Все эти политические разговоры меня утомляют и раздражают при сознании общей неурядицы и бедности в людях истинно государственных» (Дневник С. Д. Шереметева. Д. 5056. Л. 159. Запись 25 нояб. 1911 г.).
«Никаких Мининых, никаких Пожарских не было видно, – констатировал М. В. Нестеров. – На их месте красовался Александр Иванович Гучков. <…> Его особа, лицо, фигура не давали ничего моему глазу художника. Среднего роста, плотный, улыбающийся особой, “московской”, немного “гостинодворской” улыбкой, человек себе на уме, с мягким подбородком, с умными глазами, с такой московской, с купеческим развальцем походкой, в желтеньких новеньких ботинках. Чем он мог импонировать? И все же каждое его появление в парке, в партере театра [в Кисловодске в 1915 г.] делало сенсацию. Штатские и военные генералы спешили к нему с приветствиями. Где была запрятана такая его сила над людьми? Неужели в безнадежной их слабости, спрашивал я себя, была эта сила, в их изжитости и интеллигентской никчемности?» (Нестеров М. В. Указ. соч. С. 372, 387).
(обратно)739
Спиридович А. В. Великая Война и Февральская Революция 1914–1917 годов. Кн. 1. Нью-Йорк, 1960. С. 300.
К. И. Глобачев не сомневался: «Окончательный роспуск Государственной думы и ликвидация революционного центра с главарями ЦВПК, Союза земств и городов и прогрессивного блока. Эти меры, безусловно, сорвали бы надолго возможность переворота, а поворот военного счастья весной 1917 г., что непременно бы случилось, сразу улучшил бы и изменил общие настроения.
И подумать только, что правительство терпело все эти так называемые общественные организации и содержало их на свой счет. Поистине не было государственных людей, способных для спасения Родины на исключительные, может быть, героические средства, в то время как административный аппарат и исполнительные органы были в полном порядке и на высоте своего положения» (Глобачев К. И. Указ. соч. С. 70).
(обратно)740
В какой-то мере услышать его помешало то, что внешне речь его была не яркой; оратор производил жалкое впечатление: «сильно постаревший за истекший год, почти ослепший, он – отличавшийся обыкновенным в своих речах ярко очерченным, определенным изложением – на сей раз, держа в руках разрозненные записочки, прерывающимся голосом выкрикивал по ним отдельные мысли» (Поливанов А. А. Указ. соч. Л. 37).
(обратно)741
См. речи Д. П. Голицына-Муравлина, барона В. В. Меллер-Закомельского, Д. Д. Гримма // Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия XI. Стб. 36–39, 40–41, 47–50.
(обратно)742
Цит. по: Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. М., 1997. С. 620.
(обратно)743
Вестник Европы. 1915. № 10. С. 371.
Ахилл – герой Троянской войны; мирмидоняне – ахейское племя – сражались под Троей под предводительством Ахилла, слепо ему повинуясь.
(обратно)744
Струве П. Б. Ключ к пониманию прошлого // Струве П. Б. Дневник политика (1925–1935). М.; Париж, 2004. С. 457–458.
(обратно)745
Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1992. С. 8.
(обратно)746
«Просто мы остались тем, чем мы были, т. е. людьми, которые не умеют быть действительно властью, ответственными руководителями», – констатировал В. А. Маклаков (В. А. Маклаков – В. В. Шульгину, 5 сент. 1921 г. // Спор о России. С. 77).
(обратно)747
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. СПб., 2003. С. 263; Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 359, 401, 405; Иванчин-Писарев А. Воспоминания о П. Н. Дурново // Каторга и ссылка. Кн. 7 (68). М., 1930. С. 57; Воспоминания В. Б. Лопухина // Вопросы истории. 1966. № 9. С. 132; Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 42; Князь Борис Васильчиков. Воспоминания. М., 2003. С. 225; Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого. 31 октября 1905 г.–24 апреля 1906 г. М., 1991. С. 178–179.
(обратно)748
См., напр.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. С. 15; Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. Л., 1988. С. 21, 27, 53; и многие другие.
(обратно)749
Последнее смущало А. А. Киреева. Размышляя о возможной замене П. А. Столыпина П. Н. Дурново, он записывает: «Более консервативным премьером был бы Дурново (Петр Николаевич), очень умный и энергичный человек. <…> но едва ли Дурново будет консервативным в нашем, славянофильском смысле… Едва ли?» (Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 271. Запись 30 июля 1908 г.)
(обратно)750
Гос. совет. Ст. отчеты. 1909–1910 годы. Сессия пятая. СПб., 1910. Стб. 2888; 1912–1913 годы. Сессия восьмая. СПб., 1913. Стб. 1198.
(обратно)751
Тарле Е. В. Соч. в 12 томах. Т. V. М., 1958. С. 267.
(обратно)752
Протоколы секретного совещания в апреле 1906 года под председательством бывшего императора по пересмотру основных законов // Былое. 1917. № 4. С. 193.
(обратно)753
Гос. совет. Ст. отчеты. 1908–1909 годы. Сессия четвертая. СПб., 1909. Стб. 1349–1350.
«Аргументация русских консерваторов сильна, – писал Диллон. – Глава Государства, пользуясь наилучшими военными советами, должен иметь свободу действия. Япония, Германия и демократическая Франция признают этот принцип и следуют ему, а Самодержавная Россия открывает двери казарм демократическому потоку, грозящему смести последние следы монархических учреждений. И этой-то работе разрушения и самоубийства убедили Царя придать авторитет Своего имени. <…> Г[осподин] Дурново, сильнейший из консерваторов, вполне доказал верность своего взгляда» («Перевод статьи Диллона “Царь и Дума” в Daily Telegraph» // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5090. Л. 212, 213).
(обратно)754
Цит. по: Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Нью-Йорк, 1955. Кн. 2. С. 150.
Самодержавие как государственную форму, – писал Д. И. Пихно, – «признаю единственно пригодной для России, несмотря на все ее слабые и опасные стороны. Для нашего колосса с сонмищем народов и бедным темным русским народом, с его жалкой “интеллигенцией“, не найдется парламента. Я живу под тяжким гнетом мысли, что нас растащат или поработят среди нашего безумия или междоусобицы» (Д. И. Пихно – С. Ю. Витте, 27 окт. [1907 г.]. Копия // Английская набережная, 4: Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов. 2000 г. СПб., 2000. С. 402).
(обратно)755
Записка П. Н. Дурново Николаю II. Февраль 1914 г. // Красная новь. 1922. № 6 (10). С. 196.
(обратно)756
Lieven Dominic. Russia,s Rulers Under the Old Reqime. Yale University Press. New Haven and London. 1989. P. 211–212.
Имеется в виду рассказ С. Ю. Витте: П. Н. Дурново, проигравшись на бирже, обратился к нему с просьбой «выручить»; С. Ю. Витте отказал, помог Д. С. Сипягин, взяв П. Н. Дурново в товарищи, а деньги отпустив из сумм департамента полиции (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 263–264). М. А. Алданов в связи с этим замечает: «Тут ничего необычайного не было: во все времена царской России близкие к престолу люди в экстренных случаях просили царя им помочь. Это зазорным не считалось. Обычно к царю обращались через кого-нибудь. <…> Он обратился тогда к министру внутренних дел Сипягину, который и выхлопотал ему эту сумму» (Алданов Марк. Предсказание П. Н. Дурново // Журналист. 1995. № 4. С. 59).
(обратно)757
Материальная основа этой приверженности совершенно естественна. «Дворянин, облагодетельствованный судьбою, – писал еще Н. М. Карамзин, – навыкает от самой колыбели уважать себя, любить отечество и государя за выгоды своего рождения, пленяется знатностью – уделом своих предков и наградою личных будущих заслуг его. Сей образ мыслей и чувствований дает ему то благородство духа, которое, сверх иных намерений, было целию при учреждении наследственного дворянства» (Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 128).
(обратно)758
Это же обстоятельство обусловило в определенной степени и конституционализм П. А. Столыпина. М. М. Булгак, «черносотенка убежденная и пылкая», рассказывала Ю. С. Карцову: «Однажды сидела она у Столыпина в кабинете и вела с ним беседу, как вдруг зазвонил телефон. По выражению и нервному возбуждению Столыпина она догадалась – с ним говорит Государь император. Обменявшись несколькими фразами, Столыпин повесил трубку, видимо недовольный. “И на этом, – воскликнул он, – хотите вы основать самодержавие?” – Он сделал жест в направление телефона и слова “на этом” произнес с ударением, подразумевая под ними, очевидно, Государя» (Карцов Ю. С. Хроника распада. П. А. Столыпин и его система // Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 137. С. 110–111).
(обратно)759
С. Д. Урусову он не показался «убежденным поклонником поколебавшегося государственного строя» (Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 602).
«А ведь вы, насколько помню, – напомнил ему летом 1907 г. товарищ по кадетскому корпусу, – были еще тогда за привлечение выборных людей к участию в законодательстве, когда это считалось чуть ли не революционной затеей? Действительно, – отвечал П. Н. Дурново, – я убежденный конституционалист» (В обновленной России. Впечатления. Встречи, Мысли. Барона Ф. Ф. Врангеля, бывш. директора Императорского Александровского Лицея. СПб., 1908. С. 47).
(обратно)760
Российские либералы: кадеты и октябристы. М., 1996. С. 260.
(обратно)761
Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 292.
(обратно)762
Гос. совет. Ст. отчеты. 1911–1912 годы. Сессия седьмая. СПб., 1912. Стб. 1332.
«Прекрасная, краткая и сильная речь», – отозвался об этом выступлении П. Н. Дурново другой правый деятель (Дневник С. Д. Шереметева // Д. 5054. Л. 42).
(обратно)763
Ковалевский М. М. Указ. соч. С. 405.
(обратно)764
Conditio sine qua non – необходимое условие (лат.).
(обратно)765
Цит. по: Волков Владислав. Кадет Вернадский // Нева. 1992. № 11. С. 309–310, 317.
Недостаток у российской интеллигенции второй половины XIX – начала XX вв. «чувства государственности» и недоверие ее к началу национальному отмечали многие, в том числе П. Б. Струве. Дело, пожалуй, не в этом или – не только в этом: российская интеллигенция в массе своей, действительно, и «забывала» и «не понимала», и чувства государственности у нее не доставало, и было недоверие к национальному началу, но вожди либерализма не могли не понимать, что тезис о «приоритете прав человека» – тезис «ошибочный, нереалистический и противоречащий природе права и государства» (см.: Мартышин О. В. Идейно-политические основы современной российской государственности // Государство и право. 2006. № 10). Тогда, как и теперь, в начале XXI века, этот «ложный и общественно опасный» тезис сознательно внедрялся в общественное сознание ради разрушения национального государства и захвата власти.
(обратно)766
Новое время. 1915. 13 сент.
«Я разумею под чувством государственности, – писал П. Б. Струве, – и элемент подсознательный: ощущение мощи государства как некой непререкаемой ценности, какую можно и должно любить, не рассуждая и даже не задумываясь, и элемент сознательный: признание государства как творческой культурной силы, стоящей принципиально вне классов и над классами» (Родина. 1994. № 6. С. 68).
(обратно)767
Цит. по: Смагина С. М. Петр Бернгардович Струве в эмиграции: либерал-консерватор или консерватор-либерал? // Консерватизм в России и мире: в 3-х ч. Воронеж, 2004. Ч. II. С. 240.
(обратно)768
См.: Из дневника Льва Тихомирова // Красный архив. 1935. № 5 (72). С. 129–130; Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. I. М., 1997. С. 95.
(обратно)769
Любимов Д. Н. События и люди (1902–1906) // РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 453.
(обратно)770
По Н. М. Карамзину, любовь к Отечеству проходит в своем развитии три стадии: физическую, когда человек научается любить близких и место, где родился; моральную, когда осознает свою национальность и познает историю своего народа, и политическую, когда формируется потребность служить Отечеству и приумножать его славу (Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости). Так, у А. С. Пушкина, при выходе его из Лицея, это чувство достигло высшей стадии: «Великим быть желаю. Люблю России честь. Я много обещаю. Исполню ли – Бог весть».
(обратно)771
«Именно Герцен с русской стороны, – справедливо заметил П. Б. Струве, – есть все-таки один из творцов злобной и ложной легенды об исторической России, в течение десятилетий отравлявшей сознание русской интеллигенции и, быть может, более чем что-либо другое, повинной в великом несчастии и позоре русской революции» (Струве П. Б. Дневник политика /1925–1935/. М.; Париж, 2004. С. 347).
(обратно)772
Толстой И. И. Дневник в двух томах. Т. II. 1910–1916. СПб., 2010. С. 809.
(обратно)773
См.: Пайпс Ричард. Струве: правый либерал. 1905–1944. Т. 2. М., 2001. С. 493.
(обратно)774
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 529.
«Слова эти, – замечает Д. Н. Любимов, – оказались пророческими. По напечатанным в 1925 году большевиками сведениям в советских местах заключения (5715 мест) томилось свыше миллиона человек, причем число чисто уголовных не превышало двадцати процентов» (Там же).
(обратно)775
Там же. Л. 460; Любимов Дм. На рубеже 1905–1906 гг. События и люди. По личным воспоминаниям и документам. IV // Возрождение. 1934. 17 июня. № 3301. С. 5. Разговор был в конце ноября 1905 г. на квартире Дурново.
(обратно)776
Рим под управлением развратных предшественников Сикста V оказался в пучине произвола, беззакония, грабежей, убийств, насилий. В первые же дни своего понтификата Сикст V превратился из скромного монаха-отшельника в грозного правителя, жестоко преследующего нарушающих закон и творящих произвол, выставляя на площади отрубленные головы разбойников и бандитов. Нормальная жизнь города скоро была восстановлена.
(обратно)777
См.: Записка П. Н. Дурново Николаю II. Февраль 1914 г. С. 195–197.
Последующее блестяще подтвердило П. Н. Дурново: «В результате первых в истории России всеобщих и равных выборов <…> более 81 % голосов было подано за социалистов» – факт, вошедший в учебники (Леонов С. В. Гражданская война и формирование большевистского режима в России // История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ. Т. 2. М., 1995. С. 141–142).
(обратно)778
Действительно, у «русского простолюдина» насущным было другое. «У нас здесь о политике, о Думе, о выборах думают столько же, сколько о конституции на Сандвичевых островах, все озабочены только как бы убрать урожай, который очень хорош». «Работы пропасть, и никому не охота заниматься революцией» (А. И. Зыбин, с. Спасское Нижегородского у. – А. А. Бобринскому, 10 и 21 июля 1907 г. // ГАРФ. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 818.Л. 16–16 об., 18). «В уезде спокойно; урожай великолепный; погода хорошая <…>. Настроение совершенно другое по сравнению с прошлым годом; никаких пререканий; потрав нет» (П. Б. Мансуров, из Ракши Тамбовской губ. – Ф. Д. Самарину, 31 авг. 1907 г.// НИОР РГБ. Ф. 265.193.12. Л. 156).
Прогноз П. Н. Дурново жизнь скоро подтвердила. «В темных массах жителей деревни, – писал 13 марта 1917 г. А. К. Варженевский С. Д. Шереметеву, – уже появляются искры грядущих погромов и ужасов 1905 и 1906 годов, и многое заставляет опасаться приближения полной анархии. Новая власть, лишенная силы физической в виде какой-нибудь полиции, считаемой необходимой во всех цивилизованных странах мира, начиная с Англии и Франции, не может помочь делу и ограничивается только речами ораторов, уговаривающих воздержаться от насилий, но на этом далеко не уедешь, аппетиты темной толпы разгорелись, и жажда грабежа почти не скрывается». 4 мая: «Вся многомиллионная масса крестьянства вдруг превратилась в самых крайних социалистов, жаждущих только одного грабежа». 15 мая: «“Поселяне” <…> только думают исключительно об одном – как бы побольше и безнаказнее захватить чужого и обратить в свою пользу» (Источник. 1994. № 6. С. 30, 32).
(обратно)779
Вывод общий для правых. «Чем больше я думал, – вспоминал вел. князь Александр Михайлович август 1905 года, – тем более мне становилось ясным, что выбор лежал между удовлетворением всех требований революционеров или же объявлением им беспощадной войны. Первое решение привело бы Россию неизбежно к социальной республике, так как не было еще примеров в истории, чтобы революции останавливались бы на полдороге. Второе – возвратило бы престиж власти» (Вел. кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Т. 2. Париж, 1933. С. 227).
(обратно)780
Вот и С. Е. Крыжановский считал, что «так называемое “освободительное движение” не шло далее мелких проявлений кружкового значения, которые, будучи раздуты печатью, производили на некоторые слои общества впечатление чего-то крупного. Остальное было обыкновенным: бессвязные беспорядки, неизбежно возникавшие в обществе всякий раз, когда распадаются узы власти. <…> Политические идеологи и прежде всего кадеты поспешили взгромоздиться к беспорядкам на запятки, объединить все это движение без разбора вокруг “борьбы за конституцию”, которой в нем не было ни на грош» (Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 117).
Исследователь подтверждает: Кадеты «были неприятно поражены, когда узнали 10 июля [1906 г.], что Петербург спокоен и никакого стихийного протеста, демонстраций или забастовок нет. Народ в целом, рабочие и крестьяне встретили разгон Думы весьма спокойно. Кадетам оставалось лишь досадовать на этот народ. <…> И действительно, конституционная игра, которую вели “господа”, а к ним народ причислял и всех “образованных”, т. е. интеллигентов, мало трогала души простых рабочих и крестьян» (Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. /Борьба вокруг «ответственного министерства» и «правительства доверия»). Л., 1977. С. 109).
(обратно)781
П. Н. Дурново утверждал: «Крестьянин скорее поверит безземельному казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе; рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жалование фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедовал все принципы кадетской партии» (Записка П. Н. Дурново. С. 196).
(обратно)782
Записка П. Н. Дурново… С. 197.
По Дурново, либералам нельзя было уступать ни «в условиях слабости», ни «в позиции силы»: они – не сила, а производная от силы, пена. Это хорошо понимали как правые, так и левые. Общеизвестно: и В. Г. Плеханов, и В. И. Ленин вслед за Н. Г. Чернышевским отмечали трусость, недальновидность, узость взглядов, бездеятельность, болтливую хвастливость как отличительные черты либералов.
А. И. Гучков, правда, уже «на лестнице» утверждал: «Я всегда относился весьма скептически к возможности создания у нас в России (по крайней мере в то время) общественного или парламентского кабинета, был не очень высокого мнения… не скажу – об уме, талантах, а о характере в смысле принятия на себя ответственности, того гражданского мужества, которое должно быть в такой момент. Я этого не встречал. Я скорее встречал это у бюрократических элементов. Я осторожно относился к проведению на верхи элементов общественности; так, некоторые элементы ввести – это еще туда-сюда, но избави Бог образовать чисто общественный кабинет – ничего бы не вышло» (Александр Иванович Гучков рассказывает… М., 1993. С. 21–22).
В 1917 г. «очень скоро выяснилось, что новые властители России были умны, храбры и энергичны лишь в критике и в словопрениях в Думе; для выполнения же реальных жизненных задач и для управления страной они оказались до такой степени слабыми, далекими от жизни и столь не понимавшими положения России, что своими действиями и распоряжениями только углубляли революцию, усиливали анархию и направляли жизнь страны не к успокоению и порядку, а к усилению хаоса» (Кригер-Войновский Э. Б. Записки инженера. Воспоминания, впечатления, мысли о революции. М., 1999. С. 98).
«Теперь, – констатировала А. В. Тыркова, – после всего, что перенесла и переносит Россия, после анемического безвластия Временного правительства, состоявшего из “людей, доверием страны облеченных”, приходится признать, что оппозиция не была подготовлена к руководству государством» (Тыркова-Вильямс А. В. То, чего больше не будет. М., 1998. С. 433).
И если заблуждения тогдашних «государственных младенцев» относительно своей способности распорядиться властью можно понять, то нынешние упреки тогдашней власти (ах, не уступили!), нынешнее оправдание либеральных притязаний на власть – как понять?
(обратно)783
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия восьмая. Стб. 1449.
В. А. Демин утверждает, что П. Н. Дурново, «по собств[енным] словам, любые “быстрые скачки” отождествлял с “рев[олюционными] проектами”» (Петр Аркадьевич Столыпин: Энциклопедия. М., 2011. С. 173). В действительности обстояло так: П. Н. Дурново, возражая против реформы Сената, затеваемой группой центра Государственного Совета, сказал следующее: «Если эти, позволю себе сказать, почти революционные проекты получат силу закона, то никакого Правительства в России существовать не может». В этом же заседании после перерыва он объяснился: «В объяснении, которое я имел честь представить Государственному Совету по поводу внесенных на наше рассмотрение основных положений, у меня вырвалось выражение, которого я не хотел сказать. Я сказал “если такие почти революционные проекты”. Я употребил это выражение не в том смысле, в котором понимается слово “революция”. Под именем революционных проектов я понимал быстрые скачки. Во всяком случае, если кто-либо из подписавших основные положения считал, что это слово неуместно, то я беру его назад, и перед теми, кому оно не понравилось, – приношу извинение» (Гос. Совет. Ст. от. 1907 год. Сессия вторая. СПб., 1907. Стб. 413, 418–419).
Где же здесь «отождествление»? Надо иметь большой запас леволиберальной предубежденности, чтобы это утверждать.
(обратно)784
Там же. 1913–1914 годы. Сессия девятая. СПб., 1914. Стб. 1275.
(обратно)785
Там же. Стб. 1275–1276, 2301; 1911–1912 годы. Сессия седьмая. Стб. 3497–3498. См. также: Lieven D. Op. cit. P. 223.
(обратно)786
Там же. Op. cit. P. 222.
(обратно)787
Воспоминания министра народного просвещения. С. 179.
(обратно)788
Д. И. Пихно – С. Ю. Витте, 17 дек. [1906 г.]. Копия // Английская набережная, 4: Ежегодник… С. 398–399.
(обратно)789
Богословский М. М. Дневники (1913–1919). М., 2011. С. 60. Запись 24 июля 1915 г.
(обратно)790
Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. М., 1994. С. 208.
(обратно)791
Lieven D. Op. cit. P. 227–228.
(обратно)792
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1910–1911 годы. Сессия шестая. СПб., 1911. Стб. 595.
(обратно)793
То же. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 667.
В этом же направлении работала мысль Д. И. Пихно: «Россия сложенная Империя, как императорский Рим или современная Великобритания, но я решительно не верю в возможность управлять ею на началах демократии и автономии наших колоний. Имперского гражданства мы не могли воспитать и, быть может, не воспитаем еще и в течение столетия, а если ослабим ядро, то Рос[сийскую] Империю растащат колонии или задавят это русское ядро.
Между тем ни экономические, ни политические условия не благоприятствуют ядру. Вам известно, что экономическая сила передвигается на Юг (Кавказ и Новороссия) и Запад. Великороссов сильно придавила община и сравнительная бедность природы, а малороссы исконно не имели торгово-промышленного и вообще среднего класса, место которого очень давно заняли евреи.
Но так как Рос[сийская] Империя покоится на великорусско-малоросском мире, то я стою на том мнении, что она должна пользоваться своею государственной силою, чтобы сохранить себя и управлять колониями. При таких условиях конституционный строй, даже в очень тщательно продуманных и сообразованных формах, и широкое самоуправление в наших колониях представляется мне задачами неразрешимыми или, говоря иначе, задачами политически разрушительными.
Что касается демократического строя, то я его везде считаю бессмыслицей. Толпа не может управлять государством. <…> Если на Западе демократию выносят (не без разложения, впрочем), то только потому, что общественные силы поддерживают государственную жизнь вопреки дурным государственным формам. <…> У нас демократия – отдала государство варвару своему и враждебным нам инородцам, которые за свободу, равноправие и автономию не почувствуют ни благодарности, ни преданности государству» (Д. И. Пихно – С. Ю. Витте, 17 дек. [1906 г.]. Копия // Английская набережная, 4: Ежегодник… С. 397–398).
(обратно)794
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия седьмая. Стб. 2955–2956. «Вместе с тем П. Н. Дурново, – справедливо замечает, считая «более важным», Д. Ливен, – не имел идеологических шор, которые могли бы заглушить разум и побудить к массовым убийствам с целью очищения общества от его расовых или классовых врагов» (Lieven D. Op. cit. P. 211).
(обратно)795
Официальное письмо председателю Совета министров С. Ю. Витте по вопросу о согласовании дел финляндского управления с общегосударственными интересами России. 18 февраля 1906 г. // РО РНБ. Ф. 781 (Толстой И. И.). Оп. 1. Д. 276; РГИА. Ф. 1615 (Акимов М. Г.). Оп. 1. Д. 10.
(обратно)796
П. Н. Дурново – гр. Д. М. Сольскому, 25 марта 1906 г. № 2091. Копия // РНБ. Ф. 781. Оп. 1. Д. 232. Л. 1–4 об.
(обратно)797
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия девятая. Стб. 179.
(обратно)798
Редигер А. Ф. История моей жизни. Т. 2. М., 1999. С. 377–378.
Примечательно, что и у немцев не было относительно поляков никаких иллюзий. Летом 1918 г. дипломатический представитель польского регентского совета Ледницкий и архиепископ барон Ропп, желая довести до немецкого правительства и Верховного главнокомандования свои соображения относительно будущего Польши и зная, что офицеры при немецкой дипломатической миссии в Москве докладывают в вышестоящие инстанции, решили познакомить их со своими планами: «Созданная странами Центральной Европы Польша должна возвратить себе свои старые границы; это и в интересах Германии, поскольку этот вопрос постоянно беспокоит ее. Галиция и все области, в результате раздела отошедшие к Пруссии, должны быть поэтому великодушно возвращены; в ответ на это германский кайзер станет одновременно королем Польши, которая будет прочно входить в состав Германского рейха. Если такая личная уния не будет достигнута, то Польша в ответ на возвращение теперешних прусских провинций станет федеративным государством Германии, примерно как Бавария в политическом и военном смысле».
Однако, – пишет К. Ботмер, – это заявление Роппа, «сделанное в доброжелательной форме, с подчеркнутой симпатией к нашей стране этого человека благородного происхождения из вестфальской фамилии, не произвело достаточного впечатления. <…> Тот, кто провел месяцы и даже годы войны в русской Польше, кто наблюдал в мирное или военное время за образом мышления поляков и имел возможность судить о нем не через розовые очки, тот не поддался бы никаким иллюзиям <…> Поэтому приятно звучащая речь его преосвященства была не столь безобидной. Пока мы на коне, думал я, вы дружелюбны и внешне полны симпатий и признательности, чтобы потом выбить лестницу из-под ног; но как только наши дела будут не столь хороши, вы будете первыми, кто подобно гиенам начнет потрошить наши карманы. Решительно, но в любезной форме, мы дали понять, что такие намерения нам чужды». (Ботмер К. фон. С графом Мирбахом в Москве: Дневниковые записи и документы за период с 19 апреля по 24 августа 1918 г. М., 1997. Запись 20 июля. (URL: /дата обращения: 22.12.2011/).
(обратно)799
Удивительно, что некоторые близко стоявшие к данному делу много лет спустя так и не уразумели правоты П. Н. Дурново. Н. В. Савич, характеризуя П. Н. Дурново как беспринципного честолюбца, стремившегося «к власти всеми путями без различия средств, хотя бы в ущерб жизненным интересам государства», утверждает: «Он всегда все проваливал, хотя отлично сознавал, что наносит вред государству, особенно ясно это было в вопросе польском. Я предложил членам Государственной Думы уступить во всем Государственному Совету, но только не в языке <…>. Я им, членам Государственного Совета, доказывал, что дело не о вопросах внутренней политики, а о целости государства, что война на носу и неизбежна, что вопрос польский сыграет в этой войне громадную роль. <…> Дурново ответил: “Non possible” <…>. Он вел свою личную политику. Это был закон Столыпина, поддержанный Государственной Думой, поэтому он его провалил». Это – запись 24 июня 1923 г., а двумя годами ранее Савич записал: «Столько там [в Польше] бесконечной ненависти к России и русскому народу, столько проявления к ней, поверженной и разрозненной, ненависти, что мы можем заранее предугадать, что прочного мирного сотрудничества между Россией и Польшей быть не может» (Савич Н. В. После исхода: Парижский дневник. М., 2008. С. 361, 63).
Non possible – невозможно (фр.).
Как понять Савича: Дурново, стремясь к власти, проваливает законопроект, за которым стоит царь; сознательно вредит своей стране; ведя личную политику, манипулирует большинством Государственного Совета? Неужели Савич и в 1923 г. думал, что отвергнутый законопроект мог преодолеть «бесконечную ненависть» поляков к России?
(обратно)800
Мемория по вопросу о выделении восточных уездов Люблинской и Седлецкой губерний из Привислинского края [не позднее 16 апр. 1906 г.] // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 402–403.
(обратно)801
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия пятая. Стб. 2797; То же. Сессия шестая. Стб. 598.
(обратно)802
То же. Сессия пятая. Стб. 2813.
(обратно)803
То же. Сессия седьмая. Стб. 647, 650.
(обратно)804
Так, С. Д. Шереметев, констатируя «полное торжество сторонников церковно-приходской школы», подчеркивал: «и опять в этом деле немалая заслуга П. Н. Д[урново]» (С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 30 янв. 1912 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5109. Л. 230).
(обратно)805
Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 21–22.
(обратно)806
П. Л. Барк отмечал, что «Государь, не желая слушать советников, которые стояли за изменение политики в более либеральном направлении, оставался одинаково глух и к советам, которые исходили из лагеря крайне правых» (Барк П. Л. Воспоминания // Возрождение. Париж, 1966. № 180. С. 71).
(обратно)807
Шинкевич [Е.Г.]. Воспоминания и впечатления. 1904–1917 гг. // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 51. Л. 8 об..
(обратно)808
Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. СПб., 2003. С. 134.
(обратно)809
Крыжановский С. Е. Воспоминания. [Берлин], б. г. С. 74.
(обратно)810
Менделеев П. П. Воспоминания. 1864–1933 гг. // ГАРФ. Ф. 5971. Оп. 1. Д. 109. Л. 42.
(обратно)811
Николай II – императрице Марии Федоровне, 12 янв. 1906 г. // Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 187.
(обратно)812
«П. Н. Дурново не особенно примерный семьянин, – писал С. Ю. Витте, – но обожает свою дочь. Его дочь некрасива, незнатна и небогата. Конечно, при таких условиях для сердца Дурново было большой наградой, если бы его дочь была фрейлиною. Он всячески пытался этого достигнуть, но никак не мог. Об этом в свое время хлопотал и Сипягин, и другие, но ничего не выходило» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 320).
(обратно)813
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 539.
«По словам Чаплина, – записала А. В. Богданович, – для царя никто не человек, никого он не любит, не ценит; когда человек ему нужен, он умеет его обворожить, но по миновании надобности выбрасывается человек бессовестно» (Три последних самодержца. Дневник А. В. Богданович. Запись 23 авг. 1906 г. М.; Л., 1924. С. 389–390).
Чаплин Николай Дмитриевич (1852–?) – тайный советник, сенатор; управляющий Межевой частью Министерства юстиции (1905–1917).
А. Н. Шварц записал услышанную 9 февраля 1911 г. от флигель-адъютанта Н. А. Княжевича реплику царя: «Когда по поводу, кажется, посылки флигель-адъютанта Мандрыки в Царицын Княжевич заметил, что это будет, пожалуй, неприятно Совету министров, Государь сказал: “Это мне, простите, наплевать!” Характерное отношение к лицам, почтенным высшим его доверием!» (Шварц А. Н. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о Государе. М., 1994. С. 67)
При отъезде из Ставки в конце февраля 1917 г. царь сказал В. Н. Воейкову: «Вы можете ехать куда угодно; Вы мне больше не нужны!» «И это после 38-летней службы!» – замечает Г. А. Иванишин, записавший рассказ В. Н. Воейкова (Записные книжки полковника Г. А. Иванишина. Запись 15 марта 1917 г. // Минувшее. Т. 17. М.; СПб., 1994. С. 542).
(обратно)814
Дневник А. А. Половцова. 1908 г. // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 124. Запись 20 апр. 1908 г.)
(обратно)815
Дневник С. Д. Шереметева // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5060. Л. 7. Запись 8 янв. 1915 г.)
(обратно)816
Суворин А. Дневник. М., 1992. С. 405–406. Запись 5 июня 1907 г.
(обратно)817
«Николай II, менее чем кто-либо из его предшественников похожий на “самодержца”, прежде всего по своей слабой воле» (М. А. Таубе – Л. А. Кассо, б. д. 1911 г. // Таубе М. А. «Зарницы»: Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России (1900–1917). М., 2007. С. 132). Мнение, общее для всех близко знавших Николая II.
(обратно)818
Крыжановский С. Е. Указ. соч. С. 75. Примечание.
(обратно)819
«Личной привязанности к Александру III и к Николаю II он не имел», – это было заметно даже для И. И. Толстого – человека, не близкого к Дурново (Толстой И. И. Дневник в двух томах. Т. II. М., 2010. С. 809).
(обратно)820
В марте 1911 г. у отправляемого в принудительный отпуск П. Н. Дурново вырвалось: «Ну вот и скажите, можно ли служить?» (Дневник С. Д. Шереметева. Д. 5056. Л. 47). Летом 1915 г. его очень задело, что председателем Государственного совета назначен не он (А. Г. Булыгин – С. Д. Шереметеву, 6 авг. 1915 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5128. Л. 139–139 об.)
(обратно)821
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Кн. 2. Нью-Йорк, 1955. С. 215.
(обратно)822
П. Н. Дурново – С. Д. Шереметеву, 28 сент. 1911 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5105. Л. 144–145.
(обратно)823
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1911–1912 годы. Сессия седьмая. СПб., 1912. Стб. 655.
(обратно)824
Наумов А. Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 214.
(обратно)825
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5057. Л. 34.
Подобный комплекс чувств испытывал великий князь Сергей Александрович еще в начале века, в марте 1901 г. «Нет сильной направляющей воли, как было у Саши, – делился он с братом Павлом. – Теперь мы шатаемся, как в 70-х годах. Зачем? И даже ответ на вопрос не получишь! При этих условиях служить становится невозможно, и я серьезно подумываю сойти с административной сцены… Один в поле не воин. При Саше было другое дело; я чувствовал, что мог быть полезен, а теперь кому и чему? Один вздор выходит» (Цит. по: Боханов Александр. Обреченный // Родина. 1994. № 5. С. 47).
(обратно)826
Кстати: все, кто осознавал необходимость твердой власти, неизбежно оказывались критиками Николая II – Л. А. Тихомиров, М. О. Меньшиков, Б. В. Никольский, В. И. Гурко, В. М. Пуришкевич и многие другие.
(обратно)827
Васильчиков Б. А. Воспоминания. М., 2003. С. 225. «Об этом разговоре, – замечает Б. А. Васильчиков, – мне передал во время прогулки на тюремном дворе на Шпалерной некто П., лицо близкое к П. Н. Дурново. Через несколько дней после этого разговора П. был ночью увезен из тюрьмы и пропал бесследно».
(обратно)828
Lieven D. Russia`s Rulers Under the Old Regime. Yale University Press. New Haven and London. 1989. P. 229.
(обратно)829
А. И. Гучков рассказывал: «Я помню только речь Дурново Петра Николаевича. <…> Он возражал против самой идеи народного представительства. Очень умно, резко говорил, предостерегал против этого строя, находя, что он – как ни строить сам избирательный закон – будет большой фальсификацией народного и общественного настроения: предполагается, что народ, а на самом деле это разные самозваные вожаки – учительницы, фельдшера. <…> И угрожал всякими бедами, если власть станет на этот путь. Что будет с народом в руках революционных элементов? Тут его старый опыт бывшего министра внутренних дел сказался, потому что донесения Департамента полиции свидетельствовали о сильном революционизировании этих кругов» (Александр Иванович Гучков рассказывает… М., 1993. С. 38).
Многие правые сановники разделяли опасения П. Н. Дурново. Так, И. Л. Горемыкин считал «невероятною чепухою – управлять страною во время революционного угара какою-то пародиею на западноевропейский парламентаризм» (Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Т. 1. Париж, 1933. С. 166).
В условиях революции в среде правых неограниченная власть монарха мыслилась как единственное средство: «Наш мужик-избиратель – темен и безграмотен. Состав представителей будет случайный. Треть населения России инородцы. Полнота прав царской власти есть залог целости и единства империи. Поколеблется царская власть – распадется Россия» (Карцов Ю. Хроника распада // Новый журнал. Кн. 147. Нью-Йорк, 1982. С. 105).
(обратно)830
Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 2007. С. 379.
Под «третьим элементом» имелись в виду наемные служащие земства.
(обратно)831
2-й пункт манифеста 17 октября 1905 г. гласил: «Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь устанавливаемому законодательному порядку».
(обратно)832
«Когда я рассуждаю умом, – говорил он, – я склоняюсь в пользу второго проекта, но когда я действую по чутью, я боюсь этого проекта» (Протоколы Царскосельского совещания // Былое. 1917. № 3. С. 252)
(обратно)833
Там же. С. 244.
(обратно)834
Там же. С. 248.
(обратно)835
Там же. С. 257.
(обратно)836
Там же. С. 255.
П. Н. Дурново, в отличие от А. П. Игнатьева, считал, что силы достаточно.
(обратно)837
Особое совещание под председательством графа Д. М. Сольского было создано повелением царя 28 октября 1905 г. для выработки «необходимых изменений» в действующем Учреждении Государственного Совета и в ходе десяти заседаний (4, 6, 10 и 12 ноября, 10, 12 и 16 декабря 1905 г. и 11, 13, и 19 января 1906 г.) подготовило три проекта: манифеста и указов о переустройстве Государственного Совета и об изменениях в Учреждении Государственной думы. Эти проекты стали предметом обсуждения в секретном совещании под председательством царя в Царском Селе 14 и 16 февраля 1906 г.
(обратно)838
Протоколы секретного совещания в феврале 1906 года под председательством бывшего императора по выработке Учреждений Государственной Думы и Государственного Совета // Былое. 1917. № 5–6. С. 301–311; Бородин А. П. Государственный Совет России (1906–1917). Киров, 1999. С. 12–13, 19.
(обратно)839
Протоколы секретного совещания в феврале 1906 года… С. 293–295.
(обратно)840
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. М., 2008. С. 131. Запись 12 сент. 1915 г.
(обратно)841
Любимов Дм. На рубеже 1905 и 1906 годов // Возрождение. 1934. 17 июня. С. 5; Любимов Д. Н. События и люди (1902–1906) // РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 461–462, 575.
(обратно)842
Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 604–605.
(обратно)843
Крыжановский С. Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 122. С. Е. Крыжановский подтвердил это и в ЧСК (Падение царского режима. Т. V. М.-Л., 1926. С. 397–399).
О невмешательстве правительства в думские выборы пишет и С. Ю. Витте: «Когда было приступлено к выборам (в Булыгинскую думу. – А. Б.), министр внутренних дел Булыгин издал циркуляр всем губернским властям, в котором выражалось повеление государя, чтобы выборы производились совершенно свободно и администрация никоим образом не вмешивалась в выборы в смысле влияния на выборы тех или других лиц. <…> Мое министерство в выборы не вмешивалось, а только наблюдало, чтобы они совершались в порядке с соблюдением всех законов, для выборов установленных. Министр внутренних дел не выражал никакой тенденции к вмешательству, но если бы он и вздумал проявить такую тенденцию, то, конечно, встретил бы во мне препятствие. Очевидно, Его Величество, согласно циркуляру Булыгину, и не высказывал ему – П. Н. Дурново – какие бы то ни было соображения о желательности вмешательства, но в известной степени Дурново и временные генерал-губернаторы, руководствовавшиеся его направлением, влияли на выборы в том смысле, что многими незаконными, произвольными действиями, о которых я большею частью узнавал post factum, они будоражили общественное мнение и способствовали выбору более левых представителей» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 453).
(обратно)844
О временных правилах об ограждении свободы и правильности предстоящих выборов в Государственный совет и Государственную думу, а также беспрепятственной деятельности сих установлений // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 26. № 27506.
(обратно)845
Бельгард А. В. Воспоминания. М., 2009. С. 273. Согласно закону, «виновные в воспрепятствовании избирателям свободного осуществления принадлежащего им права выборов угрозой или злоупотреблением властью наказывались заключением в тюрьму на срок от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев. Сверх того, если виновный пользовался правами государственной службы и преступное деяние учинено им при исполнении служебных обязанностей, суду предоставлялось присоединить к заключению в тюрьму удаление от должности. Виновные в склонении избирателей посредством угощения, подкупа или обещаний личных выгод голосовать в пользу того или другого наказывались заключением в тюрьму на срок от 2 до 8 месяцев. При этом, почти самое главное, дела об указанных преступных деяниях служащих должны были возбуждаться в общем порядке судопроизводства с преданием виновных суду без требуемого по закону для должностных преступлений постановления подлежащего начальства» (Там же. С. 272–273).
(обратно)846
Крыжановский С. Е. Указ. соч. // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 122–123.
(обратно)847
Бельгард А. В. Указ. соч. С. 280.
(обратно)848
Любимов Д. Н. Указ. соч. Л. 575.
(обратно)849
Клячко (Львов) Л. Повести прошлого. Л., 1929. С. 27.
Тогда такая позиция П. Н. Дурново вызывала недоумение и возмущение: «Штюрмер называет Дурново легкомысленным, что Россию он не знает, он не предчувствует, что положение так плохо; говорил он Штюрмеру, что если Дума возьмет слишком влево – ее разгонят» (Богданович А. В.Три последних самодержца. М., 1990. С. 382. Запись 11 апр. 1906 г.).
Жизнь подтвердила правоту П. Н. Дурново: «Никаких корней в народных массах у этого учреждения не оказалось, никаких сторонников. Оттого исчезла вместе с монархией» (Николай Энгельгардт из Батищева. Эпизоды моей жизни /Воспоминания/ // Минувшее. Т. 24. СПб., 1998. С. 45).
Кстати, и В. И. Ленин считал (писалось 4–10 апр. 1906 г.) вполне возможным, «что Дурново просто разгонит Думу» (ПСС. Т. 12. С. 309).
(обратно)850
Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 74.
(обратно)851
Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого. 31 октября 1905 г.–24 апреля 1906 г. М., 1997. С. 222.
(обратно)852
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 356.
(обратно)853
РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 312. Л. 1–1 об.
(обратно)854
Герасимов А. В. Указ. соч. С. 53. «Мне стало ясно, – замечает А. В. Герасимов, – что для новых условий Дурново еще меньше подготовлен, чем я».
(обратно)855
Крыжановский С. Е. Указ. соч. // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 127–129. Об этом же: Падение царского режима. Т. V. С. 399.
Ерогин Михаил Михайлович (1862–?) – белостокский уездный предводитель дворянства, бывший земский начальник. Окончил Академию генерального штаба. Полковник в отставке. Популярен среди крестьян. Выборщик от Брестского съезда землевладельцев. На губернском избирательном съезде заявил, что «принимает программу к.-д. партии, за исключением» автономии окраин, т. к. это ослабит государство. При избрании в члены Государственной думы получил 56 избирательных и 50 неизбирательных (ГАРФ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 1480. Л. 16).
По-видимому, дело обстояло несколько иначе. Петербургский градоначальник В. Ф. Лауниц, будучи 6 апреля у Богдановичей, «говорил, что следует подумать об этих мужиках [избранных в Думу], устроить им помещение, где бы они могли жить и кормиться, и чтобы было при этом косвенное на них воздействие людей консервативного лагеря». В. Ф. Лауниц не раз говорил об этом П. Н. Дурново, однако тот не соглашался, ссылаясь на отсутствие денег. Наконец, Дурново дал деньги, Лауниц подготовил дешевые квартиры. Однако дело это перехватил С. Е. Крыжановский, добился у С. Ю. Витте на затею 140 тысяч рублей и нанял «роскошные квартиры». «Нашумели с этим делом на весь околоток», – замечает А. В. Богданович. В. Ф. Лауниц раскритиковал С. Е. Крыжановского, а П. Н. Дурново его отстранил, и дело будто бы «наладилось» (Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 381–383. Записи 7, 10 и 16 апр. 1906 г.). Похоже, за идею М. М. Ерогина «ухватился» не П. Н. Дурново (вряд ли он мог питать такие иллюзии), а сам С. Е. Крыжановский.
(обратно)856
В. И. Гурко – гр. А. А. Бобринскому, 4 июля 1913 г. // РГАДА. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 635. Л. 25 об.
(обратно)857
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1908–1909 годы. Сессия четвертая. СПб., 1909. Стб. 708–709, 1349–1350; 1909–1910 годы. Сессия пятая. СПб., 1910. Стб. 3286, 3287–3288, 3289, 3404; 1910–1911 годы. Сессия шестая. СПб., 1911. Стб. 387.
(обратно)858
Дневник Л. А. Тихомирова… С. 134–135.
(обратно)859
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1907 год. Сессия вторая. СПб., 1907. Стб. 418; Сессия четвертая. Стб. 708–709; Сессия пятая. Стб. 2806; Сессия шестая. Стб. 595, 600–601; 1911–1912 годы. Сессия седьмая. СПб., 1912. Стб. 267; 1912–1913 годы. Сессия восьмая. СПб., 1913. Стб. 1199–1200.
(обратно)860
Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 462; Всеподданнейший доклад С. Ю. Витте. 2 марта 1906 г. // РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 7. Л. 1–2, 153–157.
(обратно)861
Droits de l’homme – права человека (фр.).
(обратно)862
[Записка о проекте Основных законов] Без начала. Копия // РНБ. Ф. 1000. Собрание отдельных поступлений. Оп. 3. Д. 352. Л. 1.
Похожую позицию занял И. Л. Горемыкин в Царскосельских совещаниях 9 апреля, высказавшись против переиздания Основных законов: опасался, «как бы Дума не подняла неудобных вопросов» (Былое. 1917. № 4. С. 201–202, 203).
(обратно)863
Там же. С. 193, 195.
(обратно)864
Там же. С. 208.
(обратно)865
Записка П. П. Извольского по еврейскому вопросу // РГИА. Ф. 560. Оп. 1. Д. 20. Л. 1, 3.
(обратно)866
«Современная действительность показывает, – утверждал П. П. Извольский, – что еврейство – нечто большее, чем материальная сила. Тысячами путей – через печать, через искусство, через посредство политической, ученой и судебной кафедры – еврейская мысль проникает в сознание народов, приютивших у себя еврейство». В результате – «глубокие следы еврейского миросозерцания, еврейского способа мышления» в области «волнующих нас вопросов социальной несправедливости». Иудаизм, напоминал он, «совмещал в себе и самый узкий, враждебный миру национализм, и самую возвышенную проповедь любви к человечеству». В характере социалистического движения, по Извольскому, чувствуется «влияние еврейской религиозной мысли»: «страстная любовь к слабым, обездоленным, фанатичная ненависть к богатству, убеждение, что на земле есть бедные только потому, что есть богатые, – этим проникнуто писание». Процитировав пророка («Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места»), он спрашивал: «Не слышатся ли нам за этими пророчествами <…> знакомые, страстные, современные речи? И разве не животрепещут современностью постановления книги Левит, что землю нельзя продавать, ибо она Божия, а люди только пришельцы и поселенцы у Бога? Знакомые и страшные слова, страшные по тем потокам крови, которые ежеминутно могут из-за них пролиться. Страшные прежде всего для государства. В несчастной истории еврейского народа эта опасность выступает с жестокой ясностью. Проповедь пророков ко всеобщему земному счастию не привела, но она привела к беспримерному крушению еврейской государственности в пользу сильных и трезвых государственных организмов. <…> Я думаю, что в темных и грязных переулках средневековых гетто еврейская мысль работала не только в направлении талмудических тонкостей, что там таилась и пророческая мысль, которая медленно, но упорно пробивалась наружу и в наши дни вновь, как в дни расцвета иудейства, вылилась в страстное требование абсолютной справедливости здесь, на земле. <…> Государство, восприняв христианство, осталось языческим: отсюда – прежний культ силы, прежний vae victis в социальной борьбе, тот ряд противоречий между личной и общественной нравственностью, который мучит и пугает современное раздвоенное человечество. Люди ищут исхода, хотя бы кровавого, и отдаются во власть надвигающейся волны семитической религиозной мысли. Мы вновь на повороте всемирной истории. Как во времена дряхлевшего античного мира, нужно найти сочетание религиозного востока с трезвым гражданственным западом. Религиозный по существу своему порыв, охвативший человечество в форме социализма, может снести всю нашу цивилизацию, все, веками накопленное, важное и дорогое; языческое государство не в силах сохранить свое наследие. Нужен новый Константин, нужна новая религиозная государственность, которая претворит в себе новый напор иудейства, нужен новый окончательный синтез востока и запада».
П. П. Извольский «не задавался целью отыскать готовую политическую формулу» решения вопроса, полагая, что «такой формулы и быть не может». Он считал, что «если искренно и решительно» стать на намеченный им путь решения еврейского вопроса, то «все остальное приложится, и политик, разрешая трудные задачи текущего дня, будет невольно работать для торжества грядущей правды» (Там же. Л. 3–8).
Vae victis – горе побежденным (лат.)
(обратно)867
Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого. 31 октября 1905 г. – 24 апреля 1906 г. М., 1997. С. 147.
(обратно)868
Цит. по: Солженицын А. И. Двести лет вместе (1795–1995). Ч. 1. М., 2001. С. 287–288.
(обратно)869
Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. СПб., 2003. Т. 2. С. 263.
(обратно)870
Солженицын А. И. Указ. соч. Ч. 1. С. 290.
(обратно)871
Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 347.
(обратно)872
РГИА. Ф. 1282 (Канцелярия министра внутренних дел). Оп. 3. Д. 107 (Циркуляры по МВД. 1905 г. Копии). Л. 193–193 об., 196.
(обратно)873
П. А. Столыпин – И. Г. Щегловитову, 13 дек. 1908 г. // П. А. Столыпин: Переписка. М., 2004. С. 303.
(обратно)874
Мемория Совета министров 24 февраля 1906 г. (О мерах по предупреждению еврейских погромов) // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 279–280.
(обратно)875
П. Н. Дурново – С. Ю. Витте, 24 февр. 1906 г. // РНБ. Ф. 781 (И. И. Толстой). Д. 304. Л. 3–3 об; Мемория Совета министров 28 февраля 1906 г. // Революция 1905 года и самодержавие. М.—Л., 1928. С. 60.
(обратно)876
Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 299.
«Вы можете быть совершенно спокойны, – писал он С. Ю. Витте 20 марта 1906 г., – что все возможное делается для поддержания порядка. Смею думать, что больше в этой области ничего сделать нельзя. Тем не менее я сейчас посылаю депешу во все местности еврейской оседлости с предупреждением относительно погромов. Со всех сторон получаю сведения, что беспорядков ожидать нельзя. Конечно, при очевидных подстрекательствах печати, сплошь революционной – ручаться ни за что нельзя. <…> Еще раз прошу не сомневаться, что я сделаю все, что в моих силах для поддержания порядка, и не принадлежу к тем людям, которые считают еврейские погромы – полезным явлением» (Письмо Дурново к Витте по вопросам о еврейских погромах и назначении Гурко и Крыжановского товарищами министра. Копия // РГИА. Ф. 1662. /С. Ю. Витте/. Оп. 1. Д. 312. Л. 1–2).
(обратно)877
«Кто Вам мешает разрешать все отдельные случаи в утвердительном смысле? – обращался он к И. И. Толстому в заседании Совета министров 20 января 1906 г. – Это Ваше право, и я решительно ничего не имел бы против его осуществления Вами» (Воспоминания министра народного просвещения… С. 147).
(обратно)878
«Я, – говорил он в январе 1906 г. П. Г. Курлову, – совершенно не согласен с вашим представлением генералу Трепову о необходимости еврейского равноправия» (Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1992. С. 59).
(обратно)879
Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. С. 198–199; Воспоминания министра народного просвещения… С. 147–148.
В какой-то мере позиция П. Н. Дурново в этом вопросе определялась выводом, сделанном им из долгого личного общения с евреями. «У меня никакой ненависти к евреям нет, – говорил он И. И. Толстому, – но я, зная их характер, держался всегда по отношению к ним такого правила: пусть меня хорошенько попросят – и я просьбу исполню; без просьбы – ничего им не давать. И вам советую делать то же. Сохраните норму, и, если вы находите, что ее держаться не нужно, принимайте жидков сверх нормы; но заставляйте их просить, разрешайте их просьбы как милость, а не давайте им права требовать: тогда они вас же заклюют и съедят, помяните мое слово» (Толстой И. И. Дневник в двух томах. Т. 2. 1910–1916. С. 808. Запись 12 сент. 1915 г.).
(обратно)880
De puissance a` puissance – держава против державы (фр.).
(обратно)881
РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 310. Л. 3 об. – 4 об. Автограф. 1906 г. Подчеркнуто автором.
De puissance a` puissance – держава против державы (фр.).
Кауфман фон, Петр Михайлович (1857–1926) – гофмейстер (1898). Сенатор (1900). Член Гос. Совета (с 02.04.1906). Министр народного просвещения (24.04.1906–01.01.1908). Специально занимался вопросом (оставил труд о влиянии на судьбы России политики мирового сионизма). Поддерживал общение с П. Н. Дурново вне службы.
(обратно)882
«Борьба с революционным движением в Полтавской и Черниговской губерниях, – докладывал генерал-адъютант А. И. Пантелеев Николаю II, – встречает особое затруднение вследствие черты оседлости. Евреи почти поголовно принадлежат к крайним революционным партиям» (Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. Сборник документов. М., 1936. С. 118).
По отчету смоленского губернатора, после издания манифеста 17 октября «революционное движение городского и сельского населения очень резко усилилось». По деревням стали разъезжать агитаторы и подстрекатели к волнениям и беспорядкам; главнейший контингент этих лиц «представляла еврейская молодежь, являвшаяся в городах и деревнях руководителем движения» (Сводка из годовых отчетов губернаторов о революционном движении 1905 года // Революция 1905 года и самодержавие. М.; Л., 1928. С. 249).
«Евреи, – говорил И. И. Толстой Николаю II 30 октября 1905 г., – стоят во многих местах во главе нынешнего революционного движения, почти всюду они являются его участниками или пособниками» (Воспоминания министра народного просвещения… С. 26).
«В феврале [1905 г.] оппозиционное или революционное движение охватило уже все еврейское общество», – констатировал С. М. Дубнов (Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб., 1998. С. 260).
(обратно)883
Давыдов Александр. Воспоминания. 1881–1955. Париж, 1982. С. 223–226.
Давыдов Александр Васильевич – потомок декабриста В. Л. Давыдова (1793–1855); журналист; участник русско-японской войны и Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Париже, член правления Крымского землячества (с 1922), сотрудник газеты «Возрождение», секретарь масонской ложи «Астрея» (1922); член ложи «Герой Человечества» (1922, Великий Восток Франции); масон 33о, член-основатель ложи «Гермес» (1924–1928), член ложи «Северное сияние» (1925–1927), досточтимый мастер ложи «Юпитер» (1927–1930, 1936–1938), член Русского особого совета 33-й степени (1935–1940), с 1940 в США, сотрудник «Нового журнала» и «Нового русского слова», член правления Русского литературного кружка в Нью-Йорке.
Давыдов Леонид Федорович (1866–?) – дсс, в зв. камергера (1909), вице-директор (1905) и директор Особенной канцелярии по кредитной части министерства финансов (1908–1914).
(обратно)884
Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 383. С. Ю. Витте, размышляя о причинах неудачи манифеста 17 октября, приходил к заключению: «В сущности, они (кадеты. – А. Б.) хотели не конституционную монархию, а республику» (Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 139).
(обратно)885
Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 406.
(обратно)886
Давыдов Александр. Указ. соч. С. 138.
(обратно)887
П. А. Столыпин – О. Б. Столыпиной, 3 авг. 1904 г. // П. А. Столыпин: Переписка. М., 2004. С. 562.
П. А. Столыпин – барин, с гонором («к подобному не привык»), хотя недоумение П. Н. Дурново более чем справедливое: где же быть губернатору, если губернии угрожает холера?!
(обратно)888
Революция 1905 года и самодержавие. М.; Л., 1928. С. 169.
(обратно)889
Провинциал Т. И. Буткевич мог это записать только как слух: «По его рекомендации П. А. Столыпин из саратовских губернаторов попал в председатели Совета министров» (Мемуары протоиерея Буткевича Тимофея // ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 382. С. 3885). Источником этих слухов был, по-видимому, сам П. Н. Дурново. Так, у А. В. Герасимова читаем: П. Н. Дурново «говорил мне, что он указал на Столыпина как лучшего из всех возможных ему преемников» (Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 74).
(обратно)890
Васильчиков Б. А. Воспоминания. М., 2003. С. 225.
(обратно)891
Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 421. Запись 12 марта 1907 г.
(обратно)892
П. А. Столыпин – Николаю II, 1 мая 1911 г. // П. А. Столыпин: Переписка. С. 70–71.
(обратно)893
Проект телеграммы А. П. Извольскому. Приложение к письму П. А. Столыпина к А. А. Нератову, 15 марта 1911 г. // Там же. С. 410.
(обратно)894
«В предпринятых Столыпиным начинаниях налаживания отношений правительства с Государственной Думой кроется весь секрет сознанной необходимости пребывания его на посту председателя Совета министров и министра внутренних дел и успех его борьбы с покойным П. Н. Дурново, окончившейся выездом последнего заграницу», – говорил С. П. Белецкий в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 24 июня 1917 г. (Падение царского режима. Т. IV. Л., 1925. С. 274). Подчеркнуто нами. – А. Б.
(обратно)895
Так характеризовал его М. В. Челноков в письме к графине Е. А. Уваровой. См.: Селезнев Ф. А. Новое о русских либералах начала XX века // Отечественная история. 2004. № 5. С. 144. Ф. А. Селезнев, однако, замечает, что «в письмах, относящихся к периоду после гибели Столыпина, Челноков даже не упоминает о возможной причастности Дурново к этому преступлению».
(обратно)896
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 604.
(обратно)897
Крыжановский С. Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 4. С. 108.
(обратно)898
То же. № 3. С. 123. Б. Г. Федоров полагает, что «П. Н. Дурново воспринял это как демонстрацию губернатора против него лично. В бюрократических кругах это было понято как проявление независимости саратовского губернатора. Вероятно, с этого началась взаимная неприязнь Дурново и Столыпина» (Федоров Б. Г. Петр Аркадьевич Столыпин. М., 2003. С. 143).
(обратно)899
П. А. Столыпин – О. Б. Столыпиной, 4 июля 1905 г. // П. А. Столыпин: Переписка. С. 583.
(обратно)900
См.: Бородин А. П. Столыпин. Реформы во имя России. М., 2004. С. 27–28.
(обратно)901
Особое мнение министра внутренних дел по мемории Совета министров 5 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 318.
(обратно)902
Так говорил, например, председатель Государственной Думы Н. А. Хомяков корреспонденту «Нового времени» (Киевлянин. 1909. 24 сент.).
(обратно)903
А. С. Стишинский – Ф. Д. Самарину, б. д. // НИОР РГБ. Ф. 265.201.39. Л. 5 об.–6 об.).
Стишинский Александр Семенович (1852–1922) – назначенный член Гос. Совета (1904–1917), член бюро его правой группы; председатель Русского окраинного общества.
Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916) – член Гос. Совета по выбору от дворянских обществ (1906–1908), входил в его правую группу, был членом ее бюро; один из основателей газеты «Окраины России».
Шубинский Николай Петрович (1853–1920) – член III Думы, октябрист.
(обратно)904
Cest le ton gui fait la chanson. – Песня зависит от тона (фр.)
(обратно)905
В обновленной России. Впечатления. Встречи. Мысли. Барона Ф. Ф. Врангеля, бывш. директора Императорского Александровского Лицея. СПб., 1908. С. 46–48, 50.
(обратно)906
Русское слово. 1915. 12 сент.
(обратно)907
Беседа П. А. Столыпина с П. А. Тверским // П. А. Столыпин. Грани таланта политика. М., 2006. С. 502.
(обратно)908
Гурко В. И. Указ. соч. С. 604–605.
(обратно)909
Вот какой увидел в 1909 г. русскую деревню М. О. Меньшиков: «За неделю путешествия по родным местам я набрался сильных впечатлений. Идет великое одичание и запустение. На площади в сто квадратных верст не осталось ни одной дворянской усадьбы, ни одного вкрапленного в деревенскую темноту европейского уголка. <…> Наш край на моей памяти поразительно омужичивается, дичает. Культурные помещики или разбежались, или их осталось не больше, чем жемчужных зерен в навозной куче. В большинстве остались некультурные дворяне, малопоместные, которые омужичиваются с каждым поколением – до полного слияния с крестьянами. <…> Огрубение быта, одичание его». Вместе с тем грамотность «растет, <…> на стене прибитые под стеклом и в рамке похвальные листы и свидетельства об окончании курса; <…> комод под вязаной салфеткой, <…> зеркало над комодом, стенные часы, керосиновая лампа, кофейная мельница, <…> фотографии на стенах, олеографии вместо наивных картин коллекции Ровинского; <…> швейная машинка, <…> граммофон с ужасным репертуаром». Книг нет, зато «усиленно идет <…> разброска прокламаций революционного содержания»; парни, «которые прямо в глаза говорят: “Бога нет, попов не надо”, <…> церкви всюду пустуют, <…> драки, <…> стрельба, <…> поножовщина» (Меньшиков М. О. В деревне // Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998. С. 145, 149, 150–151).
«Деревня, – делился калужский губернатор с дядей, – превратилась в распивочную на вынос при полном отсутствии законов. Дикари размножаются, а для них узды никакой не готовят. Не весело и даже скорее грустно. Демократизация земских собраний очень пагубно начинает отражаться на делах, настает царство мужика, – мужика невежи, пьяницы, кулака и вора!» (Кн. С. Горчаков – С. Д. Шереметеву, 8 сент. 1910 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5099. Л. 119 об.)
(обратно)910
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1913–1914 годы. Сессия девятая. СПб., 1914. Стб. 2300–2302. Подчеркнуто нами. – А. Б.
Слева подтверждали: «Крестьянские выборы, как ни мало известно о них, в общем, пошли под старым крестьянским лозунгом: земли!» (Правда. 1912. 13 октября.)
(обратно)911
Lieven D. Op. cit. P. 222–223.
(обратно)912
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1910–1911 годы. Сессия шестая. СПб., 1911. Стб. 1120–1123.
(обратно)913
Струве П. Б. П. А. Столыпин // Струве П. Б. Дневник политика (1925–1935). М.; Париж, 2004. С. 74, 158.
(обратно)914
Беседа с председателем Совета министров П. А. Столыпиным. 1 окт. 1909 г. // П. А. Столыпин. Грани таланта политика. С. 489.
П. А. Столыпин, свидетельствует С. Д. Сазонов, постоянно возвращался «в своих частных, а затем и официальных сношениях со мной к вопросу о необходимости избегать во что бы то ни стало всяких поводов к европейским осложнениям еще долгие годы, по крайней мере до того времени, пока Россия не достигнет должной степени развития своих оборонительных средств» (Сазонов С. Д. Воспоминания. Мн., 2002. С. 32).
(обратно)915
«Первая мировая война с ее колоссальным напряжением и катастрофическими последствиями в конечном счете свели ее (столыпинскую программу. – А. Б.) на нет – но вины Столыпина в том не было», – полагает Ф. А. Гайда (Вестник Московского университета. Серия 8. 2012. № 5. С. 107). С выделенным, однако, нельзя согласиться.
(обратно)916
Подтверждением справедливости данного заключения М. О. Меньшикова служит факт, сообщаемый М. А. Таубе. Летом 1910 г. он встретил в Петербурге хорошо ему знакомого П. И. Рачковского, вызванного из Парижа для доклада секретных дел к председателю Совета министров. И вот что рассказал ему П. И. Рачковский: «Я должен был категорически заявить главе нашего правительства, что работа крайних революционных кругов за границей внушает мне самые серьезные опасения насчет дальнейшего развития противоправительственной агитации и преступлений в России. Конкретные наши указания из Парижа о лицах и путях террористической работы в империи как-то расплываются в Департаменте полиции в ряде неясных, не приводящих к цели репрессий и, скорее, только раздражают общественное мнение, чем пресекают зло, идущее из-за границы. И вот я сказал Петру Аркадьевичу, что, имея в настоящее время в руках все нити этой преступной деятельности, скрывающейся во Франции и Швейцарии, я чувствую себя в силах радикально пресечь все зло, ликвидировав так или иначе десятки главарей этой крайней “большевистской” – террористической группы: без всякого шума, один за другим начнут они неожиданно умирать в результате какой-нибудь болезни, станут жертвой автомобильной катастрофы или ночного столкновения с каким-нибудь уличным гангстером. И если эти люди исчезнут, то я гарантирую нашему отечеству долгие годы спокойствия, относительно, конечно, и без ежедневных убийств сотен верных слуг государя и отечества. Итак, я прошу Вас дать мне устное разрешение на ряд таких необходимых экзекуций; без него я не могу взять это на свою личную ответственность. И Вы знаете, Михаил Александрович, что мне ответил наш благородный “конституционный” председатель Совета министров? – Он сказал мне (дословно): “Вы забываете, Петр Иванович, что мы не в Афганистане и не в Персии. Я не могу дать Вам такого разрешения”. “Тогда, – возразил я, – мы не в силах будем остановить тот террористический поток, который прольется на Россию и в случае – не дай Бог – какой-нибудь новой войны неизбежно приведет к общей революции и к концу Императорской России”». «На этом кончил свою скорбную реляцию Рачковский», – заключает М. А. Таубе (Таубе М. А. «Зарницы»: Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России /1900–1917/. М., 2007. С. 146–147).
(обратно)917
In spe – в будущем; в надежде; в ожидании (лат.).
(обратно)918
Меньшиков М. О. Нужен сильный // Новое время. 1911. 8 сент.
Мягкостью и нерешительностью правительства П. А. Столыпина возмущались многие. «Говорят, здешние офицеры и моряки возмущены безнаказностью тех офицеров, которые были судимы вместе с Рожественским. Их, как известно, суд присудил к смертной казни и ввиду “обстоятельств” оставил их даже на службе. И основательно обижаются! Строгие меры все не принимаются! Мятеж разрабатывается <…>. Из тюрем преступники уходят каждый день совершенно свободно, очевидно, наши тюрьмы какие-то клубы, кафе…»
«Адлерберга <…> убрали из Кронш[тадта] за то, что он расстреливал бунтовщиков, назначили Зальца, и тот (говорят, по приказу свыше) отменил смертную казнь! Говорят Скалону в Варшаве сказано, чтобы он обходился помилостивее с убийцами!!! Как тут усмирить бунт!!!?
Головин слепой говорит, что ему читали письмо гр[афа] Серг[ея] Шереметева (то ли не барин), кот[орый] негодует на слабость и нерешительность правительства» (Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 166. Записи 19 и 21 авг. 1906 г.).
Вот и Д. И. Пихно: «Столыпин имеет свои заслуги, но его положение тяжелое и он или его товарищи немало и напутали, а с другой стороны – он не успел окончательно подавить надежд революции. Но для этой последней задачи нужно было отменить некоторые законы и прежде всего закон о печати, который причинил массу зла. Кобеко, Кони и другие ничего не хотели слушать, и я напрасно вопиял, но пусть полюбуются теперь грудами самых недобросовестных революционных брошюр, которые прямо отравляют молодежь» (Д. И. Пихно – С. Ю. Витте, 27 дек. [1906 г.] // Английская набережная, 4: Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов. 2000 г. СПб., 2000. С. 399). Подчеркнуто нами. – А. Б.
Д. И. Пихно имеет в виду Временные правила о печати 24 ноября 1905 г., подготовленные Особым совещанием под председательством Д. Ф. Кобеко, сторонником, как и А. Ф. Кони, «свободы слова и печати».
(обратно)919
Меньшиков М. О. Подъем власти // Новое время. 1907. 21 авг.
(обратно)920
В обновленной России. С. 47.
Так предполагал не один П. Н. Дурново. «Мое впечатление, – свидетельствовал С. Е. Крыжановский, – было (из того, что я слышал от Столыпина и из Совета министров), что влиятельные круги в то время решительно настаивали на том, чтобы Дума была прикрыта. Говорили о 5–10 годах; не имелось в виду совершенное упразднение, а только приостановка действия Думы. <…> предлагали форму приостановки Думы с тем, чтобы в это время действовал Государственный совет. Столыпин с этим течением чрезвычайно боролся и нашел выход в некотором компромиссе, который, удовлетворяя настояниям этих кругов (относительно исправления недостатков избирательного закона с их точки зрения), в то же время спасал существование Думы» (Падение царского режима. Т. V. Л., 1926. С. 418, 419).
(обратно)921
В обновленной России. С. 48.
(обратно)922
Киреев А. А. Дневник. Запись 13 февр. 1909 г.
(обратно)923
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1907–1908 годы. Сессия третья. СПб., 1908. Стб. 1711.
Мало было прозорливых в третьеиюньской Думе. Прогрессист Н. Н. Львов в общих прениях по бюджету на 1911 г. «выступил с обвинением не только Правительства, но и самой Думы в чрезмерном предпочтении расходов на оборону вместо того, чтобы давать средства на подъем культурного развития страны». «Если бы, – продолжает А. Д. Голицын, – Н. Н. Львов мог предвидеть, что ровно через четыре года, в 1915 году, общественное мнение будет винить Правительство, умалчивая про Думу, что оно оказалось неподготовленным к обороне <…>, то Н. Н. Львов, я думаю, не стал бы произносить своей речи, памятуя, что культура и прогресс могут быть обеспечены только тогда, когда страна не оставлена беззащитной в своей внешней безопасности» (Голицын А. Д. Воспоминания. М., 2008. С. 323).
(обратно)924
Серьезные проблемы армии были очевидны для П. Н. Дурново в начале 1906 г. «В отношении армии нужны серьезные меры, – делился он с Г. О. Раухом. – Армия не на высоте, офицеры ничего не знают и ничего не делают, начальники в громадном большинстве никуда не годятся. Между офицерами и нижними чинами нет никакой связи, и последние первым не доверяют, ибо их не знают. Нужны радикальные реформы, ибо иначе в скором времени армия у нас совсем исчезнет» (Дневник Г. О. Рауха. Запись 2 янв. 1906 г. // Красный архив. 1926. Т. 6 /19/. С. 96).
На «состав высших начальников, благодушных и приученных бояться инициативы и ответственности», сетовал и военный министр (Из записок А. Ф. Редигера. 1906 год // Красный архив. 1933. № 5/60/. С. 99).
(обратно)925
Гос. Совет. Ст. отчеты. 1911–1912 годы. Сессия седьмая. Стб. 1260, 1331.
П. Н. Дурново был не одинок в этой тревоге. Не уставал предупреждать о неизбежной войне М. О. Меньшиков: «Предостерегая с всевозможной настойчивостью против войн неподготовленных и не вызванных крайней необходимостью, я глубоко убежден, что эта крайняя необходимость наступит скоро. Горе стране, готовящей себе среди мира поражение вместо победы! <…> Первый долг всякой жизни – оборона… Оборона, а затем уже питание, и комфорт, и всякий расцвет души. <…> От маньчжурской войны мы отдаляемся, но с каждым годом приближаемся к другой войне, к той неизбежной, которая непременно вспыхнет, желаем мы этого или нет. С каждым днем мы приближаемся к ней и времени подготовки все меньше. Бодрствуйте же вы, стоящие на народной страже! Народ доверил вам свою жизнь и честь» (Меньшиков М. О. Первая забота [1 янв. 1909 г.] // Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998. С. 96, 97–98).
«В то время (в 1909 г. – А. Б.) темп германской подготовки заставлял думать, что войны с Германией не избежать, и, судя по приготовлениям немцев, надо было думать, что война будет в 1915 г. Поэтому выходило естественным, что к ней надо было готовиться». Назначенный в Вильну генерал Гершельман, прощаясь с войсками на Ходынском поле 5 апреля 1909 г., «выразил надежду встретиться с ними, но уже на поле брани против врага России немцев». Джунковский замечает: «Это было смело, но несколько неуместно и бестактно, хотя и прозорливо» (Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 381, 387).
Неизбежность войны осознавалась широко. И только либералы странным образом оставались совершенно глухи к внешним угрозам – все их внимание было поглощено внутриполитическими проблемами: «Накануне мировой войны внутреннее политическое положение становилось все напряженнее. “Правые” мечтали взорвать Думу и восстановить самодержавие (?! – А. Б.). Конституционалисты не чувствовали никакого удовлетворения от призрачного “конституционализма”, не устранявшего произвола. Революционеры стремились к перевороту. Народные массы не приобрели никакого доверия к народному представительству и не чаяли от него проку. Никто (?! – А. Б.) не подозревал в то время, что мир находится накануне величайшей из войн» (Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий /Воспоминания 1881–1914/. Прага, 1929. С. 522–523).
Как это? Что это? В 1913 г. ему было 47 лет, он – член ЦК к.-д. партии (с 1906), бывший член II Думы, доктор истории (с 1909), профессор Московского университета. Воистину: слыша – не слышать и видя – не видеть.
«Вообще мы ничего не предвидели, и в этом наше горе», – признавался за весь «Прогрессивный блок» В. В. Шульгин (В. В. Шульгин – В. А. Маклакову, 5 янв. 1923 г. // Спор о России: В. А. Маклаков – В. В. Шульгин. Переписка. 1919–1939 гг. М., 2012. С. 98).
«По сравнению с Дурново все светила нашей либеральной оппозиции и эс-эровской партии <…>, – справедливо заметил М. М. Павлович, – оказываются жалкими пигмеями в умственном отношении, совершенно не понимавшими смысла мировой войны и не предугадавшими ее неизбежного исхода» (Павлович М. Вступительная статья к Записке П. Н. Дурново // Красная новь. 1922. № 6 (10). С. 182).
(обратно)926
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия девятая. Стб. 1065.
(обратно)927
Струве Петр. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества // Российские либералы: кадеты и октябристы (Документы. Воспоминания, публицистика). М., 1996. С. 144. Впервые опубликовано в 1908 г. (Русская мысль. Кн. 1. С. 143–157).
(обратно)928
«Относительно отступления наших войск летом 1915 г. и недостатка снарядов и патронов я нахожу справедливым свидетельство ген. Ю. Данилова, главного распорядителя операциями в Ставке при Вел[иком] князе Николае Николаевиче: “ходячее объяснение, что это (отступление. – прим. автора) случилось из-за недостатка огнестрельных припасов, винтовок, слишком элементарно и, конечно, не покрывает вопроса. Я думаю, что в качестве ответа гораздо правильнее выдвинуть нашу общую неподготовленность к войне; неготовность вообще, а к наступательной войне в особенности. Россия, как мы видели, к 1914 году едва вышла из состояния своей почти полной беззащитности, созданной предшествующими событиями – несчастной войной 1904–1905 гг. и последовавшей за ней революцией. Для борьбы с западными соседями ее армия еще не была готовой”. Теоретически наш наступательный образ действий являлся крайне выигрышным, но он же должен был немедленно и ярко выявить все недочеты нашей военной системы и боевой и экономической подготовки. Так это и случилось в действительности» (Петров П. П. Генерального Штаба Ген. – Майор. Роковые годы. 1914–1920. Калифорния, 1965. С. 33).
(обратно)929
В «полицейском мировоззрении» его упрекали многие.
(обратно)930
«Весьма ограниченный состав наружной полиции и слабую организацию розыскной ее способности» отмечал московский градоначальник Г. П. Медем в письме к П. Н. Дурново от 16 ноября 1905 г. (Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. Сборник документов. М., 1936. С. 99).
Ф. В. Дубасов в донесении из Москвы от 22 дек. 1905 г. отмечал, что «главной причиной подобного положения являлось недостаточное для такого большого города, как Москва, количество войск московского гарнизона, малочисленность полиции и ее неудовлетворительная организация» (Воробьева Ю. С. Федор Дубасов в декабре 1905 года // Вестник архивиста. 2001. № 4–5 /64–65/. С. 365).
Революция 1905–1907 гг., подтверждает исследователь, «вскрыла слабость полицейской службы в России» (Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–1917 гг.). М., 2000. С. 41).
(обратно)931
Гос. Совет. Ст. отчеты. Сессия девятая. Стб. 1260.
«Полиция – это единственно организованная власть в уезде – другой организованной власти в уезде нет», – говорил П. Н. Дурново 4 февраля 1909 г. (Там же. 1908–1909 годы. Сессия четвертая. СПб., 1909. Стб. 809).
(обратно)932
Крыжановский С. Е. Воспоминания. Петрополис, б. г. С. 216–217, 160–162.
Эта же мысль у него и в «Заметках русского консерватора»: «Административный же и полицейский фундамент Империи остался в архаическом состоянии, совершенно не приспособленным к новым требованиям, выдвинутым жизнью, и государству пришлось поплатиться за это, когда настали трудные времена» (Вопросы истории. 1997. № 4. С. 126).
(обратно)933
Набоков В. Д. Временное правительство и большевистский переворот. London, 1988. С. 109.
В февральские дни 1917 г. «полиция и жандармы продолжали нести самоотверженно свою службу, но, конечно, были не в силах справиться с войсками» (Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1992. С. 245). «Единственной вполне надежной и преданной правительству силой оказалась полиция, но она была малочисленна, и значительная часть ее погибла в неравном бою» (Редигер Александр. История моей жизни. Т. 2. М., 1999. С. 445). В Петрограде в начале 1917 г. полицейские «силы насчитывали всего около 3500 городовых» (Петров П. П. Указ. соч. С. 49).
Исследователи подтверждают впечатления современников: «Полицейских не хватало, и не только мало было сделано, но и не могло быть сделано больше, чтобы предупредить скопление людей на улицах и площадях» (Катков Г. М. Февральская революция. М., 1997. С. 266).
«В первые дни Февральской революции, особенно 23–25 февраля 1917 г., именно полиция проявила себя наиболее ревностной защитницей старого строя. Однако в эти же дни выявилась и недостаточность сил столичной полиции, чтобы справиться с движением такого масштаба. На весь город имелось лишь шесть тысяч полицейских, а численность демонстрантов даже в первый день движения превысила 100 тыс. человек» (Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства. Л., 1980. С. 172).
(обратно)934
«Я не вижу никакого толку от Думы, – писал Д. И. Пихно. – Это будет чудо, если она окажется хотя к чему-нибудь годной вместо драк и болтовни; а ведь колоссальному государству нужно чем-нибудь жить. Что будет делать Государь с этим дерущимся разноплеменным ареопагом? Положение его не только не облегчено, но страшно осложнилось» (Д. И. Пихно – С. Ю. Витте. 27.12.[1906 г.] // Английская набережная, 4: Ежегодник… С. 399).
(обратно)935
Вот и П. Б. Струве: «П. А. Столыпин в решающие моменты очевидно не находил и все менее и менее находит в себе сил – быть государственным человеком» (Струве П. Б. 17 октября 1909 г. // Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 154).
(обратно)936
«Нельзя, конечно, – замечает в связи с этим С. Е. Крыжановский, – и ставить эти колебания в вину человеку, который всю предшествовавшую служебную жизнь провел в кругу местных интересов и отношений и сразу, без всякого перехода, попал в водоворот событий государственного значения, притом в такое смутное и напряженное время» (Крыжановский С. Е. Воспоминания. С. 218–219).
(обратно)937
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. Запись 12 сент. 1915 г. М., 2008. С. 132–134.
Сказанное здесь о П. А. Столыпине подтверждается им самим. Н. П. Шубинскому «о себе, особенностях своей работы он говаривал так: “Мне дается нелегко государственная работа. Иной раз она подавляет своим разнообразием: бездна вопросов, идей, какими необходимо овладевать, чтобы справиться с нею. Я работаю обыкновенно так: читаю документы, книги, справки, веду беседы. Усвоив предмет, я прислушиваюсь к самому себе, к мыслям, настроениям, назревшим во мне и коснувшимся моей совести. Они-то и слагают мое окончательное мнение, которое я и стремлюсь провести в жизнь. Поэтому я нередко затрудняюсь решать что-нибудь сразу, недостаточно вникнув, ибо имею обычай по подписанным мною векселям неуклонно платить”» (Шубинский Н. П. Памяти П. А. Столыпина. Речь, произнесенная 5 сент. 1913 г. в ЦК «Союза 17 октября» в Москве // Правда Столыпина. Саратов, 1999. С. 102–103).
Любопытен взгляд на «государственного человека» самого П. Н. Дурново. В беседе с Ф. Ф. Врангелем летом 1907 г. он перечислил свойства, которые, по его мнению, характеризуют «государственного человека»: властный характер, сильная воля, быстрота соображений, правильная оценка существующих реальных условий и нравственных сил, решимость, мужество, природные дарования, знания по всевозможным отраслям человеческой деятельности (В обновленной России. С. 50).
(обратно)938
Бельгард А. В. Воспоминания. М., 2009. С. 280–282.
(обратно)939
Крыжановский С. Е. Воспоминания. С. 219.
(обратно)940
П. А. Столыпин – А. П. Извольскому, 28 июля 1911 г. // П. А. Столыпин: Переписка. М., 2004. С. 425.
(обратно)941
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. Запись 5 февр. 1917 г. М., 2008. С. 335.
(обратно)942
«Это было время (речь идет о конце 1905 г. – А. Б.) сближения России и Англии по азиатским вопросам, задуманное Ламздорфом, говорившим со мной про него, но приведенное в окончательную форму его преемником А. П. Извольским (которому историки ошибочно приписывают инициативу его)» (Половцов А. А. Воспоминания. Рукопись // ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 118. Л. 247 об.–246 об.).
(обратно)943
«Вообще-то, в консервативных кругах до войны и с ее приходом было немало действительных приверженцев традиционной дружбы между Германией и Россией» (Ботмер К. фон. С графом Мирбахом в Москве: Дневниковые записи и документы за период с 19 апреля по 24 августа 1918 г. М., 1997. Запись 1 мая. (URL: / дата обращения: 22.12.2011).
(обратно)944
Соловьев Ю. А. Воспоминания дипломата. М., 1959. С. 209. См. также: Иванов А. А. «В своих предсказаниях правые оказались пророками». Русские монархисты о войне с Германией, перспективах либерализма и революции // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2009. № 2. С. 13–20.
(обратно)945
Тарле Е. В. Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. // Соч. в 12-ти томах. Т. V. М., 1958. С. 167.
(обратно)946
Сергеев Е. Ю. Военно-политическая элита Российской империи о «внешней угрозе с Запада» накануне Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2000. № 5. С. 222.
(обратно)947
«Наша консервативная партия ничего не может сделать ни в Госуд[арственном] совете (ни в Думе)», – констатировали, рассуждая «о положении дел», А. А. Киреев и А. А. Нарышкин (Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 276–277. Запись 25 авг. 1908 г.).
(обратно)948
Памятная записка МИДа, начало мая 1918 г. // Ботмер К. фон. Запись 1 мая.
И. В. Алексеева причисляет П. Н. Дурново к группе, «большой и влиятельной», которая «мечтала восстановить сердечные отношения между Россией и Германией» (Алексеева И. В. Последнее десятилетие Российской Империи: Дума, царизм и союзники России по Антанте. 1907–1917 годы. М.; СПб., 2009. С. 16). Заметим: если бы эта группа была «влиятельной», то она не «мечтала» бы; а если она «мечтала» – значит, не была «влиятельной».
(обратно)949
Карцов Ю. С. Хроника распада // Новый журнал. Нью-Йорк, 1981. Кн. 144. С. 99–103.
Карцов Юрий Сергеевич (11.11.1857, Смоленская губ.–26.07.1931, Ницца) – дипломат, геополитик, публицист. Учился в Катковском лицее, закончил старшие классы Александровского. Служил в МИД. Секретарь посольства в Константинополе (1879), вице-консул в Мосуле, консул в Палестине, дипломатический агент в Сербии, консул в Ньюкасле (1893; здесь написал книгу «Радикальная Англия», где предсказал неминуемую войну между Англией и Германией). Перешел в министерство финансов (1895; коммерческий агент в Брюсселе и ганзейских портах); но из-за неладов с С. Ю. Витте, вышел в отставку и жил в имении. Чиновник особых поручений в министерстве торговли и промышленности.
Член Главной палаты Русского народного союза имени Михаила Архангела.
Соч.: О причинах нашей войны с Японией. Кто виноват? СПб., 1906; Семь лет на Ближнем Востоке. 1879–1886. Воспоминания политические и личные. СПб., 1906; В чем заключаются внешние задачи России. (Теория внешней политики вообще и в применении к России). СПб., 1908; и др.
(обратно)950
Русское слово. 1909. 18 марта; Речь. 1909. 19 марта.
(обратно)951
Эта Записка в настоящее время широко известна, будучи давно опубликована и у нас (Красная новь. 1922. №. 6 (10). С. 178–199), и за рубежом (Записка П. Н. Дурново. Paris: Авакимо, б. г.), и в Интернете.
М. А. Алданов, со слов «сановника», пишет, что «взгляды, изложенные в Записке, Дурново излагал <…> в беседах еще в 1913 году, если не раньше» (Алданов Марк. Предсказание П. Н. Дурново // Журналист. 1995. № 4. С. 59). По-видимому, этим сановником был В. Н. Коковцов: в 1914 г. жил «в том же доме, что и Дурново», часто с ним виделся, хотя по взглядам и по службе они не были близки.
(обратно)952
Во-первых, руководство внешней политикой было прерогативой монарха; во-вторых, автор записки, надо полагать, в интересах точности, позволил весьма резкие формулировки. Современники воспринимали этот шаг П. Н. Дурново именно как «смелость» (См., напр.: Клейнмихель М. Из потонувшего мира. Мемуары. Пг.—М., 1923. С. 54).
(обратно)953
В. Н. Ламздорф следовал этому курсу и говорил: «Может быть, это недостаточно эффектная внешняя политика – за что, я знаю, иногда меня и ругают – балансировать между Францией (нашей союзницей) и Германией, с которой мы связаны тысячами исторических, династических, культурных и экономических уз. Итак, пока я еще русский министр иностранных дел, никакие “Truffles sous serviette” не заставят меня пересесть с двух стульев, на которых я сижу, на один из них. <…> Пусть уже кто-нибудь из моих преемников согласится вступить в новые, более эффективные комбинации, новые войны – еще более неудачные, чем теперешняя, конец которым – неизбежная революция… конец Императорской России» (Цит. по: Таубе М. А. «Зарницы»: Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России (1900–1917). М., 2007. С. 84).
Truffles sous serviette – трюфели под салфеткой (фр.)
«Было два умных человека: Александр III и Бисмарк. Бисмарк завещал – не воевать с Россией. Александр III завещал – не связываться ни с Германией, ни с Англией», – вспоминал Л. А. Тихомиров и сетовал: «И немцы, и мы забыли слова умных людей и вот теперь расплачиваемся за это» (Дневник Л. А. Тихомирова. Запись 5 февр. 1917 г. С. 336).
(обратно)954
Русско-японскую войну П. Н. Дурново находил «бессмысленной» и сетовал на В. К. Плеве: «Наивная мысль – внешним успехом разрешить внутренний развал» (Любимов Д. Н. События и люди (1902–1906) // РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Д. 39. Л. 461).
(обратно)955
Германскую ориентацию П. Н. Дурново разделяли многие выдающиеся его современники. Так, П. А. Сабуров (1835–1918), бывший посол в Берлине (1879–1884), член Гос. Совета (1900–1917), говорил в 1909 г.: «Как бы мы не расходились с немцами по отдельным вопросам, а все-таки положительные выгоды может принести России единственно союз с Германией» (Карцов Ю. С. Указ. соч. С. 96).
С. Ф. Платонов в собственноручных показаниях 26 июня 1930 г. писал: «Я являлся в прошлом, являюсь в настоящем и в будущем сторонником германской ориентации для нашей страны» (Академическое дело. 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 82). По словам Е. В. Тарле, С. Ф. Платонов считал большой ошибкой, вызванной «минутным ослеплением», русско-германскую войну 1914–1917 годов (Брачев В. С. Травля русских историков. М., 2006. С. 49).
О безумии войны с Германией говорил С. Ю. Витте. «Преступной» с точки зрения подлинных интересов русского народа считал ее М. А. Таубе. Против войны с Германией предупреждал царя член Государственного Совета, бывший посол в Американских соединенных штатах барон Р. Р. Розен, многие военные и общественные деятели.
Это положение Записки подтверждается и ретроспективно. Так, Г. Киссенджер полностью соглашается с П. Н. Дурново: «Не существовало ни единой конкретной претензии со стороны России к Германии, а также со стороны Германии к России, которая была бы достойна войны местного значения, не говоря уже о войне всеобщей. <…> Германия и Россия не имели политических причин вступать в войну» (Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 183, 188).
«Погружаясь в давно отшумевшие, но все еще не устаревшие страсти, я раз за разом приходил к мысли об искусственности участия дореволюционной России в войне западного мира с Германией. Не должны мы были с ней воевать, ни к чему это было нам, с любой точки зрения» (Кремлев С. Россия и Германия: стравить! От Версаля Вильгельма к Версалю Вильсона. Новый взгляд на старую войну. М., 2003. С. 10).
И у немцев было сознание непоправимой ошибки. Так, К. Ботмер, критикуя внешнюю политику Бетман-Гольвега, не сомневался, что 30 лет назад, когда «Германия ввиду сложившейся тогда ситуации вынуждена была решать, с кем идти на тесное единение – с Россией или Англией, <…> договориться с Россией нам было бы легче, если бы мы убедили Австро-Венгрию в необходимости пойти на уступки в угоду кайзерскому союзу и решали бы турецкий вопрос вместе с царем, вместо того чтобы брать под защиту султана»; не сомневался, что Россия «при условии разумной политики теперь вместе с нами могла бы овладеть миром» (Ботмер К. фон. Указ соч. Записи 4 и 21 мая и 6 июня).
Барон Карл фон Ботмер – тогда офицер генерального штаба германской армии, представитель верховного главнокомандования при немецкой дипломатической миссии в Петрограде и Москве.
(обратно)956
Г. Киссинджер замечает: «Почему столь простой геополитический факт ускользнул от внимания трех поколений русских, жаждущих завоевания Константинополя, и англичан, вознамерившихся это предотвратить, остается неразрешимой загадкой» (Киссенджер Г. Указ. соч. С. 184).
(обратно)957
Таубе фон барон Михаил Александрович (15.5.1869, Павловск – 29.11.1961, Париж) – православный, из потомст. дворян. Окончил Шестую петербургскую гимназию с золотой медалью (1887), юридический факультет С.-Петербургского университета кандидатом (1891). Оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию на кафедре международного права под руководством Ф. Ф. Мартенса. Служил с 1892 г. по министерству иностранных дел: делопроизводитель в Газетной экспедиции, заведующий I административно-юридическим отделением Второго департамента (1900), юридический представитель России в международной следственной комиссии по делу о Гулльском инциденте (1904–1905), вице-директор Второго департамента (1905), советник министра (1907), полномочный представитель русского правительства на Лондонской военно-морской конференции (1908–1909), непременный член Совета министра (1909). Товарищ министра народного просвещения (с 1911), сохраняя обязанности в МИД, представительство от МИД в Адмиралтейств-совете, в Гаагском трибунале.
Одновременно занимался научной и преподавательской деятельностью: приват-доцент в Харьковском (1897–1899) и Петербургском (1899–1903) университетах, ординарный профессор (1903) и заведующий кафедрой международного права (1906) Петербургского университета, ординарный профессор Училища правоведения (1910).
В начале 1914 г.: действительный статский советник (1911), кавалер ордена св. Станислава 1-й ст. (1913).
Доктор международного права (1899). Один из членов-учредителей Русского генеалогического общества в Петербурге (1896), его действительный член и товарищ его председателя. Действительный член: Русского исторического общества (1912), Философского общества при Петербургском университете, Историко-родословного общества в Москве, Генеалогического общества прибалтийских губерний в Митаве, Академии международного права в Гааге (1914).
Почетный член Московского археологического института, Общества классической филологии при Петербургском университете, Витебской и Тульской губернских ученых архивных комиссий. Член Французского института в С.-Петербурге (1910).
(обратно)958
Таубе М. А. Указ. соч. С. 169–173, 190.
(обратно)959
См., напр.: Петров П. П. Роковые годы. 1914–1920. Калифорния, 1965. С. 14; Тютюкин С. В. Россия, 1917: из войны – в революцию // Отечественная история. 2006. № 5. С. 139. Виноградов В. Н. 1914 год: быть войне или не быть? // Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов: Материалы Международной научной конференции 7–8 сентября 2004 года. М., 2006. С. 161–164; Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. С. 449–450; и др.
Хотя как знать? Вот А. Гитлер обронил в конце XIV главы II части своей книги: «перед самым началом войны у нас все-таки была еще вторая дорога: можно было опереться на Россию против Англии».
(обратно)960
Лопухин В. Б. Записки бывшего директора департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 233.
(обратно)961
Там же. С. 234.
(обратно)962
К. П. Победоносцев – Александру III, 18 мая 1887 г. // Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 507.
(обратно)963
Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 181 (Запись 15 февр. 1893 г.); Кафафов К. Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы истории. 2005. № 5. С. 82. Автор оговаривается: «За достоверность этого рассказа я не ручаюсь, слышал я его в Департаменте».
(обратно)964
ГАРФ. Ф. 102. Д-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 171.
(обратно)965
Богданович А. В. Указ. соч. С. 366, 369, 371, 375, 377, 378.
(обратно)966
Стахович Александр Александрович (1857, д. Пальна Елецкого у. Орловской губ.–1915) – из потомственных дворян. Гласный елецкого уездного земского собрания. Елецкий уездный предводитель. Член «Беседы», «Союза освобождения». Кадет. «Человек болезненный и в общении тяжеловатый. Нервы, очевидно, не всегда у него были хороши» (Полянский Н. П. Воспоминания банкира. М., 2007. С. 76).
(обратно)967
Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 116.
(обратно)968
Русский биографический словарь. Т. 6. М., 1999. С. 426.
(обратно)969
Богданович А. В. Указ. соч. С. 402.
(обратно)970
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. М., 2008. С. 125. Запись 12 сент. 1915 г.
(обратно)971
Алданов Марк. Предсказание П. Н. Дурново // Журналист. 1995. № 4. С. 59.
(обратно)972
ГАРФ. Ф. 102. Д-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 44.
(обратно)973
Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. В двух томах. М., 1967. Т. 1. С. 186; Т. 2. С. 615.
(обратно)974
См., напр.: История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ: В 2 т. Под ред. С. В. Леонова. Т. 2. М., 1995. С. 100; Протоколы Центрального комитета Партии социалистов-революционеров с комментариями В. М. Чернова // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 29. Примечание 19.
(обратно)975
Вержбовский В. Наш земляк предсказал крушение империи // Молодой ленинец. Пенза, 2003. 18 марта (№ 12). С. 12; Вдовикина К. Царь не поверил пензенскому пророку // Аргументы и факты. 2006. № 24. Прил.: С. 8 (Пенза; № 24).
(обратно)976
В обновленной России. Впечатления. Встречи. Мысли. Барона Ф. Ф. Врангеля, бывш. директора Императорского Александровского Лицея. СПб., 1908. С. 49.
(обратно)977
ГАРФ. Ф. 102. Д-1. Оп. 1. 1881. Д. 274. Л. 66.
(обратно)978
Боханов А. Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX – 1914 г. М., 1992. C. 242; Барышников М. Н. Деловой мир России. Историко-биографический справочник. СПб., 1998. С. 288.
(обратно)979
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 8 янв. 1915 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5060. Л. 8; С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 9. ягв. 1915 г. // Там же. Д. 3012. Л. 127–128.
(обратно)980
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 15 янв. 1915 г. // Д. 5060. Л. 12; С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 17 янв. 1915 г. // Там же. Д. 3012. Л. 149.
(обратно)981
А. К. Варженевский – С. Д. Шереметеву, 25 янв. 1915 г. // Там же. Д. 5125. Л. 91 об.
(обратно)982
Дневник С. Д. Шереметева. Запись 7 февр. 1915 г. // Там же. Д. 5060. Л. 22–23.
(обратно)983
С. Д. Шереметев – А. К. Варженевскому, 26 марта 1915 г. // Там же. Д. 3012. Л. 324–325.
(обратно)984
А. Г. Булыгин – С. Д. Шереметеву, 6 авг. 1915 г. // Там же. Д. 5128. Л. 139–139 об.
(обратно)985
То же, 15 авг. 1915 г. // Там же. Л. 178.
(обратно)986
Московские ведомости, 11 сент. 1915 г.; Исторический вестник. 1915. № 10. С. 338.
(обратно)987
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. М., 2008. С. 124. Запись 12 сент. 1915 г.
(обратно)988
А. К. Варженевский – С. Д. Шереметеву, 13 сент. 1915 г. // РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5129. Л. 65–65 об.
(обратно)989
Голос Руси. 1915. 14 сент.
(обратно)


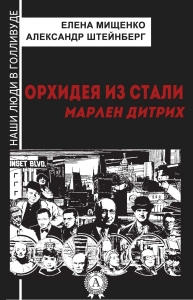
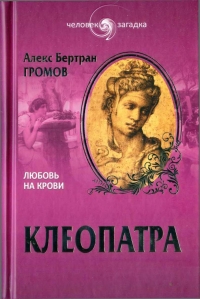
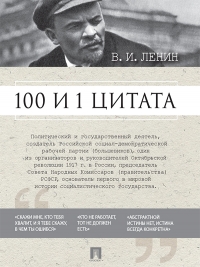
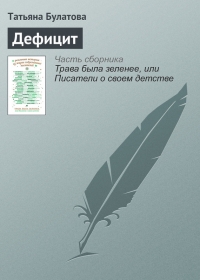




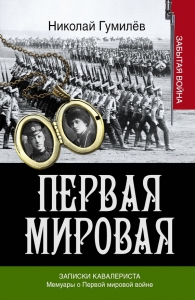
Комментарии к книге «Петр Николаевич Дурново. Русский Нострадамус», Анатолий Петрович Бородин
Всего 0 комментариев