Леонид Чачко Жили-были-видели…
Оглянись на свою молодость – как она похорошела!
Из книжки афоризмов «Зуд мудрости» Михаила Туровского.Я научился читать поздно, в семь лет, в последнее лето перед школой. Моей первой книжкой был букварь, второй – «Жизнь и замечательные приключения капитана Головнина» в пересказе Р. Фраермана. С тех пор и до теперешних седин моим любимым занятием было чтение, а любимым чтением – приключения. Фантазия преобладала над анализом. Отсюда и увлечение путешествиями – реальными и воображаемыми. В этом я похож на моего отца: в тридцатые годы он со своим приятелем – писателем и географом А. Севериным – путешествовал верхом и на лодке по Хакассии и Енисею. Позже, в пятидесятые, когда семья только стала выпутываться из немыслимых трудностей безработицы и неуверенности в будущем, отец увлеченно, в деталях, разрабатывал со мной проекты нашего с ним путешествия на лодке по рекам Черниговщины – по местам его детства.
В детстве мне довелось довольно много поездить: каждое лето, на каникулах, мы с мамой и младшим братом Аликом отправлялись «отдыхать»: сначала, когда отец еще служил в армии, это были Германия и Латвия, затем – местечко Ворзель под Киевом, где жила с семьей старшая сестра отца – гостеприимная тетя Маня. Самое увлекательное и завораживающее занятие в дороге было смотреть из окна вагона на проносящиеся мимо пейзажи и воображать себя оказавшимся внезапно в этих местах, в этом глухом лесу, на этом заброшенном полустанке… Стремление к иной жизни? Любопытство?
Так или иначе, жизнь предоставила много случаев удовлетворить это свое любопытство – грех жаловаться! Естественно, возникла потребность поделиться своими впечатлениями с другими, может быть близкими по духу. Вот, делюсь…
I. Мое происхождение
Мое происхождение
Я москвич. Мои родители переехали в Москву с Украины, из Киева, в 30-х годах, в поисках доли и стремясь получить образование. По семейной легенде, фамилия моя – Чачко – происходит от клички «Цацкес» (игрушки на идиш). Кто-то из прадедов, видимо, делал игрушки. Другая версия, более правдоподобная, почерпнута мной из Интернета: фамилия была дана выходцам из села Чачки (Чашки) Белостокского уезда Виленской губернии…
Мать рано потеряла родителей, скиталась по богатым родственникам. Вступила в один из первых пионерских отрядов, организованных в стране, душой отдаваясь делу освобождения рабочего класса из пут буржуазии. Одно из ее воспоминаний детства – как повязывала красный галстук Григорию Котовскому, когда отряд принимал его в почетные пионеры (голая, как бильярдный шар, голова огромного страшноватого дядьки…). Рано вступила в комсомол, потом – в партию и всю жизнь оставалась верной ленинкой. Откровения ХХ съезда были восприняты ею как разоблачение антипартийных уклонений Сталина от правильной ленинской линии. Переехав в Москву вслед за любимым, она закончила рабфак и поступила в Иняз, на монгольское отделение (Монголия считалась перспективным объектом для развертывания мировой революции).
Отец, работая слесарем на киевском заводе «Арсенал», также вступил в комсомол, а затем в партию, но всю жизнь относился к партийной пропаганде гораздо более спокойно, если не сказать скептически. Окончив рабфак, стал рабкором в заводской многотиражке, писал очерки, издал несколько книжек из рабочей жизни. Переехав в Москву, поступил в РИИН (редакционно-издательский институт, из которого позже образовался Литературный институт имени Горького). Удачно пройдя несколько чисток и избежав обвинений в связях с троцкистами, окончил институт и стал работать редактором в «Детиздате». Как военнообязанный, поехал летом 41-го года на военные сборы и прямо из лагерей (военных) ушел на войну, почему-то в должности командира взвода 45-миллиметровых орудий (надо сказать, будучи человеком высокой гуманитарной культуры и грамотности, отец был абсолютно неспособен ни к какой математике, да и командовать, по-моему, органически не мог). Ему повезло – он заболел тифом и с эшелона, направлявшегося на фронт, был снят в госпиталь, откуда, выздоровев, был направлен, уже по специальности, в дивизионную, а затем армейскую газету, где и прослужил корреспондентом до конца войны.
Отец. 1944 год. Портрет кисти фронтового художника Ф. Глебова
С работой отца в «Детиздате» у меня связано несколько впечатлений. Во-первых, у нас в семье было много прекрасных, замечательно изданных детских книг, составивших мой первый круг чтения. Во-вторых, были не только детские, но и «взрослые» книги – сигнальные экземпляры, не подвергшиеся еще окончательной цензуре, некоторые даже и вообще не вышедшие в свет. В этих книгах встречалось много страниц с частично тщательно зачеркнутым текстом, а иногда и с замаранными фотографиями. Только повзрослев, я узнал причину этих «чисток» – мама вымарывала фамилии и фотографии «врагов народа», «разоблаченных» за время подготовки книги к изданию. Когда в более поздние времена я позволил себе подхихикивать над этой паранойей, папа рассказал мне, как во время войны люди, прежде чем воспользоваться обрывком газеты в туалете, тщательно осматривали его, чтобы, не дай боже, не употребить бумажку с портретом кого-нибудь из вождей…
После войны отец некоторое время еще оставался на действительной службе в армии. Он мечтал вернуться к своей мирной профессии, к чему его призывали бывшие коллеги. Я читал письмо к нему главного редактора «Детиздата», очень комплиментарное и радушное, где говорилось, что редакторское кресло отца его ждет. Что ж, когда отец наконец демобилизовался, а выбрал он для этого 1952 год, это кресло, как и большинство других кресел, стульев и просто рабочих мест, оказалось для него закрыто (я знаю, он даже пытался поступить на работу слесарем на завод, но из этого тоже ничего не вышло). Некоторое время мы жили на скудную зарплату матери, которой удалось устроиться (по знакомству) служащей в Общество охраны природы. Мы с братом были еще маленькие и ничего не замечали, но думаю, что порой родители просто голодали.
Потом помер наконец главный персонаж советской истории, власть стала понемногу отпускать вожжи, у отца появилась какая-то работа в редакциях, а потом он даже стал печататься. Я поступил в институт и (отчасти вынужденно) стал получать повышенную стипендию. Жизнь налаживалась.
Моя родная коммуналка
Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю примешан желток.
О. МандельштамМоя Москва – Москва моей юности – зимой пахла дымом котельных и МОГЭСа (топили тогда углем), но в то же время удивительной свежестью. Прилетая из Питера в Шереметьево или приезжая на Ленинградский вокзал, я сразу ощущал этот родной московский воздух. И уж совсем родным веяло, когда входил в свой подъезд, поднимался на третий этаж и входил в свою квартиру. Коммунальную квартиру, где я в детстве катался по коридору на трехколесном велосипеде, боялся ночью выходить в темный коридор и боялся заходить в туалет – а вдруг увижу на стене паука! Где в более зрелом возрасте, проведя от семейного счетчика электрический провод, образовал себе на подоконнике коридорного окна персональный кабинет, чтобы готовить уроки и читать книжки, пока мой брат играет на скрипке или папа стучит на машинке. Где семь соседских семей в течение многих лет составляли ту самую ячейку социалистического общества, о которой, наверное, грезили отцы-основоположники. (Помню, как, будучи во Франции, пытался объяснить любознательным иностранцам, что такое коммунальная квартира. «А, – сказал один, сообразительный, – это такая шведская семья!») В моей квартире не было, как в квартире у моего друга Вити Чистякова на Покровке, шести выключателей и лампочек в туалете, не было, как у Бори Карпусенко в Брюсовском, на кухне кастрюль с приделанными висячими замками. У нас можно было стрельнуть у соседей денег до получки. У нас в основном царил дух коллективизма (что не исключает, разумеется, отдельных склок и интриг). Несомненно, объяснение этому феномену лежит в истории нашей квартиры № 6 дома 2/1 по Старосадскому переулку.
Согласно легенде, дом был построен перед войной 14 года и первоначально использовался как госпиталь. К началу исторического периода, т. е. к моменту вселения туда моих родителей (тогда они еще не были таковыми), в доме располагалось общежитие РИИНа (Редакционно-издательского института). Отец поступил в этот институт, будучи рабкором со стажем и после того, как безуспешно попытался приобрести серьезную и полезную профессию врача – анатомичка и химия оказались ему не по силам (хотел сказать «не по зубам», но макабрическому юмору не место в нашем серьезном повествовании). Как я понимаю, тихой учебы не дал ему «век-волкодав»: в институте разоблачили группу троцкистов, и в 33-м году РИИН расформировали, гуманно дав, однако, доучиться в других вузах оставшимся в живых студентам (виновным только в недоносительстве). Учинившаяся кутерьма имела положительным результатом то, что студенты, поселившиеся в общежитии, под шумок так и остались в нем и остались надолго, некоторые – на всю жизнь. Так и образовалось в тихом центре Москвы это сообщество довольно близких по духу людей. Представление об этом месте дает описание «Общежития имени монаха Бертольда Шварца» в известном романе Ильфа и Петрова. По воспоминаниям родителей, авторы частенько бывали (а может, и живали) в этом доме. Бывали там и такие персонажи, как Матэ Залка, Юлиус Фучик, Назым Хикмет, Муса Джалиль. В этом доме, перед самой войной, посчастливилось родиться и мне. По этому случаю родители переселились из двухметрового помещения без окна, предназначенного архитектором под ванную, в прекрасную 16-метровую светлую комнату.
Случайно сохранился план нашей квартиры.
На плане помещения 1–7 – жилые комнаты, 11, 12 и 13 – коридоры, 8 – умывальная, 9 – кухня, 10 – ванная, 14 и 15 – туалеты.
Когда папа с войны привез мотоцикл, тот долго стоял в квартире, занимая один из двух туалетов, и никто из соседей не возражал. С войны из соседей-мужчин вернулись пятеро – в комнаты 7, 5, 4, 2 и 1. В комнату 6 мужчина не вернулся – осталась одинокая вдова. Но обо всем по порядку.
Наша комната – четвертая (один длинный звонок) – выходила окнами на соседний двор и в пространство. Когда на парадах над Красной площадью пролетали самолеты – они появлялись одновременно в нашем окне. Помню, в день Победы над Красной площадью на аэростате было поднято знамя – оно развевалось и перед нашим окном. Вдали из окна был виден ветряк, установленный на башне в ЦАГИ – Центральном аэро-гидродинамическом институте. Мне всегда хотелось там работать, и так получилось, что после окончания института я распределился в эту колыбель отечественной авиации.
Соседнюю комнату № 5 занимала семья Шпирт. Александр Шпирт – дядя Саша – бывший одессит, поэт, вернулся с войны в 46-м году, зарабатывал поэтическими переводами с различных языков народов Советского Союза (по подстрочнику), в основном всяких экзотических, вроде калмыцкого или ойротского. Поскольку у малых народов была особая квота на издание национальной литературы, дядя Саша сводил концы с концами. В свободное от творчества (думаю, таковое все-таки было) и от халтуры время дядя Саша писал нам с братом стихотворные посвящения («…в расцвете лет твоих – и дней моих на склоне…»). Мой брат тут недавно раскопал, что наши со Шпиртами комнаты образовались оттого, что наши отцы, обзаведясь семьями, разгородили одну большую комнату перегородкой. Из-за этого в нашем будущем (а как знать, может, и в прошлом) возникали проблемы со звукоизоляцией. Например, когда родители с братом переехали и оставили комнату мне и я «зажил личной жизнью», дядя Саша однажды, смущаясь, попросил меня перенести кровать к другой стене. После смерти четы Шпиртов (их сын Владик, физик, физтеховец из первого выпуска, участник семинаров Ландау, к этому времени имел свою семью и жил в другой квартире) комнату заняла странноватая, а впрочем, очень тихая и деликатная пара, которая не оставила о себе никаких воспоминаний, кроме некоторых юмористических подробностей.
Другая стена нашей комнаты примыкала к малому коридору, куда выходили двери трех комнат. В комнате № 1 жила бездетная пара. Муж вернулся с войны в чине капитана, работал в какой-то редакции и довольно скоро умер. Жена пошла работать учителем в девчачью школу № 327, преподавала девочкам рукоделие, дружила со своими ученицами, и они часто заходили к ней в гости, заставляя мое юное сердце изнывать от любопытства. Потом и она умерла, а в комнату вселился какой-то нестарый и часто нетрезвый раздолбай, по-моему гэбэшник небольшого чина (я уже к тому времени вырос, вел свободный и общительный образ жизни и представлял, наверное, некий интерес для этой конторы). Потом этот персонаж исчез так же неожиданно, как и появился, и освободившуюся комнату присоединил к своей обитатель комнаты № 2 Шульман Моисей Израилевич, приятель наших родителей. О нем хочу рассказать подробнее.
Моисей Израилевич, или дядя Миша, пройдя войну, кажется в чине сержанта, пошел работать по редакционно-издательской части. Он учился, как и наш отец и дядя Саша, в РИИНе, но до этого окончил Киевскую консерваторию по классу скрипки, что дало ему определенные преимущества в плане трудоустройства в эпоху, когда «лиц еврейской национальности» (или, как говаривала наша мама, ex nostris) не жаловали на идеологических участках работы, к каковым, безусловно, относились журналистика, литература и преподавание. Году в 53-м его выперли из какого-то издательства, и он устроился в музыкальную школу педагогом по скрипке, а также брал учеников. На всю квартиру раздавались его дикие крики, с которыми он поправлял ученика, взявшего неточную ноту (при том, что, имея абсолютный слух, он не мог интонировать голосом и, пытаясь напеть мотив, врал безбожно). Когда времена сменились более вегетарианскими (по выражению Ахматовой), дядя Миша стал ездить от филармонии с музыковедческими лекциями, заключил договор с издательством на книгу «Лев Толстой и музыка», каковую, кажется, даже издал в конце жизни. Дядя Миша прожил всю жизнь холостяком, был красив и очень неравнодушен к женской красоте, но его явно привлекали самые ее простые разновидности, и наши родители никогда не отказывали себе в удовольствии перемыть косточки его очередной пассии – официанточке или продавщице. Будучи в весьма почтенном возрасте и пережив парочку инфарктов, он сиживал, бывало, на Чистопрудном бульваре и благосклонно оглядывал порхающих мимо девиц. Когда в 81-м году я, женившись, путем сложного обмена переехал из своей комнаты, дядя Миша остался в квартире единственным из славной рииновской когорты и единственным, с кем мне жалко было расставаться…
Следующую комнату – № 3 – занимала семья Маринбах. Папа – маленький, юркий, энергичный, внешне похожий на поэта Льва Рубинштейна, работал где-то по снабжению и был вечно занят какими-то гешефтами, мама – крупная, величественная дама, занималась домашним хозяйством и готовила немыслимые еврейские кушанья. Для моей мамы она была непререкаемым кулинарным авторитетом, множество рецептов от Сарры Иосифовны перекочевали в мамину записную книжку. Двое сыновей Маринбахов унаследовали от матери богатырскую стать и (видимо, от обоих родителей) хорошую еврейскую голову. Старший – Ефим Борисович – окончил медицинский и делал блестящую академическую карьеру, но ему не повезло – его научным руководителем был профессор Вовси. Когда разгорелось «дело врачей», Ефим Борисович оказался в местах не столь отдаленных, но на воле и некоторое время жил и работал на Дальнем Востоке. После реабилитации он вернулся в Москву и со временем стал одним из крупнейших наших урологов. Младший – Александр Борисович – кончил мехмат и неоднократно пытался преподать мне красоты астрономии, в чем не преуспел.
В комнате № 6 обитала (первоначально) одинокая женщина, муж которой (он, видимо, был из рииновского набора) погиб на войне. Она была высокая, с очень правильными чертами лица, ходила и говорила тихо и, по-видимому, нас всех ненавидела. Истоков этого отношения я не знаю, но могу предположить как зависть к выжившим мужьям, так и национальный элемент. Мама называла ее «малахамувэс» (ангел смерти на иврите), а я ее очень боялся. После смерти «малахамувэски» ее комнату заняла, по иронии судьбы, веселая рыжая, слегка распутная еврейка, которая работала в троллейбусном парке и заводила кратковременные романы с пьющими слесарями. Один из них задержался дольше других благодаря добродушному характеру и упрямству – когда Рыжая запирала дверь, он взбирался по стене на третий этаж и, влезши к ней в окно, все-таки добивался своего. Однажды, возвращаясь поздно ночью домой, я наткнулся на него, свернувшегося калачиком на полу у двери в квартиру. Будучи разбужен, он смиренно попросил его не бить. Разумеется, был допущен внутрь, в коридор, а утром добродушная Рыжая уже отпаивала его чаем.
Наконец, комнату № 7, самую большую, первоначально занимала семья Гречко – бывшего коменданта общежития РИИНа. Их сын после возвращения с войны стал кадровым военным, окончил академию и забрал родителей к себе. Освободившуюся комнату занял ветеран ГПУ, бывший латышский стрелок, бывший оперуполномоченный по Читинской области Рипп. Нередко его зычный голос грозил мне всяческими карами за «антиобщественное» поведение, когда мои хипповатые друзья попадались ему по квартире. «Я таких к стенке ставил!» – гремел он и, наверное, и вправду ставил, но, за исключением мелких пакостей, особого зла я от него не имел.
После Риппа в комнату вселился здоровый веселый парень – бывший деревенский милиционер, а потом пожарник, с женой и ребенком, каковой (жене) от него иногда (но не слишком часто) доставалось, и тогда она гордо, как знак отличия, носила фонарь под глазом. К моменту моего отъезда из квартиры пожарник добился своей жизненной цели: получил квартиру, замирился с женой, клятвенно обещав ей не пить и не бить, и съехал.
Уголок родной коммунальной кухни
В детстве жизнь моя, как и у большинства московских детей, в немалой мере происходила на дворе. Двор, закрытый и разветвленный московский двор со всякими проходами и лазейками в соседние дворы, со шпаной, со сложными отношениями с обитателями окрестных дворов, являлся задним двором большого продовольственного магазина – «Стеклянного гастронома на Покровке». В голодные послевоенные годы в этом дворе время от времени «давали» с лотка муку и другой дефицит, обычно строго ограничивая количество выдаваемого в одни руки продукта. Вырастала громадная очередь, люди записывали номера на бумажках и на ладошках, и вот тут-то у нас, местной ребятни, появлялась возможность подзаработать на кино и мороженое – мы подставляли свои ладошки желающим… Во дворе играли в казаки-разбойники, в расшибалку, в чурки-палки. Активная деятельность велась на чердаках и крышах – там орудовали голубятники. Диких голубей в Москве не было, зато почти в каждом дворе имелась своя голубятня, и стаи домашних породистых голубей вились над крышами, по которым бегал стар и млад, размахивая палками с тряпками. Сверхзадачей голубятников было сманить чужого голубя, чтобы потом продать или обменять его на Птичьем рынке. Занятие это было небезопасное – однажды парень свалился с нашей крыши и разбился. В моем дворе болели за «Спартак». Я, движимый здоровым чувством индивидуализма и ничего не понимая в футболе, объявил себя болельщиком «Динамо» (ведь нельзя же было не болеть ни за кого!). После этого на меня стали коситься, и лишь значительно позже я понял причину: ведь «Динамо» была команда МВД…
Иногда во двор доносилась громкая духовая музыка, и мы бежали на Покровку – там шагали строем под звуки марша солдаты из Покровских казарм, направляясь на развод караулов в здание КГБ. Малыши пристраивались сзади колонны и провожали воинскую часть до Лубянки. По временам, уже без музыки, по улице проходили под охраной колонны плохо одетых людей. Нам объясняли, что это пленных немцев ведут на восстановление здания КГБ, разрушенного в 41-м году прямым попаданием однотонной бомбы. Позже, прочитав Солженицына, я понял, что, скорее всего, это были никакие не немцы, а наши заключенные. Общаться с ними не было никакой возможности – охрана была строга.
До своей 661-й школы я добирался по Покровке (позже – улице Чернышевского) за десять минут, а если бегом, то за пять. Но для этого надо было бежать проходным двором и мимо вражеской школы № 324, а тут можно было нарваться и на неприятности. Хотя неприятности могли воспоследовать и во дворе собственной школы – там в бараке жила многодетная семья татар, и татарские дети не очень жаловали чистеньких московских мальчиков. Вообще, проходных дворов в Москве было великое множество, и добраться по ним можно было куда угодно. Когда хоронили Сталина, самые ловкие из нас доходили через дворы и крыши до самого Колонного зала. Потом милиция стала бороться с этим явлением и заколачивать неформальные проходы.
Этот район сильно изменился в шестидесятые годы, в эпоху массового жилищного строительства. Большая часть народа переселилась в различные Черемушки. В нашем Колпачном переулке из трех школ осталось сначала две, а потом одна. Расселялись коммуналки. Мои родители наконец получили отдельную квартиру (купили кооператив), а я – нашу комнату. Вместе со мной эту комнату получили мои многочисленные (очень многочисленные) друзья – московские, питерские, одесские. Но это уже был другой век и другая жизнь.
II. В Германии
В Германии, в Германии, проклятой стороне…
Из песни послевоенных временОт двух до шести
Лев Николаевич Толстой где-то сказал, что помнит, как его крестили. Тристрам Шенди вроде бы помнил момент своего зачатия. Мои первые воспоминания относятся к периоду, когда мне было два года.
Шел 42-й год. Мы с мамой жили в семье дедушки в Кузнецке, куда эвакуировался киевский завод «Арсенал». Дедушка и его дочери – мои тетки – работали на «Арсенале», были вывезены с семьями в Кузнецк осенью 41-го года и таким образом избежали Бабьего Яра. Мама со мной отдыхала летом того года под Киевом, в Пуще Водице, а папа проходил военные сборы. Поэтому с началом войны мы с мамой прибились к многочисленной семье дедушки, а папа «пошел на войну».
Я помню большую комнату, разгороженную тряпичными занавесками на отдельные клетушки, в которых располагались дедушка с бабушкой, тетя Маня с сыном, тетя Феня с дочкой, тетя Хана с дочкой и мы с мамой. Мужчины воевали. Мне было весело и интересно. Помню, как я разгуливал по двору с деревянным ружьем, которое мне сделал в модельном цехе дедушка, и объяснял интересующимся, что мой папа «бьет фашистов».
Следующее мое воспоминание относится уже к Средней Азии, к 43-му году. Московский иняз, в котором училась мама, был эвакуирован в Фергану, где я пошел в детский сад, а мама, вместе с остальными студентками, по мере сил помогала дехканам выращивать разные полезные растения. Кормили нас там, по-видимому, исключительно плохо, потому что, когда мы с мамой наконец в 44-м году возвращались в Москву, я был в состоянии сильной дистрофии. Из среднеазиатских впечатлений в памяти сохранилась лишь картина, как я стою у колодца и горько плачу, потому что в этот бездонный колодец упала моя прекрасная тюбетейка.
В Москве меня, благодаря отцовским литературным связям, устроили в литфондовский детский сад. Сад располагался в Переделкине, на даче Веры Инбер. Мы с мамой выходили из дома часов в шесть утра, мама брала меня на закорки (у меня из-за дистрофии развилась куриная слепота, и я по утрам плохо видел), мы садились в метро и ехали до Киевского вокзала, где меня забирал автобус, а мама бежала на работу. В детском саду меня лечили от дистрофии разными дефицитными продуктами: цветной капустой, гречкой, рыбьим жиром и витаминами. По-видимому, это помогло, потому что вскоре я избавился от своей куриной слепоты, но надолго приобрел неприязнь к упомянутым продуктам. Кстати, с нашими с мамой поездками в метро связано одно воспоминание, которое долго воспринималось мною как дежавю: одна станция, где мы делали пересадку, по архитектуре сильно отличалась от остальных. После войны, став взрослее и разъезжая в метро, этой станции я нигде не встречал. И лишь в шестидесятые годы, когда построили новую Филевскую линию и на этой линии вновь открылась станция «Библиотека Ленина» (теперь это «Александровский Сад»), я узнал загадочную станцию своего детства.
Из событий того времени помню салюты, которые часто давались в честь освобождения разных городов, и особенно салют в честь Победы. Перед нашим окном в ночном небе плыл большой аэростат заграждения, под которым развевалось огромное знамя, подсвеченное прожекторами. Мы с мамой вышли гулять на Красную площадь, заполненную ликующим народом. Военных хватали и подбрасывали в воздух. Мне было радостно. Скоро должен был приехать мой легендарный папа.
Примерно с этого времени мои воспоминания стали непрерывными – я помню все подряд, что-то более подробно, а какие-то моменты из памяти ускользают, причем некоторые давно прошедшие события вспоминаются ярче, чем недавние.
Германия
После окончания войны отец остался служить в оккупационных войсках. В звании майора он работал в армейской газете в Веймаре. В декабре 45-го года мама получила разрешение выехать к отцу в Германию. Мы летели в Берлин на десантном «дугласе» с дюралевыми скамьями вдоль фюзеляжа. Летчики завели меня в пилотскую кабину, закармливали шоколадом, давали подержаться за штурвал. Помню приборную панель с массой циферблатов…
Самолет сделал промежуточную посадку в Кёнигсберге, и я увидел ровное поле до горизонта, покрытое слоем битого щебня. Еще полгода назад здесь шли тяжелые бои. Следующая посадка была в Берлине, на аэродроме Темпельхоф. Из-за какой-то путаницы папа встречал нас на другом аэродроме, и приключилась изрядная паника, но в конце концов мы нашлись и встретились, к радости всех действующих лиц, в том числе и к явному облегчению коменданта аэродрома. По рассказу мамы, я не сразу привык к тому, что этот большой дядя в шинели, с колючими щеками – мой папа, но я этого не помню. Мы погрузились в «виллис» с автоматчиком (было еще небезопасно – кое-где постреливали) и через ночной раздолбанный Берлин, где отчетливо пахло гарью и в лучах фар мелькали силуэты разрушенных домов, по великолепным дорогам Германии помчались в город Веймар.
Первые несколько дней, пока решался квартирный вопрос, я прожил у соседей, немцев. Как я с ними общался – не знаю, наверное жестами. Соседка, немка была женщина добрая, она потом долго еще помогала матери по хозяйству, пока мама, со свойственными ей решительностью и демократизмом, не ликвидировала институт домработниц. Наконец мы получили в свое распоряжение уютный двухэтажный особняк, с деревьями во дворе и стеной, заросшей диким виноградом. Долгое время мы оставались в числе немногих советских семей в гарнизоне, и мама держала открытый дом для офицеров – товарищей отца. Приходили на огонек, вечерами, заходили пообедать в выходной день. Помню, как готовились к первому празднованию Нового года – клеили по выкройкам из «Огонька» самодельные елочные игрушки (я лично склеил цепь из цветной бумаги, потом эта цепь еще долго служила нам елочным украшением). На новогоднюю елку собралось за столом человек двадцать.
Еще собиралась компания из нескольких человек у приемника, старались со слуха записать новые песни. Помню, как была записана песня: «… Давно мы дома не были – шумит родная ель, как будто в сказке-небыли, за тридевять земель…» И еще: «…зачем им зорьки ранние, коль парни на войне, в Германии, в Германии – проклятой стороне…» У некоторых на глазах блестели слезы.
Первый год у меня почти не было русских приятелей – моего возраста были только жившие по соседству мальчик – сын старшины и девочка – дочка генерала. Поэтому в нашей компании преобладали немецкие дети. Я очень быстро научился говорить по-немецки, говорил свободно и нередко помогал родителям в качестве переводчика (правда, папа мог обходиться и без моей помощи – он говорил с немцами на идиш, и они его понимали). Играли мы с немецкими детьми вполне мирно, я не помню ни одного случая межнациональной розни. Папа частенько выкатывал свой мощный мотоцикл с коляской, сажал нас, человек пять, вповалку и вез кататься за город. Потом немцев из нашего района выселили, образовался советский военный городок, ко многим военным приехали семьи, появилась у меня русская компания, и я постепенно стал немецкий язык забывать. Сейчас я, к сожалению, совершенно его не помню, и лишь иногда, откуда-то из подсознания, вдруг выскакивают немецкие слова и целые выражения.
Папа на своем DKW с моей компанией немецких и русских детей.
Щенок
Мы жили в Веймаре. Отец служил в армейской газете, мать ждала ребенка. У меня было мало друзей, и мне было скучновато. Папа решил меня порадовать. На Новый год он подарил мне маленького щенка. Разумеется, щенок должен был вырасти в великолепную немецкую овчарку – отец специально поехал в питомник и заплатил за щенка немалые деньги.
Ни о каком домашнем содержании щенка не могло быть и речи – родители были почему-то уверены, что собака должна знать свое место, а именно во дворе. Щенку соорудили во дворе будку, и я стал его воспитывать. По части воспитания щенков я имел ясные представления – в конце нашего переулка жил капитан, у которого был громадный сенбернар. Этот сенбернар делал все: он по команде носил поноску, лаял и даже, подпрыгнув вверх метра на два, вцеплялся зубами и повисал на ветке и висел на ней, сколько хотелось хозяину. Понимая, что таких результатов достичь сразу не получится, я все же старательно занимался дрессировкой. Кроме того, я выносил щенка на улицу, и мы – ребятня – с ним играли.
Постепенно щенок подрос. У него почему-то уши не торчали вверх, а висели лопушками, а хвост завивался колечком, но он был очень мил и охотно с нами играл. Мои друзья очень мне завидовали. Однажды утром, выйдя во двор, я обнаружил, что щенка украли – ошейник на цепочке был расстегнут, а щенка не было. Горе мое было велико. Через некоторое время выяснилось, что щенок обитает в соседнем доме, у моей подружки – дочки генерала. Сдавшись на мои уговоры, мама пошла к соседям и вытребовала щенка обратно. Снова началась счастливая жизнь. Но вскоре похищение повторилось. Теперь уже не составило труда определить похитителя. Мама весьма неохотно подчинилась моим требованиям и пошла за щенком. Так повторялось несколько раз. Щенка похищал ординарец генерала по просьбе генеральши. Наконец было достигнуто соглашение, что щенок будет проводить какое-то время у меня, а какое-то – у соседки. Ситуация осложнялась лишь тем, что у меня он звался Барсик, а у генеральши – Рекс.
Однажды мы с соседкой играли с щенком на улице и в очередной раз затеяли разборку, у кого ему жить на этот раз. Щенку это явно надоело. Он посмотрел на нас, спорящих, повернулся и потрусил вдоль по улице. Я стал звать Барсика, соседка – Рекса, мы пытались его догнать, но он все прибавлял ходу и вскоре исчез за поворотом. Больше я его не видел. Так я впервые в жизни столкнулся с предательством.
Победители и побежденные
Моя детская компания вела жизнь казацкой вольницы – у каждого был велосипед, и мы раскатывали по всей округе. А округа, надо сказать, была замечательная. Наш военный городок располагался на зеленой окраине Веймара. В паре кварталов от нас находился живописный Гете-парк с вековыми деревьями, ручьем, весело пробиравшимся между замшелых валунов, со старой мельницей. Мы играли в парке, носились по аллеям на велосипедах, пускали в ручье кораблики. Другой важный аспект нашей детской жизни составляли игры в войну. Мы все были дети войны, все были «советскими солдатами», и никто не хотел быть «немцем», приходилось как-то выкручиваться, находить сложные сюжетные ходы. Другой особенностью наших игр было наличие настоящего оружия. Хотя в Веймаре не велось активных боев, оружия той или иной степени исправности у нас хватало. Помимо ржавых погнутых винтовок и штыков, мы находили порой и исправное оружие. Так, мама у меня раз отобрала вполне работоспособный эсэсовский кинжал, а боевой пистолет, правда без патронов, я с выгодой обменял на десять перышек «рондо». Кроме того, у многих из нас имелись духовые ружья. С таким ружьем был связан один трагикомический эпизод.
В нашей компании у меня был «командир» – мальчик лет десяти. Однажды вечером он вызвал меня из дома условным свистом. Он был с духовушкой и объяснил, что мы отправляемся на боевую операцию. Мы залегли на улице за живой изгородью и стали ждать «противника». Вскоре на противоположном тротуаре показалась женщина с хозяйственной сумкой, явная немка. Приятель приложился к ружью, выстрелил и точно угодил жертве пулькой в нижнюю часть спины. Вслед за звуком выстрела раздался дикий крик, от дома напротив – жилища генерала – выскочил часовой и дал очередь (видимо, в воздух), но мы уже убежали. К расследованию эпизода подключился политотдел армии, моего приятеля быстро нашли (за ним уже числились и другие подвиги) и вскоре отправили домой, в Россию. Меня тоже как-то нашли, и отец меня первый и единственный раз выпорол ремнем.
Боеприпасы находились везде – на огородах, на чердаках. Патроны мы взрывали в роще за городом, втыкая пулей в землю и разводя над ними костер. Из снарядов выковыривали тол и поджигали – он прекрасно горел, выделяя густой смрадный дым. Однажды мой приятель нашел сигнальную ракету, выковырял из нее порох и поджег. Вспышка была неожиданно сильной, ему обожгло лицо, слава богу, обошлось без увечья.
Советский военный городок располагался на окраине, в районе коттеджей, принадлежавших служащим невысокого ранга и рабочей аристократии. Было много садовых участков и огородов. Мы, русская малышня, частенько устраивали набеги на эти сады, совмещая обыкновенное ребячье мародерство с игрой в войну. На облюбованный участок пробирались скрытно, с предварительной разведкой территории. Случалось, однако, что нас в процессе нападения заставал хозяин. Тогда в противника, под крики «За Родину, за Сталина!», летели яблоки и груши, и враг отступал.
В доме, где мы жили, был большой чердак, куда я довольно скоро проник, подобрав ключ из родительской связки. На чердаке было много интересных вещей, оставленных уехавшими хозяевами. Так, я нашел настоящую рапиру с большой медной гардой (видимо, из студенческих времен фрица-хозяина). Но больше всего меня интересовала игрушечная электрическая железная дорога. Я частенько забирался на чердак и часами играл в эту дорогу. Но однажды появился бывший хозяин особняка и, с разрешения отца, забрал мою дорогу. Как я переживал из-за этой несправедливости!
В квартале от нас располагался большой дом, к которому меня неизменно влекло любопытство. В нем обитали красивые молодые женщины, и к ним иногда приезжали в гости военные – американцы. Они прикатывали на джипах, набиваясь помногу в одну машину и горланя песни (дело в том, что Веймар первоначально входил в американскую зону оккупации и отошел к нам по позднейшему соглашению). Женщины, обитательницы загадочного дома, относились ко мне очень ласково и угощали конфетами. Однажды я похвастался маме, какие у меня появились знакомые, и очень был удивлен, когда мама строго-настрого запретила мне приближаться к этому дому.
Однажды папа повез нас с мамой на экскурсию в замок Вартбург. Сказочно красивый средневековый замок, где, по преданию, Мартин Лютер сражался с чертом, произвел на меня неизгладимое впечатление. К тому же у подножья замковой горы меня покатали на ослике! На обратном пути шофер показал нам группу строений, расположенных в стороне от дороги, и произнес непонятное слово «Бухенвальд». Он предложил заехать туда, но мама наотрез отказалась.
В 47-м году в городе открылась русская начальная школа, куда я поступил учиться в первый класс. Школа помещалась в здании, где раньше была немецкая, во дворе был вырыт глубокий ров на случай бомбежки, мы там играли на переменках. 47-й год отмечен и еще одним важным событием – у меня родился брат. Маме нужны были фрукты, творог, молоко. Папа часто отправлялся в снабженческие экспедиции к окрестным крестьянам – бауэрам – и брал меня с собой. Эти перемещения по завоеванной стране были, по-видимому, вполне безопасны – я помню только один случай, когда папа, отправляясь на несколько дней в командировку, испытывал за нас беспокойство и оставил маме свой ТТ (кстати, пистолет оказался во вполне надежных руках – мама была в молодости ворошиловским стрелком). Слухи о якобы действующей в подполье немецкой террористической организации «Вервольф» распространяла, скорее всего, наша контрразведка для повышения бдительности.
Мама тяготилась жизнью в Германии, ее тянуло домой. Папу же устраивала комфортная жизнь в благоустроенной стране, он не очень стремился вернуться в скудный быт московской коммуналки. Семейным дискуссиям положил конец 49-й год – начальство решило отправить всех советских граждан – членов семей военнослужащих – на родину. Мы ехали в Москву малой скоростью, подолгу останавливаясь на небольших станциях. После пересечения советской границы поезд остановился на каком-то полустанке под Оршей. Пока поезд стоял, я вышел из вагона пройтись. По откосу бродили стайки оборванных чумазых детей. Эти ребятишки обступили меня. Они рассматривали меня – чистенького, хорошо одетого мальчика – как заморское чудо, осторожно прикасались пальцами к моей одежде. Один из них, мальчик постарше, робко спросил меня, не могу ли я принести чего-нибудь поесть. Я вбежал в вагон и, объяснив матери, что там, на перроне, голодные дети, схватил, сколько мог, еды и выскочил наружу. То, что произошло в дальнейшем, потрясло меня: дети набросились на еду, стали вырывать ее друг у друга… Я заплакал и убежал в вагон.
По приезде в Москву мы с мамой и братом поселились в нашей старой комнате в коммунальной квартире, а папу вскоре перевели в Ригу. Я поступил в школу, в третий класс, летом мы ездили в Ригу, где папа снимал для нас на взморье дачу, и три месяца мы жили вместе. Я знаю, что папа страдал от разрыва с семьей, не раз звал маму переехать в Ригу, где ему предлагали хорошую квартиру, но это означало потерять московскую прописку, что для мамы было неприемлемо. Наконец, в 1952 году, когда в «Детгизе» вышла книжка отца (в соавторстве с Алексеем Мусатовым) «Костры на сопках», он решился на демобилизацию, не дослужив пару лет до армейской пенсии и вообще выбрав крайне неподходящий момент для резких телодвижений (как раз тогда случилось «дело врачей»). Но об этом я уже рассказывал.
III. По Крымско-Кавказской линии
Карадаг
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди… А. ГородницкийНу все, больше не могу! Весна в Москве – грязный город, все надоело, на встречном эскалаторе – не лица, а звериные морды, Босх и Гойя в одном флаконе. А действительно, поеду-ка в Коктебель! Там сейчас хорошо – народу никого, солнышко, море, в горах сплошным ковром цветут маки и пионы. Денег мало, но много и не надо, только на билет, а жизнь там дешевле, чем тут! И с работой нет проблем – накоплена куча отгулов за ночные дежурства. И Карадаг!.. Наверняка уже кто-нибудь из друзей кантуется там или на «Киселевке».
Сборы недолги – рюкзак, палатка, спальник (все-же не лето), котелок, позвонить родителям – и айда. Поезд Москва – Феодосия, в общий вагон неохота, в общем хорошо ехать в компании, беру билет в плацкартный до станции Айвазовской. На другое утро поезд тянется вдоль песчаного пляжа, останавливается со скрипом… Станция Айвазовская, автостанция, до Коктебеля – автобус либо такси за 40 минут, объезжаем гору Планерную, и вот уже из-за поворота открывается широченный вид: полгоризонта – море, внизу – маленький поселок, слева – песчаные Лисьи бухты, а справа – КАРАДАГ!
В поселке особо не задерживаюсь – купить хлеба, вина, чего-нибудь поесть – и в путь, в родную Сердоликовую. Летом в бухту есть три пути (выбор зависит от погоды, тяжести рюкзака и квалификации спутников): первый, самый легкий, но в шторм непроходимый, – вдоль кромки берега, обходя мысы по мелководной кромке скал, второй – вдоль берега мимо писательского пляжа, первой Лягушачьей бухты – во вторую Лягушачью, здесь хороший родник, можно отдохнуть, попить водички и, по узкому крутому ущелью, где летом пéкло, – вверх до полгоры, а там уже близко – вдоль пологого склона, обходя скалистые мысы – до спуска в Сердоликовую. Путь хорош, но подъем тяжелехонек, особенно сразу после приезда и с тяжелым рюкзаком! Третий путь самый простой, но и самый длинный: от поселка подъем по старой кремнистой дороге до Чертова Пальца, а дальше поворот в ущелье Гяур-Бах и спуск по тропе в Сердоликовую. Сейчас вода холодная, первый путь отпадает, третий – для детей, женщин и стариков, поэтому придется попотеть по второму – из Лягушки. Спуск в бухту с тропы, в принципе, тоже не сахар, надо спускаться по скальной щели – «трубе», но, живя подолгу в бухте, мы так уже освоили эту «трубу», что знали в ней каждый камушек, каждый уступ, куда ставить какую ногу и за что цепляться какой рукой… И вот, наконец, последний уступ, спрыгиваю на грохочущую гальку – я ДОМА!
Крым, бухта…
Пицунда – Карабах
Был 1961 год. Я перешел на последний курс института, впереди мои последние студенческие каникулы, в кармане изрядная (по моим представлениям) летняя стипендия. На море я был последний (и первый) раз с отцом, еще учась в школе, естественно захотелось повторить этот незабываемый опыт. С моим институтским приятелем Володькой Сумачевым берем в прокате туристское снаряжение (своего еще не было) и отправляемся на море – в Адлер. Оттуда маршрут лежит в Красную Поляну – тогда еще совсем дикое маленькое горное местечко. Речка Мзымта, в Адлере тихая, болотистая, по колено, здесь – серьезный горный поток, по которому лихо сплавляются на автомобильных камерах местные мальчишки. Попробовали это дело и мы – занятно… Дальше – в горы. Поскольку маршрут проходит через заповедник, надо оформлять пропуск, и группа должна быть не менее четырех человек. Объединяемся с ребятами из какого-то саратовского техникума, у которых есть пропуск, и с рассветом отправляемся в путь. Вверх, вверх, вверх… Привал. Вверх, вверх, вверх… Привал. Где-то уже к вечеру на одном из таких коротких привалов мы с Володькой засомневались в целесообразности двигаться дальше, но саратовские бронеподростки рвались вперед, стремясь, по-видимому, к установлению тогдашнего рекорда Гиннеса. Я, по свойственным мне слабости характера и законопослушанию, склонен был уступить обстоятельствам (ведь пропуск через заповедник был у них). Но Володька твердо сказал, что это глупо и вообще не хочется, к тому же мы прошли все кордоны и в дальнейшем проверок документов не предвидится. Я легко поддался на уговоры, и мы остались (о чем до сих пор вспоминаю с благодарностью к Володькиному здравому смыслу). А бронеподростки пошли дальше вверх.
Вверх, в горы…
Мы поставили палатку, развели костер, поели (довольно скудно – ведь основное продовольствие ушло вверх) и тут заметили, что на поляне недалеко от нас расположилась еще одна компания. Пошли знакомиться, это оказались москвичи, выпускники нескольких вузов, старая спаянная туристская компания. Пригласили нас к костру, угостили чаем, сухим вином. Пели песни под гитару. Там я впервые услышал имена Окуджавы, Галича. Двое из этой компании – Изя Темкин и Боря Домнин – стали моими друзьями на всю жизнь. В общем, наутро мы пошли уже вместе с ними. Дальнейший наш путь – через перевал, мимо горного озера Кардывач – проходил удивительно легко, без напряжения, благодаря туристскому опыту наших новых друзей. Вела нас Ирка – маленькая, стройная, крепкая, как боровичок, она выбирала такой естественный темп движения, что мы не уставали и могли любоваться незабываемыми видами Кавказа. Дальше вниз – мимо Рицы, в Пицунду, где мы остановились лагерем в одном из субтропических ущелий на берегу моря. Позднее, через несколько лет, обзаведшись семьей, я не раз приезжал в эти поистине райские места и жил подолгу с детьми в палатке на берегу, упиваясь видами и винами и объедаясь дикорастущими фруктами, ягодами и грибами.
Через пару недель привольной жизни в пицундском ущелье пути наши с ребятами разошлись – у них кончался отпуск, а мы с Володькой сели в Сухуми на теплоход и поплыли в Ялту.
Теплоход подходил к Ялте рано утром. Справа тянулся каменистый крымский берег. Теплоход шел близко к берегу, и можно было разглядеть береговые камни, кусты, деревья, виноградники. Одно местечко нам особенно приглянулось – там, на диком берегу, среди поросших мелким дубняком деревьев, выдавались в море большие плоские камни, на которых кое-где виднелись тела купальщиков. Вот то, что нам нужно. Сориентировались по карте и к вечеру уже ставили палатку в облюбованном месте.
Место и вправду оказалось чудесное – отличное море, родник, в полукилометре – цивилизация в виде спортбазы «Карабах» с ларьком и базарчиком. Это место на несколько лет стало для меня, да и для моих родных – папы и Алика, летним пристанищем.
Однажды рядом с нашей палаткой поставил свою симпатичный парень. Он поведал нам, что место наше хорошее, но есть места получше, из одного из таких мест он сейчас и перемещается. Место это в Восточном Крыму, называется Коктебель, и есть там такая гора Карадаг, окруженная бухтами с замечательными названиями – Сердоликовая, Бухта Барахта, Разбойничья, бухта Золотых Ворот. Слушали мы его с интересом, но особого значения рассказу не придали – ведь вокруг и без того было так хорошо! Осознание момента пришло позже: этот рассказ был ГЛАС СУДЬБЫ!
Карабах – предтеча Карадага
Все-таки в слове – сила! Воистину, мир слова равновелик материальному миру (повторю я вслед за автором Библии)!
Карабах – с татарского – Черное ущелье, Карадаг с того же татарского – Черная гора. Жизнь со всеми ее выкрутасами можно представить, в сущности, как восхождение, и моя жизнь между 60-ми и 80-ми годами хорошо укладывается в схему восхождения – от Карабаха к Карадагу.
Место нашей с Володькой стоянки (и последующих на несколько лет моих стоянок) – место замечательное и достойно отдельного описания. Берег здесь возвышается метров на пятьдесят над морем и представляет собой развал больших камней, заросших кустарником дуба и лавровишни. Выше спускаются по склонам долины виноградники (не скрою, нередко – место нашего мародерства). Если смотреть на море, слева в километре – пансионат «Карабах», тогда спортбаза общества «Локомотив», бывшее имение известного русского статистика и этнографа, одного из основателей Русского Географического общества академика П. И. Кеппена. Там имелись, кроме упомянутых и столь необходимых для жизни ларька и базарчика, танцплощадка и кинотеатр. В это лето мы познакомились там и подружились с членами женской волейбольной команды мастеров общества «Локомотив», переманили их на наши камни и отлично проводили время. Кстати, незабываемое впечатление осталось у меня о том, как эти нежные девушки носили нас с Володькой по берегу на руках!
Справа от нашей стоянки, опять же в двадцати минутах ходьбы, на высоком береговом утесе и в прилегающей долине, располагался санаторий «Утес» – бывшее имение княгини Гагариной Кучук-Ламбат. Главное здание санатория – дворец с башенкой – окружал замечательный тенистый парк. В глубине парка под громадной чинарой из мраморной стелы с надписью арабской вязью сочился родник. Согласно легенде, именно этот родник, а не бахчисарайский, вдохновил Пушкина на строки: «…Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы…» Имение Гагариной Кучук-Ламбат перешло по наследству к ее племяннице княгине Тархан-Моурави (эта наследница «великих Моурави» доживала свой век уже при советской власти в комнатке санатория, оставив в наследство отдыхающим великолепную библиотеку, которую, разумеется, изрядно подграбили то ли отдыхающие, то ли оккупанты – немцы). Библиотечный зал санатория – прохладный, со стенными деревянными панелями и цветными витражами, с мягкими креслами – был замечательным местом отдыха, где можно было почитать журнал или вздремнуть в летнюю жару. Нашему папе – человеку литературного труда – прекрасно там работалось в те времена, когда он, поддавшись однажды на мои уговоры, ездил с палаткой (и пишущей машинкой) в эти благословенные края.
Не знаю, интересно ли будет любезному читателю (интересно, интересно! – говорит любезный читатель), но вот несколько эпизодов из нашей тогдашней жизни.
Наше купание там происходило с большого плоского камня, на метр возвышавшегося над уровнем моря, на этом же камне великолепно лежалось, загоралось и наслаждалось (можно ли так сказать? – очень хочется!) фруктами и виноградом, по большей части похищенным в расположенных вверху виноградниках. Однажды при солнечной, вполне пляжной, погоде и в полный штиль мы с компанией расположились на нашем камне. Неожиданно море раскачалось (так бывает, когда далеко в море шторм). Некоторое время мы еще прыгали в воду купаться, но вылезать из-за прибоя обратно становилось все труднее. Когда я, прыгнув в очередной раз, попытался вылезти на камень, оказалось, что волны накатили нешуточные и становятся все больше и больше и при приближении к берегу меня бьет в лицо сильнейшей откатной волной и грозит расшибить о камни. Ребята же, отодвинувшись подальше от берега, с интересом наблюдают мои эволюции и кульбиты, думая, что я развлекаюсь. Мои призывы бросить мне надувной матрас из-за рева прибоя до них не доходят. Наконец, в совершенном изнеможении, я во всю глотку изверг из себя весьма грубый текст и отплыл подальше в море, где не так била волна и где я, наконец, дождался помощи в виде брошенного со скалы матраса. Помню, как, не имея сил залезть на матрас, я с трудом подпихнул его под себя и, проплыв по морю с километр (благо течение этому благоприятствовало), выбросился на пляж Карабаха.
Другой эпизод (это случилось позднее) был связан с пограничниками (вообще, пограничники Крыма и их отношения с отдыхающими – это отдельная песня). Карабахская погранзастава находилась на высотке, откуда наблюдался весь прилегающий район. Как я убедился, побывав однажды на заставе, пограничники прекрасно видели все наши палатки, которые мы так старательно маскировали в кустах, но гоняли нас не всегда, а только по каким-то своим поводам.
Начальником погранзаставы несколько лет был уже пожилой майор, который, видимо, дотягивал срок до пенсии, стараясь не осложнять жизнь себе и другим. Однажды ночью (часов в пять) я сквозь сон почувствовал, как кто-то меня дергает за ногу. Брыкнув, естественно, ногой, я приготовился дальше спать, но был разбужен обиженным возгласом: «Вы что пинаетесь, гражданин?» Пограничники… Наш бравый майор собрал на поляне обитателей окрестных палаток – человек десять – и объявил, что он, мол, гонять и уговаривать нас не будет, но вот сейчас пять часов утра, а в девять Крым «закрывают» на карантин по случаю холеры и, если мы не хотим остаться на этот карантин, с неясными условиями пребывания, нам лучше немедленно подняться на шоссе и уехать. Что мы и сделали.
Малая кругосветка 62-го года
Итак, с некоторых пор местом моих летних отдохновений и приключений надолго стал Крым. Но перед тем довелось объехать и многие другие замечательные места.
Весной 62-го года мы с Володькой Сумачевым защитили дипломы и оказались в ситуации, когда впереди, перед выходом на работу, два свободных месяца и в кармане изрядная сумма. Для начала махнули в Ленинград, где у мамы нашлась какая-то дальняя родня и можно было остановиться. Не уверен, что наш приезд доставил этим родственникам большую радость, но тогда принимать у себя родных и знакомых было принято, первобытные законы гостеприимства соблюдались строго. Помню, что, когда в нашей 16-метровой комнатке появлялись какие-нибудь родичи из провинции, мне стелилась постель под столом… Так что, когда я ничтоже сумняшеся ввалился однажды с другом к ленинградцам в их (отдельную!) квартиру, особой неловкости я не чувствовал, благо у них был сын примерно нашего возраста и темы для разговоров находились.
Тот первый мой приезд в Питер запомнился свободой, белыми ночами, полной потерей чувства времени. И была юная сероглазая, белозубая, с нежным румянцем во всю щеку, собиралась поступать в институт… Мы блуждали по бесконечным проспектам и каналам, встречались и расходились с такими же, как мы, юными, весело спорили. Помню, загулявший ночной речной трамвайчик возил нас двоих по Неве, а мы сидели на корме, обнявшись, и говорили о чем-то… Потом мы с Володькой улетели в Москву и мираж закончился.
Перед отъездом из Питера мы зашли в городской турклуб и разжились там странными документами: это были талоны, дающие право на бесплатный проезд «автостопом» – каждый такой талончик, стоимостью какие-то копейки, по-моему, давал право на проезд 50 километров. Товарищи шоферы заверялись, что в конце сезона для них по этим талонам городской турклуб будет проводить розыгрыш каких-то ценных товаров. Сразу по приезде в Москву у нас зародилась идея незамедлительно воспользоваться этим новым видом общественного транспорта. Мы вооружились вырванной из школьного атласа картой европейской части Советского Союза, сели на поезд и прикатили в город Орджоникидзе, откуда, как известно, начинается Военно-Грузинская дорога. Наши первые попытки воспользоваться заветными талончиками, чтобы отправиться в Грузию, окончились ничем, дело даже не доходило до обсуждения вариантов оплаты – водители не хотели брать попутчиков. Удалось уехать только на попутном туристском автобусе, правда, за очень небольшие деньги шоферу на лапу. Сразу хочу сказать, что применить наши специфические проездные документы нам удалось только один раз, да и то в ситуации, когда водителю ничего другого от нас не светило и он действовал по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Но об этом – позже.
Поездка по Военно-Грузинской дороге – ревущий внизу Терек, отвесные скалы, замок царицы Тамары – многократно описана мастерами и художниками пера, мне же запомнилось, как на одном из горных участков впереди загорелся грузовик и две колонны автомобилей – наша и встречная – стояли и ждали пару часов, пока машина не прогорела и не удалось освободить проезд, спихнув ее в пропасть. Уже смеркалось, когда, перевалив хребет, мы съехали в долину и остановились у турбазы маленького зеленого городка Пасанаури, расположенного у слияния двух рек – Белой и Черной Арагви. Помню, как эти две реки, действительно контрастных белого и черного цветов, вырвавшись из своих ущелий, далеко текли вниз по общему руслу, не смешиваясь. Помню еще, что меня поразили местные коровы, мирно пасущиеся на совершенно отвесных горных склонах. Запомнились и местные грузинские женщины, гулявшие на вечернем променаде во всем черном, в плотном кольце мужчин-родственников. По утрам и в середине дня над городком проплывал вкусный запах свежего лаваша, за которым сходились к булочной хозяйки, они же ходили с кувшинами к роднику по воду. На турбазе Пасанаури мы прожили два дня, дожидаясь случая отправиться вглубь Кавказа. Наконец такой случай представился. Группа официальных туристов (то есть туристов с путевками) отправлялась на автобусе в маршрут в направлении Кахетии. Экскурсовод согласился нас взять с собой бесплатно как опытных туристов за некоторую помощь на маршруте. Такая помощь, кстати, ему понадобилась, когда на узкой горной лесной дороге он, стоя в открытом кузове машины, не уберегся и получил сильнейший удар веткой в грудь, от которого вылетел из кузова. Слава богу, кажется, серьезных повреждений он не получил, парень был крепкий, альпинист, и после оказания первой помощи смог продолжить маршрут. На одном из привалов, на лесном кордоне, когда группа отказалась пройти пешком небольшой перевал, а захотела продолжить маршрут на автомобиле, мы с Володькой тепло распрощались с экскурсоводом, менее тепло – с туристами и остались на маршруте одни. Место это называлось Пшава, был какой-то большой старый бревенчатый дом, окруженный заросшим садом, и густые лесные заросли в лощине, где протекала речушка, собственно и давшая название месту. Прошлись по тропке вдоль речки, среди кустов и огромных лопухов вдруг встретили настоящую дриаду, которая ничуть не испугалась, а доверчиво подошла и разговорилась с нами. Пятнадцатилетняя прелестная девчушка – правнучка знаменитого грузинского поэта Важа Пшавел – жила здесь в глуши, в фамильном имении, под присмотром родственников, мечтала увидеть мир, спрашивала о Москве.
Наутро, расспросив местных обитателей о дороге, свернули палатку и отправились по тропе вверх, через лес и перевал, в сторону Кахетии.
Путь через перевал оказался нелегок и очень неблизок. Места были глухие, но нам повезло: спускаясь с очередного заросшего лесом холма и подумывая уже об устройстве ночлега, мы неожиданно наткнулись на группу геологов, производивших в этих местах съемку. Нам было по пути, и ребята пригласили нас с собой – в паре километров ниже по тропе их ждала экспедиционная машина. Вскоре мы уже тряслись в кузове грузовичка, уворачиваясь от преграждающих дорогу веток. Дорога, больше похожая на оленью тропу, по мере спуска расширялась и выравнивалась и, наконец, влилась во что-то похожее на нормальный проселок. Еще час-другой – и машина остановилась на развилке: дальше по дороге, километрах в десяти, находился городок, откуда, как объяснили нам геологи, можно уже было добраться и до мест более обитаемых. Машина свернула в сторону и покатила по своим геолого-машинным делам, а мы, попрощавшись, поставили под деревом палатку и переночевали, чтобы с утра продолжить маршрут. Наутро двинулись в путь.
Как это часто бывает, обещанные десять километров обернулись всеми двадцатью, да и жара стояла нешуточная, так что в городок мы пришли изрядно измученными. Зашли на местный базар – поглазеть и купить чего-нибудь съестного. Здесь, на глухом грузинском базаре, случилось со мной некое происшествие, которое я даже теперь, по прошествии времени, вспоминаю со страхом и непониманием. Конечно, многое можно было бы объяснить усталостью, жарой и временным помрачением рассудка, но я все же не подозревал за собой таких первобытных глубин.
Итак, мы бродили по базару, объясняясь с местными в основном жестами, поскольку русский язык почти никто не знал. Остановились около одного пожилого крестьянина, прицениваясь к его товару (фрукты или вино?). Стоявший рядом с продавцом молодой парень, возможно родственник, явно человек поддатый или обкуренный, стал на ломаном русском языке к нам вязаться и лепить какую-то чушь насчет слабости русских мужчин и доступности русских женщин. Мы пытались свести дело к шутке, но, слово за слово, разговор обострился, и вдруг парень достал ножик и стал водить им перед моим носом. В тот момент страха я не ощутил, но сознание мое явно раздвоилось: одно «Я» приторможенно взирало на происходящее как бы со стороны, в то время как другое «Я» сбросило на землю тяжелый рюкзак, достало из него охотничий нож и предложило оппоненту оценить, насколько упомянутый нож больше и опаснее его ножика. В наступившую паузу вмешались находящиеся поблизости грузины, урезонивая дебошира и одновременно настоятельно советуя нам уйти, что мы, слава богу, незамедлительно и проделали. Не знаю, честное слово, да и не хочу знать, что бы я сделал, если бы пришлось применить мое оружие. Вскоре мы на попутной машине продолжили путь и к ночи прибыли в Телави.
Телави – столица Кахетинского царства, которое, наряду с Картли, Сванетией, Имеретией и несколькими другими государствами, образовало древнее Грузинское царство. Расположен Телави на склонах невысокого Гомборского хребта над обширной плодородной долиной реки Алазани, или Кахетинской долиной. Что это за места, дают представление названия близлежащих сел: Цинандали, Ахмета, Киндзмараули, Напареули, Кварели, Карданахи, Мукузани, Гурджаани…
Над городом и над раскинувшейся внизу долиной господствует средневековая крепость. В крепость, где располагалась местная турбаза, мы добрались уже под утро, поставили палатку над обрывом и вышли полюбоваться перед сном на потрясающий вид. Внизу, от края и до края, простиралась широкая долина, вдоль которой извивалась речка Алазани. Видно было вокруг на десятки километров. И вдруг предрассветную тишину прорезал странный раскатистый гул, скорее – клекот. Странный звук прокатился волной вдоль долины слева направо, было затих, а потом, опять волной, повторился снова. Это кричали по всей долине, от села к селу, петухи! Второй такой же случай согласованных, ошеломляющих, почти осмысленных действий животных я видел, когда стоял в Вилле Боргезе над Итальянской лестницей и в розовеющем римском небе наблюдал плотные стаи черных скворцов, совершающих синхронные, по принципу «все вдруг», повороты, эволюции и курбеты!
Поздним утром следующего дня, выбравшись из палатки, наткнулись на приятеля – экскурсовода из Пасанаури, который бодро нам объяснил, чтобы мы ни в коем случае не пытались самостоятельно покупать вино в этом винном краю, а то напоят нас невесть чем. Договорились отправиться на экскурсию вместе, что вскоре и проделали. Вино было действительно хорошим, местные друзья нашего приятеля дегустировали его вместе с нами, под брынзу и помидорчики, так что обратно в палатку вернулись мы опять затемно… Так, в трудах и заботах, прошли два дня, а затем наш приятель пристроил нас на отправляющийся в Тбилиси экскурсионный автобус, и мы двинулись дальше.
Старый Тбилиси – неповторимый город. Целый день мы бродили по его кривым улочкам и широким проспектам, любовались красочными толпами гуляющих по центру людей. Хотелось задержаться в городе, осмотреть достопримечательности, но устроиться в гостиницу или на турбазу не удавалось. Наступал вечер, мы порядком устали – день был утомительный. Решили выбраться за город и переночевать в своей палатке. В троллейбусе, направляясь к окраине, разговорились с попутчиком – молодым парнем лет шестнадцати, рассказали о своей ситуации. Нимало не задумываясь, он предложил поехать к нему домой, на наши осторожные расспросы о том, как на это взглянут его родители, пожал плечами и заявил, что не видит проблем. Выбора особого у нас не было, решили принять приглашение. Троллейбус ехал довольно долго, прикатил в район местных «Черемушек» – Сабуртало. Поднялись в пятиэтажку. Трехкомнатная квартира с верандой, семья из шести человек – папа, мама, бабушка, старший брат и младшая сестра. Встретили как родственников, усадили за стол, никаких извинений и отказов слушать не хотели. Мы прожили в этой небогатой грузинской семье три дня, и только один эпизод внес некоторое осложнение в дружелюбную атмосферу – когда вначале мы неловко предложили оплатить ночлег.
С утра с нашим юным приятелем мы отправлялись бродить по городу. Побывали в парке на горе Мтацминда, в Пантеоне великих людей Грузии – поэтов, художников, артистов (есть ли еще где в мире такой мемориал?), были у могилы Грибоедова с трогательным памятником, поставленным ему юной женой Ниной Чавчавадзе («Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя – Александру Грибоедову – Нина Грибоедова»). Нина, облачившись в черные одежды, оставалась после гибели мужа одинокой всю жизнь. Она на семнадцать лет пережила своего мужа… Некстати вспомнилась судьба другой знаменитой вдовы – графини Ланской. Те же времена, но другой нрав.
Надо сказать, жара была все время адская (за сорок), и переносится она в Тбилиси тяжело, поскольку город лежит в котловине и ветерка нет. Поэтому съездили мы и на «Тбилисское море» – довольно большое водохранилище, с пляжем и лодками. Наконец настало время двигаться дальше – очень хотелось к морю. Выбирая между железной дорогой и автомобилем, дружно предпочли душному вагону привычный уже вид транспорта. По совету опытного старшего брата нашего гостеприимца выбрались на троллейбусе по шоссе за двадцать километров от города – в Мцхету, древнюю столицу Картлийского царства: «Немного лет тому назад там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь» – осмотрели монастырь Джвари, где томился Мцыри, храм Светицховели – главный кафедральный собор Грузии – и вышли «на большую дорогу» – на шоссе в сторону Батуми. Долго стояли, махали руками и оттопыренными большими пальцами – бесполезно. Похоже, никто в здешних краях не пылает желанием подсадить к себе в машину двух молодых людей довольно подозрительного вида. Вечерело. Неподалеку от нас гаишник на мотоцикле занимался своим нехитрым промыслом, собирая дань с проезжавших автомобилей. Решили слегка блефануть. Подошли к гаишнику, представились, показали свои студенческие билеты и сказали, что хотели бы съездить в Гори, посмотреть на известный всем мемориал, но вот не берут… Милиционер загорелся энтузиазмом, похвалил наш патриотический порыв, окинул взором проезжающие автомобили, выхватил из потока газончик, переговорил с водителем и, кивнув на нас, властно сказал по-русски: «Вот, довезешь московских студентов до Гори». Покидали рюкзаки в кузов, забрались сами и, помахав любезному гаишнику, бодро покатили по дороге. Как выяснилось, машина направлялась мимо Гори в Батуми, везла какой-то мотор. До Гори доехали часа за два, и шофер, остановившись в центре города, показал на мемориал Сталина и приготовился с нами попрощаться. Пришлось, блудливо кося глазом, объяснить ему, что мы, пожалуй, доедем с ним до Батуми, а уж на обратном пути заедем в Гори. Водитель все понял, завел движок и покатил дальше.
Дорога наша пролегала через всю Грузию и давала возможность наблюдать череду разнообразных географических зон и ландшафтов – от снежных гор, через лесистые холмы, сады и виноградники, до широких плодородных нив, словно где-нибудь на Украине. Наш водитель времени даром не терял – поняв, что на нас много не заработаешь, он подсаживал подряд всех попутчиков и даже раз подвез отару овец, погрузив их с нашей помощью в кузов. Поздно вечером въехали в город Кутаиси, и шофер заявил, что дальше не поедет, будет здесь ночевать у родственников. Поняв намек, мы попрощались и вручили шоферу в качестве утешительного приза оставшиеся у нас из Ленинграда талоны на проезд автостопом, объяснив ему, какие блага его ожидают осенью, при розыгрыше турклубовской лотереи. Шофер отнесся к ожидающей его перспективе довольно скептически, но талоны взял.
Перевозим овец
Что ж, надо было двигаться дальше. И побыстрее, потому что находиться в Кутаиси не было никакой возможности – более тяжелой, удушающей жары я в жизни не испытывал. Неожиданно быстро нашлась попутка до Самтредиа – узловой станции на железной дороге, но дальше мы застопорились. Пришлось ночевать на скамейке на пристанционном скверике. Нас ожидала самая странная ночевка – всю ночь вокруг нас скользили какие-то тени, появлялись и исчезали милиционеры – предупреждали, что нельзя спать – не положено, что-то предлагали сомнительное… Наутро с первой электричкой отправились мы дальше и вскоре высадились на площадке Махинджаури – Ботанический сад, совершенно правильно рассудив, что нам не нужен город Батуми, а как раз нужен этот сад. Сад, напоминающий Райский Сад, как я его себе представляю, раскинулся на взгорке над морем, весь зарос тропическими и субтропическими деревьями и лианами, усыпан цветами и плодами и никем не охранялся. Железнодорожная станция находилась на берегу и была отделена от моря узким галечным пляжем. Подхватили рюкзаки, взобрались по склону вверх, нашли уютную поляну под раскидистым деревом и поставили палатку. Все! Будем отдыхать!
Совершенно прекрасно пожили мы с Володькой с неделю в этом райском уголке. Неподалеку от нашей стоянки, около конторы Ботанического сада, имелся ларек, где мы закупали продукты. Собирали ежевику и груши. Воду брали из крана. Купались на почти пустынном пляже. Бродили по огромному парку, больше похожему на тропический лес…
Особенность местного климата – очень большая влажность. Окрестные холмы окутаны дымкой, уходят вдаль, покрытые купами цитрусовых деревьев. Постоянная легкая изморось не дает полностью просохнуть одежде, но стоит жара, и этой влажности не замечаешь. Солнце палит сквозь дымку так, что, несмотря на вполне плотный загар, приобретенный нами за время путешествия, мы в первый же пляжный день порядочно обгорели. Вода в море мутноватая из-за большого стока прибрежных вод и постоянного легкого волнения.
К концу недели легкое волнение на море перешло в тяжелое и разразился шторм, каких я мало видел в своей жизни: валы наката вздымались на высоту двухэтажного дома и брызги перелетали через железнодорожные пути. К ночи пошел дождь, постепенно превратившийся в настоящий ливень, да какой! Я понял смысл выражения «льет как из ведра», только надо представить себе, что ведро над вами не опорожняется, а хлещет порывами непрерывно. Оставалось укрепить палатку, залезть в нее, ждать и надеяться. В середине ночи я проснулся от плеска и хлюпанья: палатка протекла и на полу стояла глубокая лужа. В довершение несчастья, теснясь в темноте (спички отсырели, а кругом была тьма кромешная), мы опрокинули котелок с фруктовым киселем, сваренным накануне. Оставалось ждать утра, сидя на рюкзаках и отгребая ладонями от себя жижу… Наконец забрезжил рассвет. Дождь не утихал. Неподалеку от палатки стоял маленький сарайчик для садового инвентаря. Решили в него перебраться. Там, действительно, оказалось сухо и мы попытались немного поспать. Несчастные! Мы и не подозревали, какое еще испытание нам приготовила судьба! В сарайчике хранились, видимо, старые бочки из-под квашеной капусты. Запах тухлой капусты преследует меня теперь всю жизнь…
Как только окончательно рассвело, мы собрали сырые шмотки и двинули пешком в сторону города, благо дождь стал чуть-чуть потише. Прошлепали по мокрой скользкой дороге километров шесть, пришли в Батуми и направились в порт. На наше счастье, у причала стоял теплоход, на него были билеты, и вскоре мы уже отогревались в сухом и теплом корабельном баре. Взяли билеты, разумеется, до ближайшего порта – Сухуми, но решили про себя плыть, пока не увидим настоящее солнце. Сразу скажу, что такое солнце ждало нас уже в Ялте, но мы отправились дальше – до Одессы.
Теплоход себе плыл, мы любовались видами и общались с пассажирами. В салоне между тем затевались пульки. С деньгами у нас образовался к тому времени вакуум, и мы решили убить время, а заодно пополнить свои капиталы с помощью карт. Разделили с Володькой наличность и сели играть в разные компании, справедливо рассудив, что мы не шулеры, а два выигрыша лучше, чем один. Надо сказать, что картежная игра в институте процветала. Играли в основном в преферанс, но особо азартные резались и в секу. Я был, полагаю, игроком средним, играл на ставку не больше двух копеек за вист. Володька же входил в институтскую элиту, то есть играл в институтском комитете комсомола, и ставки там доходили до рубля.
Я не думаю, что мы нарвались на компанию настоящих шулеров, но наш класс игры здесь был явно недостаточен. Как же красиво нас раздели! Когда расписали пулю, я подошел к Володьке, надеясь, что он в выигрыше, и попросил дотации. «Сколько?» – спросил он испуганно, и я понял, что дело плохо. В результате нам хватило денег, чтобы рассчитаться, и еще осталось на хлеб и мороженое.
В общем, доплыли мы до Одессы, вышли на берег. Очень хотелось побыть в знаменитом городе, но безденежье давило, да и время уже подпирало. Надо было добираться домой. Прошлись по Дерибасовской, познакомились с компанией молодых ребят. Ребята устроили нас на ночлег у кого-то на веранде и с утра направили на дорогу – ловить попутку. Попутка нашлась удивительно легко, да еще какая лихая: два грузовичка с арбузами направлялись в сторону Киева, водители легко согласились взять нас с собой. Частично их добродушие вскоре объяснилось: оба шоферюги были до изумления пьяны! Машины катили от обочины к обочине, но после остановки и небольшого отдыха движение выровнялось. Выяснилось, что водители с машинами, находясь в командировке, «заблудились» на бескрайних украинских дорогах, завели себе под Херсоном знакомого баштанщика, снабжавшего их арбузами, а в Умани – вдовушку, которая забирала у них арбузы, поила самогоном и привечала всячески, и второй месяц ребята катались туда-сюда, стараясь не думать о неизбежном возвращении. Так и доехали мы с ними до Умани, вволю наевшись арбузов с черным хлебом. Здесь наши пути разошлись: ребята отправились к вдовушке, а мы попросились ночевать в ближайшую крестьянскую хату. Хозяева – молодая крестьянская пара с ребенком – приняли нас приветливо, разрешили спать на сеновале и пригласили разделить с ними их ужин – краюху грубого домашнего хлеба, луковицу и кринку парного молока. Эх, не убереглись мы с Володькой, польстились с голодухи на вкусную крестьянскую еду, не приняли во внимание свои нежные городские желудки и в результате имели очень беспокойную ночь… Тем не менее с утра уже вышли на шоссе и вскоре уже катили на попутке в сторону Киева. Я не помню в деталях, но очень живо могу себе представить выражение лица моих тихих провинциальных киевских родственников, когда два здоровых загорелых оборванца ввалились в их чистенькую квартиру на Крещатике…
О друзьях
Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б! Осип Мандельштам«Если бы у нас не было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию» – этой цитатой из замечательного текста (О. Мандельштам, «О собеседнике») я хотел бы начать разговор о моих друзьях. Мне повезло с друзьями. Их у меня в жизни было много, и ни одного скучного! По-видимому, исходившие от меня, особенно в молодые годы, симпатия и эмпатия облегчали сближение мое с самыми разными людьми, а кроме того, свойственный мне некоторый добрый артистизм давал возможность изобразить эмоции, нужные для собеседника, которых, может быть, в этот момент я и не испытывал. Во всяком случае, на больших сборищах по случаю дней рождения, которые происходили у меня традиционно, с доброй руки моей мамы, собиралось у меня в лучшие времена до ста человек и больше и, полагаю, все находили себе не только собутыльника, но и собеседника (в том числе и в моем лице).
Меня всегда привлекали талантливые, яркие, но непременно добрые люди. Злые по характеру, пусть даже талантливые (а такие встречаются нередко), меня отталкивали, и, если в процессе общения обнаруживался в человеке этот недостаток, я почему-то сразу терял к нему интерес. Среди моих друзей, впрочем, были такие, кому свойственн был некий имморализм, позволявший прощать в друзьях злые или неприятные проявления человеческой натуры (а может быть, более глубокое знание этой натуры позволяло им видеть то хорошее, что ускользало от моего взгляда).
Сейчас у меня старых друзей осталось немного – «иных уж нет, а те далече…», но тех, что остались, я люблю по-прежнему, и все время появляются новые друзья и делятся со мной своими душевными богатствами. Иногда появляются новые друзья и среди книг. Пусть не иссякает этот благословенный источник!
Можно, конечно, рассуждать о неполноценности общения по Интернету по сравнению с действительно живым общением, например, на кухне! А если далеко разлетелись друзья, если нет времени, если нет денег на билет, наконец? (какая проза!). Ведь сказал поэт (а может быть, прозаик – я не знаю, кто из авторов «Козьмы Пруткова» это сказал): «Три дела, однажды начавши, трудно кончить: вкушать хорошую пищу; беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется». Сказал и трижды оказался прав. Хотя, предположим, говорить о бесконечном наслаждении от вкушения хорошей пищи трудно (пожалуй, можно и объесться), но два остальных утверждения неоспоримы и, обращаясь к предмету нашего обсуждения, оба хорошо ложатся в русло его (этого предмета). Да и первое утверждение, если рассматривать его расширительно (как пищу духовную), безусловно неоспоримо!
Итак, летом 1963 года (так утверждает мой брат Алик, я бы отнес это событие к 1964 году, но боюсь, что могу здесь напутать, пусть будет 1963 год – по прошествии почти полувека эта разница в датах не представляется значительной) три московских гаврика, нагруженных походным снаряжением, в которое входили палатка, кастрюли, пледы, ватное одеяло для пятнадцатилетнего (!) Алика (мама без этого предмета отказывалась отпускать ребенка с беспутным старшим братом) и комплект постельного белья – мой школьный товарищ Витька Осипенко по прозвищу дядя Степа (в молодые годы отличался большим ростом) не мыслил себе существования без этого – высадились на пустынной (да, тогда было так) автостанции поселка Планерское и направились в Сердоликовую бухту. Честно говоря, не помню, пошли ли мы пешком или воспользовались наемной моторкой – в разные годы режим охраны заповедника Карадаг существенно менялся – от полной свободы, когда до бухт ходили рейсовые катера, до полной закрытости, когда туда пробирались украдкой только такие дикари, как мы, рискуя попасть в лапы пограничников; в последнем случае риск был, правду сказать, не очень велик: забирали паспорта, и надо было на следующий день являться за ними на заставу, заплатить – или не заплатить – там штраф, или помыть пол в казарме, или вытерпеть нотацию.
Высадившись в бухте, мы обнаружили, что будем там не одни: около водопада в маленьком гроте расположилась компания ребят-одесситов. Чтобы не мешать им, направились в дальний конец пляжа и встали лагерем близ огромного грота, со своей персональной маленькой бухточкой – рай! С гордостью заявляю, что наш рай был поначалу вполне цивилизован, организовано было даже трехразовое питание (а как же, я же обещал маме!). Не так обстояло дело у соседей – у них хозяйство состояло из пледов и большого казана, в котором раз в день варилась каша или плов с мидиями. Очередь кашеварить разыгрывалась в преферанс, а деревяшки для костра собирались по окрестным склонам, и никакой палатки не было и в помине. Разыгрывалась также в преферанс и очередь отправляться в Коктебель за продуктами и, главное, за сухим вином, которое было очень хорошего качества и стоило копейки. Надо ли объяснять, что этот благородный обычай мы со Степкой переняли сразу, включившись в этот процесс (походов в поселок и совместного потребления напитков). Сразу хочу сказать, что четверо одесситов, которых мы повстречали в наш первый карадагский день, – Боря Бараз, Боря Пикаревич, Боря Комарницкий по прозвищу Графин и Виталик Муцмахер – остались на всю протекавшую в дальнейшем и оставшуюся жизнь моими и Алика, а через нас также и наших московских друзей, закадычными друзьями. Не магия ли это Карадага!
Осваиваем Новороссийский край
Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь, вакхальны припевы! Да здравствуют нежные девы И юные жены, любившие нас! Из письма «Доктора Алика».Прежде чем приступить к систематическому и бесстрастному (sine ira et studio) изложению событий нашего очередного путешествия по Северному Причерноморью (места, получившие в XIX веке наименование «Новороссийский край» с генерал-губернаторством в вольном городе (порто франко) Одесса), не могу не сделать несколько не столь важных, сколь приятных отступлений.
Во-первых, читая на этих страницах описание событий, происходивших в коктебельских краях, необходимо представлять себе наши молодые, воодушевленные, иногда усталые, а иногда и поддатые физиономии на этих крутых живописных тропах.
Во-вторых (не знаю, как пополиткорректнее подступить к этой деликатной теме, но – эпиграф навеял, и не могу скрыть, что мне приятно вспоминать об этих нежных флюидах Карадага), не все сложилось гладко в моей семейной жизни, но, надеюсь, обе мои жены благосклонно вспоминают дни и часы, проведенные под сенью этих скал…
Итак, продолжим. Одесские три Бориса и Виталик и московские Степка, Алик и я мирно и лениво жили на просторах Сердоликовой бухты, ныряя за рапанами, собирая мидии и крабов, попивая сухое винцо и наблюдая за восходами и закатами. Ловили и рыбу. Одна такая рыбалка мне особенно запомнилась. Сердоликовая бухта отделена от маленькой, замкнутой бухты Барахты скалой Слон, выдающейся в море. С берегом скала соединена невысоким – метров пять-шесть – перешейком, который со стороны Сердоликовой (с нашей стороны) пологий, а со стороны Барахты обрывается отвесно в воду. Место это мы называли «телевизором», потому что оттуда открывался захватывающий вид на бухту с небольшим пляжем и замыкающей ее вертикальной 400-метровой «Стеной Лагорио». Однажды Степка – заядлый рыболов – прибежал от «телевизора», спешно собрал рыболовную удочку и понесся обратно, на бегу собирая маленькие ракушки с береговых камней. Заинтересовавшись происходящим, мы с Аликом пошли следом. Нас ожидало увлекательное зрелище: на мелководье бухты Барахты прямо под стенкой «телевизора» зашла стая небольших рыбок, которых было отлично видно в хрустальной воде. Степка подводил крючок с наживкой ко рту облюбованной рыбки, она ее хватала и бывала немедленно вытаскиваема (вытягиваема?) наверх. Мы прекрасно поужинали с вином!
Крым, Золотые Ворота
…Время шло, пора было подумать об отъезде. Однажды в нашу бухту причалил рыболовный сейнер – компания феодосийских рыбаков с семьями совершала воскресную прогулку. После Карадага они намеревались съездить в Новый Свет и охотно и любезно согласились нас всех туда отвезти, благо для одесситов это было вообще по дороге домой! Мы расположились на палубе суденышка. Сейнер неторопливо шел под самым берегом, пройдя даже сквозь арку Золотых Ворот. Миновали мыс Меганом, обошли Судак с генуэзской крепостью на скале, поселок Новый Свет, скалу Орел, мыс Капчик и ткнулись в мельчайшую гальку Царского пляжа. Вокруг – никого (трудно в это поверить – сейчас Царский пляж напоминает городской пляж Алушты или Судака), вода – хрустальная, дно видно метров до двенадцати, а по дну – на глубине четыре-пять метров – неторопливо ходят здоровенные крабы! Наши рыбаки, отобедав шашлыком и водочкой, отплыли восвояси, провожаемые нашими благодарственными возгласами, а мы остались.
Новосветовские бухты отличаются от суровых бухт Карадага своей несказанной мягкостью, ласковостью, серые горы не так высоки, а склоны покрыты прозрачной зеленью сосен, туй и можжевельников. Морская вода прозрачна, а пляжи состоят из мелких гладких галечек, ласкающих усталое тело… Поскольку до вечера еще было далеко, пока одни из нас разводили костерок и ловили крабов, другие сгоняли в поселок за сухим вином, которое и принесли через полчаса, причем необычайного качества – местный (высоко ценимый знатоками) завод шампанских вин не справлялся с переработкой сырья и полуфабрикат шампанского продавался в розлив в местном ларьке. После ужина, достойного гурманов, решили для лагеря найти место, где имеется вода. Таковым местом, по объяснению аборигенов, была площадка вблизи Грота Шаляпина – надо пройти вдоль берега с километр от Царского пляжа. Родник находился под громадным сводом этого грота и был заполнен чистейшей холодной водой. На оставшиеся несколько дней решили остановиться.
Море, галька, гитара…
С утра, поныряв предварительно с камней у грота, отправились знакомой тропкой на Царский пляж, где возобновили наши труды по добыванию «хлеба насущного», если можно обозначить этим прозаическим термином сбор мидий и ловлю крабов в прозрачной, как кристалл, воде бухты. Никогда, ни до, ни после этого дня, не довелось мне встречать такого количества крупных, ничего не боящихся крабов. Плавая на поверхности, я высматривал краба, неторопливо шествующего по песку, и, ныряя на глубину, хватал оного поперек тела, причем краб и не думал убегать, а принимал угрожающую позу и размахивал клешнями. Часто, ухватив одного краба и оглянувшись в воде, я замечал второго и хватал его другой рукой. Один раз, поддавшись жадности, попытался ухватить и третьего краба, зажав его между первыми двумя, но был наказан – один из пленников изловчился и пребольно цапнул меня за руку, после чего я выпустил добычу и с (подводным) воплем рванул наверх, а нарушитель конвенции болтался на моей руке и отцепился лишь у самой поверхности, плавно опустился на дно и потрусил своей крабьей походкой к ближайшему камню, погрозив мне напоследок здоровенной клешней. Надо сказать, хватка у каменных черноморских крабов очень крепкая. Однажды, встретив крупного краба на изрядной глубине и не испытывая желания состязаться с ним в ловкости голыми руками, я сунул ему в клешню дюралевую дыхательную трубку. Достойный боец ухватил ее так, что на трубке осталась глубокая вмятина!
Наплававшись до изнеможения, мы разделились. Отправили Алика, как младшего члена команды, в лагерь – готовить кашу и крабов, а сами двинули в поселок (купить винца и вообще…). Последующие события восстанавливаются лишь со слов Алика.
Для того чтобы нагляднее представить дальнейшее, надо сделать некоторое предварительное пояснение географического свойства. Грот Шаляпина находится на каменном выступе мыса Орел, от поселка Новый Свет к нему вокруг мыса ведет Царская тропа, когда-то очень благоустроенная, огражденная каменным бордюром. Ко времени описываемых событий тропа обветшала и частично разрушилась, так что отдельные ее участки превратились в плацдармы для занятий скалолазанием, с возможностью, поскользнувшись, рухнуть в море с высоты пять – восемь метров.
Итак, Алик, приготовив ужин, сидел с книжкой в сумерках у костерка и ждал загулявших компаньонов. Вдруг издалека послышалась удалая песня, из-за выступа скалы на тропу вывалилась ватага обнявшихся за плечи друзей и, выписывая вензеля, двинулась к биваку. По ровному месту передвигались мы при этом с трудом (надо сказать, на другой день я проверил наш вчерашний маршрут и понять, как мы там прошли, не мог). Но наши приключения на этом не кончились. Виталик Муцмахер (будущий пианист и доктор искусствоведения), не справившись с координацией, угодил голой ногой в казан с свежеприготовленной кашей и, естественно, сильно ошпарившись, этого даже не заметил и завалился спать. Наутро у него на ноге образовался большой волдырь, сильно затруднивший Виташке ходьбу и жизнь вообще. Нечего делать, пришлось пациента оперировать. Будущий стивидор и крупный специалист по морским перевозкам Боря Комарницкий – Графин блестяще вскрыл нарыв, а будущий моряк и миллионер Боря Бараз сложил об этом поэму, где были такие слова: «… приняв последнюю рюмашку, вступил ногой Виташка в кашку…».
Но вот подошло время уходить с насиженного места. Степка, насытившись приключениями, поехал в Москву, а мы с Аликом, легко поддавшись на уговоры новых друзей, двинули с ними в Одессу. Путь лежал в Феодосию, откуда ближайшим теплоходом, приобретя в порту 1 (один) палубный билет до Ялты на всю компанию и расставив на шлюпочной палубе свою палатку, мы отправились в Одессу.
Осваиваем Новороссийский край. Одесса
Пароход белый-беленький, черный дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой… Из песниВместе со многими реалиями того времени – автоматами с горячим и холодным молоком, бульоном и булочками на набережных Ялты, южными базарами, где, пройдя через пару рядов торгующих и напробовавшись, можно было уже и не завтракать, тихие звездными и безопасными ночами на кривых улочках южных городков – ушло в прошлое и такое явление, как Черноморское пароходство, с снующими вдоль всего побережья большими и малыми пассажирскими судами и суденышками. Этот каботажный флот состоял из трех типов кораблей.
По так называемой Крымско-Кавказской линии между портами Одесса и Батуми, с заходом в крупные порты, ходили большие теплоходы – старые, довоенной постройки, «Россия», «Победа», «Адмирал Нахимов» – и более новые: «Тарас Шевченко», «Иван Франко», «Башкирия», «Молдавия»… Отличаясь друг от друга размерами, годами постройки, все они были сходны в одном – они были красивы, даже шикарны, путешествие на них таило в себе много удовольствий и развлечений. Так, заходя в попутный порт – Ялту, Новороссийск, Сухуми – теплоход останавливался на несколько часов, пассажирам, плывущим дальше, выдавался посадочный билет, и они могли гулять сколько влезет по этому городу. Кстати, на этой особенности теплоходных рейсов основывался наш способ практически бесплатного на них передвижения: покупался в кассе один билет до ближайшего попутного порта, один турист (с максимально возможным по весу количеством рюкзаков) заходил на борт, собирал у пассажиров, не намеренных сходить на берег, нужное количество посадочных билетов и выносил их оставшимся на берегу товарищам. Проникнув на палубу, мы растворялись в толпе пассажиров и дальше уже плыли беспрепятственно, установив на верхних палубах свои палатки. Проверять билеты у пассажиров на борту было не принято. Предание рассказывает, что однажды, когда теплоход пришел в Одессу и на палубе столпилась сотня-другая туристов, стремящихся сойти на берег, а билетов в кассе было за рейс продано всего несколько штук, капитан впал в ярость и велел проверять билеты у сходящих. Поднялась паника, некоторые нервные стали прыгать с бортов в воду, что вызвало еще большую панику у капитана судна, и приказ был срочно отменен. Больше о таких попытках навести порядок мне неизвестно.
Кстати, не могу не вспомнить здесь историю, приключившуюся с нашей компанией. Проведя в походных условиях пару недель и изрядно отощав и поизносившись, мы взошли на палубу «Адмирала Нахимова» (это был, пожалуй, самый шикарный теплоход на линии, с каютами, отделанными красным деревом, бархатом и зеркалами, со своей знаменитой кухней и барами). Устроившись на палубе, первым делом, разумеется, отправились в кормовой бар – после каши с тушенкой и сухим вином хотелось чего-нибудь вкусненького. Поскольку наши обтрепанные штормовки не отвечали требованиям вечернего этикета, мы, внутренне ощетинившись, приготовились преодолевать отпор барной обслуги, и каково же было наше удивление, когда пожилой величественный бармен в крахмальной сорочке с бабочкой, выйдя из-за стойки, предложил нам занять удобный столик в углу бара и спросил о наших пожеланиях по поводу напитков (типа «Вино какой страны вы предпочитаете в это время года?»). Такое поведение, надо сказать, было нехарактерно для нашего сервиса того времени (да и сейчас, подозреваю, встречается нечасто), но наш бармен, как я узнал впоследствии, всю свою жизнь проплавал за границей, на ллойдовских линиях…
…Пароход белый-беленький…
Возвращаясь к истории каботажного флота, добавлю, что, помимо шикарных лайнеров, черноморские прибрежные воды бороздило множество небольших и совсем маленьких суденышек. Регулярные рейсы между приморскими городами осуществляли «морские трамваи» с названиями типа «Судак», «Коктебель» и т. п. Но самые любимые и характерные для южного побережья суденышки, плававшие от причала до причала и носившие «птичьи» имена – «Ласточка», «Сапсан», «Коршун», – были деревянные беспалубные баркасы, управляемые зачастую одним шкипером, иногда не имевшие даже штурвала, – шкипер двигал румпель босой ногой, стоя на кормовом свесе, и мог высадить пассажира, по его просьбе, даже на пустынный пляж. Эти простые тихоходные суденышки, вмещавшие до тридцати человек, обладали высокой мореходностью и использовались, в частности, для высадки пассажиров с большого корабля на берег, когда из-за большого волнения или ветра кораблю трудно было ошвартоваться в плохо оборудованном порту (так бывало, например, в Евпатории).
Но вернемся к нашим баранам, то есть к трем одесским Борисам, одному одесскому Виталику и двум московским Чачкам, которые, поднятые с ложа и выгнанные из палатки утренней палубной приборкой, очевидно, уже давно стоят на палубе теплохода и всматриваются в открывающийся почему-то слева по борту (до сих пор я с трудом осознаю этот географический феномен) ровный возвышенный Большефонтанский берег Одессы. Вот корабль огибает маяк, входит в гавань и причаливает к пирсу. Знаменитая «потемкинская» лестница с (бездействующим тогда) фуникулером и стоящим наверху Дюком приветствуют нас! По решению наших гостеприимцев направляемся на улицу Щепкина (как, вы не знаете, где это улица Щепкина? – Так это же недалеко, там, где университет и технологический институт!), в квартиру Жоржика Зозулевича (как, вы не знаете, кто такой Жорж Зозулевич? Скажите, а вы вообще что-нибудь знаете? Вы что, и вправду никогда не бывали в Одессе?), где будет наш штаб и где решится наша дальнейшая судьба. (Тут, разумеется, должны были зазвучать известные барабаны судьбы, может быть, мы с Аликом их даже услышали.)
Передать впечатления от квартиры Жоржа – старой одесской профессорской квартиры, – от мамы Жоржа – приветливейшей, умнейшей, благороднейшей Веры Николаевны Кефер, я не берусь, по крайней мере сейчас не берусь, как не берусь передать первое впечатление от хозяина квартиры Жоржа (мне трудно это сделать, потому что у меня стойкое ощущение, что мы с ним знакомы всю жизнь), но я берусь описать впечатления от обеда, которым, после столь долгожданной помывки в ванной, нас приветствовали хозяева. О, эти одесские обеды, переходящие в ужины, с килечками и домашней колбаской, с глоссиками и баклажанчиками, с водочкой и вином, выпиваниями и закусываниями и снова выпиваниями – и всё это со старинных приборов и подчиненное строгому, продуманному ритуалу! Когда гости приходят и уходят, а на столе не пустеет и когда ты уже думаешь, что все, финиш, – появляется дымящаяся миска с нежнопламенным борщом… Нет, тут потребно перо старика Державина (хоть и был он антисемит)!
По окончании ужина (далеко за полночь) решили определить нас с Аликом на постой в квартиру Вити Фан-Юнга, благо оная квартира находилась буквально в двух шагах и была свободна – профессор Фан-Юнг с семьей жил на даче. Перешли в соседний дом, прошли через готического вида подъезд с выложенной по кафелю пола надписью «SALVE», поднялись на четвертый этаж, и осталось только доползти до кровати – сил уже не было никаких! Так начался заключительный – одесский – этап нашего путешествия.
Потемкинская лестница.
Вообще-то, это был не первый мой приезд в Одессу. Первый состоялся еще в 56-м году, когда папа в качестве поощрения за хорошую учебу (и в ознаменование вышедшей в свет небольшой книжки, существенно поправившей наше материальное положение) вывез меня – девятиклассника – на море. Тогда я впервые увидел, прочувствовал кожей, нервами, всем существом море, Черное море (Балтику я видел и раньше, но Балтика не в счет, это и не море вовсе). До сих пор помню детский восторг, охвативший меня, когда автобус, с трудом преодолев последние метры затяжного подъема старого узкого шоссе Симферополь – Ялта, выполз на вершину Ангарского перевала, и вдруг открылась вся сиреневая морская ширь. Мы тогда большую часть времени прожили в Алуште – маленьком татарском городке, где узкие улочки спускались к морю, пролегая вдоль крыш расположенных ниже уровнем домов, а в центре возвышалась старая генуэзская башня, тогда вполне жилая, с вывешенными из бойниц веревками со стираным бельем обитателей. Мы купались в море, ездили на катерах на экскурсии по прибрежным городкам. Потом переселились на несколько дней в Ялту, жили в Ореанде, купаться ездили на катере в Никитский ботанический сад или в Ласточкино Гнездо. Потом – в Севастополь (его тогда первый год как открыли для посещения). Я ходил по городу, забрался в Херсонес, подобрал там несколько черепков, до сих пор храню оттуда донце амфоры. В Севастополе сели на пароход – старый «Петр Великий», как я потом узнал, это был его последний рейс перед списанием. Посреди моря пароход сломался, и мы полдня плавно болтались на зыби. Потом пароход починили, его старая машина запыхтела, и мы неторопливо приплыли в Одессу. В Одессе поселились в самом центре – в старой гостинице «Пассаж». Я тогда был увлечен Бабелем – только вышли его «Одесские рассказы» – и наутро, вооружившись картой города, отправился искать бабелевские места. Дело затруднялось тем, что все улицы города были сплошь переименованы, иногда и по нескольку раз, и находить исторические места, ориентируясь по карте, было непростым занятием. К счастью, выручали одесситы, охотно объясняя все, что я спрашивал, а заодно и многое из того, что спросить забыл или не догадался. Вот характерная сценка того времени. Ищу Молдаванку. Уверенности, что иду правильно, нет. Решаю спросить у уличного сапожника. Происходит следующий разговор:
– Скажите, пожалуйста, как пройти на Молдаванку?
– А что вам там надо?
– Ну так, вообще, район Молдаванки…
– Ну, может, вам там что – то конкретное?
– Нет, ничего конкретного…
– Странно… А вы сами откуда будете?
– Из Москвы.
– И давно там живете?
– Всю жизнь…
– И родственники у вас там есть?
Идет примерно десятиминутный доброжелательный разговор, во время которого выясняется, какие у меня есть родственники и где примерно они живут и чем занимаются. Наконец решаюсь прервать нить беседы и вернуться к тому, с чего начал – так как же все-таки пройти на Молдаванку? Но вы же находитесь на Молдаванке! – получаю я удивленный ответ…
Трое на Примбуле не в сезон…
Вечером в городском саду, напротив гостиницы, играл духовой оркестр…
Одесса мне тогда понравилась чрезвычайно!
Второй раз попал я в Одессу уже году в 62-м, мы тогда с Володькой Сумачевым возвращались из нашего второго кавказского вояжа. Сам вояж, когда мы на попутных машинах автостопом перемахнули всю Грузию, к Одессе имеет косвенное отношение, так как мы, сойдя с теплохода, только переночевали и наутро отправились автостопом дальше – через Киев – в Москву. Правда, и тут Одесса проявила по отношению к нам свой гостеприимный нрав – на ночлег нас устроили и ужином накормили какие-то случайные одесситы, встреченные нами на Дерибасовской. Поэтому с полным основанием могу сказать, что только наш с Аликом приезд в 1963 году открыл для меня этот город, сделал так, что единственным местом, где бы я согласился жить, не считая нашей многострадальной родной Москвы, стала Одесса.
…И до сих пор, в уже преклонных годах: вот я в Одессе. Все живое цветет, шелестит и улыбается. Солнце сияет, море прозрачно и ласково, девушки надевают легчайшие и прозрачнейшие блузки и щурят глаз победно. А базар! Привоз, как всегда, ошеломляет неподготовленного северянина: хрумкие огурчики, брынзочка, кровяночка, копченое мяско, малосольная «сарделечка», нежнейшая дунайская селедочка и вино… Эх!
Агашка над одесским портом.
IV. Байки Карадага
Погранзона
Все побережье Крыма, как и любое морское побережье СССР, а также все города и поселки, расположенные вблизи этого побережья (такие, как Ялта, Евпатория, Коктебель – тогда Планерское, Феодосия), было тогда погранзоной, с особыми правилами регистрации приезжих. Кроме обязательной для всех городов Союза временной или постоянной прописки, требовалась еще регистрация на погранзаставе, по улицам ходили патрули, которые могли проверить документы. Пребывание на берегу (на пляже) после захода солнца запрещалось. Как и многие другие советские правила, режим погранзоны в курортных поселках зачастую превращался в фарс. Вдоль всего побережья были расставлены вышки с прожекторами. Любимым развлечением пограничников, дежуривших на таких вышках, было спугивать вечером парочки, затаившиеся в укромных уголках пляжа, направляя на них луч прожектора.
Для «культурных» курортников, отдыхавших по путевкам либо снимавших жилье у частников, общение с пограничниками сводилось к небольшой формальной процедуре регистрации. Нам же, «дикарям» и туристам, ночевавшим на пляже в палатках (или без), приходилось всячески уклоняться от этого общения, маскировать наши стоянки, прятать их в труднодоступных местах – скалах, ущельях, бухтах. Шла своеобразная игра в казаки-разбойники: обнаружив палатку, пограничники могли ее конфисковать, отобрать паспорта, составить акт о нарушении режима госграницы и сообщить в институт или на работу, в конце концов – арестовать и препроводить на заставу. Часто дело ограничивалось устным внушением или штрафом. Иногда удавалось от них просто откупиться.
Дело происходило примерно так. Сидим мы вечерком на берегу, например, Сердоликовой бухты, травим байки, любуемся луной, вдруг из-за мыса раздается стук мотора. Разносится крик: «Атас!» Мгновенно гасится костер, рюкзаки со шмотками закидываются за камни, и все вольное население бухты сматывается вверх, в скалы. С подплывающей лодки через матюгальник в адрес «товарищей туристов» раздаются увещевания и угрозы, но мы практически недосягаемы и спокойно пережидаем опасность. Другой раз пограничникам удается пробраться в бухту пешком по берегу (проход в бухту довольно труден и требует определенной сноровки). Тогда разгрому подвергается группа, стоящая ближе всего к входу бухту, а остальные, услышав шум, успевают эвакуироваться. Так однажды попался и я с друзьями (это были Алик и Таня Журинские). Забрав наши паспорта, старшина велел с утра явиться на заставу. Скорее всего, дело ограничилось бы строгим внушением и нашим обещанием легализоваться. Однако утро было таким ласковым, море таким приятным, что мы выбрались в поселок только к обеду. На заставе сказали, что мы опоздали и наши паспорта уже переданы в поселковый совет для оформления административного штрафа. При наших скромных денежных ресурсах это было неприятно, но все обошлось без материального ущерба: секретарь поссовета оказалась милой интеллигентной женщиной, к тому же у нас с ней нашлась общая тема для обсуждения – мы оба страдали от аллергии на местных москитов. Поговорив на волнующую нас энтомологическую тему, мы расстались, довольные друг другом.
Чем ближе подходила к концу эпоха «железного занавеса», тем либеральней и анекдотичней становились отношения пограничников и «дикарей». Однако место «погранцов» в функции «держать и не пущать» постепенно стали занимать различные полуофициальные структуры типа лесников, охранников заповедника и дружинников. Здесь вопрос практически сводился к согласованию суммы «бакшиша».
Забавный случай произошел у меня с лесниками. Я проработал сезон в Крыму, в Солнечногорском, пляжным фотографом и возвращался домой с изрядной суммой денег. По дороге решил заехать в Новый Свет, где, как я знал, несколько моих друзей отдыхали в скалах в районе Царского пляжа. Купил пару уток, вина, нашел ребят, и мы стали готовить отвальную пирушку – наловили мидий, запекли уток. Между тем стемнело. Неожиданно в скалах у верхней тропы раздался шум, крики, собачий лай – облава! Быстро собрали бивачные шмотки, рюкзаки, мой чемодан с деньгами, схоронили в камни у места стоянки и укрылись от греха сами подальше в скалах. Но тут кто-то сообразил, что собака обязательно учует жареных уток и устроит шухер. Поскольку я имел вполне цивильный вид и не был похож на «дикаря», решено было, что я останусь на стоянке, буду охранять наши вещи и делать вид, что просто гуляю и любуюсь закатом. Что я и проделал успешно, сидя на камне, под которым были спрятаны утки, беседуя с лесниками о погоде и отгоняя ногой не в меру любопытную собаку. После ухода лесников ребята спустились со скал, и мы продолжили пирушку.
Молодецкие игры
Приволье, сказочная красота природы, наша молодость – адреналин кипел в крови и требовал разрядки. Устраивались километровые заплывы вдоль стены Карадага, из Сердоликовой бухты – в Разбойничью и к Золотым Воротам, с буксировкой детей и женщин на надувных матрасах. Или вдруг, по какому-либо поводу или без повода, объявлялся на вечер пир. Тогда команда ныряльщиков занималась сбором мидий и рапанов в промышленных масштабах, а кто-нибудь легконогий с двадцатилитровой кислородной подушкой в рюкзаке отправлялся в поселок за вином. Дорога вдоль берега занимала час, а через перевал и того меньше. Были рекордсмены, добегавшие до ларька за полчаса. Больше же всего удовольствия доставляли дальние прогулки по окрестным горам и лазание по скалам. Бывали в нашей карадагской компании и настоящие специалисты по скалолазанию. Последние годы, перед окончательным закрытием района Карадага и превращением его в государственный заповедник, дружная компания любителей и поклонников Карадага – москвичей и ленинградцев, одесситов и львовян – пополнилась феодосийской командой спортсменов-скалолазов. Феодосийцы, как аборигены, сумели договориться с местным начальством и выбить несколько ставок для команды горноспасателей и проводили свободные дни и часы в походах по окрестностям.
Дело в том, что карадагские скалы, живописные, крутые и опасные, манили толпы любителей красоты, иногда очень слабо подготовленных, и частенько случались неприятные, а порой и трагические эпизоды. Ни один сезон не обходился без падения со скал, переломов, вывихов. Иногда люди в поисках красивого вида забирались на какую-нибудь вершину, а спуститься обратно уже не могли – известно, что подниматься на скалы значительно легче, чем с них спускаться. В хорошем случае удавалось известить горноспасателей, и они бежали на помощь. В плохом – не удавалось. Живописные скалы, как Чертов Палец или Маяк, ежегодно собирали урожай жертв…
Среди феодосийцев было несколько спортсменов-разрядников по скалолазанию и даже один мастер спорта. Этот железный, без преувеличения, человек по кличке Инвалид, выделывал порой на скалах такие штуки, что у нас, людей привычных, захватывало дух. Свою кличку он заслужил тем, что однажды на соревнованиях в районе Ай-Петри сорвался со скального маршрута и, порвав страховку, упал и сильно повредил позвоночник. Вместо того чтобы остаток жизни провести в инвалидной коляске, как ему предписывали врачи, он, едва встав на ноги, начал тренироваться. Из мышц спины за несколько лет упорных тренировок он нарастил себе настоящий корсет и вел полноценную спортивную жизнь, опережая многих.
Не могу не вспомнить один забавный эпизод. Весной, на майские праздники, жил я как-то на берегу в Сердоликовой бухте (душа требовала одиночества). Ко мне спустились со скал двое феодосийцев, попили со мной чаю и пригласили на экскурсию. На самом деле их прогулка носила вполне промысловый характер: они отправлялись за камнями – сердоликами и яшмой – на свою тайную разработку, а я уже достиг такой степени доверия, что они готовы были взять меня с собой. Камни ребята сдавали гранильщикам, и доходы от этого контрабандного промысла составляли существенную часть их заработка.
Поднимались от прибрежного грота прямо в лоб, на обрыв, траверсом обходя со стороны моря погранзаставу. Шли тихо, стараясь не греметь камнями – над нами, на обрыве, располагался наблюдательный пост. Когда миновали опасное место, поднялись к каменистому косогору и стали спускаться по осыпи, я потерял бдительность, поскользнулся и покатился по камням. Мелкие камешки расцарапали руку, врезались под кожу – ничего опасного, но неприятно и кровоточит. Но на солнышке, на ветру подсохло быстро. Когда проходили мимо скалы Маяк, ребята предложили подняться. С такими инструкторами – почему бы и нет? Я согласился. Скала поднимается от лощины на 350 метров, практически вертикально, но с очень хорошими уступами и «цеплялками». Поднялись спокойно, только на последних метрах перед вершиной стена нависала над головой, так что один из парней забрался наверх и руководил моими руками, а нижний – ногами. Наверху у ребят был выброс адреналина: разошлись, прыгали, швыряли камни в море (со стороны моря скала свисает более чем с четырехсот метров), а я сидел и думал о предстоящем спуске и о том, хватит ли моей инженерской зарплаты вызвать спасательный вертолет… Но обошлось: под руководством опытных инструкторов я спустился и даже нашел в себе силы продолжить маршрут к жиле, и удивительное дело (кстати, об адреналине): все мои рваные царапины на руке зажили за эти пару часов так, что места порезов покрылись молодой кожицей! Мешок камней, принесенных мной из этой экспедиции, долго еще служил источником подарков и сувениров для моих друзей.
Однажды жили мы с одесситами в Сердоликовой бухте, у грота. В пятницу подвалило несколько феодосийцев, рассказали, что в выходные намечается большой сабантуй: одному парню исполняется двадцать пять лет – круглая дата. Мы приглашены, за нами вино, за ними – закуска. Ребята уже пару дней как отловили барана, отбившегося от стада, затащили его на вершину скалы (скала такая, что баран самостоятельно спуститься не может) и откармливают там в ожидании праздника. Ну что ж, в нашей кислородной подушке – двадцать литров, должно хватить.
В назначенный час вокруг костра собралась веселая компания, пили вино, закусывали шашлыком, пели песни под гитару. Уже далеко за полночь кому-то пришла идея достойно завершить праздник. Погрузили на надувные матрасы девчонок с горящими факелами, и с гитарой, на пару связанных матрасов, лег спиной, держа руки и ноги повыше, Инвалид, и компания торжественно отправилась вплавь вокруг мыса Слон в соседнюю бухту Барахту. Посреди этой небольшой круглой бухты, окруженной высокими скалами, из воды торчит вертикальная двадцатиметровая скала Стриж. На стену этой скалы и прыгнул с матрасов, стараясь не замочить руки и ноги, Инвалид и пополз в полной темноте вверх. Через некоторое время с верхушки раздались победные клики и посыпалось несколько камней, а вслед за ними и сам герой спустился в воду и поплыл к нам на пляж. В заключение Инвалид достал из плавок голубя, прихваченного сонным на скале, и торжественно запустил в небо.
Последний раз мы повстречались с Инвалидом в 77-м году, когда я показывал девушке Маше свои карадагские владения и в Сердоликовой бухте мы варили с ней кашу (с тех пор вот уже почти сорок лет она успешно занимается этим делом, иногда, правда, разнообразя меню). Инвалид спустился с горы, посидел с нами у костерка, поел каши и спросил, не знаю ли я, где феодосийцы. Я ответил, что, по слухам, они проводят тренировку где-то в районе горы Сюрю-Кая. Поблагодарив за угощенье и попрощавшись, Инвалид пошел точно по азимуту в направлении упомянутой горы, поднявшись от пляжа по вертикальному обрыву с большим отрицательным уклоном.
V. Меганом
А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует.
Сергей Леонтьевич Максудов(Булгаков. Театральный роман)Предыстория
Если плыть на катере вдоль побережья Крыма из Феодосии в Ялту, ровную, слегка холмистую полосу песчаных, галечных и каменистых пляжей прерывают кое-где могучие скальные кряжи, выступающие мысами далеко в море. Мыс Хамелеон – желтая длинная ящерица – с открывающейся за ним полосой Лисьих бухт и примыкающей к ним бухтой Коктебеля, черная громада Карадага, длинные каменистые Коозы, поросшие кизилом и дубняком, за ними – приземистый уступ – десяток километров неприступного с виду скалистого берега без единого клочка зелени – мыс Меганом, «Большой Хозяин». Катер огибает мыс с торчащей над обрывом белой башенкой маяка – и открывается широкая судакская бухта. Городок прижался боком к обрывистой скале с генуэзской крепостью на вершине, дальше – гладкая вертикальная скала Сокол и мысы Орел, Капчик, Караул-Оба с новосветовскими пляжами, и дальше, к Ялте, Южный берег с мысами Кастель и Аюдаг.
Весь этот край я в свое время исходил пешком, оплавал и обнырял. Особенно часто и подолгу живал в Коктебеле, по большей части в бухтах Карадага. Так сложилось, однако, что долгое время незнакомым местом, белым пятном для меня и для моих друзей оставался район Меганома. Суровая, неприветливая красота этого места, безлюдье манили, но отпугивали слухи о каких-то секретных военных объектах со строгой охраной и об отсутствии на мысу источников питьевой воды.
Первый достоверный рассказ об обстановке на Меганоме довелось услышать однажды летним вечером на пустынном галечном пляже Сердоликовой бухты. Было уже темно. Мы сидели у костерка, попивали винцо из канистры, закусывали жареными мидиями и травили байки. Мы – это несколько друзей-одесситов, три девушки из Москвы – они стояли в соседней бухте Барахте и заглянули на огонек – и приятель из Питера. Услышав шаги со стороны входа в бухту, мы не очень обеспокоились – для визита пограничников было слишком поздно. Подошли двое под здоровенными абалаковскими рюкзаками, поверх приторочены гитары. Испросили разрешения остановиться рядом с нашей стоянкой, сбросили на гальку рюкзаки, откинулись на них, взяв в руки гитары, и дружно и ладно сбацали лихую песню. Позже, накормив ребят макаронами и налив вина, мы услышали их историю. Московские художники, выпускники Строгановки, сбежали из душной Москвы и бродили по Крыму в поисках свободы и сюжетов: «…так, чтобы людишек поменьше было…». В этих поисках забрели на Меганом, где прожили неделю в полном безлюдье, питаясь мидиями, рапанами и утоляя жажду водой из лужи от выпавшего один раз дождя да морской водой. Недели им хватило, чтобы снова приобрести вкус к цивилизации (во всяком случае, в ее карадагском варианте), но пейзажи Меганома произвели на них сильное впечатление.
Проговорили мы в ту ночь до рассвета обо всем – о Москве и Питере, о физиках и лириках, о Булгакове и Аксенове, об абстрактной и фигуративной живописи. Из тех разговоров запомнились мне два открытия: Илья Глазунов – кто угодно, но только не художник и на Меганоме можно, в принципе, жить.
Лева Шубин, мой друг и учитель в течение многих лет и один из лучших знатоков Карадага, тоже утверждал, что на Меганоме можно жить; более того, там в скалах есть родник, о чем известно местным рыбакам… Однажды мы с Жоржиком Зозулевичем плыли на рыболовном сейнере из Коктебеля в Судак (рыбаки подвезли нас попутно), и суденышко огибало мыс вплотную к берегу. Среди бурых и желтых выжженных скал Меганома можно было разглядеть одно небольшое пятнышко зелени, говорящее о наличии воды.
Все эти отрывочные сведения некоторое время накапливались, но не были востребованы, пока у нас имелось такое прекрасное убежище, как Карадаг. Но время шло, Коктебель становился модным, в летнее время очень многолюдным курортом. Карадаг же терял постепенно статус заповедника, ослаблялся режим пограничной зоны, и в тихие, чистые, ранее труднодоступные бухты хлынул разномастный поток отдыхающих. Дело дошло до того, что в Сердоликовой бухте был выстроен причал и катер регулярно привозил и выгружал толпы курортников. Пора было линять. Перебазировались в Новый Свет, в чудесную Царскую бухту, но этот райский уголок тоже был под угрозой и уже прогибался под напором враждебной цивилизации. И тут мы вспомнили о Меганоме.
Разведка
В Судаке, в его юго-восточном углу, за речкой, под боком горы Алчак, приютилось странное поселение, известное под названием «Хутор». Довольно далеко от пляжа, магазинов и общепита, с привозной водой в цистернах, оно не привлекало курортников, зато там любили останавливаться небогатые московские и питерские интеллигенты и хиппи. Однажды весной, на майские праздники, мы с другом Жоржем встретились в знакомом доме на Хуторе. Жорж приехал в Судак из Одессы, а я – из Москвы. Целью рандеву был разведывательный поход на Меганом. Предприятие я несколько усложнил, привезя с собой трехлетнюю дочурку Агашу. Милая и гостеприимная хозяйка дома впала в панику, прослышав о нашем плане, и потребовала по крайней мере оставить ребенка на ее попечении, но мы были настроены решительно. Рано утром мы с Жоржем, с Агашкой в рюкзаке за спиной, вышли из дому и направились в сторону Меганома.
До мыса предстояло пройти по Южно-Судакскому шоссе порядка десяти километров. Не обратив внимания на «кирпич», мы бодро шагали по асфальту. Где-то на полпути до Меганома миновали поселок из стандартных домов – видимо, военный городок ракетного гарнизона – вдалеке на холме виднелись какие-то штуки, похожие на зенитные ракеты. Все имело весьма запущенный вид. Особой стражи вокруг не наблюдалось, но мы постарались поскорее миновать опасное местечко.
С Агашкой в рюкзаке.
Вскоре приблизились к отрогам Меганома, шоссе поворачивало влево, в обход горы, а направо, в сторону мыса, уходил небольшой проселок. Где-то в полукилометре от поворота, справа от дороги, на пригорке стоял обветшавший щит с надписью: «Запретная зона. Проход запрещен. Стреляют без предупреждения». Щит явно относился к прошедшим временам, но мы, разумеется, в ту сторону не сунулись, а поспешили дальше по дороге. Она заканчивалась у небольшой закрытой бухты, образованной какими-то странными плоскими плитами и похожей на искусственный водоем. На берегу стояло несколько заброшенных рыбацких строений. Дальше в гору по каменистому склону вдоль нависающего обрыва вела узкая извилистая тропа. Примерно через километр, обходя скальные выступы самых причудливых очертаний, вышли в широкую долину, амфитеатром спускавшуюся к морю. Открылся совершенно лунный пейзаж: долина была уставлена монолитами в форме каменных сосулек, столбов, арок. За долиной тропа спустилась к небольшой, на редкость уютной бухточке с хрустальной водой, с мелко-галечным пляжем, окаймленной скалистыми мысами. В скалах одного из мысов даже нашелся грот, пригодный для обитания. Здесь и решили остановиться. Оставалось найти воду.
Накормили ребенка, перекусили сами. Начал накрапывать дождик, поэтому для послеобеденного сна устроили Агашку в гроте. Умный ребенок сразу уснул, а мы с Жоржиком налегке бодро зашагали дальше. Уже метрах в трехстах от стоянки в каменистой лощине набрели на следы протекавшей здесь временами воды. Поднялись по лощине и в изломе скалы обнаружили пробивающийся между камней родничок в окружении зеленых кустов. Вернулись к биваку довольные, как киты, вскипятили чайку, разбудили Агашку, искупались в прохладной майской воде и направились обратно. Задача найти новое летнее убежище для себя и друзей была решена.
Следующее мое посещение Меганома тоже стало вполне в авантюрным. Опять был май. Назначен рандеву с компанией одесситов в нашей бухте. Я явился вовремя, налегке, только со спальником, без палатки и продуктов – все должны были принести друзья – и расположился привольно, один во всей вселенной, не считая чаек и семейства воронов. Купался в холодной, но приятной воде, грелся на солнышке… День клонился к вечеру. Воспоминания о раннем завтраке в Судаке порядком потускнели, но перспектива поужинать становилась все более призрачной: ребят не видно и вряд ли уже они сегодня появятся. Но духи места явно мне благоволили. Лежу на камушке, рассматриваю прибрежные водоросли и вдруг вижу, как здоровенная рыба – лобан – заплывает на мелководье и болтается тут между камешков. Сбегать на берег, найти большой камень и жахнуть со всей дури по рыбине было делом одной минуты, и вот, вы не поверите – лобан, оглушенный, всплывает в метре от берега! Коробок спичек, перочинный ножик и старая газета – и вскоре я наслаждаюсь прекрасной запеченной рыбой. Хватило и на завтрак, а после полудня явились запоздавшие одесситы – у них произошла какая-то накладка с билетами.
В этот раз нас было человек шесть, и отдохнули мы с недельку отлично. К концу нашего пребывания на Меганоме в бухту спустилась еще молодая пара – ребята из Москвы (прослышали, видно, свято место пусто не бывает). Чтобы не толпиться, – остановились в соседней бухточке. Как-то посетили нас и пограничники, обошлись с нами очень мирно – посмотрели паспорта, стрельнули сигарет, поболтали «за жизнь».
Не помню, в этот ли раз или в следующий мы с Жоржиком проделали обзорную экскурсию по всему Меганому. Вышли раненько, шли бодренько – уже к полудню взбирались по скальной тропке к маяку. За маяком открывался отвесный обрывистый берег. Выбрались наверх и пошли по плоскогорью. Обогнули строения погранзаставы и двинули дальше вдоль дороги, ведущей на восток. Примерно в середине пути обошли закрытую скальную бухту с ангарами явно военного назначения, постарались поскорее оттуда смыться. Дальше шли без приключений и через пару часов вышли к виноградникам и к поселку Золотая Балка, пройдя через весь Меганом. В поселке ничего примечательного, только очень старая (на вид – Средневековье) маленькая полуразвалившаяся церковь. С обратной дорогой повезло – подкатил автобус на Судак. В городе не задержались – очень уж отвыкаешь от такой «цивилизации», – сразу же зашагали к Меганому, к стоянке. К вечеру были на месте, поспели к ужину.
Меганом – конец
По-моему, были мы с друзьями на Меганоме еще один или два раза, отдыхали то там, то в других местах, а потом был перерыв. И вот сравнительно недавно Жоржик решил навестить знакомые заповедные места и, взяв такси (другие времена – другие нравы), заехал из Веселого на Меганом. Лучше бы не заезжал! Никаких военных, никаких пограничников, зато полно отдыхающих и изобилие следов человеческой жизнедеятельности. Видимо, вояки, лесники и пограничники играли в нашей туристской жизни ту же полезную роль, что и хищники в природе – охраняли экологический баланс, убирая паразитирующих и слабых.
VI. Перебирая старые фотографии…
В старой пачке пожелтевших писем Мне случайно встретилось одно. В нем строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно… РомансКак-то, разбирая завалы на антресоли, я наткнулся на коробку из-под фотобумаги, а в ней – старые фотографии. Думал, ничего не осталось от моих когда-то обширных архивов (всякий раз при очередном переезде, избавляясь от ненужных вещей, безжалостно выкидывал старые негативы, да и фотографии тоже). Но надо же, кое-что сохранилось! И теперь смотрю на эти черно-белые фотки с волнением и ностальгией. Вот, например, эта – Коктебель начала семидесятых. Знаменитая Киселевка.
Слева – Юра Киселев, гостеприимный хозяин, художник и диссидент.
Был одним из организаторов Союза инвалидов и пикета инвалидов-колясочников на Старой площади в 1956 году. Эта его дача многие годы служила летним прибежищем для художников и поэтов, формалистов и неформалов, молодых и не очень. Здесь всегда кто-то жил из Москвы или Питера, по вечерам собиралось у камина занятное общество – от хиппи до академического ученого, пили вино или чай, беседовали, спорили, рассказывали байки и анекдоты. Необходимыми условиями пребывания нового персонажа на Киселевке были отсутствие пошлости и минимальные гарантии несвязанности с ГБ. В противном случае могли и побить.
Я познакомился с Юрой году в 73-м, когда, приехав в Коктебель и направляясь в карадагские бухты, зашел передать привет от его знакомца Шуры Шустера, моего приятеля и тоже в какой-то мере диссидента. Юра мне понравился, в нем угадывался незаурядный ум, сильный характер, абсолютное пренебрежение фактом своей инвалидности, понравилась свободная атмосфера, царившая в собиравшейся здесь компании. Я, видимо, тоже пришелся ко двору и получил приглашение бывать запросто, когда случай приведет…
Юра явно был человек не очень богатый, окружение его – тоже, поэтому сооружение дачи происходило методом народной стройки и продолжалось все время, пока дача стояла, то есть пока ее не сожгли в 81-м году ревностные, но тайные «охранители». Полезным трудом занимались на Киселевке все, кто не ленился, и свозили на нее при случае все, что могли доставить, – от антикварной мебели до простых досок (дерево ценилось в безлесом Крыму). Однажды я, собираясь в мае на Карадаг, позвонил Юре и по его просьбе провез собой в пассажирском поезде партию досок и принял под свою команду компанию хипповой молодежи для доставки того и другого на Киселевку.
Из московских моих друзей бывали на Киселевке художник Борух Штейнберг и поэт и художник Алексей Хвостенко (Хвост). Следуя своим экспериментаторским наклонностям, как-то затащил я туда из Дома творчества Литфонда человека совсем другого «караса» – тонкого и образованного литературоведа Льва Шубина, – и ему, на удивление, очень там понравилось. По-моему, в тот вечер был концерт аутентичной лютневой музыки.
Обитатели и гости Киселевки ходили на экскурсии в горы, купались в море. Обыкновенно выкатывался из гаража Юрин драндулет – инвалидная мотоколяска, на нее наваливалось человек восемь, и они с гиканьем, криками и автомобильными гудками неслись вокруг холма к морю. Юра, несмотря на увечье, прекрасно плавал и даже нырял. Он был в приятельских отношениях с горноспасателями и рыбаками.
Однажды, дело было поздним дождливым вечером, я сидел на Киселевке в компании друзей. Вдруг в дом вбежала, запыхавшись, знакомая девушка-одесситка и сообщила, что в горах, на перевале, свалился с обрыва человек, нужна помощь. Юра мгновенно включился в организацию спасательных работ. Один из гостей побежал на пристань, где была рация, и вызвал на помощь наряд пограничников. Я еще с одним из гостей покрепче бросился на перевал. Когда мы подбежали к месту происшествия, туда уже подъехал уазик с пограничниками. Спустились с тропы, подобрали пострадавшего – это оказался мой приятель одессит Ренчик. Он шел под дождем по тропе с тяжелым рюкзаком, поскользнулся, упал и сломал ногу. Усадили парня к пограничникам в машину и отвезли в Феодосию, в военный госпиталь, где ему тут же сделали операцию (правда, как оказалось, неудачно, пришлось потом переделывать). На другой день, по очень разумному пожеланию Ренчика, отказавшегося от госпитализации в местной больнице, нас с ним пристроили в санитарную машину и со скоростью 140 километров в час отвезли в Симферополь, прямо к трапу отлетающего в Одессу самолета. Недовольные задержкой рейса, пассажиры вынуждены были замолчать, когда в самолет внесли носилки с раненым и поставили их в проходе. В общем, спасательная операция прошла блестяще и без всяких денег (которых у нас, правда, тогда и не было).
Киселевка располагалась высоко над Коктебелем, на верхушке холма, закрывающего поселок от моря. Выше дома стоял только Юрин полуоткрытый туалет (с видом на поселок). Вид на это дощатое заведение из окон фешенебельных коктебельских дач очень раздражал их обитателей. Частенько, когда объявлялась очередная охота на ведьм, по гребню холма вокруг туалета шныряли молодые люди послепризывного возраста, вооруженные мощной оптикой, и старались сфотографировать обитателей дачи (такая же суета происходила в Москве в Спасоглинищевском переулке, около хоральной синагоги, когда во время еврейских праздников там собиралась интернациональная толпа студенческой молодежи и пела и плясала фрейлахс).
Настоящих диссидентов, то есть людей, вступавших в прямое столкновение с советской властью (Софьей Власьевной, как тогда говорили) и с ее передовым отрядом – ГБ, среди нас было немного. Но мы уже не могли глотать то несвежее пропагандистское варево, которым нас кормил официоз, не могли не замечать, что в мире много настоящей, честной, красивой литературы, музыки, что историю двадцатого века нам приходится изучать наново, поверяя все, что мы слышим и узнаем, скепсисом и недоверием. Из рук в руки передавались книжки Оруэлла, Замятина, Платонова. С риском обрести неприятности перепечатывали на машинке, перефотографировали, распечатывали на принтере запрещенные книжки. Мое поколение «по капле выдавливало из себя раба». Надеюсь, в какой-то мере успешно.
VII. Инженеры
Крупный выигрыш
После окончания института по распределению я попал на предприятие, о котором мечтал со школьных лет – ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. Ветряной двигатель, установленный на крыше лаборатории этого института и хорошо видный из окна нашей комнаты, был для меня символом всего, чем единственно и стоит заниматься в жизни, – высокой науки, авиации и военно-морского флота. Когда стало очевидно, что я не буду моряком или летчиком, а стало это очевидно где-то к восьмому классу – я понял, что служить в армии и флоте мне не хочется, – остался один достойный путь: стать инженером или физиком, создавать новые, головоломно сложные и красивые механизмы, чтобы «преодолеть пространство и простор». Инженером я стал, но распределение свое в ЦАГИ выиграл в карты, в преферанс…
Как я уже рассказывал, в мое время в институтах процветала картежная игра. Играли в пустых аудиториях, заложив стулом дверь, в преферанс, на деньги – на небольшие (по копеечке за вист) и на приличные (по две копеечки). Высшая лига собиралась в комитете комсомола или в институтском общежитии, и там играли по пять и по десять копеек за вист – при таких ставках в случае проигрыша моей повышенной стипендии точно бы не хватило.
Как-то к концу учебы, на пятом уже курсе, собрались мы вчетвером в чертежке и решили расписать пулю, а для удобства душевного предложено было нашим товарищем с факультета двигателестроения Володькой Шипиловым поехать к нему домой, благо родители его – очень крупные шишки – были в длительной заграничной командировке, и Володька жил один.
Этот Володька, получая от родителей вполне достаточное месячное содержание, профукивал деньги в первые же дни и оставшееся до следующей получки время выкручивался как мог, иногда и голодая. Для пропитания ловил у себя на балконе на удочку голубей и играл напропалую во все игры, какие только были. При такой жизни, разумеется, он играть умел и старался не проигрывать, но на этот раз ему фатально не везло – выигрывал в основном я, и выиграл крупно, а Володька продулся основательно. Зная, в каких обстоятельствах он существует, я наотрез отказался брать выигрыш и долг ему простил, как он ни отказывался (я жил в семье, и эти деньги были для меня не критичны). Напоследок, прощаясь, Володька спросил меня, куда бы я хотел распределиться. Желая свести дело к шутке, я ответил: «В ЦАГИ» (ЦАГИ был не профильной для нашего института организацией, нас ждали КБ и заводы). На что Володька серьезно ответил: «Ну, будешь!»
Окончилась учеба, защитили мы дипломные проекты, пришла в институт разнарядка на распределение от предприятий. По установившейся традиции право распределяться предоставлялось выпускникам в порядке успеваемости, и я шел в списке вторым. Первый – Боб Карпусенко – заранее знал, что распределится в КБ Туполева – самое престижное и высокооплачиваемое место, которое он и получил по праву, а мне совершенно неожиданно досталась вдруг затесавшаяся в список заявка из московского филиала ЦАГИ! К этому времени обещание Шипилова уже вылетело у меня из головы, и я приписал произошедшее счастливой случайности, но на вечере встречи выпускников ко мне подошел Володька и спросил, удовлетворен ли я распределением и считаю ли, что он расквитался за проигрыш…
Надо сказать, кадровик ЦАГИ, принимая меня на работу, был весьма удивлен, но не препятствовал моему зачислению. Кстати, работая там шесть лет, я ни разу не встретил выпускников моего института, да и евреев было раз, два – и обчелся…
Лаборатория, куда я попал, занималась проблемами движения разных аппаратов по воде, под водой и над водой. В громадном комплексе научных учреждений, объединенных под эгидой ЦАГИ, она стояла несколько особняком.
Это была одна из самых старых лабораторий, помнившая еще Туполева, Чаплыгина и зарю советской гидроавиации. Ко времени моего туда поступления гидросамолеты строить почти перестали, значение гидродинамических исследований упало. Лаборатория тихо хирела на задворках советской авиационной науки, а вместе с ней старел и вымирал некогда блестящий научный ее персонал.
В отделе он занимался собственно гидросамолетами – работали пятеро инженеров, четверо из них – кандидаты технических наук, младшему из которых – начальнику отдела Александру Ивановичу Тихонову – было за пятьдесят, а самому пожилому, Фролову, под семьдесят. Тихонов, очень уважаемый в научной среде теоретик, не знаю, в силу каких обстоятельств (он перед войной защитил диссертацию и, работая в ЦАГИ, имел право на броню от армии), пошел пехотным лейтенантом на войну и потерял ногу под Сталинградом. Теперь он тихо сидел в своем углу, писал уравнения в частных производных и по возможности ни во что не вмешивался. Платов, в молодости, по рассказам, блестящий авиационный инженер, душа компании и любитель женщин, в сороковом году отправился в научную командировку в Америку, а по возвращении, вместе со многими другими специалистами, загремел в ГУЛАГ, спасся там в шарашке у Туполева и вышел с изрядно попорченным здоровьем, не утратив, однако, оптимизма и жизнелюбия. При виде симпатичной женской попки глаза его маслились, как у молодого. Фролов, самый из них пожилой, работал на заре гидроавиации еще с Григоровичем, а теперь тихо корпел над мемуарами. Абрамов специализировался на политинформациях, расчеркивая газеты «Правда» и «Известия» разноцветными карандашами. Во всяком случае, эти «парни» знали о гидроавиации все, но ездить в командировки не желали, да и не могли. В командировки стал ездить я, охотно и подолгу пропадая на испытаниях и натурных экспериментах, набираясь профессионального, а главное, жизненного опыта.
В лаборатории новые технические идеи сначала проверялись на моделях. Модели испытывались в гидроканале, буксировались в водоеме за катером. Испытания в водоеме проводились на Московском море, вблизи Дубны, где у лаборатории была своя испытательная база. По большей части проводил эти испытания я. Результаты в виде отчетов и наших рекомендаций передавались в конструкторские бюро. В 1963 году один из вариантов подводных крыльев для гидросамолета прошел предварительные модельные испытания, был изготовлен в натуре и установлен на амфибии Бе-12. Настало время провести летные испытания, разумеется в присутствии представителя ЦАГИ, каковым назначили меня. Надо сказать, это был редчайший случай, когда пацана, без году неделя выпускника института, назначили представителем ЦАГИ на натурных летных испытаниях. Я до сих пор благодарен судьбе и своим старшим коллегам за предоставленный мне уникальный шанс.
Испытательный полигон Таганрогского завода находился в Геленджике – маленьком курортном городке вблизи Новороссийска. Я много раз потом бывал в Геленджике, жил там месяцами, завел друзей и врагов, но отчетливо помню свой первый туда приезд. Привокзальная площадь Новороссийска, такси, город, освещенный ярким южным солнцем, белый от белых домов и цементной пыли, присыпавшей все вокруг, – в горах над городом добывали цемент. Цемесская бухта, корабли, стоящие у причалов и на рейде. Шофер такси прекрасно знал «секретный» полигон в Геленджике и охотно повез меня туда. По дороге указал на развалины и искореженный, обгоревший трамвайный вагон в пригороде Кабардинка. Здесь проходил передний край обороны во время войны, немцы дальше не прошли. Дорога недолгая, и вот за поворотом открывается вид на круглую бухту и симпатичный зеленый городок. Посреди бухты движется большая зеленая каракатица – гидросамолет делает пробежку.
Геленджик. Взлет гидросамолета Бе-12
Таганрогцы приняли меня по-южному радушно, поселили в общежитии, прикрепили к столовой, и началась моя геленджикская жизнь. Мой приезд случился 22 февраля, и я был приглашен на 23-е на армейский праздник. Разумеется, выйдя в город, купил бутылку водки и банку соленых помидоров – не являться же москвичу в гости с пустыми руками. Вечером в банкетном зале мое появление с водкой вызвало громовой хохот, хотя помидоры были приняты с одобрением: столы были уставлены бутылями с разведенным спиртом – авиация же! Надо мной взяли шефство летчики-испытатели и, разумеется, упоили крепко, хотя и не наповал. В последовавшей после банкета серии розыгрышей и подначек пытались заманить меня в «теплую» черноморскую воду, но в результате искупались сами, что добавило общего веселья. В дальнейшем я подружился с этими своеобразными людьми и наслушался много баек про их нелегкую жизнь. Единственное, что мне так ни разу и не удалось сделать, – это обыграть их в карты. По приезде моем в Геленджик (если я поселялся в общежитии, а не в городе) летчики зазывали меня в свою дружную компанию, сажали за карты и обдирали в преферанс как липку, после чего брали на свое полное довольствие. Секрет моего карточного невезения раскрылся однажды, когда я сел играть со штурманом в гусарика и он, будучи в хорошем настроении по случаю присвоения очередного звания, перечислил мне мои карты – профессиональная зрительная память позволяла ему запомнить рубашки всех карт после второй-третьей сдачи.
Бора
Геленджик 60-х был маленький городок – несколько пансионатов и пионерлагерей, пара ресторанов, одна гостиница. У причала обычно болтались несколько рыболовецких сейнеров и пассажирские катера, ходившие по бухте и вдоль побережья в Новороссийск, Фальшивый Геленджик, Джубгу, Архипо-Осиповку. Округлую бухту шириной три-четыре километра замыкали два мыса – слева Толстый, с маяком, справа – Тонкий, где располагалась наша испытательная база. С севера и северо-востока город и бухту окаймляли невысокие, но обрывистые горы. Несколько раз в году с этих гор срывался ветер – знаменитый новороссийский норд-ост, или бора. Ветер начинался обычно при ясном небе и солнышке, легкими прохладными порывами, и в течение получаса мог достигнуть бешеной, ураганной силы. При этом резко холодало, в бухте ветер срывал брызги и пену, все, что было плохо привязано, уносилось далеко в море. В открытом море, ветер раскачивал большую волну, но в бухте волны не было – только пена и брызги, визг и вой ветра. Осенью и зимой бора вызывала обледенение снастей на судах, стоящих в порту, так что в старину, бывало парусные корабли под тяжестью намерзшего льда переворачивались. Бора могла затихнуть так же быстро, как и началась, – за пару часов, но могла продолжаться и неделю. В такие дни люди чувствуют себя плохо, невозможно заниматься никакими делами, только пить вино. Местные рыбаки шутят, что бора – это ветер, который лучше всего продувает карманы…
Однажды я возвращался из Геленджика домой. Несколько дней свирепствовала бора. В Новороссийске, высаживаясь из автобуса, я неосторожно открыл дверь и был вышвырнут наружу, подобно перышку, порывом ветра. В ожидании поезда я наблюдал, как в бухте большой греческий сухогруз с помощью двух буксиров и с отданными якорями борется с ветром. Позже, в Москве, прочитал в газете, что этот корабль был ветром выкинут на камни.
Расскажу, как столкнулся с борой непосредственно. Тут нужна небольшая предыстория. Как-то, прогуливаясь по берегу, увидел я у причала одного санатория несколько яхт – небольших спортивных швертботов. Поскольку я яхтсмен, участвовал в гонках на таких швертботах, меня эта картина весьма заинтересовала – в командировке, бывало, по нескольку дней случались простои (для испытаний приходилось ждать определенную погоду) и заняться, в сущности, было нечем. Спустился я к причалу, нашел местного управляющего, выяснил – у него была идея организовать для отдыхающих развлекательные прогулки на яхтах. Идея сама по себе здоровая, но затруднение в том, что швертботы плохо приспособлены для катания публики – при штатном экипаже в три человека можно посадить в лодку еще максимум двоих, при этом будет тесно и хлопотно. К тому же управление такой лодки требует довольно высокой яхтенной квалификации, а у начальника санатория в распоряжении была лишь команда местных десятиклассников, ходивших до того только на шлюпках.
К полному взаимному удовольствию, мы с начальником договорились, что я беру под свою опеку ребят и одну яхту и буду обучать их премудростям яхтенного вождения.
И вот однажды катался я с молодым напарником по бухте и уже собрался причаливать – что-то нехорошие перистые облачка собирались над горами. Подвалили к причалу, пришвартовались, но тут подошел начальник и попросил отвезти его домой – в район Толстого мыса, на другой стороне бухты. Погода пока была хорошая, дул легкий попутный ветерок. Отчего бы и не отвезти!
Еще на полпути ветер начал разыгрываться, по всем признакам надвигалась бора. Высадили начальника и погнали обратно, надеясь успеть до начала сильного шторма, но не успели. Ветер крепчал с каждой минутой, срывал с поверхности воды брызги и пену, заходил из стороны в сторону и бил порывами. Нам необходимо было идти против ветра, то есть править в лавировку, с большим креном, при этом приходилось сильно откренивать яхту, сидя на высоком наветренном борту и отвисая на шкотах, но при очередном заходе ветра яхта резко кренилась в другую сторону, и мы с напарником оказывались в воде. Вот мы уже не успеваем перескочить на наветренный борт, и яхта валится парусом на воду. Яхта не тонет – в бортах большие воздушные мешки, – но лежит беспомощно на воде. Командую напарнику перебираться на вылезший из воды шверт (киль) и, дергая за шкоты, пытаться поставить яхту на ровный киль. Это нам не сразу, но удается – яхта снова стоит, но ее сносит ветром к выходу из бухты – в открытое море, где разыгралась уже большая волна. Маневрирую рулем, разворачивая яхту носом против ветра, ловлю парусом ветер – и вот мы снова несемся с большим креном к берегу. Такие кульбиты повторяются несколько раз. Я явно не справляюсь с ветром, надо что-то делать. Удерживаю рулем яхту в дрейфе и командую парнишке снимать передний парус – стаксель. Парнишка молодец, делает все правильно, не поддается панике. Яхта с одним парусом делается спокойнее, да и я наконец приспосабливаюсь к порывам ветра, ловлю необходимый угол лавировки и ритм, и мы постепенно овладеваем ситуацией и потихоньку начинаем двигаться в нужном направлении. И вот уже близкий наветренный берег прикрывает нас от порывов ветра, а там недалеко и причал. Думаю, все приключение заняло не больше пары часов, я даже не успел испугаться. После того, как вытащили лодку на берег, парень зазвал меня к себе домой, вытащил из семейных запасов бутылку вина, и мы выпили за приключение. Потом он признался мне, что здорово струхнул поначалу, но ему очень помогло то, что я держался внешне невозмутимо и отдавал команды спокойным голосом.
Как это все выглядело со стороны, рассказал мне позже начальник санатория, который наблюдал за происходящим с высокого берега. Он пытался организовать для нас спасательный катер, но никто из спасателей не решился выйти в море…
Непоротое поколение
Я упоминал уже, что, кроме друзей, у меня появились в Геленджике и враги. Одним из таких врагов стал техник – начальник аэродромной бригады. По совместительству он был парторгом базы.
В Геленджике меня поселили в общежитии персонала, в комнате, где, кроме меня, жило еще пять человек, в том числе и техник. Ребята вставали рано и шли на работу, мне же можно было как командировочному еще поспать. В один из первых рабочих дней я был разбужен ни свет ни заря самым зверским образом – кто-то на всю катушку включил репродуктор и играли гимн. Будучи человеком посторонним, новым, я кое-как вытерпел надругательство и вскоре заснул снова. Однако позже днем попытался договориться с ребятами-соседями, чтобы больше репродуктор утром не включали или включали тихо. И выяснил, что к этому акту вандализма они не имеют никакого отношения и даже сами от него страдают, так как им всем вставать на самом деле нужно попозже. Включает же радио их начальник – техник, который обычно в общежитии не ночует, а приходит под утро, чтобы переодеться и идти на работу. Этот гусь, будучи часто в командировках в Геленджике, кроме семьи, живущей в Таганроге, завел еще одну настоящую семью, где и ночевал, но место в общежитии придерживал, а заодно следил за морально-политическим климатом в своей бригаде. Отловив мужика днем на работе, я попытался воздействовать на его совесть, но получил гневную отповедь, что вот, мол, приезжают всякие из Москвы и разлагают коллектив. Ребята же мне вечером объяснили, что говорить с ним бесполезно, он человек вздорный и опасный. Разумеется, предостережения я проигнорировал и разъединил вечером провод в радиорозетке. В шесть утра вся комната была разбужена громовыми раскатами мата. С трудом разлепив глаза, я сообщил дебоширу, что, если он немедленно не прекратит безобразие, я вечером запру дверь на ключ. Угроза подействовала, но, как мне потом рассказали таганрогские коллеги, говнюк написал в различные инстанции кляузу, где обвинял меня во всяких вредных политических высказываниях. Однако видимых последствий кляуза для меня не имела.
Другой эпизод, связанный с моей неосмотрительностью, мог принести гораздо более серьезные неприятности. Результаты наших испытаний фиксировались в виде показаний приборов, записывающих параметры поведения самолета в различных условиях. В ходе испытаний накапливался большой экспериментальный материал, представляющий ценность для дальнейшей нашей работы в Москве и Таганроге. Этот материал оперативно обрабатывался здесь же на месте таганрогскими техниками и представлялся в черновом виде, в графиках на миллиметровке, без указания масштаба и наименований параметров. В таком виде графики, по существующему положению, не являлись секретными и не должны были храниться в первом отделе. После расшифровки графиков в Таганроге и их засекречивания мы в Москве могли их получить через первый отдел, но это было бы очень нескоро. Желая привезти в Москву экспериментальный материал поскорее, я договорился с инженером, ведущим испытания, переснять черновые графики на фотопленку и, уезжая, взял ее с собой (расшифровать основные параметры я мог по памяти). Приехав в Москву, доложил о результатах испытаний, заслужил похвалу и благодарность начальства, но через несколько дней был вызван в первый отдел, где давал объяснения по поводу «телеги», поступившей на меня из Таганрога. В общем, с помощью Александра Ивановича Тихонова и начальства лаборатории мне удалось отбиться, но в дальнейшем мне посоветовали не проявлять излишнего рвения и быть осторожным с секретчиками…
Расскажу еще случай, когда мое легкомыслие и «бдительность» стукача могли пагубно отразиться на моей служебной, да и на личной, судьбе. Для проведения экспериментов на моделях в лаборатории имелась своя испытательная база на Московском море. На самом деле это был райский уголок в одном из глухих, затерянных заливов водохранилища, с чистым пляжем и отличной рыбалкой, со своими катерами и лодками. Добираться туда можно было на электричке до станции «Большая Волга», а затем – вызванным с базы быстроходным катером. Однажды, проведя на базе достаточно много времени и изрядно соскучившись по общению, я пригласил из Москвы в гости на выходные компанию друзей, благо никакого начальства не ожидалось. Ребята приехали с палатками, были встречены мной на станции и перевезены в ближайший к базе, но находящийся за оградой лес. Ближе к ночи начался дождь, палатки промокли, и я, под покровом ночи, провел компанию на территорию базы, в находящийся в моем распоряжении пустой финский домик. Утром, в воскресенье, потихоньку выбравшись за забор, мы продолжили наш пикник. К вечеру, договорившись с приятелем – капитаном катера, я вывез друзей обратно на станцию и, с ощущением хорошо проведенного времени, продолжил свою командировку. И все бы хорошо, но по возвращении в Москву меня ждал разбор доноса, в котором мои художества расписывались как аморалка и преступное нарушение гостайны. Меня и на этот раз выручил начальник отдела, и я отделался легким выговором, но в заключение мне очень доходчиво объяснили, что в прежние времена меня бы ждали о-о-очень большие неприятности и вообще, меня еще жареный петух не клевал… А ведь и действительно!
Однажды я умер
Была весна. Я представлял ЦАГИ на мореходных испытаниях самолета в Геленджике. Испытания продолжались второй месяц, и неизвестно, когда могли кончиться – все зависело от погоды. Нужны были волны, а стояла, как на грех, ясная безветренная погода. На майские праздники – десять дней – вся самолетная таганрогская бригада улетела домой, благо был свой транспортный самолет, а я остался в Геленджике – не было смысла ехать в Москву и через неделю возвращаться обратно. Сильно поджимали деньги – командировочные заканчивались, а когда будет новый перевод – никто не знает. Поэтому я перебрался из гостиницы в частный сектор и ввел для себя режим строгой экономии: днем – обед в ресторане, а утром и вечером – чай. Выручали местные друзья – сводили на сейнер, к знакомым рыбакам, и взяли ведро свежепосоленной ставриды, которую развесили на нитках во дворе моей хаты – уже на второй день была великолепная вяленая рыбка, еда для перекусона и закуска к сухому вину.
Погода была жаркая, прямо летняя, вода в бухте прогрелась градусов до двадцати. Целыми днями пляжился, ходил с пацанами-десятиклассниками на яхте по бухте. Ребята были все моторизованные, с велосипедами и мопедами, достали и мне спортивный велосипед, и мы устраивали прогулки по окрестностям. В один из дней решили смотаться в соседний поселок Джанхот – по слухам, очень живописное место. Выехали утром пораньше. Солнце уже припекало. Дорога поначалу шла в гору. С непривычки было тяжело, я обливался потом, но старался не отставать. После перевала дорога резко, серпантином, пошла вниз…
Дальнейшее я не помню. Очнулся лежа навзничь, на дороге, в шаге от обрыва, велосипед валялся невдалеке, искореженный. Кто-то из мальчишек плакал, склонившись надо мной, остальные понуро стояли вокруг. Когда я очнулся, все вздохнули с облегчением, один сбегал вниз, в ущелье, принес воды, смочили мне голову, дали попить, стал понемногу приходить в себя, но ничего не мог понять. Расшибся изрядно, была стесана бровь и кожа с плеча, возможно, трещина плеча и на голове огромная шишка. Ребята рассказали, что на спуске в долину я неожиданно вырвался вперед и на большой скорости исчез за поворотом. Послышался треск, и, когда группа подъехала, я уже лежал у обочины без сознания. Мне очень повезло: еще шаг – и я бы вылетел в обрыв метров за тридцать, на камни – гарантированная смерть.
Кое-как поднялся и, поддерживаемый под руки, спустился в долину, в медпункт санатория. Перевязка, уколы, немного отсиделся и вот уже смог самостоятельно двигаться. Всей компанией сели на рейсовый катер до Геленджика, и вскоре я уже был дома. В общем, сотрясение мозга средней тяжести, фингал под глазом и некоторое время рука на перевязи – ничего страшного, но меня зацепило, что большой отрезок времени – минут двадцать – полчаса – полностью выпал из моей памяти. Судя по всему, в пути мне напекло голову, был перегрев, тепловой удар, я потерял контроль и, разогнавшись, свалился. Врач объяснил мне, что я не помню ничего из того, что предшествовало падению, вследствие так называемой ретроградной амнезии и это обычный случай… Но вот в чем штука: если бы я разбился покрепче или вылетел-таки в обрыв и погиб – для меня, субъективно, в сущности, ничего бы не изменилось. То есть в эти полчаса я как бы не существовал, умер, а потом стал жить заново, уже немножко по-другому. Можно возразить, что, засыпая каждый раз, уходишь из жизни и потом возвращаешься заново, но тут другое – существуют сны, и иногда их помнишь, а я в своем беспамятстве не помню ничего. И кстати, я действительно изменился после падения. Некоторые изменения произошли в физическом состоянии, они в основном прошли через полгода-год (шрамы, разумеется, остались). Некоторые же, более глубокие, изменения личности, по-видимому, остались.
Относительно физических последствий удара не могу не вспомнить любопытный момент: плечо мое долго болело, а боли при изменении погоды продолжались лет двадцать. Прошли они, когда, приехав в 93-м году в Израиль навестить брата, я искупался в целебных горячих источниках Хамат, Гадера. После двух сеансов боли мои прошли и больше не возобновлялись.
Изменения же психологические сохраняются до сих пор: пережив момент истины, я стал спокойней относиться к неизбежному.
VIII. Фотолажа
Три рубля за кадр
Странно! Почти у каждого из отдыхающих был фотоаппарат, качество наших снимков было очень средненькое, ракурсы вполне стандартные, но поток желающих сняться у нас на пляже не оскудевал. Правда, деньги мы брали вполне божеские – три рубля за кадр, с тремя отпечатками 10×14, оплата по получении. За день набегало по полторы-две пленки на брата, то есть примерно по сто пятьдесят – двести рублей. Моя инженерская месячная зарплата.
Надо сказать, вкалывать за эти бабки приходилось изрядно. Часов с десяти и до двух обходили пляж, фотографируя осатаневших от солнца и спиртного клиентов, поощряя их к совершению разного рода безумств – ныряния в набегающую волну, построения в воде разных гимнастических пирамид, объединения в группы по признакам происхождения, пола и возраста – и рекламируя свою продукцию. Стараясь по возможности уклониться от предложений выпить за компанию, за знакомство или для дегустации нового напитка собственного приготовления. Потому что после выпивки хождение с фотоаппаратом по раскаленному пляжу превращалось в пытку, а качество снимков резко снижалось. Но человек слаб – уклоняться удавалось не всегда. После двух пляж пустел, и мы обедали, возбуждая аппетит парой стаканчиков спиртного, и шли домой, где прежде всего проявляли отснятые пленки. Вывесив их для просушки, ложились отдыхать, затем, если было еще светло, выходили на вечерний, почти пустынный пляж, прихватив гитару и пару бутылок сухого. Подходили друзья, раскладывались на песке, расслаблялись. Хвост пел.
С наступлением темноты надо было возвращаться к работе – печатать снимки. Иногда печать затягивалась до 5–6 часов утра, но работу надо было закончить непременно, чтобы утром отдать готовые клиентам. В этом Хвост был непреклонен.
Я познакомился с фотолажей, как называл это занятие Хвост, году в 72-м. Я отдыхал в Крыму, на Карадаге. От моего длинного отпуска оставалось еще несколько дней, но совершенно кончились деньги, надо было добираться до дому на попутках, что я и решил проделать, а по дороге в Симферополь навестить Хвоста, который в это время, как мне было известно, подрабатывал пляжным фотографом где-то в районе Малореченской.
Из Коктебеля катер бодренько и задешево довез меня до пристани Малореченской, я спустился на пляж, походил по берегу, но следов пребывания друга не обнаружил. Наконец некий абориген подсказал, что видел каких-то питерских фотографов на пляже соседнего поселка Солнечногорского. Питерские для Крыма – это почти московские, и я решил проверить, тем более что расстояние было всего-то с полкилометра. Обогнув скалистый мысок, двинул по соседнему пляжу и тут же наткнулся на Хвоста. Обнялись, расцеловались, но прежде, чем отправиться к буфету отметить встречу, Хвост объяснил, что ему нужно довершить обход пляжа и раздать отснятые накануне фотографии. Пошли вместе.
Я с любопытством наблюдал, как легко общается Хвост с клиентами, фотографирует желающих, перебрасывается шутками, раздает снимки и получает денежки. Потом мы остановились на берегу, искупались и отправились в буфет, расположенный тут же, на пляже. За стаканом вина я рассказал Хвосту про свои обстоятельства, и он немедленно предложил мне остаться на несколько дней у него в Солнечногорском, а если хочу, то и подработать на обратную дорогу, благо у него был лишний фотоаппарат. Идея показалась мне занятной, и я согласился.
На другой день Хвост показал мне мой маршрут на пляже, вручил «Зенит», объяснил несколько нехитрых приемов работы, и мы разошлись в разные стороны. За те пару дней, что я пробыл у Хвоста, я заработал не только на обратную дорогу в Москву, но и на заезд к друзьям в Одессу. После отвального вечера на пляже мы с Хвостом расстались – до встречи в Москве.
На следующее лето Хвост предложил мне поехать в Солнечногорское вдвоем. Он хотел заработать летом денег, чтобы зимой о них не думать.
Я работал в НИИ и в деньгах особо не нуждался, но у меня оказалось свободное лето, мне нравилось общение с Хвостом и понравилась фотолажа. Так мы стали напарниками.
В первых числах июня 73-го года мы с Хвостом, нагруженные дефицитной чешской фотобумагой, отправились с Курского вокзала поездом Москва – Симферополь. В Солнечногорском, с помощью местных друзей Хвоста, нашли удобное жилье – отдельную мазанку с водой и электричеством, установили оставленную с прошлых лет аппаратуру, отгуляли на устроенном друзьями по случаю открытия сезона банкете и наутро приступили к «возделыванию капусты».
Мы провели с Хвостом вместе в Солнечногорском три сезона, и теперь, вспоминая прошедшее, я думаю, что это были хорошие, веселые деньки.
Откуда есть-пошла фотолажа малореченская
Родоначальниками фотолажи в Малореченской – Солнечногорском были два питерских приятеля Хвоста – Сорока и Понтила. Сорока был удивительно рукастый умелец – художник, скульптор, ювелир, слесарь… В своей комнате питерской коммунальной квартиры он мог сделать все. В тех редких случаях, когда нельзя было обойтись без заводского оборудования, на помощь приходили многочисленные друзья. В пору моего знакомства с ним он осваивал новый вид продукции – изготавливал фигурные металлические пуговицы от форменных мундиров Российской империи. Как во всем, что делал Юрка, он добивался абсолютного сходства с оригиналом. Оригиналы ему доставали из коллекции Эрмитажа. Пуговицы пользовались большим спросом у коллекционеров. Предыдущим достижением Сороки было изготовление керамических расписных тарелок, скопированных с парадных императорских сервизов.
Понтила прежде всего поражал устрашающим обличьем – большого роста, с неимоверной ширины плечами, он обладал, по-видимому, огромной физической силой, но нрав имел спокойный. Больше всего походил на своих предков – шведских викингов. Когда мы познакомились – дело было в Питере, на Невском, он, вместо рукопожатия, с самым серьезным видом прошелся вокруг меня по тротуару на руках. Понтила…
Не знаю, как ребята оказались в Малоречке – кто-то, наверное, подсказал, но они сделали самое важное – добились доверия и уважения у местной братвы. Отныне они могли не бояться ни конкурентов, ни ревизоров, ни милиции. Отрекомендовав авторитетам Хвоста, они и ему открыли эту возможность – возделывать безданно – беспошлинно местную ниву.
Помню, как-то раз, весной, я повстречал Понтилу на Московском проспекте – он ловил попутную машину в направлении Пскова. На нем был здоровенный рюкзак, как выяснилось, набитый фотобумагой и химикатами. Валера направлялся в Малореченскую. Мы с моим приятелем Витькой Тупициным возвращались из Питера в Москву и, будучи без денег, также ловили попутку. Валере повезло раньше, и он уехал, махнув на прощанье рукой.
Как нас ограбили
Однажды вечером, придя с пляжа и собираясь приступить к печатанью снимков, мы обнаружили, что в нашем доме кто-то побывал. Исчезли кое-что из личных вещей, гитара Хвоста, а самое неприятное – наши фотоаппараты. Денег, слава богу, грабители не нашли – а это была наша выручка почти за сезон. Знающие люди посоветовали обратиться к нашему хорошему приятелю Коле. Нам объяснили, что ограбление, скорее всего, дело рук пацанов, не связанных с нами дружескими узами, а Коля – местный пахан и пользуется в молодежной среде большим авторитетом. Пропавшие летом у отдыхающих вещи зимой обнаруживаются обычно у Коли.
Коля принял близко к сердцу наши неприятности и обещал помочь, чем сможет. На другой день он сообщил по секрету, что след пропавших предметов обнаружен, след этот ведет к заезжим гастролерам, что надежда на благоприятный исход не потеряна. Еще через день он объяснил, что нам вернут наши орудия труда – фотоаппараты, а гитару и шмотки вернуть не удастся – да и то правда: «Должны же пацаны поиметь какую-то награду за труды…»
Поэт и Пахан
Возврат аппаратов был обставлен в лучших традициях Джеймса Бонда: Коля передал нам план, по которому в определенный час мы вышли к определенному кусту, под которым и нашли запрятанный пакет с нашей техникой. Гитара была немецкая, штучная, среди пропавших шмоток была моя любимая пуховая куртка, но мы с Хвостом были довольны – можно было продолжать работать, а каждый день простоя приносил ощутимые потери. Благодарность наша Коле Пахану была велика.
Автогонка
У местной крымской молодежи возможности выбора профессии были весьма ограничены. Если в теплый сезон толпы отдыхающих обеспечивали работой и снабжали легкими деньгами всех местных жителей, то в остальное время найти мало-мальски оплачиваемую работу в Крыму было нелегко. Популярностью пользовалась профессия шофера, работу можно было найти в любой сезон – водителя такси, грузовика, автобуса или водовозки. Водить машину умели все, и хорошо водить. Поэтому спор, случившийся однажды вечером в кафе на пляже Солнечногорского, вызвал живой интерес у присутствующих. Валера, водитель ЗИЛа-водовозки, утверждал, что делает 24 км, отделяющих Солнечногорское от Алушты, за двадцать пять минут (на дороге множество закрытых виражей, местами она так сужаласт, что две машины разъедутся с трудом, и к тому же в дневное время была довольно загружена). Многие выражали сомнение. Валера горячился. В спор вмешался Коля (не Пахан, а Амбал) – водитель мусоровозки. Он заявил, что готов на своей ГАЗ-51 проехать эту дистанцию за 20 минут. Ударили по рукам, уточнили условия пари. Грузовик должен был везти тонну груза, дистанция считалась от выходного знака Солнышка до входного знака Алушты. Старт давался в одиннадцать часов. Секундометраж осуществлял независимый эксперт, каковым вызвался быть я (и ведь не очень был пьян!). Назавтра в одиннадцать утра мы с Николаем рванули со старта. Коля был холоден и деловит. Он закладывал виражи как бог. Он обгонял попутки и разъезжался со встречными, выверяя дистанцию до сантиметра. Когда мы поровнялись с входным знаком Алушты, мой секундомер показал, что у Коли в запасе еще секунд двадцать. Перед обратной дорогой зашли в шалман освежиться, выпили по паре стаканчиков сухого и поехали домой. И тут в Колю вселился бес. Что он выделывал на дороге! Встречные машины нам гудели. Попутные от нас шарахались. Время я не засекал (не до того было), но уверен, что обратную дорогу мы проделали минут за пятнадцать. Въехав в поселок, мы решили второй результат не обнародовать, дабы не плодить самоубийц.
Пиры на свежем воздухе
Чтобы выдержать сезон изматывающей работы и не свихнуться, необходимо было время от времени устраивать себе разгрузку. Иногда сама природа приходила на помощь – шел дождь или на море был сильный шторм. Тогда мы отдыхали – брали машину и закатывались в Алушту или Ялту, в ресторан. Другой раз просто решали, что пора отдохнуть, предупреждали на пляже, что нас не будет денек, и устраивали пикник. Особенно запомнились мне два таких пикника.
Отдых был намечен заблаговременно. Воскресным утром мы собрались на перекрестке у дороги, уходящей от основного шоссе вверх, в сторону села Генеральского. Мы – это Хвост, Наташка – подруга Хвоста, Сережка – двенадцатилетний сын моих одесских друзей, которого они доверили моему попечению на месяц, я и наш знакомый – повар придорожного кафе в Солнышке. С собой у нас был ящик водки и бутылка лимонада. Подъехал Валера на водовозке, мы разместились в ней – Хвост с Наташкой и Сережкой в кабине, мы с поваром сверху на бочке – и поехали в горы.
После Генеральского дорога круто пошла вверх. Собственно, это была уже не дорога, а лесная тропа, по которой трелевочные трактора свозили сверху – от лесоразработки – спиленные бревна. Постепенно удушливая жара побережья сменялась прохладой. По сторонам дороги рос дремучий лес – огромные буки, ели. Приходилось крепко держаться за поручень цистерны и время от времени уклоняться от веток. Наконец машина вырвалась из леса на открытое всем ветрам плоскогорье – Яйлу. Невдалеке виднелся вагончик – жилище чабанов. Нас уже ждали: был освежеван молодой барашек, на костре стоял большой казан с водой. Пока готовилась шурпа и охлаждалась в леднике водка, приняли по стаканчику под холодную закусь. Дул прохладный ветерок, вдали сверкало сиреневое море. Подоспела шурпа, и пир набрал обороты. Запивали холодную водку ароматным бульоном на травах, заедали нежнейшей бараниной – ничего вкуснее я в жизни не едал.
Стемнело, как это бывает на юге, быстро. Уложили Сережку в вагончике, укрыли тулупом, и пир продолжался – Хвост пел, водка не кончалась. Наконец я сломался и улегся в вагончике рядом с Сережкой. Среди ночи меня разбудил Хвост: «Вставай, надо ехать!» Я сначала не поверил – Валерка пил наравне со всеми, а обратная дорога была головоломная. Но выяснилось, что никто не шутит – завтра всем на работу. Слегка пошатываясь, взгромоздился на свою бочку, и поехали. Валерка вел на спуске медленно и осторожно. Остатки хмеля улетучились у меня после первых минут спуска и хлестких ударов ветками по лицу. Когда наконец спустились в Генеральское, на асфальт, все вздохнули с облегчением, но, как выяснилось, преждевременно: Валера на радостях, что кончился трудный участок, ударил по газам, и мы помчались по серпантину с бешеной скоростью. Нас с поваром мотало на штанге цистерны, как флаги. На одном особенно крутом вираже машину занесло, и я решил, что все кончено. Остановив машину в сантиметре от обрыва, Валера вышел, почесал затылок и заявил, что обычно он этот поворот проезжает на скорости сорок километров в час, а тут решил попробовать на семидесяти. Дальнейший спуск проходил без особых приключений, только в самом конце Валера проскочил перекресток, пляж, и машина заглохла на мелководье, завязнув в прибрежной гальке.
Пиры на свежем воздухе…
Запомнился мне и мой последний, отвальный пир. Я уезжал в Москву, надо было выходить на новую, вполне приличную и с трудом полученную работу. Был конец августа, погода стояла жаркая, курортный сезон в разгаре, но в нашей с Хвостом деятельности ощущался спад, накопилась усталость. Я давал прощальный банкет. Закупили водки, закуски и отправились на автобусе в Генеральское. Там к нам присоединился Валера с большой бутылью местного деликатеса – малореченской мадеры (батя Валеры работал на винзаводе). Из села отправились вверх по реке, к водопаду. Расположились в густых зарослях на берегу, невдалеке шумел водопад, вода низвергалась с высоты метров десяти в неширокую заводь, где можно было отлично искупаться. Выпивали, закусывали, пели песни… Водка шла отлично, но в конце концов кончилась. Пошла в ход мадера, но и ее хватило не надолго. Валера куда-то испарился и вскоре появился снова, неся в руках трехлитровую банку марочного крепленого вина «Черный доктор». Как мы допили эту банку (а мы ее, разумеется, допили), как мы добрались до дому – не помню напрочь. Факт тот, что проснулся я в своей комнате, голый, лежа под матрасом на железной панцирной сетке, с развешанными аккуратно на спинке кровати рубашкой и брюками и составленными под кроватью кроссовками. Комната качалась, жить не хотелось. Появилась хозяйка, неся банку холодного рассола – бальзам для израненной души. На осторожные расспросы по поводу моего вечернего поведения заверила, что ничего экстраординарного не происходило. Немного полегчало. Затем появился Хвост, неся чекушку (о, деликатный и опытный Хвост!). Полегчало еще больше. Я собрал шмотки, попрощался с хозяйкой, и мы вышли на шоссе. Вскоре появилась попутная машина, знакомый шофер обещал забросить в аэропорт. Обнялись с Хвостом, расцеловались – до встречи в Москве! В аэропорту Симферополя бросился к кассе, умоляя девушку продать мне за любые деньги билет на ближайший рейс, на что получил спокойный ответ, что посадка на ближайший рейс уже закончилась, но следующий самолет вылетает через полтора часа и билеты есть. Схватив билет дрожащей рукой, побрел искать душе облегчения и нашел его в недалеком буфете. Стакан портвейна принес наконец долгожданный покой, и я двинул на посадку в самолет, готовый к новым свершениям.
Я помню чудное мгновенье…
Буфет, столовая, ресторан – назовите, как хотите, – располагался в Малореченской прямо на пляже. Здесь на открытой веранде обедали, назначали свидания и деловые встречи. Здесь однажды жарким крымским полуднем я повстречался со своей мечтой.
Небольшая компания сидела на веранде за столиками, с очевидным желанием пообедать. Мое внимание привлекли несколько смутно знакомых, явно московских лиц. Подошел поболтать, может быть, чем-то помочь, – и вдруг… В простом летнем открытом сарафане, без косметики, в окружении друзей отнюдь не фрачного вида, но ошибиться невозможно – это она! Та, которой восхищались российские мужчины от мала до велика, которой рукоплескали Канны и Венеция, пожалуй, одна из самых красивых женщин России и уж наверняка одна из самых желанных. Что дало мне смелости обратиться к ней – может быть, яркое солнце, шорох волн, внутреннее ощущение гармонии с окружающим? Напомнил, что знакомы – встречались в Москве, в одной богемной компании. Пригласили присесть за их столик. Был легок, свободен, красноречив… Подошел Хвост, познакомились, завязался веселый общий разговор. Компания остановилась здесь проездом. На наше предложение остаться на денек-другой, отдохнуть, расслабиться – неожиданно ответила согласием она, с ней еще двое ее друзей – остальные должны были двигать дальше. Быстро решили вопрос с жильем для остающихся, договорились о встрече вечером здесь же, в кафе, и разбежались.
Вечером пили шампанское на песчаном пляже. Светила яркая луна. Пел песни Хвост, пели и остальные. Потом мы с ней остались на берегу одни. Потом мы остались одни в целом свете. Утром проводил ее до дома, где она остановилась, мы попрощались и расстались, может быть, навсегда…
Днем, в обед, зайдя в кафе, вдруг увидел ее – сидела за столиком одна, окруженная атмосферой всеобщего любопытства и восхищения, как будто не замечая всего этого. Подошел. Ждала меня, объяснила, что друзья уехали, а она осталась.
У нее были широко распахнутые глаза, глаза ребенка, нуждающегося в защите и покровительстве, а тело зрелой женщины. Зрелым был и характер. Терпеть не могла покровительственного отношения, восставала против навязываемого ей амплуа. Была проста, мила с Хвостом, с нашими местными друзьями, встречая с их стороны такое же уважительное, дружеское отношение. Уговаривала меня не пренебрегать делами, хотя Хвост и намеком не выказывал своего недовольства. Днем проводила время на пляже, зато вечером с удовольствием участвовала в наших посиделках, слушала песни Хвоста, рассказывала занятные случаи из своей жизни. Поздно вечером мы встречались с ней вновь и уже не расставались до рассвета. Все это время я спал по три-четыре часа и совершенно не ощущал недосыпа. Потом это наваждение как-то сразу кончилось: оказалось, что ей все-таки надо уезжать. Проводил в аэропорт, поцеловались на прощанье. Думалось: что-то будет дальше? А дальше ничего и не было…
IX. Зеленые холмы Прибалтики
Женился мой друг Боря Домнин. Свадьба происходила летом где-то в Перове, гостей было много, питья тоже, но веселья особо не чувствовалось. Не свершался этот брак на небесах (вскоре он и распался), не подходили друг другу невеста и жених. Не «смачивались» между собой и гости. Где-то за полночь стало мне совсем невесело, и я тихонько отвалил. Во дворе наткнулся на курящего в одиночестве Славку Олейникова – давнего, с детства, Борькиного приятеля. Постояли, покурили, помолчали… На мое предложение отправиться ко мне допивать Славка согласился охотно, так что взяли такси и поехали в Старосадский.
Я жил тогда один в комнате в большой коммуналке. Насчет «допивать» выбор у нас со Славкой оказался ограничен и специфичен: у меня в шкафу стояла почти полная бутылка отечественного ликера «Шартрез», допить которую не удавалось даже моим лихим друзьям (последний раз пытались ее прикончить, проигрывая напиток в преферанс (десять вистов – рюмка), но милосердие к проигравшим остановило этот процесс). У Славки была прихваченная со свадьбы бутылка румынского рома – напиток тоже серьезный. Так что в процессе нашей ночной беседы вместо банальной пьянки выработалось неожиданное, но вполне интересное решение: отправиться прямо сейчас в путешествие. В Прибалтику. На попутных машинах.
Ну, насчет «прямо сейчас» – это, конечно, фигура речи. Надо было все-таки собраться: оформить отпуск, взять в прокате рюкзаки, палатку, спальники. С отпуском у Славки было проще – он учился в аспирантуре мехмата и был свободен как птица. У меня имелся очередной отпуск и куча отгулов. Договорились встретиться через день-два и отправиться в путь…
Как выяснилось, в Латвию, на Рижское взморье – начальную цель нашего путешествия, – дорога лежала по Можайскому шоссе. Итак, утром дня «Д», доехав на электричке до Голицына, мы стояли на шоссе у бензозаправки и ловили попутную машину. Довольно скоро попался КамАЗ, в Кишинев, и два молдаванина – дальнобойщики – легко согласились подбросить нас до Минска, это большая часть пути к Риге. Кабина со спальным задником свободно вместила четверых мужиков – и в путь, на запад!
Отъехав от Москвы километров двести, молдаване решили отдохнуть и подкрепиться. Достали снедь, фляжку спирта, предложили и нам. У нас тоже нашлось чего выпить и чем закусить – банка тушенки и бутылка коктейля из пресловутых шартреза и рома. Состав напитков вызывал уважение, пришлось выйти из кабины и поискать водички на запивку. Молдаване – крепкие, кряжистые мужики – отнеслись к продуктам спокойно и с достоинством, пили неторопливо, закусывали основательно. Славка от них не отставал, несмотря на мои предостережения, я же довольно скоро захмелел и от продолжения трапезы отказался, по возможности лишь поддерживая общую беседу.
Стемнело, надо было устраиваться на ночлег. Мы со Славкой с трудом выбрались из кабины и расположились в спальниках на лугу вблизи стоянки. Я отрубился сразу, но где-то среди ночи вдруг проснулся от странных звуков. Продрал глаза и с ужасом увидел, как Славка извергает на меня съеденное и выпитое, не прерывая сна… Закончив процедуру, несчастный повернулся на другой бок и захрапел, а у меня – какой уж сон…
Светало. Кое-как оттерев и отмыв спальник, огляделся по сторонам и увидел невдалеке колхозную ферму. Прихватил котелок и толику денег, двинулся к ферме искать душе утешения и нашел его в виде парного молока, щедро налитого в котелок симпатичными доярками. Денег с меня они не взяли.
Вскоре проснулись молдаване, поднялся и свежий как огурчик Славка. Молоко было принято всеми с благодарностью, и вот мы уже катили по пустынному в этот ранний час шоссе. Среди прочего разговор в кабине, естественно, зашел о женщинах, и видавшие виды шофера рассказали нам о «плечевых» – странном виде дорожной проституции: девушки голосовали на дороге, подсаживались в проезжающую машину и ехали с шоферами – докуда господа пожелают, попутно обслуживая их потребности, зачастую бесплатно, за одну еду и выпивку. Далее девушек высаживали на дороге, и они поджидали следующего клиента…
Тема получила неожиданное продолжение, когда на обочине показалась одинокая женская фигура. Молдаване переглянулись, водитель остановил машину, и в кабину молча поднялась девица. Лет двадцати, одета практично, с сумкой. Лицо правильное, простое, деревенское. Большие, несколько коровьи глаза поражали полным отсутствием выражения. На мои расспросы отвечала флегматично и односложно. Во всяком случае, дома (где этот дом?) не была уже с полгода… Потом девушка попросила разрешения поспать, была отправлена в спальный задник и там затихла, а мы продолжили наш путь. Из разговора выяснилось, что шофера намерены воспользоваться услугами девицы и спросили у нас со Славкой, не желаем ли мы присоединиться. Мы не желали. Поскольку дороги наши все равно должны были разойтись, ребята предложили высадить нас на перекрестке, откуда они поедут к Минску, а мы будем искать машину в сторону Полоцка – Риги. Вскоре мы уже стояли на обочине шоссе, уходящего к древнему Полоцку, а любвеобильные молдаване с предметом своего вожделения рулили в другую сторону.
Без особых приключений, сменяя одну попутную машину за другой, где на пятьдесят, где на сто пятьдесят километров за раз, продвигались мы к цели нашего путешествия. Запомнился только один эпизод. Высадившись из очередной попутки, очутились мы в каком-то небольшом городке районного масштаба. Прошлись по улице, мощенной булыжником. Тихий летний день. На лавочках вдоль улицы под деревьями сидят старички, судачат, разглядывают нас с любопытством. Обстановка вызывает у меня острое ощущение чего-то знакомого, уже виденного. Подошли поговорить, расспросить про дорогу, присели на лавочку. Быстрого разговора не получалось. Любопытные старички задавали вопросы: кто мы, откуда, кто наши родители… Почему-то внимание аборигенов привлекла именно моя личность. Я вдруг понял, откуда это ощущение дежавю, – мы попали в типичное еврейское местечко из черты оседлости, никогда мной ранее не виденное, но многократно описанное у Бабеля, у Шолом-Алейхема. Как эти пожилые провинциальные евреи почувствовали во мне своего – не знаю. По-моему, Славка был больше похож на еврея – рыжий, интеллигентный, с тонкими чертами лица. Голос крови?
Вскоре после этого местечка у нас начались трудности – близилась административная граница, движение автомобилей резко сократилось. Вечерело. Мы уже стали устраиваться на ночлег на обочине, как вдруг показалась одинокая машина. Остановился грузовичок. На ломаном русском шофер спросил, куда мы направляемся. Узнав, что в Ригу, сказал, что едет туда же, предложил подвезти. Радостно побросали шмотки в кузов, запрыгнули сами, расстелили спальники и вскоре спали, несмотря на толчки и ухабы и явственный запах копченой рыбы, исходивший из пустых ящиков.
Проснулись глубокой ночью, посреди большого хозяйственного двора, окруженного высокими строениями. Шофер сказал, что мы в Риге, на центральном рынке, спросил, куда нам надо. Когда объяснили, что хотелось бы куда-нибудь в Юрмалу, поближе к морю, сказал, что направляется в рыболовецкий колхоз и, если подождем немного, отвезет нас прямо на взморье. Мы завалились обратно спать и проснулись уже под утро. Машина стояла на пустынном шоссе. Шофер объявил, что море – справа, за холмом, махнул приветственно рукой и укатил.
Взвалили рюкзаки на плечи и побрели через холм, поросший сосновым лесом. Поднялись на гребень, и тут… Перед глазами во всю ширь раскинулся сине-зеленый морской простор. Вправо и влево до горизонта море охватывал дугой пустынный песчаный берег. Сбросили рюкзаки и ботинки и понеслись вниз по склону, увязая в белейшем песочке, – в мелководное море. Море оказалось холоднющее – градусов двенадцать-четырнадцать, что несколько охладило наш пыл, но все равно – восторг!
Оглянувшись по сторонам, обнаружили слева по берегу – на западе, километрах в двух, – какие-то постройки, изгороди с сетями, лодки, лежащие на берегу (как позже выяснилось, рыболовецкий колхоз), а справа, вдали, небольшой поселок или дом отдыха. Вблизи же к берегу выходила узкая асфальтированная дорога, и около нее – одинокий, пустой в это время ларек.
Так мы оказались в Кемери – крайней западной точке Юрмалы. Сам поселок Кемери – известный бальнеологический курорт – располагался рядом с железнодорожной станцией, вдали от моря, километрах в пяти по дороге, ведущей от берега. Несколько раз в день, часов с десяти утра и до пяти вечера, из поселка на пляж ездил автобус, возил отдыхающих, тогда работал и ларек – можно было купить булочку, воду, пиво. В остальное же время наш пляж был пуст.
Расположились мы в лесу, поставили палатку за первой грядой дюн. Лес был чистый, густо зарос черникой, попадались грибы – маслята. Неподалеку стояло полузаброшенное деревянное строение, а около него – колонка с водой. В лесу полно хвороста для костра.
День наш начинался с трудной, но веселой задачи – окунуться в море. Для того чтобы окунуться, приходилось долго брести по мелководью в очень нежаркой воде. Мы довольно скоро к этому привыкли, и нам даже удавалось поплавать! Обсохнув на солнышке, приступали к приготовлению завтрака. Распределение хозяйственных обязанностей происходило с помощью вечернего преферанса, но и с учетом справедливости. Порой в налаженную систему вмешивались обстоятельства. Так, иногда рано утром мимо нашей палатки к станции проходила женщина, несла на продажу корзину с копченой салакой. Подзывали ее к палатке и покупали связку горячих, пахучих рыбешек. Тогда преферанс решал, кому бежать в ларек за пивом. Собирали чернику, варили компот.
Как-то выбрались в поселок Кемери. Поселок маленький, основной состав отдыхающих – женщины (лечебная специализация курорта – гинекология). Почему-то повальное (тихое) возмущение отдыхающих вызывал наш внешний вид. Мы недоумевали, пока продавщица в магазине не объяснила нам, что здесь не принято ходить в шортах. Пришлось поспешно ретироваться.
Другой раз (натянув на этот раз брюки) отправились в Ригу. Гуляли по Старому городу, ели пирожные и пили кофе со сливками в кафе на Домской площади. Потом пошли на органный концерт в Собор. Очень контрастное получилось впечатление по сравнению с нашим бытом…
Постепенно дикарское существование стало приедаться. Потянуло в цивилизацию, да и погода испортилась. Так что однажды мы поднялись утром пораньше, свернули палатку, собрали вещички и двинули на электричку, в Ригу. Дальнейший путь лежал к северу, в Эстонию, в Таллин (или, как теперь пишут, Таллинн).
На вокзале в Риге сориентировались по моей верной карте из школьного атласа и по схеме железнодорожных путей. Последняя станция пригородной электрички к северу была Саулкрасты. Туда и отправились. Выйдя из электрички, стали голосовать на шоссе. Вскоре нам повезло – притормозил грузовик, водитель ехал до Пярну, пригласил нас в кабину. Не знаю, то ли время было такое либеральное, то ли нам просто везло на хороших людей, но за все путешествие у нас ни разу не было серьезных проблем с попутными машинами. И вот мы едем по приморскому шоссе. Слева тянется море – неприветливый берег покрыт валунами и водорослями. Накрапывает дождь. Водитель рассказывает об окрестных местах. Между прочим, рассказывает о небольших островках Кихну и Рухну, лежащих в Рижском заливе. Жители этих островов – потомственные моряки и рыбаки – сохранили традиционный уклад жизни и патриархальные нравы. В ручьях и реках островов водились угри, так что там можно было попробовать деликатес – жареного угря. Оказывается, в отличие от больших островов этой группы – Сааремаа и Хиума, где пограничный режим и попасть куда можно только по пропускам, на этих островках режим свободный и ходит из Пярну катер. Водитель дал нам и адресок на Кихну, где нас примут. К сожалению, у Славки были другие планы, так что от этого проекта пришлось отказаться. До сих пор жалею.
К тому моменту Славка начал уже тяготиться нашим путешествием. Его тянуло в Москву, к любимым математическим штудиям. Недаром во время нашего пребывания в Риге он проторчал два часа в книжном магазине и накупил кучу книг по математике. Я, как дилетант, был лишен подобных проблем.
Кстати, об островах этих вспоминается другая история. Мой друг, ныне уже покойный, Юра Миропольский, математик и океанолог, подарил мне как-то знакомство с жителем одного из островов, своим другом: если мне когда-нибудь срочно понадобится свалить из Совка, этот человек перевезет меня в лодке в Швецию. Мда-с…
Пярну не оставил в моей памяти следа. Для упрощения процедуры мы переехали из Пярну в Таллин на поезде. На вокзале закинули вещички в камеру хранения и пошли гулять.
Таллин – город удивительный. Город, где в странной пропорции смешиваются строгая, седая готическая старина и современность, причем не наша, совковая современность, а западная, которую мы не знали, но чувствовали душой. Советские фильмы, где действие происходило в Западной Европе, снимались обычно на улицах Таллина. Если учесть, что никто из нас Европы в жизни не видел (я впервые побывал заграницей в пятьдесят лет), все эти брусчатые мостовые, строгая городская архитектура, суховатая вежливость эстонцев завораживали.
Мы бродили по узким улочкам Старого города, любовались высокими шпилями соборов и башнями Вышгорода. Кстати, башни крепости, в одной из которых ночевали герои «Звездного билета» Василия Аксенова, оказались заперты на замок (местные власти тоже, видимо, Аксенова читали). Ближе к вечеру решили пойти в ресторан, благо ввиду очень экономного образа жизни и бесплатного способа передвижения удалось сэкономить изрядное количество денег. Но тут нас постигло разочарование: направившись, естественно, в знаменитый кабак «Вана Томас», мы были остановлены на входе швейцаром – наши свитера и джинсы не соответствовали принятой здесь форме одежды. Случайный прохожий посоветовал пройти пару шагов и в соседнем переулке спуститься в подвальное кафе с аналогичным названием. Кафе оказалось очень симпатичным. Вполне прилично пообедав, заказали кофе и коньяк и сидели, болтая и слушая музыку.
За соседним столиком сидела средних лет пара, эстонцы. Услышав русскую речь, пригласили за свой столик, предложили коньяка, стали расспрашивать. Оказалось, эти ребята – муж и жена – долго жили в России и сохранили о ней самые теплые воспоминания. Разговор, перемежаемый тостами, затянулся до закрытия кафе, после чего эстонцы пригласили нас к себе в гости. Поехали на такси, оказалось недалеко. Сидели, говорили, пили коньяк. Гостеприимные хозяева предложили остаться ночевать, но в соседней комнате спал ребенок, и деликатный Славка наотрез отказался. Уговорились встретиться завтра, походить по городу, и мы отвалили, сильно поддатые, в ночь, в дождь. С трудом нашли такси, доехали до вокзала, хотели взять вещи и палатку, но камера хранения оказалась закрыта до утра. В вокзал нас не пустили. Башни Старого города, как уже сказано, были заперты на замок. Положение хуже губернаторского… Не помню, кому пришла эта идея – переночевать в вагоне поезда. Нашли дырку в заборе, ограждающем станцию, пролезли на пути и пошли искать незапертый вагон. Искали долго, вдали стали уже раздаваться свистки сторожей. Наконец нашли неплотно прикрытое вагонное окно, отжали раму и вскарабкались в вагон. О, молодость! Обретя наконец крышу над головой и защиту от ветра, легли и сразу заснули. Проснулись уже в разгар дня, но дня хмурого, неприветливого. Дождь шел по-прежнему. Выбравшись потихоньку из вагона, забрали вещички из камеры хранения и, не сговариваясь, направили свои стопы за городские стены. С попутной машиной, как всегда, повезло, и вот мы уже катим к Питеру в гостеприимной кабине грузовика. Из последних впечатлений от посещения Таллина: грея промерзшие ноги на радиаторе машины, я прожег свои шерстяные носки.
Грузовичок под названием «Колхида» бодро катил по прекрасным дорогам Эстонии. Промелькнули терриконы Кохтла-Ярве – месторождения горючих сланцев, остался в стороне и Тарту. Хотелось, конечно, посетить этот город с его древним университетом, но дорога звала вперед (в Питер), а вернее, уже назад (в Москву), так что Тартускому университету пришлось подождать, пока другой представитель семьи Чачко – мой брат Алик – посетит его и принесет в дар семинару Лотмана плоды своей учености.
Вот проехали Нарву, показались предместья Ленинграда. Я вдруг сообразил, что нам со Славкой незачем ехать в сам Питер: дорога лежала через Петергоф, а там жил мой родной дядя Сеня, и нет сомненья, что мы сможем у него пожить!
Не могу не остановиться здесь и не вспомнить этого замечательного человека. Дядя Сеня был отличный рассказчик, красавец, душа компании. Вообще, многочисленные братья и сестры моего отца были все люди веселые и жизнерадостные, любители спеть песню, рассказать и послушать анекдот, но никто не умел этого лучше дяди Сени. Например, мой отец, его старший брат, не обладал таким уменьем – рассказывая анекдот, начинал смеяться сам еще до его окончания (я, к сожалению, этим тоже грешу). Окончив в 38-м году стоматологический институт, дядя Сеня сразу угодил врачом на советско-финскую войну, а затем, почти без перерыва, – на Отечественную. Помимо стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, приходилось ему на войне заниматься и общей хирургией. Конечно, пришлось натерпеться всякого, но, вспоминая о пережитом, он умудрялся все преломить через призму юмора. Помню рассказ, как пришлось ему делать операцию аппендицита (Алик меня, конечно, поправит – аппендэктомию?) в полевых условиях. Отросток, который надо было вырезать, находился в необычном месте – почти у диафрагмы. И в поисках этого отростка Сеня, перебирая кишечник, вывалил все кишки на пол, а потом впихивал их обратно в разрез («стараясь впихнуть невпихуемое»). Случай, конечно, драматичный, но рассказ был незабываемо комичен. Дядя Сеня впервые открыл мне, что такое была финская война – миллион погибших советских солдат, преимущественно от мороза и болезней!
Разумеется, дядя принял нас радушно, заклал тучного тельца и выпил с нами бокал доброго медицинского спирта на лимонных корочках, но особо задерживаться в его тесноватой двухкомнатной квартире не представлялось возможным. Поэтому, выспавшись в спальниках на кухне, мы с утра понеслись осматривать обветшавшие достопримечательности Ленинграда. Эрмитаж, Русский музей, Невский проспект… Ближе к вечеру потянуло в ресторан. Помня фиаско, которое мы претерпели в Таллине, нашли на Невском кабак поскромнее, но с шикарным названием – «Метрополь». На этот раз дресс-код нами не был нарушен, мы сели за столик и постарались вознаградить себя за недели лишений и воздержания. И, разумеется, это должно было случиться, путешествие, начавшееся под знаком Бахуса, под этим знаком и закончилось: мы нарезались, как студенты. По-моему, Славка пытался ухаживать за пожилой певицей, я же откупался в фойе серьезной суммой от швейцара за некие неприличности, которые допустил. Помню, как на вокзале, не торопясь, догонял отходящую в сторону Петродворца последнюю электричку, а Славка призывно махал мне из двери заднего вагона. Опытнейший дядя Сеня встретил нас у открытых дверей квартиры (чтобы мы не звонили и не будили Лиду – его жену), сказал: «Тссс!», провел на кухню и уложил спать. Утром, напившись кофе, мы откланялись и с ощущением хорошо выполненной программы поспешили в аэропорт Пулково, а уже через пару часов с наслаждением вдыхали родной воздух Шереметьева.
X. Золотая лихорадка
Посвящается памяти Бори Домнина
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Тополёвка – it is a Gold River
1969 год. Я учился в аспирантуре. Времени свободного было много. С деньгами было хуже, но это меня не очень заботило. Однажды позвонил мне Боря Домнин, предложил встретиться, поболтать. Рассказал при встрече, что у него тоже куча свободного времени – он в это время работал в научно-исследовательском институте, в режиме свободного посещения, – и показал бумажку, сорванную со столба. В бумажке говорилось, что «…аэрогеологическая экспедиция набирает сезонных рабочих в районы Камчатки и Чукотки». Легендарные районы, предлагаемые вниманию господ сезонных рабочих, явно были недоступны для обычных смертных как вследствие отдаленности, так и из-за особого пограничного режима этих мест. Возможность вырваться из привычной рутины и посетить такие места показалась нам заманчивой.
Контора экспедиции находилась в подвале жилого дома в районе метро «Академическая», помещение было завалено спальными мешками, палатками и прочим экспедиционным снаряжением, сновали какие-то озабоченные люди – дело было в апреле, отлет намечался в начале июня, и время подпирало… Долго разговаривать с нами никто не стал, потребовали принести справку о здоровье из поликлиники и несколько фотографий, договориться на работе об отпуске «за свой счет» на июнь-август – и вперед! Кстати, развеяли сомнения относительно нашего с Борькой, возможно, слишком высокого образовательного ценза – оказалось, что в экспедиции работали сезонными рабочими и профессора, и доктора наук…
И вот наконец позади предотъездные хлопоты, и мы, партия геологов человек в двенадцать, в кабине ИЛ-18 летим через континент рейсом Москва – Петропавловск-Камчатский. Невообразимо огромная и пустая страна! Внизу проплывает географическая карта, и лишь изредка, по долинам рек, в сумерках виднеются небольшие купы огоньков. При подлете к Якутску командир экипажа уточняет, что никому сходить не надо, и принимает решение лететь дальше на Петропавловск без посадки.
Летели часов двенадцать, но все когда-нибудь кончается. Посадка. Аэропорт Елизово. Пограничный наряд с собакой заходит в самолет, тщательно проверяет документы, слегка придирается к охотничьему оружию, на которое, впрочем, есть документы владельцев. Геологов здесь уважают, и пограничники вскоре успокаиваются.
Грузимся на машину и вскоре оказываемся на базе экспедиции. Здесь надо ждать сколько-то дней «борт», чтобы лететь дальше, в район работы – бассейн реки Пенжины, – это еще на полторы тысячи километров к северу, но по местным понятиям – недалеко. А пока располагаемся на базе и знакомимся с местными достопримечательностями. Это, прежде всего, город Петропавловск-Камчатский, до него километров двадцать, ходит автобус. На другой день едем с Борькой, автобус набит битком, стоим, я чувствую, что обвисаю на поручне, засыпаю, ничего не могу с собой поделать, Борька тоже чувствует себя не лучше – сказывается разница во времени, сейчас по московскому – час ночи, а спали мы неважно. Но стоило приехать в город, смурь как рукой сняло: широченная Авачинская бухта необычайной красоты, городок карабкается по склонам окрестных сопок, дальше видны снежные вершины вулканов. Погуляли, зашли в ресторан, выпили сухого вина за приезд (об опасности для здоровья местных крепких напитков были предупреждены заранее – бывали и смертельные случаи). Ближе к вечеру поехали обратно на базу. Там нам рассказали о первых потерях: молодой парень, участник нашей партии, перекупался в знаменитых местных радоновых источниках на реке Паратунка и теперь лежал красный, с температурой под сорок и лихорадкой. К счастью, наутро все прошло.
Начальник просил не расслабляться: погода на трассе благоприятная и в любой момент может последовать команда об отправке. Так вскоре и случилось, и на другой день мы погрузили имущество и самих себя в неудобный, но надежный Ли-2, и вот мы уже летим вдоль тихоокеанского побережья на север. Болтает. Слабые страдают, но мы с Борькой – ничего, пытаемся играть в картишки и смотрим в иллюминатор. Первая посадка – на острове Корф. Длинная голая галечная коса в океане вблизи обрывистого, неприветливого берега. В шторм через косу перелетают океанские брызги. На косе – рыбоконсервный завод и взлетная полоса из железных решетчатых пластин, оставшаяся еще от времен американских военных поставок по ленд-лизу. Вдоль полосы гуляют в свободное время местные работницы, завербованные по контракту и абсолютно бесправные – у них отобраны документы, а уехать без документов в пограничной зоне невозможно. За те пару часов, что мы тут простояли, каких только горестных историй и просьб о помощи не случилось услышать, но помочь ничем нельзя – ссориться с местным начальством никто не хочет.
Наконец почта выгружена, самолет заправлен, получено добро от синоптиков, и – в дорогу. Еще триста километров – на северо-запад, в глубь континента. Это уже собственно Чукотка, хотя административно принадлежит к Камчатке. Садимся на полосу посреди ровного тундрового кочкарника, жилья не видно, только аэродромная будка, чукотский поселок Аянка – в нескольких километрах от аэродрома, но дороги туда нет, добираться нужно пешком. Выгружаемся и организуем временный лагерь.
Широта Архангельска. Начало июня, солнце почти не заходит, жарко, температура градусов двадцать пять. Поют комары. Сходили искупаться в озерке, и комары отстали. Пока.
Первую и несколько последующих ночей в этих местах меня преследуют странные, очень красочные и насыщенные действием сны. Сериалы с продолжением. Особенно запомнился один. Действие происходит в Париже. Я перемещаюсь в знакомых мне по книгам в деталях парижских декорациях, разыскиваю с какой-то целью моего приятеля Витю Тупицина и некоторых других знакомых мне людей, встречаюсь с ними в кафе «Куполь», происходят с нами различные приключения и т. д. Интересно, что, когда я в 90-м году действительно был в Париже и ходил по этим местам, меня преследовало все время ощущение дежавю. Думаю, мое сумеречное сознание в тот период в значительной мере находилось под воздействием резкого временного сдвига и белых ночей.
За те два дня, что мы стояли лагерем на аэродроме Аянка, начальник партии облетел на вертолете квадрат в среднем течении реки Пенжины – наш предполагаемый район деятельности – и выбрал место для постоянного лагеря. Настал момент перебазирования. Вертолет за несколько рейсов перебросил нас и наш груз в выбранную точку – километрах в сорока от Аянки, и вот мы стоим на широкой речной галечной косе, отделенной от основного берега узкой протокой. Берег низкий, заросший густым лесом. Коса кое-где завалена кучами плавника – сухих деревьев, нанесенных весенним половодьем. «Здесь будет город заложен…» Здесь предстоит нам прожить до осени, и отсюда мы будем отправляться в ближние и дальние маршруты – выкидушки, по выражению геологов. Дистанция этих «выкидушек» определяется размерами нашего квадрата – примерно пятьдесят на пятьдесят километров по карте. И здесь мы с Борькой вдруг узнаем, что нам предстоит работать в основном отдельно друг от друга: согласно плану начальника, мы, как люди взрослые, опытные и способные ориентироваться по карте, получаем каждый под свое начало по молодому парню-помощнику и будем действовать в «выкидушках» самостоятельно. Видеться же и общаться придется в перерывах между походами, во время пребывания на базе. Грустно, но ничего не поделаешь, да и в решении начальника есть резон: у меня в подчинении оказывает
Мой напарник с инструментом.
Легкая прогулка по понятиям
Мне кажется, для понимания дальнейшего полезно будет установить некоторые понятия и пояснить кое-что из терминов. Многие из них имеют широкое хождение среди геологов, а другие привились только в нашей компании, но все они, по-моему, выпукло обрисовывают описываемые явления.
Во-первых, чем мы здесь занимались. Мы занимались геологической съемкой и поиском полезных ископаемых в районе среднего течения реки Пенжины, пользуясь картами, аэрофотоснимками и результатами прошлогодних работ. Поиск производили по долинам ручьев и речек, впадающих в основную реку и составляющих ее бассейн. Для поиска брали пробы грунта с берегов и из русла ручьев, промывали их и результаты промывки анализировали. Интересовались главным образом золотом, платиной и тому подобными драгоценными вещами. Особенностью работы аэрогеологической экспедиции, куда входила наша партия, была возможность широкого использования авиации, особенно вертолетов. Это накладывало свою специфику на организацию нашей работы. Например, заказывался вертолет, чтобы перебросить группу из двух-трех человек в точку за тридцать – сорок километров. Ребята сидели с утра на рюкзаках и ждали «вертушку», поглядывая на небо и гадая о погоде. Как только садился заказанный вертолет, поднималась жуткая суета, хватались вещи и бегом затаскивались внутрь кабины, потому что «авиация ждать не любит» и «опоздаешь на вертолет – поедешь на собаках». При этом неизбежны бывали накладки типа забытых вещей и «похищения» чужих вещей. Подобный казус случился и с нами, о чем расскажу позже.
Инструмент. Инструментом наших с Борькой «двоек» были лоток и саперная лопатка. Лоток – широкий деревянный ковш, куда лопаткой насыпался пробный грунт из намеченной точки. Грунт промывался в проточной воде широкими плавными движениями рук, тяжелый осадок – шлих – смывался в полотняный мешочек с номером, и потом эти пронумерованные (и привязанные к карте) пробы отправлялись в лабораторию на анализ.
Инструмент у наших геологов-профессионалов был, разумеется, другой – геологический молоток, теодолит и прочие радости.
Природа. Природные условия в районе наших работ отличались разнообразием: широкая долина реки Пенжины и долины крупных ее притоков заросли высоким, непролазно густым лиственным лесом, кое-где, особенно по склонам гор, попадались участки, поросшие сосной и елкой. Дальше от долины реки лежала низменная равнина, пересекаемая волнистыми грядами холмов и покрытая тундровым кочкарником. Окрестные горы невысоки, но, встречаясь с рекой, образуют скальные обрывы и кручи, а река прорывается через них порогами. Некоторые распадки покрыты кедровым стлаником и карликовой березкой, что создает «интересные» сложности для пешехода. По классификации наших геологов, проходимость кедрача лишь немногим легче проходимости зарослей горного бамбука на Курилах, который имеет привычку почему-то расти на склонах перпендикулярно поверхности – высшая категория сложности… Самым же неприятным было преодоление участков кедрача, пострадавших от лесного пожара, но такое, слава богу, встретилось нам лишь один раз. Очень много грибов, но они быстро червивеют. В долинах речек и ручьев много дикого лука и чеснока, большие заросли малины и смородины, которыми любят лакомиться медведи…
Живность. Во-первых, упомянутые медведи (не потому, что они встречаются так уж часто, а потому, что они большие). Медведей в самом деле здесь много, следы попадаются чуть ли не каждый день; судя по следам, – это обыкновенные бурые медведи (след размерами и формой напоминает отпечаток крупной мужской руки), но один раз около своей палатки утром я обнаружил след размером со среднюю сковородку – говорят, в эти районы изредка заходят с Аляски гризли. Медведи звери осторожные, в это время года неопасные, но любопытные. Кроме медведей, мы встречали зайцев, лис, коз и оленей, то ли диких, то ли домашних (местные чукчи и сами порой их не различают). Встречали белок, в том числе красивых черных белок (большая редкость), бурундуков, один раз я видел летягу и много раз – замечательно красивых горностаев. Не забуду, как один такой таскал у меня из-под носа выловленную мною рыбу. В реках великое множество рыбы – хариуса и лососей – и очень много птицы: утки, гуси, лебеди, гагары, куропатки…
Мелкая живность. Думаю, если взвешивать, то массу всей перечисленной выше живности, включая людей, многократно перевесит масса мелких летучих тварей. Комаров бывает порой так много, что, махнув рукой, ощущаешь сопротивление плотной тучи летающих насекомых. Репелленты (диметилфталат, ДЭТА) защищают, но на ветру они быстро выдыхаются, в жару и на солнце неприятны и в сочетании с водой очень раздражают кожу, так что при работе в воде с лотком на руках вскоре образуются глубокие трещины. При еде комары лезут в рот и в ложку, но если будешь стараться их оттуда выловить – наберешь еще больше, так что лучше приноровиться и не обращать на них внимания.
Вот несколько специфических приемов борьбы, выработанных практикой. При «ходьбе по-маленькому» необходимо намазать руки диметилом и помавать ими перед собой. При «ходьбе по-большому» прием помогает мало, лучше для выполнения этой операции выбирать специальные моменты и места. Таким местом для меня были обычно горные перевалы, где дует ветер и комаров нет. Борька с той же целью предпочитал переход через речной перекат. Организм настолько свыкался с обстоятельствами, что сам чувствовал подходящий момент для процедуры.
Другой прием применялся при устройстве на ночлег. В подготовленную к ночлегу палатку ставился зажженный дымокур с ягелем (олений лишайник), дым от которого выгонял из палатки основную массу комаров. Один из сожителей залезал в палатку, пригибаясь к полу и стараясь не отравиться дымом, выдворял из нее полудохлых комаров, выкидывал дымокур и вентилировал палатку, после чего прикрывал полог и готовился исполнить роль демона Максвелла, быстро открывая и закрывая полог вслед за вбегающим компаньоном. В заслугу комарам надо поставить то, что они соблюдали некоторые правила игры. Так, они резко снижали активность на ветру, а также после захода солнца, и от них в какой-то мере спасали накомарники.
Гораздо более подло вели себя другие летающие кровопийцы. Мошка’ – размером с пару миллиметров – кусает не сразу и не всегда. Сев на кожу, она ползает и ищет удобное и вкусное местечко, каким обычно является участок кожи, обжатый ремнем или резинкой. Найдя такое место, мошка начинает выгрызать его, оставляя большие язвы, поэтому основным средством борьбы с мошкой является ношение свободной, не перетянутой одежды. Гнус – еще более мелкая и незаметная тварь, размером с булавочную головку, кусает еще реже, но уж если кусает… Предпочитает нежные места – уши, глаза. Встаешь этак утром, а на тебя твои товарищи смотрят со странным интересом. Берешь зеркало, глядишь – и о, ужас! Лицо перекосило до полной неузнаваемости! Правда, если хватит силы воли укус не расчесывать, через пару часов пройдет. И наконец, слепни. Эти вообще аристократы, от них можно отмахиваться. Главное при этом не нервничать и не горячиться. Правда, если такой все же укусит, то ой-ей-ей! Но они даже бывают полезны – ведь на них отлично клюет хариус!
«Вертушка» – вертолет МИ-4. Жутко шумная и некомфортная машина, трясет в полете так, что с непривычки кишки выворачивает. К тому же имеет привычку летать то боком, то задом. Зато влезает в нее чертова уйма всего, например наша лодка-казанка, и за полчаса «вертушка» преодолевает расстояние, на которое пешему потребовался бы тяжелый день. К концу сезона я, стоя позади пилота, запросто корректировал трассу полета по карте и выбирал место посадки, но вначале мне это казалось немыслимым.
Выкидушка. Маршрут небольшой группы, обычно от пары дней до недели, в который группа отправляется до места на вертолете или на лодке. Один раз мы отправлялись в выкидушку на БТРе, это было очень специфично, но об этом позже.
Продирон. Переход через густые заросли карликовой березы, кедрача или другого аналогичного материала. Идешь как ледокол, продираясь сквозь препятствия, и стараешься не обращать внимания на густоту зарослей и неровности почвы. К концу сезона мои болотные сапоги с отворотами и армейские брюки-галифе протерлись спереди на бедрах и коленках до дыр.
Замазон. Долгая, глухая непогодь, дождь, не дающий возможности работать. Вертолет в замазон тоже не летает.
Лабаз. Некоторый запас продуктов и снаряжения закидывается на вертолете или другом транспортном средстве в заранее запланированную точку и прячется там от медведей и других хищников. Обычно для этой цели груз подвешивают на веревке на дерево, так, чтобы зверь не достал. Но иногда – достает, и тогда происходят неприятности. Такой казус случился с нашей геологиней и ее двумя спутниками: медведь добрался до их лабаза, запас продуктов и снаряжения которого должен был обеспечить им питание на три дня, возможность обработать окрестности и спокойно добраться до базы. Поскольку пришли наши изыскатели к лабазу налегке из другого маршрута, пришлось им, горемычным, развернуться и топать до лагеря сорок километров голодными.
Карта. На маршрут каждой группе выдавался кусок карты, вырезанный из общего планшета. Карту, приклеенную к картонке, полагалось беречь как зеницу ока, и, если, например, случился пожар, перевернулась лодка или приключилась другая какая беда, надо было первым делом спасать не продукты, ружье, боеприпасы или любимого котенка, а эту карту, потому что она была секретная! Опытные геологи предпочитали иметь дело с копией аэрофотоснимка, которая не была засекречена в первом отделе.
Первая выкидушка
В первую выкидушку наши с Борькой парные группы отправились каждая со своим инструктором – опытным техником-геологом. Мы погрузили в вертолет свое небогатое имущество и вылетели в район высадки – верховья безымянного ручья, впадающего в Пенжину немного ниже нашего базового лагеря. Маршрут намечался примерно на неделю, где-то с середины маршрута техник должен был нас покинуть и отправиться по своему заданию, а мы с моим напрарником Колькой – докончить обследование ручья и выйти пешком к базе. Надо было обойти все прилегающие к ручью лощины, ручейки и родники и через каждые полкилометра брать и промывать пробы грунта. По плану таких проб в день набиралось двадцать пять – тридцать, то есть в день надо было проходить с работой до тридцати километров. К концу первого рабочего дня у нас с Колькой едва хватило сил доползти до спальника! Неутомимый наш инструктор сам сварил ужин, вытащил нас из палатки, накормил и отпустил спать. В тот день комары нам не мешали.
В дальнейшем мы на удивление быстро втянулись в рабочий режим. Из-за белых ночей можно было возвращаться на стоянку хоть в полночь и не торопиться утром с выходом на маршрут, но при этом желательно не слишком выбиваться из суточного графика. Наши первые маршруты пролегали среди холмистой тундры, покрытой сплошным ковром цветов. Из-под ног выскакивали стайками зайцы и куропатки, но отбегали недалеко, как будто знали, что мы не причиним им вреда, – охотиться еще было не по сезону, и мы не взяли с собой оружия. Погода стояла безоблачная, теплая. На третий день маршрута к вечеру мы подошли к точке, в которой нашего техника должен был забрать вертолет, но наутро разразился замазон и ни о каком вертолете не могло быть и речи. Сплошной дождь продлился два дня. За это время значительно расширились мои представления о шахматах и о возможности человеческого организма проводить время в неподвижности, в тесноте. Мы сидели в палатке, делать было абсолютно нечего. По предложению техника изготовили шахматы из листа бумаги, и он дал нам сеанс одновременной игры на двух досках вслепую. Обыграл нас как маленьких, оказалось, что он – шахматный мастер. Наконец на третий день дождь утих, тучи разошлись, прилетел вертолет, и мы расстались с нашим инструктором.
Из-за непогоды мы выбились из графика, надо было наверстывать упущенное. Помимо всего прочего, наши запасы макарон и тушенки подходили к концу. Выручила рыбалка. Пока Коля готовил бивак, я разматывал леску с крючком, хватал самого нахального слепня, насаживал его на крючок и закидывал в ручей. Обычно почти сразу же следовала мощная поклевка, рывок, и красавец хариус, развевая громадный радужный спинной плавник, покорно отправлялся на береговой откос.
Следуя за извивами русла нашего ручья, мы постепенно спустились почти до самого устья. На последнем этапе ручей сильно отклонился от прямого пути, образуя вытянутую петлю в месте впадения в реку. Сориентировавшись по карте, мы решили срезать часть пути и углубились в долину, заросшую пойменным лесом. Рассчитывали уже через пару часов пересечь долину и еще до вечера выйти к базовому лагерю, с тем чтобы поспеть к ужину… Лучше бы мы этого не делали! Совершенно непролазная буреломная чаща, кое-где прорезанная старыми протоками, заполненными водой, обступила нас. Осатаневшие комары грозно гудели в затхлой лесной атмосфере. Петляя в поисках проходов, мы сразу же потеряли ориентировку. Через четыре часа блужданий мне стали мерещиться разные нелепости, вроде того, что мы, сами того не заметив, пересекли речную долину, реку и движемся дальше в неизвестном направлении. Надо было бы остановиться, переночевать и утром на свежую голову принять решение, но уж больно неуютная обстановка нас окружала, и к тому же предстояло бы ночевать на голодный желудок – все наши припасы кончились. Наконец нашли особо высокий тополь, и Коля залез на него, чтобы оглядеться. В одном месте наметился просвет, мы решили попробовать двинуться в том направлении. И, о радость, прорвавшись из последних сил через непролазные кусты, вывалились на чистый речной берег, сориентировались и уже через четверть часа подходили к мирно спящему лагерю. Проснувшаяся повариха, ворча, накормила нас остатками ужина, и мы провалились в сон часов на десять.
Баня
Наутро за поздним завтраком радостно обменивались впечатлениями с ребятами, возвратившимися на базу раньше нас. Кстати, проявилась одна симпатичная черта, присущая геологическому народу: происшествия описываются обычно с веселым смехом: упал в воду – «Ха-ха-ха!», встретил медведя – «Ха-ха-ха!», заблудился – «У-ха-ха-ха!»: народ, смеясь, избывает свое прошлое… Поскольку на базу к этому времени возвратились все, была назначена праздничная акция – баня.
Сначала на месте будущей бани воздвигли пирамиду из камней особого сорта – неправильные камни, раскаляясь, могут взрываться. Затем на камни навалили огромную – высотой метра три – кучу сухих бревен из плавника, валявшегося по берегу, и эту кучу подожгли. Куча прогорела часов за пять, после чего оставшиеся угли были выметены и над камнями, пышущими жаром, растянули большую армейскую палатку. Рядом с палаткой разожгли костер, на который поставили греться котел с водой, и баня была готова. Осталось сбегать в соседний лес, наломать березовых веток для веника – и за дело! Надо сказать, опыт русской бани у меня был небольшой, пожалуй никакой. Первое впечатление – потрясающее: израненное, искусанное, измученное тело отзывалось на крутой пар с восторгом. Распарившись, вылетали наружу, плюхались в глубокую протоку с ледяной водой, и снова в парилку, раз за разом. Потом был ужин со стопкой водки и песни под гитару у костра. Назавтра мы с Борькой снова разошлись по своим маршрутам. Расскажу несколько эпизодов, приключившихся тогда с нами и встреченных общим хохотом при рассказе у костра.
Робкий медведь
Наш с Колей маршрут пролегал по левому берегу Пенжины. Переправившись через реку на маленькой надувной лодочке, мы оттащили ее, от греха, повыше на берег, установили палатку и с утра двинули в маршрут. Работы нам здесь было на два дня. Отработав первый день, усталые, мы возвращались вечером к палатке, как вдруг увидели свежие следы медведя, двигавшегося впереди нас в том же направлении. Представив, что может проделать этот зверь с нашими запасами, палаткой и лодкой, поспешили скорей домой, производя как можно больше шума, и уже на подходе к палатке на всякий случай пальнули вверх из ружья. Это оказалось очень своевременным: подойдя поближе, мы увидели, что мишка, видимо, уже залез было в палатку, но его напугал наш шум, а особенно выстрел. Он выскочил из палатки, ничего в ней не повредив, навалил с испугу большую кучу и убежал. Палатку пришлось отмывать.
Умный гусь
План очередной выкидушки состоял в следующем: высадившись с вертолета со своим снаряжением в точке поиска и обработав этот район, мы оставляем снаряжение – палатку и спальники – в лабазе, а сами налегке – только с лотком и лопаткой – переходим через небольшой горный хребет, километров за десять, в другое обусловленное место. Группа, работавшая до того в этом месте, в тот же день, оставив для нас снаряжение и часть продуктов, переходит в свою очередь на новую подготовленную точку. Прямо скажем, не самый простой, но вполне осуществимый план. Наш начальник, питавший слабость к сложным логистическим схемам, был очень доволен этим планом, позволявшим сэкономить вертолето-часы. Разумеется, мы с Колей, отправляясь на новое место налегке, все же брали с собой ружье, по паре сухарей и кусков сахара, два пакетика сухого супа и щепотку чая.
Вышли мы с утра и должны были прийти в середине дня, чтобы застать предыдущую группу. Однако Коля, мальчик невоздержанный, позволил себе за завтраком перекушать чесноку, а это зелье полезное, но опасное, и на середине подъема у него прихватило сердце. Пока он отлеживался и приходил в себя, у меня, думаю, прибавилось седых волос. Когда мы наконец двинулись в путь, вечерело.
Конечная цель нашего маршрута лежала на берегу небольшого горного озера. Спускаясь с перевала и уже видя оставленную нам палатку, я также увидел, что у берега плавает парочка гусей. Явно не опасавшиеся человека, они подпустили меня шагов на двадцать, чем я и воспользовался: выпалил в ближайшего из дробовика, к сожалению, заряженного утиной дробью – для гуся явно недостаточный заряд (в оправдание могу сказать, что нам всем к этому времени из-за тяжелой работы и легкой диеты перманентно хотелось есть). Оба гуся с негодованием гагакнули и улетели. Подойдя к палатке, мы обнаружили, что из всего обещанного запаса продуктов, рассчитанного на три дня, нам достался только небольшой мешочек сухарей и записка с извинениями и ссылкой на ошибку при подготовке этого лабаза (мол, самим не хватило). Делать было нечего – по той же логистической схеме выбраться из этого места мы могли только на четвертый день, выйдя на берег реки и воссоединившись с проплывающим в тот момент на лодке начальником. Нам оставалось делать свою работу и надеяться на подножный корм.
Утром, выйдя из палатки, я первым делом увидел своего приятеля-гуся, щиплющего травку в прибрежных камышах. Бросился за ружьем, выскочил на берег – но не тут-то было: гусь меня тоже увидел и, отплыв на середину озера, спокойно наблюдал за мной издали.
Весь день мы ходили в маршрут, собирая попутно сыроежки и голубику. К сожалению, и те и другая оказались малопитательны и только раздразнили аппетит. Утром я, голодный и злой, с ружьем, заряженным картечью, вылез из палатки и кружным путем, лежа на брюхе в прибрежном мелководье, стал подползать к месту кормежки гусей. Но стоило мне приподнять голову, как я тут же был замечен. Гуси применили новый прием: пока один кормился в прибрежных камышах, второй торчал на чистой воде и с безопасного расстояния следил за нами; завидев мои маневры, он издавал короткий предупреждающий «кряк», и оба гуся тотчас отплывали на середину озера. На третий день повторилось то же самое. Отварная гусиная ножка так и осталась в моем воспаленном воображении. Утром четвертого дня, бессильно погрозив гусям издали, мы с Колькой, голодные, потопали на рандеву с начальником. Кстати, эта сравнительно легкая голодовка (ведь у нас было немного сухарей, грибы, ягоды, супы и чай) еще долго отзывалась в нас ненормальным аппетитом, а Колька, молодой и растущий, неделю не мог наесться и прятал после ужина сухари, чтобы поесть ночью.
Удачи вам, мистер Кински!
Ступив на Луну, Нейл Армстронг произнес две фразы: «Это маленький шаг одного человека и большой прыжок человечества» – и «Удачи Вам, мистер Кински!».
Кто такой мистер Кински, удачи которому пожелал первый человек на Луне? Только через много лет
Армстронг признался, что десятилетним мальчишкой он слышал, как ругаются за забором соседи:»Скорее соседский мальчишка будет бегать по Луне, чем я займусь с тобой сексом».
(Википедия)Связь с миром мы поддерживали с помощью коротковолновой радиостанции. По радио заказывали вертолет, общались с другими отрядами экспедиции, слушали вещательные радиостанции, причем «Голос Америки» было слышно лучше, чем «Маяк». Так, 21 июля по «Голосу Америки» мы услышали, раньше, чем большинство жителей Советского Союза, что первый человек – американский космонавт Нейл Армстронг – ступил на поверхность Луны (советская пресса некоторое время замалчивала этот факт). На меня это известие произвело очень большое впечатление. Мы смотрели на Луну, такую далекую, и представляли себе шаги этого человека. Мы представляли пейзажи, которые ему открывались, расстояние, которое пришлось ему преодолеть, и сравнивали их с нашими расстояниями. Природа, нас окружавшая, была почти так же недружелюбна, а добираться до цивилизованных мест обитания нам было, пожалуй, дольше, чем ему…
День рождения Бори Домнина
День рождения Бори Домнина 21 августа. Начиная с 1968 года этот день стал известен всем как день вторжения советских войск в Чехословакию. Выпивая за здоровье Бори, мы, его друзья, поминали и эту грустную дату. 21 августа 1969 года мы с Борей оказались далеко от привычных мест – в бассейне великой чукотской реки Пенжины, скитаясь по поисковым маршрутам, запланированным для нас нашим начальником Лобунцом. Пришлось приложить большие усилия, чтобы преодолеть сопротивление Лобунца, Природы и Рока и все-таки встретиться в этот день и распить приготовленную еще с Москвы бутылочку «Столичной».
Применив Борькины математические способности, мои экономико-математические знания, здравый смысл и дар убеждения, мы уговорили начальника скорректировать план таким образом, чтобы возможность пересечения наших с Борькой маршрутов в одной точке 21 августа стала реальной. Теперь оставалось не выбиваться из графика и надеяться, что погода нас не подведет. Как в дальнейшем выяснилось, стихия и случай не очень мешали Борьке придерживаться графика, и он со своим напарником благополучно прибыл в точку рандеву к намеченному сроку. Зато для нас с Колькой природа подготовила несколько сюрпризов и чуть было не сорвала мероприятие.
Начать с того, что Коля потерял лоток (напоминаю, что лоток – это такая деревянная бадья размерами примерно 80 × 40 × 10 сантиметров и весом килограмма с полтора). Мы только что распрощались с начальником, который, высадив нас из лодки, собирался на следующий день переместиться по своему маршруту дальше, натянули рюкзаки и стали карабкаться на высокий, обрывистый берег, заросший лесом. Лоток Коля подвязал к низу своего рюкзака и, продираясь по склону через густые заросли, потерял наше орудие труда и, что хуже, не заметил пропажи. Спохватились мы уже далеко от того места, когда устраивали привал. Как это случилось – ни он, ни я объяснить не могли, но факт тот, что без лотка нам делать в тайге было нечего. Мы вернулись по своим следам, обшарили склон вдоль и поперек, но лотка не нашли. Вечерело. Начальник должен был уплыть завтра с рассветом, и мы бросились к его стоянке. Отдав дань великому и могучему, начальник предложил следующий выход: связавшись по УКВ-рации с базой, он договорился с радистом, что тот поднесет запасной лоток нам на полдороги, а мы с Колькой пойдем ему навстречу. Назначенное место – Красные Скалы у крутой излучины Пенжины – было достаточно заметным, но на всякий случай, чтобы не разминуться, мы должны были поддерживать друг с другом радиосвязь, для чего начальник отдал нам свою рацию.
С рассветом мы с Колькой пустились в дорогу. Понадобился весь наш накопленный к этому времени пешеходный опыт, двигались мы почти бегом, распугивая встречное зверье, но к трем часам преодолели тридцать пять – сорок километров, отделявших нас от Красных Скал, и расположились биваком у их подножья. Связались по рации с радистом – он был уже недалеко и вскоре показался на берегу. Радость неимоверная! Попили чаю, отдохнули, обменялись поклажами – он нам новый лоток, мы ему – начальникову рацию, – и двинули по своим дорогам: он – обратно на базу, к покинутой поварихе, а мы траверсом через горы – к месту работы. К вечеру этого, такого длинного, дня мы уже ставили палатку в намеченной точке.
Район для работы нам достался непростой – несколько разбегающихся веером невысоких хребтов с ручьями, текущими в долинах между ними. В первый день обработали одну долину, во второй – следующую, и оставалась последняя небольшая лощина за перевалом, после чего мы переваливали в соседнюю долину речки Тополёвки, где нас ждала встреча с Борькой. Но напрасно мы радовались, голубчики: враждебный Рок выложил еще не все козыри. Поднявшись на последний перевал перед долиной Тополёвки, я не узнал открывшуюся передо мной картину – пейзаж не соответствовал карте. Пытаясь разобраться в произошедшем, я прикидывал различные варианты, вплоть до самого невероятного – ошибки в карте, пока не понял – я заблудился! Правда, ошибка была небольшая: мы всего-то обработали лишнюю долину, за границей нашего планшета. Придется обработать еще одну, нашу, долину, работы всего часа на три. Усталый Коля пытался протестовать, но я давил на него всем своим авторитетом, соблазнял неминуемо ждущим нас вкусным ужином, и бедный мальчик сдался. Передохнули полчаса, обработали последнюю долину, взобрались на водораздельный хребет – и вот она, долина Тополёвки, вон она, палаточка Бори! Спускались чуть не бегом, на последних шагах дали залп из ружья, Борька с приятелем выскочили из палатки и – урра!
Возле палатки нас встретил транспарант, художественно выполненный из портянки: «Тополёвка – it is a Gold River!». Оказывается, ребята таки нашли в Тополёвке следы ЗОЛОТА! Боря с напарником наткнулись на золото в русле одного из ручьев, впадающих в Тополёвку, накануне нашего прихода. Азарт и любопытство требовали исследовать это место поподробнее, но мы отложили работу на послезавтра, а пока предались заслуженному отдыху и радостям чревоугодия. Нас с Колей ждала тушеная утка с грибами и пирог с голубикой (sic!) – Борин напарник достиг неимоверных высот в кулинарии. Мой бедный Колька объелся и быстро ушел спать, вслед за ним вскоре ушел и напарник Бори (вот, к сожалению, забыл, как его зовут – все-таки много лет прошло), а мы с Борей просидели у костра всю ночь, рассказывали о своих приключениях, вспоминали далеких друзей, Москву, которая отсюда казалась такой родной, такой привлекательной. На другой день отдыхали, рыбачили. К ужину поджарили на вертеле хариусов – очень недурственно, скажу я вам! На мой вкус, даже лучше, чем запекать в листьях в золе.
Наутро разделили район предполагаемого залегания золота между собой и пошли искать. Если при обычном нашем поиске расстояние между пробами примерно пятьсот метров, то здесь мы обследовали каждую интересную складку местности. В нескольких местах в лотке, в черном шлихе – тяжелом остатке от промывки – блестели желтые искорки! Попробовали золотинку ножом – гнется, а значит, это не пирит, так называемая обманка, а действительно ОНО! Его, по-видимости, немного, но оно есть. Фактические запасы и перспективность определит лаборатория, но настроение у нас все равно приподнятое! Удивительная штука – казалось бы, «что нам Гекуба и что мы ей», но азарт реально охватывает при соприкосновении с этой таинственной желтой материей!
Вспоминаю, как уже перед самым концом нашей эпопеи мы с Борькой вдвоем шли по кочкарнику, направляясь к очередному району поиска (это было, когда, уже в конце лета, Лобунец изменил тактику поиска и, перебросив всю партию в новый район, отправлял нас в однодневные радиальные маршруты). Болотистая, слегка холмистая равнина, между большими кочками проглядывают окна чистой воды, мы идем, поглядывая под ноги, чтобы не провалиться, – как вдруг я вижу, что на песчаном дне большой лужи ярко и густо блестят на солнце золотые искры. Наверное, в моем голосе, когда я остановился и окликнул Борьку, было что-то такое, что заставило его сразу броситься ко мне. Мы некоторое время вглядывались в волшебную картину на дне бочажка, затем я засучил рукав и зачерпнул со дна песку с золотыми блестками. Если это ЗОЛОТО, то его здесь очень МНОГО! Клондайк! Неправдоподобно много… Боря достал нож и попробовал золотинку на излом. Потом другую. Золотинки ломались и крошились. Увы, это была обманка. Наваждение прошло, но мы с Борькой, уверяю, испытали минуту счастья!
Мы увидели настоящее золото, когда к нашей партии пробился вездеход из другого, более северного района. Там было найдено промышленное золото, и ребята привезли с собой в качестве сувениров по небольшой пробирке. На дне пробирок поблескивал серовато-желтый некрасивый порошок. Ничего волшебного… Ведь важен контекст!
Поселок Аянка
Уж небо осенью дышало… Вторую неделю длился замазон. Не летал вертолет, кончались сухари, сахар, не было почты. Да и работа застопорилась. Начальник распорядился сгонять на базу в Аянку. Вызвались наш радист и я. Снарядили лодку-казанку, завели мотор и поплыли. Вниз по великой чукотской реке Пенжине.
По карте путь выглядит совсем недалеким – километров шестьдесят. Река широкая, с островами и протоками. Несет быстро, течение приличное, надо посматривать, чтобы не занесло на отмель, не сорвало винт. Берега красивые, пейзажи меняются поминутно. Вот проскочили по быстрине высокий обрывистый мыс, по скалам карабкаются разноцветные заросли, желтые и красные оттенки – березки, осины, брусничник. Осень. Несколькими километрами ниже – на противоположном берегу – в Пенжину широким устьем впадает большой приток – Бунтуна. С этой рекой и скалами напротив связан один из эпизодов нашей экспедиции, который чуть было не обернулся трагедией.
К середине сезона в нашей партии образовались устойчивые рабочие группы. Такую группу составил один из двух наших техников-геологов и рабочий – аспирант московского технического вуза. Пара подобралась очень дружная, ребята оказались атлеты, в базовом лагере по утрам занимались физзарядкой, подъемом тяжестей, купались в ледяной воде. В середине июля группа отправилась в выкидушку на Бунтуну с целью геофизического обследования бассейна. Взяли с собой аппаратуру, УКВ-рацию, резиновую лодку. Выкидушка была рассчитана на три недели. К исходу второй недели связь по рации с ними прервалась, но начальник не беспокоился – ребята опытные, разберутся сами. К тому же начались затяжные дожди и послать к ним вертолет не получалось.
Ребята вернулись в базовый лагерь к концу третьей недели, на рассвете, пешком, передвигаясь из последних сил, изможденные, ободранные, без рюкзаков и лодки. Из бессвязного рассказа нарисовалась картина их приключений.
Поначалу все шло прекрасно – работа спорилась, продуктов хватало. Потом сели батарейки рации, и связь с базой нарушилась, а вслед за тем испортилась геофизическая аппаратура. Ребята некоторое время бездействовали, ожидая, что подлетит вертолет, но не дождались. Тут начались дожди, с продуктами стало туго, и ребята решили добираться на базу по реке. Но на второй день река из-за дождей вздулась и стала опасна. Забыв об осторожности и стремясь поскорее добраться до базы, ребята продолжили сплав, и на одном из участков стремнина затянула лодку под поваленное дерево. С трудом, нахлебавшись воды и потеряв всю поклажу, ребята выбрались на берег. Неизвестно, как это случилось, но у них даже спичек не осталось. Шли под проливным дождем вдоль реки, продираясь через заросли и опасаясь отойти от берега хоть на шаг, чтобы не заблудиться. Вышли к месту впадения Бунтуны в Пенжину, отсюда оставалось до лагеря километров двадцать. Спасло то, что наткнулись на стоянку чукчей-рыбаков, которые заготавливали на зиму рыбу – юколу для ездовых собак. Ребят обогрели, накормили, напоили чаем, предложили остаться в чуме, но решили двигаться дальше. Переправились на правый берег Пенжины и, вместо того чтобы пересечь высокий береговой отрог поверху, пошли вдоль берега траверсом скальных обрывов. Как они не разбились – непонятно… Видимо, сознание их к этому моменту помутилось и довлел только страх сбиться с пути. Им повезло, они вышли к лагерю, физически не покалечившись, но после этого приключения один из двоих – техник – так и не оправился психически, и его пришлось эвакуировать на Большую землю.
Но продолжим наше путешествие вниз по Пенжине. После впадения Бунтуны и особенно ниже впадения реки Мургаль – самого крупного левого притока – Пенжина широко разливается меж низких берегов, образует острова и протоки. В одной из таких проток мы и заблудились. По времени мы должны уже были приплыть к Аянке, но берега, заросшие мелколесьем, по-прежнему были пустынны. К счастью, за одним из поворотов показалась причаленная лодка и возле нее два человека. В тех краях принято общаться со встреченными людьми, и мы, разумеется, пристали к берегу. Оказалось, два рабочих из местного хозяйства приплыли на заготовку сена для поселковых коров. Настоящей травы в округе мало, и на заготовку ее не жалеют усилий, а вывозят с лугов вертолетом. Коровы дают молоко местным детям и в больницу.
Ребята огорошили нас известием, что мы промахнули нужную протоку и теперь движемся по направлению к поселку Каменский, находящемуся ниже километрах в ста… По случаю встречи распили бутылку спирта, запивая речной водой, и работники пошли косить, а мы развернулись и поплыли в нужную протоку. В довершение всех бед у нас скис мотор, и последний километр мы проплыли на веслах. Около самого поселка встретили чукчу на маленькой лодке – оморочке (вид каяка), который, ловко перебирая короткими палочками и упираясь ими в дно, плыл по мелководью против течения. Поселок Аянка притаился за густыми прибрежными зарослями. Местные жители показали нам барак экспедиции, стоящий на берегу небольшого заливчика, и мы наконец познакомились с теми, кто обрабатывал результаты наших поисков. Два парня – рабочие, занятые промывкой проб, ошалевшие от скуки и пьянства, – с завистью расспрашивали нас об экспедиционных буднях. Правда, у них были питание в местной столовой и гарантированная довольно высокая зарплата.
Аянка – центр местного оленеводческого совхоза – состоял из кучки щитовых домов. Во дворах некоторых стояли чумы. Улицы обозначались высоко поднятыми над уровнем земли трубами отопления, убранными в обшитые досками кожухи. В непогоду по этим кожухам можно было ходить. Школа, столовая, магазин, контора… Пристань на реке, куда во время короткой навигации, при полной воде, приходит самоходка. В стороне от поселка – аэродром. По взлетной полосе местная молодежь гоняет на мотоцикле – другой дороги тут нет.
Мы с радистом быстро удовлетворили свое этнографическое любопытство, сделали все дела и готовы были двинуть в обратный путь, но выяснилось, что мотор не тянет и нуждается в серьезном ремонте. По счастью, погода улучшилась, и на другой день нам пообещали вертолет. С утра собрались на вертолетной площадке, но тут оказалось, что вертолет не заводится: летчики – тоже люди, и когда погода нелетная, они пьют, – а в результате забыли зарядить вертолетный аккумулятор. Стали заводить ручкой: четыре человека раскручивали здоровенным заводным рычагом маховик, он начинал завывать, и, когда достигал необходимых оборотов, включалось зажигание. Как это часто бывает и с автомобилем, мотор не заводился. Провозившись час, вертолетчики махнули на это дело рукой, погрузили аккумулятор на тележку и повезли в поселок, пообещав зарядить его за ночь и наутро все же отвезти нас в лагерь (если, конечно, погода позволит). Так на другой день мы с радистом и вернулись, порадовав друзей письмами и конфетами.
Окончание экспедиции
Наступил сентябрь. Ночами температура опускалась ниже нуля, лужи покрывались ледком, приходилось прятать портянки в спальный мешок, чтобы без отвращения одеваться утром… Партия переместилась на приток Пенжины реку Мургаль, в поиск мы ходили с Борькой вдвоем, недалеко от лагеря, наши ребята-напарники оставались при лагере. В этот период запомнился мне один смешной эпизод.
Наша повариха – девушка городская, довольно субтильного телосложения, во время нашего пребывания в базовом лагере, иными словами, на ее довольствии, очень обижалась на поисковиков за повышенный аппетит, отказываясь понимать наши ссылки на большие энергозатраты. Поскольку в этот последний период маршруты у нас были короткие и легкие, мы с Борькой согласились удовлетворить любопытство поварихи и взять ее с собой в маршрут. Вышли утром, чтобы вернуться часам к пяти. Дорога пролегала вдоль ручья, по ровной тундре, покрытой кочкарником. Идти по кочкарнику довольно легко – привычные ноги сами выбирают путь по кочкам, перешагивая через глубокие бочажины. Шли не торопясь, изредка оглядываясь на отстающую повариху, как вдруг девушка исчезла. Пораженные, мы вернулись и с трудом нашли ее, провалившуюся в бочажок. Пошли дальше помедленнее, но через какое-то время пришлось ее снова вытаскивать… Маршрутное задание оказалось под угрозой. Мы срочно устроили повариху в уютном месте на бережку ручья, обещая вернуться за ней через пару-тройку часов и клятвенно заверив, что в этом месте никакие медведи ей не грозят. После этой пробной экскурсии в тундру повариха стала давать нам добавки беспрекословно.
Дела в экспедиции между тем близились к завершению. Вскоре предстояло свернуть поисковую работу и заняться камералкой – обработкой материалов, для чего в лесу мы общими силами построили избушку – зимник. Мы с Борькой, как было заранее обговорено, должны были уехать, как только представится удобный случай для эвакуации, но сначала Лобунец хотел извлечь из нашего пребывания максимум пользы. Нам поручили собирать разбросанные там и сям по тайге лабазы с оставленным снаряжением. В основном для этого использовались надувная лодка и вертолет. Последняя такая выкидушка мне запомнилась.
Погода стояла неустойчивая, по нескольку дней бывали замазоны, снег с дождем. Вертолет прилетел утром, неожиданно, и нам надо было торопиться. Предстояло снять лабаз с дерева в гуще леса, в стороне от реки, и привезти его на базу. Мы должны были обернуться за два-три часа, поэтому отправились налегке (налегке – это значит нож, спички в непромокаемом футляре, пара кусочков сахара в кармане штормовки). Вертолет высадил нас на речной косе вблизи намеченной точки и тут же улетел по своим делам, пообещав вскоре вернуться. Мы спустили лодку на воду, переправились на другой берег, углубились в лес. Лабаз нашли довольно быстро. Борька, как более легкий, залез на дерево, отвязал сверток, и мы отправились обратно к месту высадки. Тем временем небо заволокли тучи, зарядил дождь. Потом дождь усилился, а потом очень усилился и обогатился снегом. Если такая погода продолжится, плохи наши дела – ждать вертолет не приходится, а своими силами выбраться оттуда трудненько! Спрятаться было негде, штормовки быстро промокли. Собрали по берегу сухого плавника, благо этого добра было много – река сплавная, и развели костер (надо сказать, что скаутское умение разводить костер при любой погоде развилось у нас до необычайной степени). Вскоре огонь пылал до небес, дрова можно было не экономить, штормовки на нас быстро высохли. В спасенном имуществе нашлись чайник и кружки. Борька – старый турист – поколдовал с какими-то травками, растущими по-соседству, и вскоре мы попивали ароматный вкусный чаек. Можно было жить дальше…
Дождь стих к вечеру, и вскоре издалека зарокотал подлетающий вертолет. Ребята виновато объяснили, что раньше никак нельзя было – видимость нулевая, но мы их и не винили. Все были счастливы! На следующий день, попрощавшись с друзьями и обменявшись московскими телефонами, с попутным вертолетом мы с Борькой улетели в Аянку, на аэродром. В Аянке в ожидании случайного борта пришлось жить прямо в аэродромной будке, поскольку, разумеется, самолет бы нас ждать не стал. Сгоняли по-быстрому в поселок, в магазин, запаслись продуктами и спиртом… Ждать пришлось недолго – уже через день самолет забрал нас в Корф, куда регулярно летали самолеты из Петропавловска.
Возвращение
Из Корфа в Петропавловск мы летели не старым ЛИ-2, а комфортабельным красивым Як-40 (по-моему, один из первых линейных рейсов этого нового самолета). При подлете к Петропавловску самолет сделал круг над Авачинской бухтой, и в порту мы увидели большой белый пассажирский теплоход. На базе экспедиции в Елизово, куда мы явились за расчетом, нас встретили по традиции очень тепло. Комендант базы, сам бывший геолог, старался делать для возвращающихся «с поля» геологов все от него зависящее. Прежде всего нас отправили в экспедиционную баню (что было здорово). Быстро и без лишних формальностей произвели расчет. Предложили помочь с обратными билетами.
В душе возникло сомнение: с одной стороны, мы оба очень устали, намучились, соскучились по привычной московской жизни, по родным и друзьям. Кроме того, мы гуляли уже три с лишним месяца, на работе могли возникнуть неприятности (правда, в экспедиции нас снабдили стандартными справками о том, что «наш вылет задерживается на … дней по метеоусловиям аэропорта отправления» со свободной датой). С другой стороны, волею судьбы мы попали на край света, в места, куда, скорей всего, больше не попадем никогда. Хотелось еще чудес и впечатлений… Комендант мог, например, отправить нас вертолетом в легендарную Долину гейзеров, но из-за неустойчивости погоды в тех краях экскурсия могла обернуться для нас задержкой на неопределенный срок. В порту между тем, как выяснилось, стоял шикарный лайнер «Советский Союз», отплывавший назавтра курсом на Владивосток с заходом на курильский остров Шикотан. Рейс должен был продлиться пять дней, и это решило наши сомнения. Из экспедиции заказали для нас недорогую каюту на двоих, и вот мы уже всходим на борт, и паротурбоход «Советский Союз», бывший трофейный «Бремен», самый большой корабль нашего пассажирского флота, принимает нас в свои недра. Черт, никогда не думал, что затрепанные штормовки, загорелые усталые лица могут вызывать такое уважение у обслуживающего персонала. Девушки-официантки в ресторане усадили нас в уютный угол, все дни рейса помогали выбирать меню, улыбались нам, приносили дефицитный нарзан и армянский коньяк. Думаю, они угадали в нас геологов или промысловиков, вернувшихся «с поля», «с фартом», но положенного в таких случаях разгула не получили: мы наслаждались покоем, вкусной пищей, музыкой, и никаких приключений больше не хотелось…
Курильские острова с их высокими сопками видели мы только на горизонте, на Шикотане корабль к берегу не подошел, стоял на якоре, разгрузку произвели с рейда: вся бухта была забита разноцветными рыболовными суденышками, на берегу – большой рыбоконсервный завод.
Остров гористый, покрыт густой зеленью, зарослями бамбука. Отплыли в ночь, шли к Владивостоку вокруг Сахалина и проливом Лаперуза, в сумерках вдали виден был японский берег. Во Владивосток приплыли в воскресенье. Вошли в бухту Золотой Рог, корабль пришвартовался, и мы сошли на берег. Поначалу не могли понять повышенного внимания, которое сопровождало наши персоны со стороны местных жителей, но вскоре все объяснилось: мы несли с собой в авоське несколько бутылок коньяка, купленного на всякий случай в корабельном ресторане, а в городе был объявлен сухой закон. Пока мы шли к Борькиному приятелю Юре, могли обогатиться…
Юра Полищук, соученик Бори по мехмату, жил в районе Второй Речки, известном всему миру как место расположения одного из самых крупных пересыльных лагерей ГУЛАГа, место, где предположительно погиб Мандельштам. В 69-м году это был район новых, но ветхих пятиэтажек, владивостокские Черемушки. Юра, не знаю, при каких обстоятельствах (возможно, связанных с политикой, с журналом «Синтаксис»), не доучился на мехмате и уехал во Владивосток, здесь окончил факультет журналистики и сотрудничал в местной газете, писал под псевдонимом Юрий Кашук. Он принял нас очень радушно, поселил у себя, показал город, довольно небольшой, но живописный.
Последняя экскурсия по городским окрестностям чуть не кончилась для нас осложнениями. По совету Юры мы переправились на катере на другой берег залива Петра Великого. Там сразу от пристани начиналась настоящая уссурийская тайга: рощи пробкового дуба и манчжурского ореха, лианы актинидии – сказочно красивые места. Вернулись к пристани уже под вечер, к последнему рейсовому катеру – завтра утром улетать в Москву. Но за время нашей прогулки по лесу на море разыгрался шторм, и прибытие катера оказалось под большим вопросом. Появилась перспектива заночевать под кустом и опоздать на самолет. На счастье, капитан катера оказался хороший моряк и обязательный человек и пришел за нами, уже в темноте. Обратным рейсом нас изрядно помотало, но обошлось. Назавтра мы с Борькой уже летели в Москву. А на деньги, оставшиеся от заработанных в экспедиции, я купил себе новые брюки.
XI. Из грек в варяги
Navigare necesse est. Vivere non est necesse.
Старинное морское присловьеВсе, связанное с водой, с морем, меня привлекало. Поэтому, когда у нас в лаборатории гидродинамики появился новый молодой сотрудник Женя Визель и предложил построить крейсерскую яхту, я, не раздумывая, согласился. Нашлась очень древняя и очень трухлявая яхта, которую мы перетащили во двор лаборатории и стали на общественных началах ее чинить. Дело обещало быть долгим, а может быть, и безнадежным, пока же Женя записал нас в яхт-клуб «Буревестник» на Клязьминском водохранилище, и, получив там в свое распоряжение старенькую, но вполне исправную гоночную яхту – швертбот класса «М» (Женя имел права рулевого), – мы стали тренироваться и участвовать в гонках.
Дела с ремонтом немецкой яхты продвигались крайне туго, а проще говоря, совсем не двигались – не хватало рабочей силы и материалов. А между тем в яхт-клубе сколачивалась команда для приведения в порядок старой, но еще вполне боеспособной трофейной большой крейсерской яхты и для подготовки к летнему дальнему походу. Женя участвовать не захотел, так как лелеял честолюбивые планы самому стать капитаном подобной яхты, а я, не претендуя на большее, согласился стать матросом и подключился к ремонтным работам.
В начале июня 1965 года мы доканчивали последние приготовления перед отплытием. За лето предстояло пройти маршрутом Москва – Ленинград – Таллин – Рига – и обратно, разумеется в несколько этапов. Мы – это команда из пяти человек, экипаж первого этапа Москва – Таллин: капитан Саша, его жена Вера, матросы Юра, Гриша и я. Все, кроме меня, уже имели опыт дальних плаваний на яхте.
Все готово, пора отплывать, но не заводится подвесной мотор, а без мотора нельзя плыть по каналам, шлюзоваться… В попытках реанимировать его прошел весь день, вечер и часть ночи. Под утро, наконец, мотор завелся, и мы отплыли, несмотря на плохую примету: наступила пятница! Был нарушен и второй морской закон: на корабле находилась женщина. В общем, в плавании следовало ожидать всяческих осложнений (что и подтвердилось впоследствии). Но пока все было хорошо. Разместились на яхте так: я с Гришей – на рундуках в каюте, длинный Юра – в «гробе» – узком пространстве между бортом и кокпитом, Саша с женой – в форпике – маленькой носовой каютке. Прошли Клязьминское, Пироговское, Икшинское водохранилища, первый шлюз – все нормально, мотор работает, плывем дальше.
Выходим за створ канала Москва – Волга, остаются позади гигантская статуя Ленина на одном берегу и пустой курган из-под аналогичной статуи Сталина – на другом, и мы выходим на просторы Волги. Наконец выключаем мотор и ставим парус.
Волга широка! Плывем по фарватеру вдоль одного берега – другой еле видно. Мимо Кимр, мимо Калязина, мимо Углича. Торчит из воды высокая многоярусная Калязинская колокольня, затопленная волнами рукотворного моря. Удивительное впечатление производит карта водного пути: навигационные знаки – бакены, створы, маяки – на карте обозначены названиями затопленных здесь, под ними, деревень и поселков.
Рыбинское водохранилище – огромное, местами ширина его превышает сотню километров – затопило удивительный, обжитой, исконно русский кусок страны. Мне довелось несколько лет по работе подолгу бывать в этих местах, общаться с местным населением. Помню, меня поразило, что физический облик здешнего народа отличается от привычных рязанских, калужских, тульских лиц – высокие, русоволосые, несколько скандинавского сложения. Да и душевный склад у местных крестьян другой: здесь почти не было помещичьего крепостного права, не было и татарского завоевания. Крестьяне были записаны за казной и пользовались многими свободами, ходили в отхожие промыслы, оставляя хозяйство на женщин. Затопление плодородной Рыбинской низины сказалось на местном климате: понизилась средняя температура, увеличилась влажность, стали возникать сильные ветра. Вот сведения из Википедии: «В крае перестали вызревать пшеница и лен; затоплено 3845 кв. км лесов, 663 деревни, 1 город (Молога); переселено 130 тысяч человек».
На дне Рыбинского водохранилища покоятся деревни, кладбища и даже целые села с церквями. В основном такие подводные села находятся вблизи пошехонских и брейтовских берегов. Обширные пространства водохранилища заняты мелями, низкими болотистыми островами, встречаются плавучие острова, образованные всплывшими торфяниками и служащие гнездовьями птиц. Судоходные пути пролегают только вдоль старого русла Волги и ее притоков. Плавание по Рыбинскому морю неприятно и опасно из-за сложностей фарватера и неожиданно налетающих сильных ветров, поэтому мы постарались после Углича найти караван судов, идущих в нужном нам направлении с не слишком большой скоростью, и прицепиться к нему, что нам в конце концов и удалось. На большой барже, проходившей мимо на буксире и направлявшейся через Рыбинское море в сторону Череповца, любезно согласились принять от нас чалку и тащить нас, сколько нужно. Наш буксирный трос был закреплен на кнехте баржи, и мы расслабились, наслаждаясь спокойным быстроходным плаванием.
Вскоре наступила ночь. Ребята расположились на ночлег, мне же досталось нести ночную вахту (на всякий случай). Я сел в каюте писать письмо родным при свете фонарика. Ночную тишину нарушал лишь тихий плеск воды за бортом да отдаленный рокот буксира, как вдруг раздался резкий удар и продолжительный скрежет. Я выскочил в кокпит, огляделся по сторонам и сначала ничего не увидел. Внезапно впереди по ходу яхты из-под воды показалось нечто, принятое мной сначала за гигантского кита, и стало быстро надвигаться на нас. Я стоял, окаменевший, и ничего не мог понять. Раздался тяжелый удар, наша яхта накренилась, и мимо борта с грохотом протащился огромный морской бакен! Это рулевой буксира со сна или спьяну навалил баржу на бакен и протащил по нему днищем. Нам повезло – удар бакена пришелся прямо по штевню яхты, обитому толстой медной полосой, которую в результате напрочь перерубило, а в дубовом штевне образовалось углубление сантиметров в пять. Придись удар чуть в сторону, борт бы неминуемо пробило, и мы, скорей всего, пошли бы ко дну (при этом наши буксировщики даже бы не проснулись). Пробудившиеся от грохота члены экипажа спасались, кто как мог: Саша с женой безуспешно пытались вылезти из форпика в каюту через маленький лючок в переборке, Гриша выскочил вслед за мной в кокпит и также ничего не мог понять, а Юра с испугу совершенно непонятным образом перевернулся в своем гробе и пытался вылезти через маленькое отверстие в ахтерпик (моторный отсек). Как только все пришли в себя, первым делом проверили, не поступает ли где вода. Течи не было, так что постепенно все успокоились. Спать что-то расхотелось, и мы наблюдали, как потихоньку светлело и наконец наступил день. Вскоре уже надо было приниматься за дело: караван подходил к Череповцу, где решено было пристать и осмотреться. Отцепились от гостеприимной, но опасной баржи и своим ходом направились в порт.
Пристань Череповца – деревянный дебаркадер под высоким крутым береговым откосом, так что города совсем не видно. Вокруг ни души. По-видимому, народ появляется к приходу рейсового катера или «Ракеты», а пока некого даже расспросить, где найти почту, магазин. С письмами отправился на разведку Юра, а мы, разложив для просушки на берегу спальники, осмотрели внимательно яхту и убедились, что видимых повреждений корпусу и рангоуту не нанесено. Старая добрая немецкая работа!
Юра нашел городское поселение в паре километров, отправил письма, купил вкусненького. Пора и в путь. Вообще, старый морской принцип, которого придерживаются и настоящие яхтсмены (к ним я себя пока не отношу), – «Держись подальше от берега». После того как отплыли от берега на достаточное расстояние, Саша показал нам свое новое приобретение – небольшую судовую рынду (колокол), которую он спер с пристани без зазрения совести. И действительно, они себе новую найдут, а нам в плавании рында очень нужна для подачи сигналов в тумане и во время шлюзования.
Дальше наш путь лежал по широкому судовому фарватеру в русле реки Шексны. Путь, надо сказать, очень странный. За пределами фарватера, обставленного навигационными знаками, расстилалось необозримое пространство затопленного высохшего леса. Стояла какая-то особая тишина, нарушаемая лишь стуком сухих веток на ветру и резкими криками воронов. Тяжелое впечатление не сгладил даже прошелестевший мимо большой белый пассажирский теплоход, с палуб которого доносилась музыка.
Вечерело. На подходе к Белому озеру фарватер сузился, а ветер стих. Спустили паруса и пошли на моторе. И разумеется, при входе в озеро на сильном встречном течении мотор заглох. Нас понесло обратно в Москву. Удалось зацепиться багром за какие-то кусты, но что делать дальше – неясно. Мимо нас медленно проплывает какая-то громадная посудина. По палубе расхаживает часовой с автоматом. От полной безнадеги начинаем кричать часовому, размахивать чалкой. Вдруг, воровато оглянувшись, часовой знаками показывает нам, чтобы мы бросили ему чалку, ловит ее, закинув автомат за спину, и завязывает буксир за кнехт на палубе. Поехали! Спасены! На траверзе Белозерского канала отвязываемся от буксировщика, самостоятельно входим в канал и причаливаем к берегу.
Удалось кое-как починить мотор, и мы, когда под мотором, когда под парусом, продвигаемся дальше, по Ковже в Вытегру. В Усть-Вытегре делаем большую остановку, осматриваем город («…А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы» – тот самый случай), совершаем экскурсию в баню, гуляем по древним набережным из мореной лиственницы. Наутро – выход в Онежское озеро. Отчалили часа в четыре утра – светло, как днем, здесь вовсю белые ночи. Через час уже скользим под легким бризом по глади Онежского озера. Вода светло-синяя, прозрачная, как стекло, берега песчаные, поросшие соснами. Красиво! С обгоняющих нас рыбачьих шаланд нам машут руками, кричат что-то восторженное, а потом начинают метать нам через борт каких-то рыбин (как потом оказалось, очень вкусных) – мы своими белыми парусами явно задели их эстетические чувства! Зачерпнули воду из-за борта кружкой – абсолютно чистая, попробовали – вкусная, холодная, похожа на родниковую.
Через несколько часов плавания галсами (с поворотами относительно ветра) входим в широкую Свирь. Река вольно течет между островами, берега заросли лесом. К полудню, выйдя к какому-то широкому разливу, неожиданно попали под жесткий шквалистый ветер с сильным дождем и градом. Пришлось вовсю потрудиться с парусами и помокнуть. За очередным поворотом ветер стих, яхта выровнялась. Решили пристать к берегу, обсушиться, оглядеться. Судя по карте (и как потом выяснилось, на самом деле), место, куда мы попали, было абсолютно глухое, настоящий медвежий угол (в прямом и переносном смысле). На берегу какие-то домики. Оказалась фактория – магазин, где принимают от аборигенов дичь и рыбу и продают патроны, бензин, керосин и, главное, водку. Вот при нас причалила лодка, двое местных выскочили на берег и направились к магазину. Люди невысокие, светловолосые и светлоглазые – весь или чудь («чудь белоглазая»?) – и крайне странного поведения. Вытащив из магазина ящик водки, тут же за порогом уселись на завалинке и распили бутылку. Затем один куда-то ушел, а второй взял шест и стал шарить им по дну, как-то нехорошо на нас поглядывая и ворча что-то себе под нос. Так продолжалось часа полтора. На наши расспросы процедил сквозь зубы, что в свой предыдущий сюда приезд утопил где-то здесь мотор и явно подозревает нас в том, что мы его выловили и спрятали. Наконец он что-то нащупал, вытащил свой мотор из воды, укрепил на лодке и начал дергать за веревочку стартера. Подошел его напарник, и они стали делать это по очереди. Так продолжалось еще пару-тройку часов, после чего мотор неожиданно (для нас) завелся и они, распив еще одну бутылку, уехали. Вскоре отчалили и мы.
Следующее приключение ожидало нас вблизи города Подпорожье. Там через реку был перекинут мост, предельная высота которого оказалась ниже нашей мачты. При попытке проскочить мост, откренивая яхту, задели перекрытие своим форштагом (передней металлической растяжкой мачты), и штаг порвался. Пришлось снимать мачту, ремонтировать и снова ставить уже по другую сторону моста.
Пока стояли в Подпорожье, успели познакомиться с местными жителями, которые очень помогли нам с нашим многострадальным мотором. Побывали дома у наших знакомцев, поразил их скудный, барачный быт. Видно, что город сложился как место поселения ссыльных, своего рода «101-й километр» для Ленинграда, остаток славного Свирьлага.
После ремонта двинулись дальше, вниз по Свири, через шлюзы, плесы и стремнины и наконец вырвались на просторы Ладожского озера. Дальше проложили курс по карте и компасу на север, в направлении карельского поселка Питкяранта.
Предстоял настоящий морской переход, вне видимости берегов, на расстояние до 100 миль (около 150 километров). Шли курсом бейдевинд (ветер сбоку), била крутая волна, изрядно качало, но яхта отлично слушалась руля, легко взбиралась на волну. И тут даже я, человек, не очень внимательный к нюансам поведения окружающих, обратил внимание, как тяжело переносит качку наша Вера – жена капитана. Юре пришлось объяснить мне по секрету то, что остальные уже знали, – Вера была в положении, месяце на четвертом! Да, не стоило, пожалуй, пускаться в плавание при таких обстоятельствах! Но делать было уже нечего, да и моего мнения никто не спрашивал…
При подходе к Питкяранте разглядели, что на берегу сплошные лесосклады, низкий берег завален лесным мусором, бревнами, и решили даже не подходить к нему. Определились со своим местом по карте и повернули к следующему пункту маршрута – городу Сортавала.
Подход к гавани Сортавалы скрыт в лабиринте гранитных островков и шхер. Из синей воды там и тут торчат здоровенные черные гранитные валуны, по скосам которых карабкаются зеленые сосны. Фарватер сложный, но хорошо обставлен знаками, так что подход к причалу не составил большого труда. Ошвартовались, вылезли на пирс, и тут к нам подваливает пограничный наряд с собакой и начинает внимательно проверять документы: Сортавала находится в пограничной зоне и въезд без особого разрешения туда запрещен. Разрешение у нас есть (подписано на Лубянке), документы в порядке, но что-то пограничников не устраивает, требуют, чтобы мы проваливали, откуда пришли. Оказывается, им не нравится конкретно Гриша, они подозревают в нем скрытого эстонца, а эстонцы имеют скверную привычку бегать через границу, которая здесь рядом (парадоксальности ситуации добавляет то, что Гриша, жгучий брюнет, на самом деле перс и, как таковой, имеет внешность скорее цыганскую, но никак не эстонскую). В общем, после длительных дебатов и торга мы приходим к соглашению, что постоим несколько часов, осмотрим город и уйдем.
Городок очень симпатичный, со многими архитектурными особенностями и памятниками. Ребята отправляются на экскурсию, а я, к сожалению, в другую сторону – искать стоматолога: у меня не ко времени разболелся зуб. Стоматолога нашел в военном госпитале, причем молодой военфельдшер обрадовался мне не меньше, чем я ему. Не буду описывать мучений, которые мы причинили друг другу, скажу только, что, когда я, пошатываясь, уходил из госпиталя, навстречу мне шли товарищи, обеспокоенные долгим моим отсутствием.
Вернулись к яхте, ребята поели (я лишь с грустью наблюдал), и мы отчалили. Вышли из шхер и направились к острову Валаам, ориентируясь на высокий шпиль собора Петра и Павла, видный на просторах озера на многие километры. По мере приближения остров вырастает из синей озерной воды обрывистым гранитным массивом, покрытым яркой зеленью. Монастырская бухта глубоко вдается в берег, похожа на фьорд своими высокими скальными берегами. Скалы снизу доверху размалеваны надписями, не всегда приличными, причем многие потребовали для исполнения незаурядного акробатического искусства – одно время, в сороковые годы, на острове находилась школа юнг. Мы подошли к каменному пирсу с уходящей вверх лестницей, вырубленной в граните, пришвартовались и для вящей безопасности решили немного оттянуть яхту от берега на якоре. Саша взял якорь, раскачал его и ловко закинул в воду метров на десять. Раздался всплеск, и якорь бесследно исчез под водой, оставив нас всех остолбеневшими: Саша забыл подвязать к якорю канат… А ведь без якоря плавать-то, вообще говоря, нельзя…
Положение складывалось почти безвыходное. Дно в бухте довольно глубокое – метров шесть-семь, вода не слишком прозрачна, а на дне – ил. Я решил тряхнуть своими навыками ныряльщика. В хозяйстве нашлась маска для подводного плавания, я натянул свитер, сверху – рубашку, обвязали меня для страховки за пояс веревкой, в руки дали вторую, и я полез в воду. Обожгло. Вода градусов восемь. Сжав зубы, ныряю и плыву в направлении предполагаемого местонахождения якоря. Видимость в воде примерно на метр. Шарю по илистому дну руками и, как ни странно, после второго или третьего нырка натыкаюсь рукой на якорь! Подвязываю к нему веревку и медленно выплываю на берег – уже нет сил. Ребята растерли меня, дали спирта – и через полчасика я уже как огурчик (здоровый все-таки я был человек!). Якорь и вместе с ним судьба похода были спасены.
Установив яхту на всякий случай в некотором отдалении от берега (хотя кругом не было ни души), отправились всей компанией осматривать красоты острова.
К этому времени (1963 год) остров еще не обрел своего нынешнего статуса туристской и церковной достопримечательности, хотя в бухту на его северо-западной оконечности уже ходили регулярные теплоходы из Петрокрепости. Большой Петропавловский собор стоял обветшавший и заколоченный. Население острова составляли в основном бывшие обитатели колонии калек – инвалидов Великой Отечественной войны, которых туда свозили из Питера, дабы не портили народу впечатления от недавней победы. Сельскохозяйственные угодья и сады, разведенные монахами до войны, были разорены, знаменитое монастырское кладбище разграблено – жители приладожских деревень приплывали на лодках и снимали мраморные плиты с могил для своих нужд. В северной оконечности острова, на длинном и тонком мысу, в старом ските расположился лепрозорий.
С помощью добровольного (одноногого) гида мы осмотрели собор (пролезли через дыру в заборе). Внутри – фрески работы известных русских художников конца XIX века, изрядно побитые. Прошли по аллее к кладбищу – зрелище печальное…
Был уже поздний вечер, когда вернулись к яхте. Что произошло между мной и капитаном, я не понял тогда и не знаю сейчас, но разразилась ссора, чуть не окончившаяся рукоприкладством. Капитан обвинил меня в неподчинении приказу и потребовал немедленного изгнания на берег. Команда за меня вступилась – решили, что я покину судно, как только мы приплывем на материк. Из солидарности со мной яхту решил покинуть и Гриша, а Юра остался, чтобы довести яхту до конечного пункта. Дабы не длить тягостную ситуацию, капитан решил отплывать немедленно, благо было вполне светло.
В горячке ссоры не выяснили по приемнику погоду. Это была серьезная ошибка. Как только вышли из шхеры и повернули на запад, в открытую воду, навалился сильный ветер, перешедший постепенно в жестокий шторм. Ветер дул с юго-востока и разгонял на широких просторах Ладоги громадную волну – высота волн на глаз превышала три метра (верхушки волн казались выше краспиц – распорок в верхней трети мачты). Шли курсом на юго-запад, в полветра, с сильным креном, сидя в кокпите, приходилось изо всех сил упираться ногами в противоположный борт, чтобы не вывалиться. На всякий случай обвязались концами – веревками. Где-то через пару часов такого хода Гриша, сменивший капитана на руле, вдруг заметил впереди бакен, которого не должно было здесь быть. Внимательно рассмотрев карту, ребята обнаружили, что яхту снесло, она уклонилась от правильного курса и мы идем по каменистой банке (отмели), минимальная глубина которой меньше нормальной осадки яхты! В любой момент нас могло шарахнуть о дно! Приняли единственно правильное решение – поворот фордевинд (разворот с минимальным радиусом) и следовать обратным курсом, по возможности по своему следу. Такой поворот при сильном ветре очень опасен, но другого выхода не было. Проделали все в лучшем виде, голубушка яхта вела себя превосходно, и через некоторое время, выйдя из опасной зоны, мы смогли лечь на нормальный курс, уже менее опасным поворотом оверштаг. Но еще до этого маневра Саша спустился вниз, они с Верой надели белые рубашки и сидели, обнявшись, в каюте, не принимая больше участия в управлении.
Качка была отменная. Достаточно сказать, что за сутки, пока длился переход, ни я, ни Гриша не могли заставить себя съесть ни кусочка, что не относилось к Юре. Бравый моряк, сменившись с вахты, вскрыл банку тушенки, спокойно умял ее (мне было тяжело на это смотреть) и завалился спать, упершись ногой в противоположный борт, чтобы не свалиться с койки. Где-то ближе к утру волны начали стихать, ветер из штормового стал просто свежим и, когда мы подходили к Петрокрепости, из бухты навстречу нам показались первые теплоходы, до того спасавшиеся в гавани. Высадившись на берег, мы с Гришей, подхватив рюкзаки, сели на электричку и отправились в Питер.
Так закончился для меня этот достопамятный поход. Хотелось бы мне завершить рассказ на более мажорной ноте, но что было, то было, из песни слова не выкинешь. Все равно для меня он остался в памяти как одно из самых замечательных приключений в моей жизни. Гриша и Юра показали себя настоящими мореходами, да и капитан наш Саша сломался лишь в обстоятельствах, которых никому не пожелаешь… Гвозди бы делать из этих людей!
XII. Зимой – какие развлечения?
Подруга моя Танечка прислала мне по электронной почте замечательный клип «Москва 1908 года в снегу»: очень все снежно, морозно, красиво – барышни на лыжах, санки, рысаки… А как же мы развлекались зимой и какие это были зимы в Москве 60-х? Вспомнилось…
Я учился на первом или втором курсе. Были зимние каникулы. Мой еще со школьных лет приятель Витька по прозвищу Дядя Степа позвал на пару деньков на свою дачу, на станцию Трудовая, на берегу Икшинского водохранилища. В качестве развлечения предполагались лыжи и рыбалка, в которой Витька был большой специалист. Собрались втроем – я, Витька и еще один школьный друг Борька. Январский мороз бил под сорок градусов, поэтому оделись потеплее, взяли лыжи, еды, прихватили спиртного (из спиртного взяли портвейна и сухого – мы были еще маленькие, водку не уважали) и поехали.
Приехали поздно, вечерело. Поселок утопал в снегу, от станции добирались на лыжах. Большая генеральская дача стояла в лесу, вокруг ни огонечка. С трудом разобрались с электричеством, зажгли свет, выбрали удобную комнату и стали обустраиваться. Выяснилась некая бытовая подробность: Витька не имел права разжигать в печи огонь – родители боялись пожара, – поэтому единственным средством обогрева оказалась электроплитка. Набрали в саду снегу, сварили глинтвейн, вскипятили чаю. Для качественного сугрева этого оказалось мало. Тогда стали бороться и всячески возиться (у Витьки был первый разряд по самбо, он демонстрировал приемы, а мы с Борькой просто были хлопцы здоровые). К концу сеанса борьбы температура в комнате поднялась до двадцати градусов мороза и дальше не двигалась. Одеял в доме было с избытком, кое-как мы устроились, и удалось даже поспать. Однако проснулись рано.
Градусник за окном показывал тридцать шесть. Позавтракали, попили чаю и вышли на водохранилище.
Серел рассвет, по ледяному полю свистел ветер, гуляла поземка. Рыбаков на льду, кроме нас, не было видно. Нашли и расчистили пару лунок, стали удить. Технология простая: маленькая удочка – мормышка, на конце тонкая леска с крючком, на крючок насаживается несколько червячков – мотылей. Крючок опускается в воду, и им начинают подергивать и покачивать. Основная сложность – насадить мотыликов на крючок (на ветру и морозе!). Коробка с мотылем в тепле за пазухой, но нужно его, проклятого, вытащить из коробки и, насадив на крючок, опустить в воду, прежде чем он не замерз и не стал ломаться. Витька авторитетно настаивал, что мотылей, в качестве промежуточной базы, следует держать во рту, но я не решался. Витька решил проблему, благородно насаживая мотылей на мой крючок из своего рта. Борька пожелал остаться зрителем.
И вот картина: огромное пустое ледяное поле, ветер метет сугробы, в лунке чернеет, казалось бы, абсолютно безжизненная вода, и из этой воды при первых же покачиваниях удилища выскакивает маленькая рыбка, делает один-два судорожных рывка и стекленеет. Крючок у нее изо рта приходится уже со звоном выламывать! За полчаса мы с Витькой наловили десятка два окуньков и плотвичек – на большее даже нас уже не хватило. На обратном пути у меня со звоном лопнула посередке лыжа, и я добрел до берега с болтавшимися на одной ноге обломками – отстегнуть крепление на ветру не было сил.
На даче сварили из остатков спиртного еще один глинтвейн, съели из продуктов то, что не нужно было рубить топором. Перспектива провести еще одну ночь на природе энтузиазма не вызвала, поэтому единодушно решили, что наловленной рыбы достаточно и Витькин кот будет доволен (между прочим, тот самый кот, к хвосту которого юный Витька привязывал консервные банки и опробовал на нем действие валерианки, но это так, к слову).
Сейчас вспоминаю об этой зимней рыбалке с нежностью.
XIII. Вив ля Франс!
Кто хочет во Францию?
Хочу поговорить о роли случая в нашей жизни, о предопределении и свободе выбора в конце концов. Именно поговорить, поболтать, не пытаясь решить эту давнюю проблему.
Жил я себе мирно, по возможности избегая острых углов и не надрываясь, в свое время окончил институт, защитил диссер, работал в советской конторе в средней должности. Так дожил до полтинника.
В личной шкале ценностей имелось несколько вещей, которые, как я знал, были недоступны, а потому о них и не мечталось, разве что во сне. К таким ценностям относились поездки за границу. То есть, конечно, можно бы было, напрягшись безмерно, выложив кучу денег и выдержав мерзкую беседу в райкоме, поехать в составе группы совтуристов в Польшу или Болгарию, но это как-то не манило. Поэтому я спал спокойно, рассматривая во сне виды греческих островов и переулки Парижа. Особенно к Франции было у меня свое, интимное, отношение – знал язык по советским критериям неплохо («читать и переводить со словарем»), увлекался классической французской литературой, живописью. В конце 70-х друзья свели меня с замечательной парой французов-педагогов, работавших в Союзе по контракту, – Марком и Жоэль Блондель – и они расширили мой кругозор, знакомя с современными французскими фильмами и литературой (фильмы они брали в посольстве и устраивали показы в аудиториях пединститута).
Однажды случился со мной казус – наткнулся я в метро на группу французов-туристов, сбившихся с маршрута, и попытался объяснить им дорогу, ан не тут-то было: понимать я их понимаю, а сказать ничего не могу! Кое-как, жестами, объяснил дорогу, а сам расстроился – столько лет учу язык, даже порой подрабатываю техническими переводами, а связать двух слов не могу! Взял и тут же записался на годичные курсы «Иняз» французского языка, которые благополучно и закончил. К этому времени уже шел 89-й год. В воздухе пахло… – хорошо пахло!
Сижу как-то в конторе, делаю левую работу – пишу программы музыкального сопровождения левых же программ для персональных ЭВМ (которые только появились у нас в министерстве), как вдруг входит в комнату наш молодой начальник – Лева Могилевский, который, собственно, всю эту левятину для министерства и затеял, и спрашивает громко: «А кто хочет во Францию поехать?» На автомате отвечаю: «Я хочу!»
– А язык знаешь?
– Знаю.
– Ну, поедешь.
Не то чтобы я сразу поверил, но чем черт не шутит! К тому же Лева был такой ловкий парень, входил во многие кабинеты, а ко мне относился неплохо… И чем я, в сущности, рискую?
Выяснилось, что по министерствам разослана бумага о формировании группы специалистов разного профиля для обучения во Франции за счет французского правительства, по некоей программе помощи слаборазвитым странам ACTIM, и единственным требованием принимающей стороны было владение французским языком (стажировка проводилась без переводчиков). В нашем же министерстве на данный момент ни одного специалиста с французским языком, как на смех, не оказалось.
Ну вот, заполнил я требуемые бумаги, даже написал на французском программу предполагаемой стажировки по информатике, отдал Левке и стал ждать. Сначала вызвал меня кадровик. Когда я вошел в его кабинет, он с явным изумлением рассматривал мою анкету. Потом с надеждой в голосе спросил, чем я могу подтвердить знание языка. На это я предъявил только что полученный диплом курсов «Иняз» (а эти курсы как раз были официально признаваемым документом и некоторое время назад даже служили основанием для выплаты служащим надбавки к зарплате за знание языка). Следующим шагом был визит к парторгу министерства. Ну, этот повел себя проще. Поговорив со мной некоторое время, он сунул мне в руки бумаги и посоветовал не валять дурака и идти работать, мол, все равно никуда я не поеду. Я и пошел себе и сел работать, позабыв об этой авантюре.
Прошел год. В стране происходили перемены. Были, в частности, ликвидированы парткомы на предприятиях. И вот однажды неожиданно мне на работу приходит бумага, согласно которой меня приглашают подтвердить свое участие в программе ACTIM и возможность выехать во Францию на два-три месяца. Никаких новых документов, кроме согласия моего начальника, уже не требовалось. Левка свое согласие дал. Так началось одно из моих фантастических приключений.
Тут необходимо некоторое пояснение (для молодых читателей). Люди, имевшие у нас такую возможность и выезжавшие за границу (за «дальнюю» границу – в капстраны), по делам или развлечься, образовывали особый клан «выездных». Они отличались от других советских людей даже внешне, по одежде. Пропуском в этот клан служили партийность, принадлежность к руководству, официальное или неофициальное сотрудничество с ГБ.
Небольшая квота предполагалась также для простых советских людей – знатных сталеваров и ударниц-доярок. Счастливчики получали возможность проехаться (дисциплинированно, в составе компактной группы и с обязательным сопровождением пары стукачей) по западной стране и потратить на покупку шмоток очень ограниченную сумму валюты, полученную в обмен на свои рубли по официальному курсу (что-то около 60 копеек за доллар). При соблюдении режима жесточайшей экономии самые разумные могли, купив за границей дефицит и загнав его дома в комиссионке, компенсировать все затраты на поездку и даже подработать. Для реализации такой программы люди везли с собой копченую колбасу, водку, чай и кипятильники. Иногда случались пищевые отравления, голодные обмороки и прочие казусы.
Имелись учебные заведения, готовившие кадры для системы МИД и Внешторга. Студентами таких заведений становились только дети дипломатов и ответственных советских работников, и то по о-о-о-чень большому блату. Вот в таком заведении – институте повышения квалификации работников внешней торговли – я и очутился весной 90-го года, в составе группы молодых карьерных дипломатов, комсомольских работников и гэбэшников, слушающих курс предварительной учебной подготовки по программе ACTIM.
Вводный курс включал общие понятия информатики, стандартизации, патентного права и экономической теории. Лекции читались профессорами, приехавшими специально из Парижа. Содержание лекций было мне, кандидату экономических наук, вполне понятно, оно примерно соответствовало уровню знаний экономического факультета Плехановского института. Тем легче мне было компенсировать плохое знание разговорного французского, на котором бегло изъяснялись профессора. Особенно блистал элоквенцией пожилой джентльмен, до смешного напоминающий господина Бержере из романа Анатоля Франса (как я его себе представлял). Как выяснилось впоследствии, мэтр был проректором Сорбонны и нашим будущим куратором и не отказал себе в удовольствии прокатиться в Москву и познакомиться с этими загадочными русскими. Остановившись в «Национале», он все свободное время гулял в одиночку по Москве и наблюдал жизнь. Когда мы у него как-то спросили, на что он особенно обратил внимание, он ответил, что его поразила скудость московских продовольственных магазинов и особенно отсутствие свежих овощей и фруктов (напомню: была весна 90-го года!). «А разве во Франции не бывает сезонных изменений в наличии продуктов?» – спросили мы, на что, помолчав и подумав, он ответил: «Вот разве что весенний сезон молодой спаржи» – и при этом мечтательно улыбнулся.
Так в учебе прошло полтора месяца, время приближалось к намечаемому на май отъезду в Париж, а между тем мои личные обстоятельства складывались так, что я не мог себе позволить думать об отъезде: мой пожилой отец, живший в это время с нами, был очень нездоров и требовал постоянного ухода, в любой момент могло с ним случиться что угодно… Однако случилось то, что случилось. Отец тихо скончался в конце апреля, как всегда благородно избавив нас с братом от «лишних» забот о себе. Я был свободен ехать во Францию, а брат – позднее на пару месяцев – на родину предков (разумеется, не в местечко Диражню Полтавской губернии и не в сельцо Чачки Белостоцкого уезда, а в город Хайфу). Так, в конце мая, в составе группы из двадцати пяти стажеров, самолетом «Air France» я прилетел в аэропорт «Шарль де Голль» (бывший «Ле Бурже»).
Приходит на ум анекдот времен семидесятых. В темном, полузатопленном, замусоренном подвале пробирается старая крыса, несет на спине крысенка. Ребенок поднимает голову и видит пролетающую под потолком летучую мышь. «Мама, это что, ангел?» – спрашивает крысенок… Мы выбрались из советского подвала в Европу, и все увиденное поражало нас, вызывало восхищение. Неудивительно, что во время пребывания во Франции я находился в состоянии непрерывной эйфории. Я спал по четыре часа в сутки, неутомимо бродил по улицам и закоулкам, сидел в уличных кафе и знакомился с милыми и, вопреки бытующему мнению, очень общительными французами.
Первое впечатление от Франции – парижский аэропорт, огромный, удивительно рационально организованный. Многополосное шоссе до города с потоками «иностранных» машин, свободно бегущих в обе стороны («…во Франции даже извозчики говорят по-французски»). Отель в центре города, в пятнадцати минутах ходьбы от Пантеона. Маленький, компактный, очень удобный номер. Обед в гостиничном ресторане с табльдотом, с вином и несколькими сортами сыра.
Поражала четкая и разумная организация всего нашего быта и процесса учебы. Были выданы бесплатные единые проездные билеты. Завтрак – в отеле, обед – в месте прохождения учебы – Высшей школе экономики (в дальнейшем – на предприятиях прохождения практики), все бесплатно. Французы знали, что наше родное советское руководство нас слегка подграбило, присвоив часть выделенных Францией на нашу стажировку средств, и постарались компенсировать наши потери организацией всяких льготных мероприятий. Они проявили массу выдумки, такта и вкуса, чтобы сделать наше пребывание максимально полезным, приятным и запоминающимся.
Каждые выходные группа в сопровождении гида – сотрудника ACTIM – отправлялась в очередную экскурсию по стране. Бретань, Нормандия, Шампань, долина Луары – все эти уголки благословенной Франции и сейчас встают перед глазами… Но больше всего запомнились прогулки по Парижу, встречи с друзьями.
Еще в семидесятые, когда приоткрылась форточка еврейской эмиграции, много моих друзей уехало из Союза. Часть из них действительно поехала в Израиль, часть отправилась за океан – в Америку. Но многие осели в Париже – классическом городе трех поколений российской эмиграции. Когда в 77-м году мы с друзьями провожали в аэропорту Шереметьево-2 Алешу Хвостенко, улетавшего «по Вене», с маленькой сумкой и гитарой, было пьяно и очень грустно, никто, кроме самого Хвоста, не верил, что мы когда-нибудь снова увидимся. И вот я в Париже, звоню по телефону, и мы встречаемся! Кира Сапгир, Ася Муратова, Алик Гинзбург – много друзей, казалось бы навсегда потерянных для встречи, нашлись здесь и подарили мне свою частичку Парижа.
Семь утра. Гостиничный будильник – телефон неумолимо будит меня. Минут пятнадцать отмокаю под душем, прихожу в себя – лег спать в три. Спускаюсь в ресторан, завтракаю – и в дорогу, учиться.
Гостиница находится на улице Камбронн – Rue Merde (улица Говно), как говорят парижане: достославный генерал Камбронн в битве при Ватерлоо, будучи окруженным англичанами, на предложение сдаться ответил: «Говно! Гвардия умирает, но не сдается!», чем обессмертил свое имя. Ехать мне через весь центр, с пересадками, минут сорок, начало занятий в полдевятого, опаздывать нельзя. Половина того, что читается на лекциях, мне известна или не нужна, но пропускать неудобно – люди стараются… Лекции идут в быстром свободном темпе, на столах бутылки с водой, можно курить, чем я и пользуюсь – без сигареты можно заснуть! Бросил курить год назад, но тут начал снова. Из экономии сразу начал курить крепкие «Голуаз», помогает. Ребята закупили в нашем посольстве «Мальборо» – польстились на дешевизну – и прогадали, явный фальшак. Довольно легко справляюсь с трудностями перевода – помогает знание предмета и, как ни странно, общая эрудиция и хорошее знание русского языка (в чем явно опережаю своих молодых одногруппников). Лекции стараюсь конспектировать по-французски. Тем не менее погружение в язык дается с огромным напряжением. Где-то недели через две начинают сниться сны на французском и ловлю себя на том, что думаю по-французски.
Занятия продолжаются часов шесть, с перерывом на обед. Обед с обязательными сырами, с вином. Знаю, что после вина будет смертельно хотеться спать, но удержаться нет сил – вино всегда хорошее. После занятий – свободное время. Время прогулок по городу или визитов к друзьям. Созваниваюсь с Хвостом и еду к нему в мастерскую. Мастерская расположена в так называемом сквоте – старом заброшенном цехе, занятом художниками «самозахватом» под мастерские – полиция и владелец территории смотрят на это дело сквозь пальцы: по крайней мере, место защищено от пожаров и разного криминала. Сквот делят между собой несколько художников: француз из Эльзаса занимается графикой, рисует сложные композиции из штрихов и линий, парень из Сенегала пишет огромные абстрактные полотна из цветовых пятен, еще один африканец работает над фигуративными ритмическими картинами с фольклорными сюжетами. Русский парень – давний эмигрант – сидит в своем углу, склонившись над миниатюрами. Хвост только закончил оформление русской церкви где-то в провинции и сейчас занят абстрактными деревянными скульптурами и какими-то чудными механизмами, явно со свалки. Охотно помогаю ему – пилю какую-то деревяшку, шлифую, приколачиваю. К вечеру собираемся все в конторке цеха, сбрасываемся, кто-то идет за вином. Достаю бутылку привезенного с собой армянского коньяку. Сноб француз заявляет, что этот напиток вообще не коньяк. Беседа затягивается за полночь. Через несколько дней намечается устроить выставку, будет дана реклама, придут маршаны, критики… Возвращаюсь в отель последним поездом метро, завтра спозаранку – снова за учебу.
…Сегодня суббота. Пять часов утра, едва светает. Специально для нас организован ранний завтрак, и мы уже садимся в автобус. Выходные, как правило, мы проводим в экскурсии по стране. На этот раз – Бретань.
Выезжаем рано, потому что надо успеть проскочить до пробок на выезде из города и, кроме того, маршрут рассчитан на плотные два дня. За городом выбираемся на широкое платное шоссе и мчимся дальше свободно, без задержек. Девяносто км в час – быстрее не разрешает профсоюз шоферов. За окном автобуса – пустыри, ковром покрытые местной разновидностью придорожного бурьяна – нежно-желтыми кустами (дрок?).
Первая цель – приморский городок Сен-Мало. Не доезжая города, автобус сворачивает с трассы к комплексу промышленных зданий – осматриваем приливную электростанцию, построенную в устье реки Ля Ранс. Здесь очень высокие приливы, свыше шести метров, и это первая в мире промышленная установка, показавшая экономическую эффективность. Все очень красиво, чисто, безлюдно. Инженер-экскурсовод называет цифры, говорит о перспективах. Вызывает сомнение только явственная вонь, доносящаяся от застойных вод эстуария – водохранилища. Все-таки, по-видимому, самые экологически чистые электростанции – атомные (которых во Франции много), но зато уж если там жахнет!.. «…Нет безобразья в природе!» – а в обществе есть.
Сен-Мало – старинный приморский городок, порт и родина знаменитых французских корсаров, отсюда они совершали набеги к Антильским островам и во все концы света. А если английские и испанские корабли осмеливались появиться в этих опасных водах – им давался «асимметричный» ответ. Мощные стены и здоровенные пушки прибрежных бастионов внушают уважение.
Остановились в небольшой, очень уютной гостинице, оставили вещи и разбрелись по городу. Городок курортный, крошечный, узкие улочки, кругом сувенирные лавочки. Главный променад – по городской стене (ширина прохода по стене – метра три). Со стены открывается вид на необозримые морские дали, на горизонте – несколько островков. Сейчас прилив, и море плещется вблизи стен.
После ужина быстро укладываюсь спать – много впечатлений, устал, да и широченная, под балдахином кровать располагает ко сну. Зато просыпаюсь спозаранку и иду на прогулку. Недалеко от гостиницы площадь, на ней – городской собор. Небольшой, но красивый. Захожу внутрь – тихо играет орган, у алтаря стенка обита серебряными пластинками с благодарственными надписями от моряков Богородице за чудесное спасение на море. Над алтарем сверкает в восходящем солнце витражная розетка.
В городском порту тысячи яхт, всех калибров и оснастки, под флагами многих стран мира. Думаю, здесь собралось яхт больше, чем во всем Советском Союзе. За дамбой на море – отлив, берег обнажился почти до горизонта, ровный песчаный пляж… Странное ощущение от прогулки по дну моря.
Отъезд – в час, едем в соседний городок Канкаль, тамошняя spécialité – устрицы. Автобус едет по набережной, вдоль дороги – десятки ресторанчиков. Входим в один, рассаживаемся под навесом вдоль длинного стола, уставленного кувшинами с сидром и стаканами. Хозяйка – краснощекая, улыбающаяся – во главе стола, занята странным делом: берет из корзины крупных устриц, укладывает в специальное приспособление, одним движением вскрывает ракушку, обнажая студенистую мякоть, и отправляет нам на стол. Дело поставлено на поток. Поначалу пробую с осторожностью, но после первой же устрицы, запитой глотком сидра, прихожу в восторг – ничего вкуснее не едал… На вопрос, откуда устрицы, хозяйка показывает через плечо в море – там невдалеке, на легких мостках, ее собственные садки, ракушки только что из моря.
Надо сказать, устрицы не насыщают, ел бы да ел, но надо и честь знать. Рассаживаемся в автобусе и едем дальше. Небольшая остановка в приморском поселке, на берегу уютной бухты. Можно побродить по песчаному пляжу, позагорать. Решаю окунуться – все-таки океан, купаться еще не доводилось. Вода градусов четырнадцать, сцепив зубы, захожу в воду, делаю несколько гребков и выскакиваю на берег. Впечатление потрясающее: вода гораздо солонее черноморской, заметно сильнее выталкивает, в легкой покатой зыби чувствуется мощь… Еще двое наших решаются повторить мой подвиг, редкие отдыхающие смотрят на нас как на сумасшедших, спрашивают – откуда. Услышав, что русские, понимающе кивают.
Следующая и последняя остановка на пути домой – придорожная харчевня, настоящая auberge. Большой сельский дом, увитый штамбовыми розами. На ужин подают традиционное местное блюдо – петуха (!), тушенного в вине. Хозяйка ходит вокруг стола, подливает сидр, кальвадос, спрашивает, вкусно ли.
По дороге домой все в автобусе спим, приезжаем в Париж затемно, завтра снова учиться…
Мне приятно описывать эти поездки, заново переживаю впечатления от нормандских городков Онфлер и Довиль, от одного из чудес света – Мон-Сен-Мишель, от Шартра и Руана, от Шампани и Дома «Moet&Chandon». От промышленного Лилля и завода, где делают космическую ракету Ариан. От бретонских сельских ферм и кустарных мастерских, где издавна и до сих пор делают цветные витражи. Но нельзя же превращать эти записи в вариант путеводителя, этакий «Petit Fute’»?!
…Тихий воскресный вечер. Сегодня нет экскурсий, и мы с одногруппником Георгием – молодым грузинским стажером-дипломатом – сидим за столиком перед кафе, неподалеку от нашего отеля. Георгий взял пива, я, из любопытства, странный напиток под названием «пастис» – горькую анисовую настойку (ее подают в особой треугольной бутылочке и со стаканом ледяной воды). Пока Георгий ходит к стойке за сигаретами, к нашему столику подсаживается молодая женщина со стаканом вина. Разговорились, ее заинтересовало, что мы русские. Жаклин, коренная парижанка, живет в съемной квартире с другом. Идет неспешный доброжелательный разговор. Выясняется, что квартира Жаклин неподалеку от нашего отеля. Провожаем девушку до дому, договариваемся о встрече, обмениваемся телефонами и расходимся. В следующий свободный вечер мы с Георгием идем в гости. Симпатичные ребята – он американец, живет во Франции пару лет. Не имея права на работу, перебивается случайными заработками, в ближайшее время нанялся с компанией друзей строить дом где-то в провинции. Жаклин работает медсестрой в приемной дантиста. В будущее далеко не заглядывают, но хотели бы съездить в Россию, что мы им, разумеется, горячо рекомендуем. В следующую встречу мы с Жаклин – вдвоем: ее парень уехал зарабатывать деньги, а у Георгия – свои планы. Жаклин делает несколько ошарашивающее меня предложение – прокатиться по городу на велосипедах. Живо представив себя, грузного, пятидесятилетнего, раскатывающего по Парижу на велике, со смущением отказываюсь. Тогда следует предложение посетить открытие юбилейной выставки Энди Уорхола в музее Помпиду – клиенты стоматолога снабдили ее парой билетов на вернисаж, а друг в отъезде. Это другое дело! Отправляемся на культурное мероприятие, кстати, я Центр Помпиду или, как говорят парижане, Бобур, еще не посещал, а надо… По огромным пространствам Центра современного искусства расхаживают мужчины во фраках и дамы декольте – бомонд. Мы, конечно, выделяемся, но не слишком. Запасаемся маленькими бутылочками водки «Абсолют» (мерзавчиками), ими уставлена большущая ледяная скульптура лебедя в центре зала (фирма «Абсолют» – спонсор выставки) – и чувствуем себя вольготно. Разумеется, вскоре натыкаюсь на знакомое лицо – Кира Сапгир, виделись в Москве в 70-е годы. Она здесь от какой-то газеты. Дамы чинно знакомятся. Походив по выставке, решаем куда-нибудь свалить. Кира предлагает свой вариант: рядом с музеем – на площади Искусств – находится квартира-мастерская Оскара Рабина, Кира предлагает зайти туда в гости. Разогретые «Абсолютом», мы легко соглашаемся. Звонок по телефону. Видимо, не очень охотно, но маэстро нас принимает. Так от светила американского поп-арта к мастеру постсоветского авангарда заканчивается наш вечер…
Стажировка наша между тем переходит в следующий этап: нас разделяют на группы по специальностям и направляют в соответствующие производственные предприятия. Мне достается сначала «Эльф Акитэн» (Elf Aquitaine) – национальная французская компания по добыче и переработке нефти и газа. Компания занимает отдельное высотное здание в новом районе Парижа на левом берегу Сены – Дефанс. Как все-таки здорово распоряжаются французы своим историческим наследием: новый, модернистский, в стилевом отношении совершенно чуждый остальному Парижу деловой район вынесен за черту города, но так удачно расположен и удобно связан транспортными артериями с остальными районами, что остался не противопоставлен, а логически привязан к городу.
Вообще, восхищение мое вызывает французская строительная практика, особенно в сопоставлении с нашей бедной Москвой. В плотно застроенном, живущем напряженной деловой жизнью центре Парижа, рядом с нашей гостиницей был буквально за несколько дней снесен восьмиэтажный кирпичный дом, вырыт котлован для подземного гаража и начал буквально на глазах строиться новый дом, такой же этажности и похожего внешнего облика. При этом строительная площадка была обнесена матерчатым ограждением ровно по контуру будущего дома и никаких препятствий ни движению транспорта, ни пешеходам не было. Как будто опытный кондитер вырезал лопаточкой из торта кусок и на это место прилепил из крема новый фрагмент. При всех неизбежных модернизациях и реконструкциях городского центра везде сохранялось стилевое (и цветовое) однообразие квартала. Большинство новых и реконструированных домов снабжены многоэтажными подземными гаражами, а на крышах многих – зеленые газоны и прогулочные площадки.
В компании «Эльф Акитэн» меня и еще нескольких практикантов, в соответствии с нашими индивидуальными планами, знакомили с системами автоматизации управления производством и распределением продукции. В частности, с работой отраслевого вычислительного центра. Поразительно было осознавать, насколько отсталыми методами и на устарелом, недостаточно мощном оборудовании велась аналогичная работа у нас, на вычислительном центре Миннефтехимпрома СССР.
Следующий этап моей практики проходил в компании «Bull» – французском аналоге и в некоторых аспектах конкуренте американских IBM и Hewlett-Packard (в частности, в области вычислительных машин средней мощности). Несколько дней провели в парижском центре компании, а затем в сопровождении инженера из этого центра отправились в город Анже, в долине Луары, где находится один из новейших заводов «Bull» по производству компьютеров. Добирались из Парижа до Анже (около 300 км) на скоростном поезде TGV полтора часа. Сообщение настолько удобное, что некоторые ездят таким образом на работу. Не буду рассказывать про завод «Bull», автоматический склад готовой продукции и транспортную систему, управляемые единым компьютером, почти без участия человека, – это видения из фантастического фильма о будущем, подробности интересны, пожалуй, только специалисту. Расскажу о замке Анже, который осматривали вечером, после посещения завода.
Суровый, мощный замок. Сдержанно отреставрированные руины внутренних покоев производят впечатление подлинности и силы. В IX веке здесь располагалась столица Анжуйского графства, здесь бывали и короли. Отсюда пошел известный род Плантагенетов, давший королей Англии. В тронном зале замка стены расписаны королевскими лилиями. В отдельном помещении – потрясающая коллекция гобеленов. В окрестностях замка делалось (да и сейчас делается) анжуйское вино – любимый напиток мушкетеров. Разумеется, мы ему воздали должное за ужином в местном ресторане. Насколько стимулирующее воздействие оказывает этот напиток, показывает эпизод, произошедший со мной вечером. На вокзале, при отъезде из города, я, будучи не в силах сдержать восторги, решил ими поделиться и написать открытку моему одесскому приятелю. Однако, находясь под упомянутым воздействием, к тому же опаздывая на поезд, я напрочь забыл номер дома и квартиры приятеля, а также его фамилию, ограничившись его именем Жоржик и словесным описанием. Но таково было волшебное воздействие анжуйского вина, что открытка дошла до адресата!!!
Французские встречи
Позвонила Жаклин и пригласила нас с Георгием на вечер к своим друзьям, на некий юбилей. Ехать в метро довольно далеко, сидим втроем и разговариваем. Я рассказываю о впечатлениях от поездки в Анже – об оленях, пасущихся в замковом рву, о сакральных вóронах, прикармливаемых на башнях замка. Не знаю, как в лондонском Тауэре, но в Анже, по-моему, роль священных воронов исполняют обыкновенные галки. Разницу между вóронами, ворóнами, галками и другими птицами семейства врановых я объяснить не могу из-за слабого знания французского. Рассказываю о тронном зале, расписанном лилиями (помните знак лилии, украсивший плечико миледи?) – атрибутами королевской власти, обсуждаем происхождение этих символов. Неожиданно в наш разговор влезают пассажиры, едущие в вагоне. Завязывается оживленная дискуссия. Одни считают, что лилии принадлежат к символике Бурбонов, другие относят их дальше – к эпохе Капетингов. Французы демонстрируют доброжелательную живость, которой, честно говоря, от них не ждешь.
Друзья Жаклин – молодая пара, судя по всему, люди среднего достатка. Муж – фотограф, арендует ателье, выполняет работы, связанные с рекламой и полиграфией, жена – коллега Жаклин. Кроме нас – еще пара гостей, муж и жена, из инженерного сословия. По российской традиции, выставляем на стол бутылку «Столичной», которую хозяева убирают пока в холодильник и достают шампанское. Французов интересует все, связанное с Россией, с Москвой, с перестройкой. Россия в моде в нынешнем сезоне! Мы с Георгием по мере сил стараемся удовлетворить их любопытство. Беседа за столом становится все оживленнее. В дело идет наша водка. Затем хозяйка – бретонка – достает из загашника кальвадос – привезла из родной деревни. Приканчиваем и его. На столе появляется литруха виноградного спирта – ядреная штука, крепостью более шестидесяти градусов. Происходящее очень напоминает дружескую вечеринку у меня в Москве, в Старосадском переулке. Заканчиваем далеко за полночь. Инженер берется развезти гостей по домам на своей машине, несмотря на принятое на грудь изрядное количество спиртного, что и проделывает лихо и аккуратно.
…Вечер, мы с Хвостом гуляем по городу после работы. Пляс Пигаль – один из центров вечерних развлечений парижан: ревю, театры, кафе. Знаменитых парижских проституток здесь нет, они – в переулках, окружающих район. Например, на улице Сен-Дени – стоят в тени домов и у своих подъездов, «демонстрируют линию», но напрямую не пристают – запрещено законом! Есть молоденькие, хорошенькие, есть и ужасные. Блядская улица втекает в небольшую, удивительно уютную площадь с очень подходящим названием – площадь Невинных. Кафе, столики, как везде здесь принято, вынесены на тротуар, берем по кружке пива и сидим, наслаждаясь тихим вечером, журчанием струй фонтана.
…Воскресенье, ясный прохладный день, гуляю по Парижу, направляюсь к Гранд Опера. В сквере, на подходе к площади, развлекается стайка молодых девушек и ребят, они заигрывают со мной, предлагают развлечься с ними, с кем-то конкретно или со всеми вместе. По некоторым признакам полагаю, что они проститутки и «проституты» (или разыгрывают таковых), хотя ведут они себя очень мило и ненавязчиво. Мягко отказываюсь от предложения, и мы весело расходимся. Двигаюсь дальше – у меня встреча с Хвостом на ступенях Оперы. Вообще, площадь Оперы и расположенное там «Кафе де ля Пэ» – всеобщее, всемирное место встреч.
Считается, что здесь можно встретить человека, которого потерял давно, с которым жизнь развела на разные стороны глобуса.
Другой раз мы с Хвостом гуляем по набережной Букинистов, копаемся в книжных развалах, разглядываем старые гравюры, открытки. Есть русские книжки, но немного. Идем в расположенное неподалеку кафе – копию знаменитого, ныне закрытого кафе «Режанс», где главное блюдо было – игра в шахматы. Оштукатуренные стены исписаны автографами знаменитостей нашей эпохи. Хвоста здесь знают. Взяли по чашке кофе и шахматы, сгоняли партию-другую.
…Один из немногих дней, посвященных познавательной экскурсии по Парижу. Воскресенье, ничего не запланировано. Принимаю предложение прогуляться по городу. Партнеры – два моих ровесника из нашей группы, ребята явно не ученического статуса, с реальным дипломатическим опытом. Один – бывший торговый атташе в одной из африканских стран, другой, похоже, кадровый разведчик, преподает что-то в институте внешней торговли. Устроили себе отдых и развлечение за счет французского правительства. В Париже бывали неоднократно.
Для начала направляемся в Лувр, благо в воскресенье вход бесплатный. Но, как выяснилось, не мы одни рассчитывали на халяву: перед пирамидой Лувра – очередь. Не слишком огорченные, меняем планы. Моим спутникам нужно будет заказать костюмы у знакомого недорогого портного (!), но это – потом, а пока решаем прогуляться по Монмартру. Поднимаемся на холм, прогуливаемся по вернисажу (такой «Старый Арбат», но качеством получше). Вид от собора Сакре-Кер потрясающий. Спуск по крутой лесенке. По дороге сталкиваемся с семейством таких же, как мы, экскурсантов – спрашивают, как пройти в какое-то место. Мои спутники объясняют, а заодно интересуются, откуда эти люди. Те говорят – с Кубы. И тут я чувствую, что у моих спутников буквально шерсть на загривке встает дыбом, те тоже что-то почувствовали, расходимся весьма сухо. Спрашиваю объяснения и получаю ответ – это кубинские эмигранты (иными словами – враги!). Есть все-таки такая штука, как классовая ненависть… На обратном пути наши дороги расходятся: ребята – за костюмами, я – домой. Кстати (или некстати), в Лувр я так и не попал. И на Эйфелеву башню не попал. Надо будет еще разок съездить.
…Договорился о встрече с Аликом Гинзбургом – надо передать ему привет и подарок от его старого друга и моего приятеля Шуры Шустера. Ехать довольно далеко (по парижским масштабам), в спальный район. Запутался в переулках, приходится спрашивать дорогу. Встречный прохожий любезно и обстоятельно объясняет, как пройти, и, в свою очередь, интересуется, откуда я (то, что я не француз, к сожалению, чувствуется по моему выговору). Узнав, что из России, заинтересованно, но осторожно начинает расспрашивать о происходящих у нас событиях, переменах. Сам он тоже не коренной житель, эмигрант (уж не знаю, в каком поколении) из Польши, очень характерной польской внешности (похож на портрет графа Потоцкого, автора «Рукописи, найденной в Сарагоссе»). Его явно волнует вопрос, насколько, по моему мнению, долговременны перемены, происходящие в Советском Союзе. Приходится объяснить, что сам факт моего появления в Париже, немыслимого в прежних условиях, свидетельствует о глубине происходящих изменений.
Посидел у Гинзбурга в его гостеприимном доме, познакомился с семьей, попили чаю, и Алик вышел меня проводить. Оказалось, парижские расстояния очень обманчивы: после небольшой прогулки мы вышли фактически в центр – к острову Сен-Луи и собору Нотр-Дам-де-Пари. Рядом – удивительно симпатичный собор Сен-Поль с гнездящимися в его башнях соколами.
Парижский переулочек, с Хвостом
По приглашению Алика захожу в редакцию газеты «Русская мысль» – во-первых, любопытно, а во-вторых, обогащаюсь там кучей книг, многие из которых у нас еще не издавались и редки (хотя и не грозят уже, как прежде, их владельцу крупными неприятностями). Часть книжек достается даром, а часть, в магазине издательства, за очень небольшие деньги.
…Зашел в мастерскую к Хвосту. Он занят: наехали в Париж русские рок-музыканты – Юрий Шевчук, Гарик Сукачев, группа «Колибри». Хвост – центр тусовки, все его знают, и он всех знает, всем помогает, налаживает контакты, устраивает концерты, быт. Вообще, мне странно – артисты, которые в России собирают ревущие стадионы, здесь, в Париже, находятся в самых стесненных обстоятельствах. Девочек из «Колибри» подвел менеджер, они оказались в незнакомом городе без связей, без контрактов, почти без денег… К вечеру так или иначе все образуется, все собираются в сквоте, соображается ужин, вино, достаются гитары, оканчивается все замечательным джем-сейшеном.
…Едем с Хвостом на блошиный рынок – ему надо купить кое-какой инструмент для его деревянных скульптур. Парижский блошиный рынок – это особый город в городе, занимает огромную территорию. Чего там только нет! Парижане ездят сюда, как на прогулку и чтобы провести время. Идем по аллее, глазеем по сторонам, вдруг чувствую в кармане у себя чью-то, явно не мою, руку. Раздосадованный, бью по ней – рука исчезает. Но тут вижу, что группа арабов перемещается от меня и пристраивается к идущему впереди Хвосту. Предостерегающе кричу Алешке, но арабы испаряются, как будто понимают по-русски. Купив, что надо, насмотревшись на разные диковины, устраиваемся на веранде кафе и пьем пиво. Солнышко светит, толпа галдит разноязыко – хорошо…
Наша стажировка подходит концу. У меня скопилось много отснятых фотопленок, надо бы хоть часть проявить и доснять по возможности, если что-то не получилось. Захожу в фотоателье около нашей Высшей школы. Завязывается разговор, как и везде, много расспрашивают о России, дарю сувенир – пачку «Беломора», объясняю, что эти папиросы лучше не курить, а смотреть… Все очень любезны. Через пару дней захожу в ателье за проявленной пленкой – мне вручают пустые ленты – по-видимому, что-то с затвором фотоаппарата. Делать нечего, на последнюю пленку снимаю что придется, на память. В день отъезда наша француженка-куратор подходит ко мне в автобусе и вручает толстый пакет с отпечатанными снимками: якобы в ателье перепутали пленки, мои оказались в порядке и в качестве извинения их бесплатно отпечатали… Старший брат и во Франции не дремлет!
Наша дама оказала мне и еще одну услугу: при посадке в самолет, несмотря на то что французы нам оплатили билеты бизнес-класса, у меня оказался большой перевес багажа (думаю, я волок килограммов семьдесят). На тихий вопрос кураторши, что у меня за груз, объясняю: книги… Подумав секунду, она переговорила с таможенником и меня молча, без доплаты, пропустили на посадку.
Вот и отлет. На душе грустно, хотя и радует предстоящая встреча с близкими. Вспоминается эпизод, описанный в книге о путешествии в Россию маркиза де Кюстина в эпоху Николая I о том, как русские, приплывая из России в Европу, в Гамбург, веселы и радостны и как они грустны на обратном пути.
По прилете: в аэропорту Шереметьево грязно, погода на улице пасмурная и все лица такие серые, хмурые… Здравствуй, родина.
XIV. Большое приключение
Вот и кончился 2009 год. В этом году мне исполнилось семьдесят лет. Удивительно, с трудом верится. Хотя хронология – наука точная. В этом году произошло и другое событие, тесно связанное с первым: я наконец увидел Венецию. Наши многочисленные детки совместно с друзьями – своими и нашими – устроили нам с Машей, моей женой, эту поездку. Воистину, есть время бросать камни и есть время собирать камни.
Сразу скажу, что Венеция прекрасна и заслуживает всех слов восхищения, которые произносились и произносятся в ее адрес. Я стремился попасть туда давно, со времен детства и ранней юности, от сказок Гоцци, карнавала, масок, гондол («…гондольер молодой, взор твой полон огня, я стройна я легка – не свезешь ли меня, я в Риальто спешу-у до зака-а-а-та…!» – напевала моя мама). Реально же первая возможность появилась в 92-м году, но я ею не воспользовался, единственно по собственному желанию (нежеланию). Дело было так. В 91-м году, когда развалилось наше «плановое» советское хозяйство, я, как и многие другие, ушел из государственной конторы и организовал, вместе со своим приятелем Шурой Шустером, собственное маленькое предприятие. Поначалу дела шли неплохо, мы загребли (по нашим представлениям) чертову кучу денег и даже занялись некоторой благотворительностью. Шура, как диссидент со стажем, связался со своим приятелем Аликом Гинзбургом и договорился, что мы будем перепечатывать и распространять в России эмигрантскую газету «Русская мысль» на безвозмездной основе. Редакция, со своей стороны, не осталась в долгу и организовала нам недельную поездку в Италию. Последний день мы должны были провести в Венеции. Но, к сожалению, к этому моменту между нами, компаньонами, накопилось внутреннее раздражение – слишком много впечатлений, слишком по-разному реагировали мы на увиденное… Я испугался, что мой сложившийся внутренний образ Венеции подвергнется слишком большому искажению под мощным воздействием Шуры, и на поездку не решился. Шура с женой Катей поехали без нас, а мы с Машей отправились домой, будучи уверены, что наша Венеция еще нам откроется. Она и открылась нам – через семнадцать лет.
Когда наши дочери Агаша с Асей принесли нам билеты на самолет, бронь гостиницы на Лидо, бабки на житье – для нас (для меня, во всяком случае) это явилось полной (и ошеломляющей) неожиданностью. Я стал готовиться к поездке. То есть первым делом тут же залез в Интернет. Нашел там кучу сведений о Венеции, бытового и практического плана – где следует обедать, где есть мороженое, на чем передвигаться и что смотреть. Но, конечно же, прежде всего обратился к большой литературе – слава богу, Венеция не обойдена ее вниманием.
Вот Анри де Ренье, по страницам романов которого бродят изящные тени синьоров Джакомо Казановы и Карло Гоцци. Мой папа очень высоко ценил Анри де Ренье как стилиста-прозаика. Папа – украинский провинциальный еврей, практически самоучка, для которого русский язык не был родным, – развил в себе абсолютную грамотность и безошибочный литературный вкус. По его рекомендации я брал томики Ренье в читалке Исторической библиотеки, чтобы не заснуть там от скуки над учебниками истмата, диамата и истории партии – обязательных «гуманитарных» предметов в техническом вузе.
Вот Павел Муратов. Его замечательные «Образы Италии» не только полны описаний живописи Тинторетто, Тьеполо, Веронезе и Тициана, но и таких текстов о моем любимом Гоцци: «Почти два с половиной столетия назад Венеция еще раз увидела небывало блестящий расцвет театра масок, так умно и тонко соединенного теперь с фантастической комедией. Еще раз венецианский праздник озарило чистое и милое веселье прежней Италии, и пламень его погас лишь с концом труппы старого Сакки и с кончиной последнего друга Арлекинов и Коломбин, первого романтика в истории, графа Карло Гоцци». Но о Гоцци позже.
Старина Хэм. Надо признать, его скучный роман «За рекой в тени деревьев» мало дал мне для познания Венеции, кроме, пожалуй, действительно прекрасного вина «Вальполичелло», которому мы с Машей отдали должное.
Томас Манн, его «Смерть в Венеции». Чем-то неуловимо передает атмосферу города-призрака.
Ходасевич: «Из всех городов земного шара Венеция наименее может считать себя чем-нибудь обязанной природе. Напротив, вся она – какое-то изумительное и нарочитое создание человека. Блистательно возникновение этого города наперекор природе, и многозначительно каменное его однообразие». Однако, побывав на острове Пеллестрина, одном из дальних островов Лагуны, я открыл для себя настоящий природный заповедник, безлюдный, с зарослями ежевики, гнездами сов и бамбуковыми рощами…
Бродский. Его поэма в прозе «Fondamenta degli incurabili» не только включила меня в ритм венецианского прибоя, но и открыла мир его собственной поэзии, до тех пор, признаюсь, для меня скрытый. Широкая набережная Неисцелимых, широкий канал, напротив остров Джудекка. Туристов мало. Сижу на скамейке, щурюсь на солнце, а мимо медленно проплывает громадный корабль, больше любого городского здания. Чайки кричат. Воздух пахнет корицей и фиалками.
И наконец, Карло Гоцци. Его книга «Десять сказок для театра», прекрасно изданная, с иллюстрациями, умными комментариями С. Мокульского и большими выдержками из воспоминаний самого Гоцци, стала одной из самых удачных находок в моих походах по букинистическим магазинам. Помнится, в 70-е годы среди моих друзей резко возрос интерес к театру и, в частности, к комедии дель арте. Дело в том, что в это время многие театры, особенно провинциальные, переживали кризис – спектакли шли в полупустых залах, сборы были мизерные, дотаций не хватало. Минкульт затеял социологическое исследование театров и выделил для этого некоторые суммы – гранты, как сейчас говорят. Такой грант получил и мой приятель Гена, и под его руководством несколько наших друзей (и я в их числе) в свободное от основной работы время ездили по провинциальным театрам, анкетировали зрителей и актеров, посещали репетиции, составляли отчеты. Мне, к сожалению, не довелось, но некоторые из ребят посещали даже репетиции Анатолия Эфроса, они считали его гениальным…
В этом кругу было модным разбираться в структуре итальянской комедии масок и разыгрывать между собой характерные сюжеты с Пьеро, Коломбинами и Панталоне. Так, мой друг Витя переживал в этот период бурный и драматический роман. Девушка его отвергала и даже уклонялась последнее время от свиданий. Чтобы доставить Вите возможность встречи и объяснения, был разработан план. Было объявлено, что наш общий друг Боря Домнин справляет свой день рождения в известном ресторане, и на банкет были приглашены Витя, наш приятель Саша и Витькина девица с подругой (деньги на это мероприятие дал, разумеется, Витька, заработавший некоторую сумму как раз на социологических опросах театров). Пока любовная пара выясняла отношения, дзанни Борька и Сашка, испив изрядно коньячку на халяву, активно отпихивая друг друга, пытались завоевать внимание Коломбины – подруги. Инсценировка удалась на славу: Витька с девицей укатили вместе на одном такси, Борька с Сашкой и с Коломбиной – на другом. В завершение сюжета Борька потом долго мучился любопытством – что же было в пакете, который принесла ему в подарок на «день рождения» Витькина девица и который они, разумеется, забыли в гардеробе…
Но вернемся к нашему рассказу о поездке.
Ну вот, предотъездные хлопоты позади, визы получены, собаки и дети пристроены, вещи уложены. Едем. Рейс «Аэрофлота» до Праги, стоянка в пражском аэропорту два часа, затем пересадка на маленький самолетик «Чешских авиалиний» (типа нашего Ан-24), и летим в Венецию. На обратном пути стоянка будет четыре с половиной часа, можно будет успеть смотаться в Прагу. Самолетик летит над Европой, постепенно забираясь в горы. Горы становятся все круче и выше, вот уже островерхие снежные вершины проносятся совсем близко под крылом. Небось там уже лыжный сезон в разгаре, но мы летим на юг, к «теплому» морю. Вот снижаемся, под крылом рыжие виноградники и болота, болота… Небольшой аэропорт Венеции, любезная девушка в справочном бюро на смеси трех языков – итальянского (понимаю, потому что учился музыке), французского (понимаю, хотя говорит она плохо) и языка жестов и мимики (понимаем оба, потому что она итальянка, а я Чачко) – объясняет, как проехать на Лидо, втюхивает нам самую дорогую абонементную карточку (бесплатный транспорт + несколько музеев), очаровательно улыбается, и вот мы едем в город. Автобус до «Термини» и катер-«вапоретто» через весь город каналов, через Лагуну, к острову кинофестивалей и смерти Ашенбаха. Маленький отель, крошечный, но удобный номер, прогулка по городку и ужин. Завтра – в поход, по музеям, каналам и красотам. Но назавтра Машенька лежит влежку, сотрясаемая приступами кашля, – рецидив перенесенного недавно гриппа.
Три дня и три мучительные ночи Маша провела на венецианской койке, оглашая отель и его окрестности громким кашлем (и это в разгар всеевропейской охоты на заболевших свиным гриппом). Надо отдать должное персоналу и соседям-постояльцам: их не было ни видно, ни слышно. По утрам и вечерам мы выбирались в городок – поесть, подышать морским воздухом, а остальное время Маша лежала в номере, читала – благо в электронной читалке книжек на небольшую библиотеку. Я выбирался днем на «вапоретто» в Венецию, бродил по запутанным проулкам, каналам и канальчикам, порой намеренно теряясь в их лабиринтах. Погода стояла замечательная – тепло, солнечно. Разумеется, днем город заполняют толпы туристов, но стоит выбраться с основных туристских троп типа Канале Гранде в сторону, к маленьким канальчикам и площадям (пьяцеттам), где немногочисленные венецианцы гуляют с детьми и пьют кофе, как тебя окружают тишина, вид благородных обшарпанных стен и плеск воды в каналах. Я побывал в районе Арсенала, где когда-то строился самый сильный в мире венецианский флот, погулял по еврейскому гетто, обнесенному мощной стеной, где когда-то гонимые отовсюду евреи нашли безопасный приют. К исходу третьего дня Маша наконец окрепла настолько, что мы смогли выйти на более или менее продолжительную экскурсию по Лидо, сходили на пляж, собирали раковины, вечером посидели в ресторанчике. Было решено объявить конец болезни и наутро отправиться в Венецию. Разумеется, наутро погода испортилась, заморосил мелкий дождь, но нас это уже не остановило. И первое, что мы увидели, приплыв на «вапоретто» в Венецию, была залитая водой по колено площадь Сан-Марко: было местное наводнение – аква альта, – и туристы передвигались по площади по специальным мосткам или покупали (по десять евро) специальные высокие полиэтиленовые сапоги, а полицейские в таких же сапогах регулировали движение туристов по мосткам. Было забавно.
В последующие дни погода улучшилась. Мы гуляли по узким улицам великого города, ходили и в музеи (хотя оба не слишком любим это занятие), катались на «вапоретто» по каналам. Побывали на островах Лагуны, на Торчелло осмотрели древнюю церковь и колокольню – места, откуда, по преданию, началось заселение Венеции, посидели на троне Аттилы – говорят, это приносит счастье. В один из дней случился у меня разговор с одним венецианцем, имеющий самое непосредственное отношение к главному герою моего Большого приключения. Мы гуляли по улочкам города, не заглядывая в карту, и вышли на небольшую площадь – пьяцца Гольдони. Посреди площади – памятник драматургу, достаточно пышный. Зашли в расположенную неподалеку лавочку – книги, сувениры, письменные принадлежности. Хозяин – пожилой венецианец, живой и любезный, показал нам парочку недорогих сувениров для наших дочерей. Я спросил его – вот, мол, есть площадь Гольдони, на ней памятник драматургу от благодарных граждан города. Есть и дом-музей Гольдони. А сохранился ли дом, где жил другой прославленный венецианец, драматург Карло Гоцци? «Гоцци? – пожал плечами собеседник. – Не знаю такого» – «Ну как же», – говорю, – граф Карло Гоцци, современник Гольдони». «Венецианский граф?» – уточняет с видом знатока собеседник (есть некоторая особенность у этого титула). «Да», – говорю и рассказываю, что был такой великий человек и его слава в те времена превышала славу Гольдони. Собеседник качает головой – нет, не знает он такого имени, но благодарен за наши сведения и теперь будет интересоваться… Мы с Машей пошли дальше, но разговор с венецианцем запомнился.
…Наше пребывание в Венеции подошло к концу. На обратном пути во время пересадки в Праге мы успели съездить в центр, пройтись по Старому городу, полюбоваться на его памятники, поесть в чешском погребке кнедликов с пивом. Случился в Праге и эпизод, повторяющий (в пародийном ключе) случившийся в венецианском книжном магазине: зайдя в один из ресторанчиков Старого Града, мы попытались объяснить, что хотели бы попробовать типично чешской еды, ну, такой примерно, какую описывал Швейк, – жареной колбасы с кнедликами и пивом. Последовало долгое обсуждение официантов, что есть Швейк, что мы имеем в виду, пока один из них не воскликнул: так это ресторан «Швейк», он сейчас на ремонте, но если мы хотим кнедликов, то они нам их подадут. Пиво, разумеется, у них тоже есть, а вот колбасой они не торгуют… Кнедлики с жареной телятиной и пивом оказались очень вкусные. К вечеру мы были в Москве. Но мое Большое приключение на этом не кончилось. Дело в том, что я решил ввязаться в венецианскую литературную полемику XVIII века, встав на сторону одного из соперников – Карло Гоцци.
Я не литературовед и не историк, интерес мой к личности и творчеству Гоцци любительский. Открыв книжку «Сказки для театра», чтобы перечитать одну из любимых пьес, я обратил внимание на этот раз и на большую вступительную статью С. Мокульского – известного исследователя истории театра (обычно такие вещи пропускаешь). Вот что пишет С. Мокульский: «… «Бесполезные мемуары» Гоцци – одно из интереснейших его произведений и один из лучших памятников итальянской мемуарной литературы XVIII века».
Встретив упоминание о мемуарах Гоцци, я, естественно, постарался найти их и прочесть. Разумеется, прежде всего ринулся в Интернет, где, как известно, есть все. Обнаружилось, что ссылки на них, с самыми высокими комплиментами в адрес автора, встречаются в литературе часто. «Отойдя от театра, Гоцци занялся подведением итогов. В 1795 году он издает (хотя написаны они были еще в 1780 г.) свои замечательные «Бесполезные мемуары», в которых излагает свою жизнь и свои театральные взгляды», – пишет Н. Томашевский, исследователь творчества Гоцци.
Обширные фрагменты мемуаров в переводе Я. Блоха, одного из переводчиков «Сказок», приведены в «Хрестоматии по истории западноевропейского театра», под ред. С. Мокульского. Всего в этом капитальном издании приводится восемь таких фрагментов, общим объемом около пятнадцати страниц. Тексты касаются моментов личной жизни Гоцци, его литературной полемики с драматургами Гольдони и Кьяри, его взаимоотношений с актерами труппы Сакки, устройства венецианского литературного общества того времени, называемого академией Гранеллески. Фрагменты вполне литературно обработаны и снабжены ссылками на источник – капитальное итальянское издание. Вот один из таких фрагментов – отрывок из воспоминаний Гоцци, рисующий момент полемики между двумя великими венецианскими Карлами – Карло Гольдони и Карло Гоцци. В своих мемуарах Гоцци пишет: «Вооружившись за мнимые заслуги похвалами, коих добиваются любыми средствами обман и лицемерие… Гольдони утверждал, что огромный успех его театральных пьес лучше всего свидетельствует об его действительных заслугах и что одно дело заниматься тонкой словесной критикой, а другое – писать вещи, всеми признанные и приветствуемые толпой на публичных представлениях… Тогда я, нисколько не чувствуя себя уязвленным, высказал однажды мысль, что театральный успех не может определять качества пьесы и что я берусь достигнуть гораздо большего успеха сказкой «О любви к трем апельсинам», которую бабушка рассказывает своим внучатам, переделав ее в театральное представление» (Карло Гоцци, Бесполезные мемуары, ч. 1, гл. XXXIV; цитируется по переводу Я. Блоха, напечатанному в «Хрестоматии по истории западноевропейского театра», под ред. С. Мокульского, т. 2, «Искусство», М., 1955, с. 598). Обнаружив такие куски литературного текста на русском языке, естественно, хочу найти и весь текст, полностью, и – не нахожу!! Нет его в Интернете! То есть, конечно, находятся в Интернете «Бесполезные мемуары» Карло Гоцци, изданные на итальянском, в переводах на французский, на английский, на немецкий. Есть, наверное, и китайский перевод, но русского нет. Нет его и в библиотеках. Мной овладевает азарт, ищу по упоминаниям фамилии Блох. Постепенно погружаюсь в эпоху двадцатых годов, в среду поэтов Серебряного века. Есть Яков Ноевич Блох, человек интересной судьбы, вхожий в литературные круги начала века, один из организаторов издательства «Петрополис», знакомый с Ахматовой, Кузминым, Лозинским, переводчик трех из десяти «Театральных сказок» Гоцци. Есть Раиса Ноевна Блох – его сестра, поэтесса, автор нескольких поэтических сборников (это на ее слова Вертинский написал и исполнял известный романс «Унесла печальная молва милые, ненужные слова – Летний Сад, Фонтанка и Нева…»), совместно с ней Яков Блох перевел четвертую «Сказку» – «Король-Олень». Но не нахожу нигде (кроме как у С. Мокульского) упоминаний о русском переводе «Бесполезных воспоминаний». Загадка.
В попытках разгадать тайну русских переводов произведений Гоцци поневоле втягиваешься в перипетии и сплетения судеб многих русских интеллигентов начала ХХ века. Известно, что к переводам «Театральных сказок» Гоцци обращался А. И. Островский. Ходасевич попытался перевести «Турандот», но отказался, по собственному признанию, из-за трудности перевода. Сказка Гоцци «Принцесса Турандот» была переведена писателем Михаилом Осоргиным и поставлена Евгением Вахтанговым в 1923 году. Тогда же в издательстве ГИЗ был выпущен двухтомник Карло Гоцци «Сказки для театра», в который вошли, кроме «Сказок», некоторые прозаические отрывки в переводах Я. Н. Блоха, Р. Н. Блох, М. Осоргина и М. Л. Лозинского. В издании «Сказок» 1956 года некоторые сказки даны в переводе Т. Щепкиной-Куперник.
Яков Ноевич Блох в 1923 году, после кратковременного ареста сестры и жены по делу, по которому уже был расстрелян Гумилев, эмигрировал с семьей в Берлин и перевел туда издательство «Петрополис». С приходом в Германии к власти фашистов он переехал в Брюссель, а оттуда – в Швейцарию. Умер Яков Ноевич в 1968 году в Швейцарии. Трагичной была судьба сестры Я. Н. – Раисы Ноевны Блох. Перебравшись в середине 30-х в Париж, она попыталась наладить там свою жизнь, но в 40-м году нацисты арестовали и отправили в концлагерь ее мужа, в бесприютных скитаниях умерла их двухлетняя дочь. Раиса Ноевна попыталась перебраться в нейтральную Швейцарию, но была задержана пограничниками и выдана обратно в оккупированную Францию, там арестована и погибла в одном из лагерей уничтожения. У Евгения Евтушенко есть горькое стихотворение об этой трагедии:
Учений и службы отличники в горах, где так воздух неплох, швейцарские пограничники, вы предали Раечку Блох…Итак, возвращаясь к нашей теме, можно с уверенностью предположить, что русский перевод мемуаров Гоцци (и перевод добротный) был сделан Я. Н. Блохом, но не был полностью опубликован и исчез (есть только фрагменты из «Хрестоматии» С. Мокульского)! Единственное правдоподобное объяснение – в волнениях отъездных 20-х рукопись его затерялась. Может быть, правда, лежит где-нибудь эта таинственная рукопись и ждет своего часа, но мне ее обнаружить не удалось.
Что же, я провел довольно обширное детективное расследование по этому делу и хотел бы завершить его на более мажорной ноте. В середине XIX века французский журналист и литератор Поль де Мюссе, брат известного поэта Альфреда де Мюссе, предпринял продолжительную поездку по Италии, результатом которой явился ряд очерков по ее истории, нравам и культуре. Особенного его внимания удостоился образ венецианца Карло Гоцци. Мюссе перевел его знаменитые мемуары, подвергнув их некоторому сокращению и очень умеренному редактированию, а также написал и издал обширный очерк жизни и творчества венецианца. Для пользы и удовольствия я перевел этот очерк. Не остановившись на этом, я имел смелость перевести на русский язык с французского текст сокращенного перевода мемуаров Гоцци, сделанного Полем де Мюссе. Мемуары Карло Гоцци – «Бесполезные мемуары», в моем переводе – изданы стараниями моей старшей дочери-издателя Агаши…





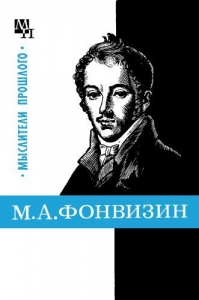
Комментарии к книге «Жили-были-видели…», Леонид Маркович Чачко
Всего 0 комментариев