Варвара Малахиева-Мирович Маятник жизни моей…
Дневник русской женщины
1930-1954
“О преходящем и вечном”
Мир вам, безвестные, безобидные, безответные мученики Истории, невинные жертвы безумия, охватившего планету… Горестны, таинственны и важны в путях вселенной ваши судьбы, не менее чем судьбы героев, вождей, мучеников, исповедников и гениев человечества.
В. Г. Малахиева-МировичДневники Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, представленные на суд читателя, – это неведомый материк, который надо еще изучать и осваивать.
За долгую свою жизнь (1869–1954) Варвара Григорьевна сменила много занятий: была гувернанткой в богатых домах, воспитательницей, редактором, поэтом, театральным и литературным критиком, автором детских стихов, инсценировок, переводчиком. Но, возможно, главный итог ее жизни – это создание уникальных дневников, которые она вела с 1930 по 1954 год, отражающих широкий исторический период от конца девятнадцатого века до послевоенной советской жизни. Правда, события, описанные до 1930 года, то есть до начала записей, изложены не в хронологическом порядке, а, как всякие воспоминания, следуют наплывами, обращениями к прошлому, включениями в повествование фактов повседневной жизни. Мы видим советский мир глазами человека ушедшей цивилизации, но слышим голос, в котором нет ропота на судьбу, а есть стремление объяснить себе и другим суть происходящего, связь между эпохами.
Варвара Григорьевна пыталась оценивать советскую жизнь, оглядываясь на свою народовольческую юность, стараясь найти хотя бы какой-то смысл в мучениях людей, страдающих от голода, безбытности и от угрозы ареста. Однако в частной жизни она советского категорически не принимала, продолжая хранить верность внутреннему уставу своего религиозно-философского круга, продолжая поиски Веры, Истины, места в мире. И, памятуя о том высоком веке, назвала свои дневниковые записи – “О преходящем и вечном”.
Появлению этих тетрадей предшествовала необычная завязка. Сначала нашлись дневники Ольги Бессарабовой (Веселовской), воспитанницы Варвары Григорьевны и близкого друга всей жизни. Они некоторое время хранились в музее Цветаевой, так как брат Ольги Борис Бессарабов в 1921 году время от времени останавливался у Марины Цветаевой в доме в Борисоглебском переулке (где теперь и находится ее музей).
Его записки и воспоминания стали предметом обсуждения на конференции 1993 года, посвященной жизни и творчеству Цветаевой во время Гражданской войны, дневники же Ольги Бессарабовой оставались непрочитанными, ожидая своего исследователя. Именно среди записей Ольги обнаружились аккуратно переписанные десятки тетрадей со стихами и отрывками из дневников Варвары Мирович. Сами же дневники В. Г. Мирович – 180 тетрадей, ровными стопками лежавшие в картонных ящиках, – оказались в доме скульптора Дмитрия Михайловича Шаховского[1], – крестного сына Варвары Григорьевны. Он сохранил ее дневники до наших дней и согласился передать их в музей Марины Цветаевой.
О Варваре Григорьевне Малахиевой-Мирович[2] известно и много, и одновременно очень мало. Небольшая статья в словаре “Русские писатели”, очерк в книге “Сто одна поэтесса Серебряного века”. Ее имя встречается в указателях книг о поэтах, писателях и философах Серебряного века. Известно, что она работала в прозаическом отделе петербургского журнала “Русская мысль”, где ее сменил Валерий Брюсов, что она перевела вместе с М. В. Шиком популярную в Европе монографию Уильяма Джеймса “Многообразие религиозного опыта” – книгу, которая не потеряла актуальности до сих пор. Но оставалось множество загадок, ответы на которые находились только при чтении воспоминаний, стихов и писем. Прихотливый рассказ дневника тем не менее дает возможность вычленить биографическую нить, нанизывая на нее уже известные факты.
Варвара Григорьевна Малахиева родилась 29 марта 1869 года в Киеве на Большой Шияновской улице на Печерске. Эта часть Киева находилась недалеко от Киево-Печерской лавры.
Дед отца, как писала Мирович, схимник Малахий (или Малахия), в семьдесят лет принял монашество и пятьдесят лет после этого прожил затворником в пещере близ г. Острова Псковской губернии. Его считали целителем, к нему ходили из окрестных сел лечиться. Достоверно известно, что и Варвара Григорьевна умела наложением рук исцелять недуги.
Григорию Исааковичу Осипову (родился около 1828 года) удалось выхлопотать для себя и младших братьев разрешение изменить фамилию и называться Малахиевым в честь своего деда-монаха. Крестьянин Псковской губернии, Григорий Исаакович был одарен архитектурным талантом. С двадцати до тридцати шести или семи лет он жил в Выдубицком монастыре под Киевом. Но после того, как в монастыре было совершено убийство казначея, он усомнился в святости монастырского житья и по настоянию своего старца женился.
Варвара Федоровна Полянская (1850–1929), мать В. Г. Мирович, вышла замуж совсем юной, в шестнадцать лет, их разделяла с мужем двадцатилетняя разница в возрасте. Вела она свое происхождение от графов Орловых: семейная легенда гласила, что бабка ее была дочерью одного из графов и крепостной девушки.
Жизнь Варвары Федоровны была очень драматичной. Она теряла детей одного за другим: умерла от менингита семилетняя Мария, война и голод в 1919 году унесли жизни Николая, Анастасии, Михаила. Варвара, самая неприспособленная к быту, осталась со слепой матерью. После ее смерти в Сергиевом Посаде на руках монахини Дионисии дочь чувствовала несказанную вину перед ней и запечатлела свой плач о матери в тетради, которую писала не отрываясь двадцать дней.
Девочкой Вава сама научилась читать по журналам “Ваза”, “Всемирная иллюстрация” и газете “Сын Отечества”. Любимыми книгами с детства у нее были древняя и священная история, по которым училась в пансионе мать. С восьми лет Ваву отдали в приходское училище, а затем в гимназию. Тогда и началась ее дружба с Нилочкой Чеботаревой (Леонилла Николаевна Чеботарева, в браке Тарасова, – будущая мать знаменитой театральной актрисы Аллы Тарасовой). В девять лет Ваве пришла мысль, что она способна воскрешать из мертвых. “Я обещала осиротевшей двоюродной сестре Маше, что весной, как только можно будет пройти на кладбище, я воскрешу ее мать. Когда я услыхала от бабушки, что только Христос и немногие святые творили такие чудеса, я решила прибегнуть к чудотворному кресту с частичкой мощей, который хранился в нашем кивоте. И велика была горечь моего недоумения, когда взрослые мне разъяснили, что и чудотворный крест тут не поможет и что вообще чудеса были раньше, а теперь «давным-давно уже никто не воскресает»”.
Эти необычные свойства она унаследовала от отца-странника. Он редко появлялся дома, с трудом переносил суету домашней жизни. Приезжал он раз в году с подарками. Дети его ждали, обожали его неожиданные появления. Больше чем на месяц, он не задерживался. Жил в землянках возле монастырей или в кельях.
Как вспоминала Варвара Григорьевна: “Перед смертью он писал матери из Батума: «не в сонном видении, а наяву, на берегу моря, я видел “новое небо и новую землю”». Думаю, что от этого видения было так прекрасно и так блаженно его лицо в гробу”.
Варвара сызмальства мечтала о “новом небе и новой земле”, каждый раз вкладывая в это понятие новое содержание.
С юности ее покоряли революционные идеи партии “Народная воля”. Вместе с подругой Леониллой она отказалась от церкви и веры, а к шестнадцати годам и вовсе становится нигилисткой. Вера заменяется беседами о Желябове, Перовской, о страданиях народа, об “ужасах царизма”. В восемнадцать лет Варвара отправляется на станцию Грязи торговать книгами, чтобы заработать денег на освобождение из тюрем томящихся узников. Спустя годы она часто вспоминала себя прежнюю, готовую умереть за всемирное братство, за справедливость, за свободу.
В 1890 году по зову Леониллы Варвара вернулась в Киев. Она стала работать в партии, которая, по сути, была осколком народовольцев-террористов 1881 года. Однако вскоре ее стала тяготить партийная дисциплина; в скорую революцию верилось все меньше, охватывала горечь разочарования. С потерей идеи возник внутренний кризис, непонимание, для чего жить. Обывательская жизнь натуре Варвары была абсолютно чужда. У нее начались приступы психического заболевания с продолжительной депрессией и мыслями о самоубийстве; она проходит лечение у разных врачей. Один из них завладел ее чувствами и мыслями. Начался долгий и бесплодный этап влюбленности в киевского доктора Петровского, женатого человека с двумя детьми.
В те годы самым близким человеком в жизни Варвары Григорьевны была младшая сестра Анастасия. Когда та была еще маленькой, Варвара читала ей взрослые книги, множество стихов, которые девочка легко запоминала. Сестры и сами писали стихи, вели дневник. Когда Анастасии исполнилось семнадцать, а Варваре двадцать два года, они уже дружили как равные. “Это был период, когда в редакции «Жизнь и искусство» (киевский журналишко, где мы обе начали печатать стихи и прозу) нас прозвали Радика и Додика – имена сросшихся сестер-близнецов, которых показывали в проезжем музее. Если бы в тот период кто-то из нас умер, его друг не пережил бы потери. Я помню, с каким ужасом, с какой решительностью покончить с собой, если сестра обречена на смерть, подъезжала я к Одессе, где в лечебнице доктора Гамалея сестра лечилась от укушения бешеной собаки. Тогда обыватели не вполне верили в силу прививки. И я бросилась из Киева в Одессу за сестрой, измучившись подозрением, что ее уже нет в живых”.
В двадцать шесть лет Варвара устроилась учительницей в семью сахарозаводчика и французского консула Даниила Григорьевича Балаховского и его жены Софьи Исааковны, сестры Льва Шварцмана (Шестова). Варвара много времени проводила в их имении Перевозовка под Киевом, где успешно занималась их детьми. Туда же часто приезжал начинающий литератор и философ Лев Шестов, который уже сотрудничал в ведущих киевских газетах. К неудовольствию своего отца, Лев Исаакович не имел никакого интереса к делам мануфактуры и всячески избегал семейного бизнеса.
Между Шестовым и Варварой постепенно возникает влюбленная дружба. Однажды после его отъезда Варвара написала ему: “Вы сделали меня лучше, чем я была раньше… И когда Вы будете умирать, то Ваша встреча со мной даст мир Вашей совести, хотя бы Вы ничего другого не сделали в жизни. И как хорошо, что Вам дано делать это «другое» почти везде, где Вы создали бы себе путь в жизни, не похожий на другие пути”. В какой-то момент она стала невестой Шестова, но не могла решиться с ним на близкую связь, потому что ее еще жгли чувства к доктору Петровскому. Эта история до появления дневников Варвары Григорьевны была абсолютно неизвестна, и даже дочь философа Наталья Баранова-Шестова, указывая в монографии об отце целый ряд фактов из прошлого Шестова, не могла этот факт прокомментировать.
“К концу 1895 года, – пишет Наталья Львовна, – отец тяжело и нервно заболел вследствие трагических событий в его личной жизни”. Какие это были события, в жизнеописании не объясняется. Можно предположить с большой долей уверенности, что в основе его нервного срыва были сложные и запутанные отношения с Малахиевой-Мирович и ее сестрой. Правда, в книге Барановой-Шестовой вдруг приводится неожиданный факт, что Шестов делает предложение сестре Варвары Григорьевны – Анастасии. До этого ничего не говорилось даже о том, что они с Шестовым были знакомы. Разъяснение находится в дневнике Мирович.
Шестов делает предложение Анастасии, когда Варвара вместе с Балаховским и детьми уезжает за границу. По поводу конфликта со своей сестрой из-за Шестова Варвара пишет в дневнике: “…у меня отношение к этому человеку было настолько глубоко и для всей внутренней жизни ни с чем несравнимо важно, что «отдать» его сестре без борьбы оказалось невозможным. И возгорелась борьба, неописуемо жестокая тем, что наши души были как одна душа, что каждый удар, наносимый другому в борьбе, отражался такой же болью, как полученный возвратно удар. В этой борьбе окончательно подорвались душевные силы сестры, расшатанные предварительно отрывом от матери, поступлением в партию, непосильной идейной нагрузкой.”
Варвара считала, что предложение ее сестре Шестов сделал, так как хотел связать себя и Варвару родственной связью. Однако родители Льва Исааковича категорически не приняли такого союза, считая, что он должен связать жизнь с еврейской девушкой. В результате у Шестова случился нервный срыв, и, пользуясь возможностью продолжать учебу за границей, он вскоре уехал в Швейцарию.
“Человек, из-за которого мы «боролись», сам переживал в это время – отчасти на почве этой нашей борьбы – огромный идейный кризис. В житейской области он предоставил нам решать, кому из нас выходить за него замуж. Перед сестрой он чувствовал вину как перед девочкой, которой «подал ложные надежды» своим чересчур внимательным и нежным отношением (я в это время была за границей и сама поручила сестру моральной опеке его). С моей стороны уязвляла и пугала этого человека неполнота моего ответа на полноту его чувства. И все это перенеслось для него в философское искание смысла жизни и в тяжелую нервную болезнь, которая привела его в одну из заграничных лечебниц и потом на целые годы за границу. Я «уступила» наконец его сестре, но он за год заграничной жизни встретился с женщиной, которая с величайшей простотой и безо всяких с обеих сторон обязательств привела его на свое ложе. Она стала его женой. Он стал крупным писателем. Сестра заболела душевно и окончила свои дни в психиатрической лечебнице. А я по какой-то унизительной живучести осталась жить и без него, и без сестры, и «без руля и без ветрил»”.
Судя по позднейшим публикациям, эта история во многом осталась тайной для всего окружения философа. Он не открывался даже таким близким друзьям, как Евгения Герцык. “Этот такой чистый человек нес на совести сложную, не вполне обычную ответственность, от которой, может быть, гнулись его плечи, и глубокие морщины так рано состарили его… Это было время его внутренней катастрофы”, – писала Евгения Казимировна. Сам Шестов в “Дневнике мыслей”от 11 июня 1920 года записал: “В этом году исполняется двадцатипятилетие, как «распалась связь времен», или, вернее, исполнится – ранней осенью, в начале сентября. Записываю, чтобы не забыть: самые крупные события жизни – о них же никто, кроме тебя, ничего не знает – легко забываются”.
Двадцатипятилетие как раз и падает на сентябрь 1895 года. Именно тогда у него случился первый приступ нервной болезни, вслед за которым он уехал лечиться за границу в начале 1896 года.
Скорее всего, именно эта история стала знаком для сестер, который они запечатлели в общем псевдониме. Мирович – была фамилия героя ранних автобиографических рассказов, сохранившихся в рукописи юного Льва Шварцмана, повествующего о своем неудачном писательстве.
Обе сестры берут этот псевдоним. Но если Анастасия подписывает свои стихи “Мирович”, то Варвара становится Малахиевой-Мирович. По остроумному предположению Татьяны Нешумовой, подготовившей том стихов Варвары Григорьевны, фамилия могла обозначать заключение мира между сестрами. Однако нигде в дневниках про это не говорится. Интересно, что 18 ноября 1897 года Варвара Григорьевна, откликаясь на повесть “Моя жизнь”, еще подписывает свое письмо к Чехову “Малафеева”.
За границу Варвара отправляется в качестве домашней учительницы детей Балаховских. Как потом она писала, бежала туда все же от неразделенной любви к доктору Петровскому. Сначала семья жила в Оспедалетти на Ривьере. Когда к весне Балаховские переехали в Ниццу, между Софьей Исааковной и Варварой возник конфликт: как домашняя учительница Малахиева– Мирович могла обучать и развивать детей, но абсолютно не способна была следить за бытовой стороной их жизни. Это не устраивало Балаховскую. Отношения охладели, и Варвара решила покинуть своих хозяев. Она приходит на помощь новой подруге – Софье Николаевне Луначарской (потом Смидович): у той тяжело заболел (туберкулез мозга) муж Платон и Софье Николаевне важно было иметь в доме близкого человека. Там Варвара и познакомилась с братом Платона Анатолием Луначарским, с которым у нее возник непродолжительный, но запоминающийся роман. “Была с его стороны вдохновенная пропаганда марксизма. С моей – изумление перед его ораторским искусством и памятью (кого он только не цитировал наизусть!). Я называла его в письмах к Льву Шестову «гениальным мальчиком». Когда я уехала в Париж, а он остался в Ницце – каждый день приходило письмо с подписью: «Твой – Толя». Но он не был «мой» – не моих небес. Не породнились души”.
Потом был Париж, куда Варвара Григорьевна попала через сестру Балаховского Соню, которая вышла замуж за именитого француза Эжена Пети. Возвращаясь из Парижа в Россию, Варвара Григорьевна взяла по просьбе Смидовича набор марксистской литературы. Ее арестовали на границе, и она просидела около трех месяцев в заключении. Однако и это путешествие было связано с необыкновенным любовным приключением. В поезде она ехала в одном купе вместе с Андреем Ивановичем Шингаревым и его сестрой. Вскоре он станет депутатом Государственной думы от Воронежа, а затем министром Временного правительства, а в 1918 году будет убит революционными матросами в Мариинской больнице. Но в то время он был еще никому не известным молодым доктором. “Это была, – пишет Варвара Григорьевна, – наша первая и последняя брачная ночь. Без поцелуев и объятий, но в глубоком слиянии душ…”
И была еще одна встреча. “Когда мне было 30 лет, – вспоминает Варвара Григорьевна, – моя сестра получила место медсестры в деревне, в больнице, где Шингарев был врач. Я приехала туда и увидела, что Андрей Иванович любит меня. Но что он крепко связан с семьей и что «нельзя» (мне «нельзя» – он пошел бы на компромисс) воплотить в жизнь того огня, каким горела душа, дух и тело. Я выпила морфий. Спасая меня, он коснулся моего лба губами – это был его первый и последний поцелуй”.
После того как ее выпустили из тюрьмы, Варвара Григорьевна по приглашению С. Г. Пети-Балаховской поехала в Петербург, как она писала, “делать литературную карьеру”. Эти годы стали временем ее обширных литературных публикаций. С ноября 1897-го по январь 1899 года ее стихи, подписанные “В. М.” и “В. Г. Малафеева”, появляются в ежемесячном приложении к петербургской газете “Неделя” – журнале “Книжки недели”. Ее сестра Анастасия, которая тоже подписывается фамилией Мирович, печатает свои стихи в журнале “Северные цветы”.
В 1899 году Варвара пытается обосноваться в Москве, в 1899–1902 годы всерьез увлекается мистическими практиками: “…ощущение всех умерших живыми… тот ослепительный, всю Москву – как будто я ее сверху вижу и дали за ней – озаряющий свет, с каким я вышла после беседы с Анной Рудольфовной Минцловой лет сорок тому назад, в период, когда мое поколение искало «Истины», где только могло”.
В 1904 году Варвара Григорьевна устраивается работать домашней учительницей в семейство Семена Лурье, богача-мецената, страстно увлекающегося философией, и учит его дочь Татьяну. Одновременно ее приглашают в дом потомственного купца В. Шика, где ее ученицей становится десятилетняя Лиля Шик – будущая актриса Вахтанговской студии Елена Владимировна Елагина. В доме Шиков она встречает старшего брата Лили – Михаила, с которым спустя годы будет связана глубокими отношениями.
В это время самой близкой подругой Варвары Малахиевой-Мирович была актриса МХТ Надежда Сергеевна Бутова, личность неординарная и глубокая, по большей части дружившая не с актерами, а с писателями и философами. Борис Зайцев, друживший с Бутовой, писал: “Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей”[3].
В 1909 году жизнь Варвары Григорьевны внезапно меняется: после ухода Мережковского с поста заведующего литературно-критическим отделом журнала “Русская мысль” Семен Лурье принимает на себя его обязанности и приглашает туда Малахиеву-Мирович. За короткое время с января 1909 по октябрь 1910 года в журнале было напечатано более двадцати ее рецензий. Но с приходом в отдел Брюсова осенью 1910 года Варвара Григорьевна отходит от “Русской мысли”, лишь изредка печатая в ней свои работы.
К этому времени относится дружба Варвары Мирович с Ремизовым и Пришвиным, а также нежная и продолжительная (до самой кончины) дружба с Еленой Гуро. В дневниках есть множество отсылок к ее стихам и высказываниям.
В 1909 году Варваре Григорьевне удается получить разрешение Льва Толстого посетить его в Ясной Поляне[4] (спустя два года она опубликует мемуарный очерк о нем). Эта встреча окажет огромное влияние на всю ее последующую жизнь. Не раз и не два она будет возвращаться к ней в дневниках, соизмеряя свои духовные открытия с теми, которые получила в том разговоре и последующем чтении дневников Толстого.
В эти же годы в Воронеже, куда Варвара часто ездит к матери, завязывается нежная дружба с девятилетней Олечкой Бессарабовой, дальней родственницей.
Гимном звучат воспоминания Варвары Григорьевны, связанные с этой необычной девочкой, богато одаренной не только литературными, но и душевными качествами. Именно Ольга придумала название для кружка девочек из десяти человек, с которыми Варвара занималась литературой, театром и философией, – “Радость”.
Мирович вспоминала, что подобные кружки она собирала, когда ей было двадцать три года, в Киеве. Однако тот кружок вместе с Ольгой Бессарабовой был особенным: почти все девочки, которые были в нем, так или иначе все последующие годы будут связаны с литературой и искусством, будут помнить и не терять из вида друг друга, и в то же время станут настоящим Варвариным семейным кругом. Кто же они были? Нина Бальмонт (в замужестве Бруни), Анечка Полиевктова (потом она будет женой Николая Бруни), Аллочка Тарасова, Татьяна и Наталья Березовские, дочери Льва Шестова, Евгения Бирукова, Лидия Случевская (племянница поэта Константина Случевского), Ольга Ильинская, сестра актера Игоря Ильинского, Олечка Бессарабова.
С доктором Добровым Варвара познакомилась еще в 1904 году через свою подругу Надежду Бутову. Филипп Александрович Добров – уроженец Тамбова, потомственный врач, всю жизнь прожил в Москве. Его отца пациенты звали не “Добров”, а “доктор Добрый”. Филипп Александрович полностью отвечал своей фамилии. Его дом был пристанищем и в дни радости, и в дни печали. В голодные годы Гражданской войны семья доктора давала кров и кормила множество людей.
Женат он был на Елизавете Михайловне Велигорской, сестре Шурочки Велигорской, первой жены Леонида Андреева. После ее смерти в 1906 году семья Добровых усыновила Даниила Андреева.
Варвара Григорьевна Мирович, месяцами жившая под кровом добровского дома, оказала огромное влияние на подрастающего мальчика. Их разговоры и размышления о жизни, природе, о смерти во многом совпадают, а некоторые общие суждения отсылают нас к непосредственно к трактату Даниила Андреева “Роза мира”.
На глазах Даниила сменились тысячи лиц этого открытого дома, но к Варваре Григорьевне он сохранил особую нежность и преданность. “Друг и внучек моей души, Даниил Андреев пишет в последнем письме: «Хочется с самых первых слов выразить Вам чувство, которое меня сейчас переполняет: это любовь к Вам. Любовь довольно странная и чудаковатая… Не знаю, почему так драгоценна и так нужна мне эта внежизненная, наджизненная, “чудаковатая” любовь. Как глоток воды – в пустыне»”.
Сюда же Варвара Григорьевна часто приводила своего юного друга – Михаила Владимировича Шика.
При всем разнообразии творческой и духовной жизни Варваре Григорьевне катастрофически не везло в личной судьбе. В годы работы домашней учительницей в доме Шиков она встречалась с доктором Лавровым, терапевтом, известным в Москве. “.было суждено пройти через светлую и радостную в начале, но мучительную и унизительную, в общем, четырехлетнюю брачную связь”.
И именно тогда Михаил Шик, еще гимназист 5-й Московской гимназии, всем сердцем привязался к Варваре Григорьевне. “В этот период опустошенности и тоски, – писала она, – отвращения к жизни и к себе подошел Михаил Владимирович (Шик) – тогда еще мальчик – и в течение 12-ти лет приносил мне ежедневно, ежечасно величайшие дары – благоговейного почитания Женщины, нежности, бережности, братской, отцовской и сыновней любви, заботы, верности. Когда ему было 20, а мне 38 лет, наш союз стал брачным, и брак длился около 10 лет”.
Однажды у Георгия Вернадского Михаил встретил Наталью Шаховскую[5], которую Ольга Бессарабова за ее фантастическую доброту и жертвенность называла “княгиня Марья”. В 1911 году Наталья Дмитриевна с подругами и Михаил Владимирович проводили лето на Волге и уже тогда ощутили между собой глубинную связь, которая то гасла, то разгоралась вновь.
27 сентября 1917 года Наталья Шаховская написала Варваре Григорьевне: “Вчера стало ясно, что жизнь моя и Михаила Владимировича Шика – неразделимы… Я не колеблюсь. Но я не знаю, что сталось бы с этой моей готовностью и как она смогла бы стать жизнью, если бы не пришло Твое благословение, если бы я не чувствовала его раньше, чем оно пришло. Благослови Тебя за это Бог, дорогая”.
В том же сентябре Михаил пишет Варваре Григорьевне: “Ты думаешь – я отвернулся от Тебя в самой святая святых моего духа и мир земной отвернулся от Тебя.
Нет, родное дитя, не то произошло с нами. Ни я, ни мир от тебя не отвернулись. Я возложил на Тебя тяжесть своей веры в Тебя, веры в то, что Ты способна взойти на Голгофу и воскреснуть”.
В 1918 году Михаил Шик решает креститься[6]. Это происходит в Киеве, и его крестной матерью становится Варвара Григорьевна, что для нее означает окончательный отказ от своей прежней роли его гражданской жены, а крестным отцом – друг Михаила художник В. А. Фаворский. 23 июля 1918 года, в день Ильи-пророка, Шик и Шаховская венчались. Обручальное кольцо – подарок Михаила, внутри которого были вырезаны слова “Свете Радости. Свете Любви. Свете Преображения”, Варвара Григорьевна передает Наталье Шаховской, “и оно было на руке ее в день ее венчания с Михаилом. А у него на руке было два кольца: одно с ее именем, другое, серебряное, – с моим”.
Этот жест означал освящение тройственного союза, союза трех сердец. Но спустя годы Варвара Григорьевна, анализируя прекраснодушные порывы тех лет, писала: “Наивным и слепым дерзновением мы вообразили, что это наш путь на Фавор, где ждет нас чудо преображения греховного нашего существа в иное, высшее… Но очень скоро стало ясно, что никто из нас не созрел до представшего перед нами повседневного подвига самоотречения… Через какие-то сроки оно превратилось в крепкую, родственно-дружественную связь – но у меня уже был свой одинокий внутренний путь”.
В 1918 году Михаил Шик и Наталья Шаховская обосновались в Сергиевом Посаде, где Михаил стал заниматься проблемами религиозной философии при кафедре философии Московского университета “для подготовки к профессорскому званию”, преподавал историю и психологию в Сергиевском педагогическом техникуме и работал в возглавляемой о. П. Флоренским комиссии по охране памятников Троице-Сергиевой лавры.
Варвара Григорьевна была в это время в Киеве, куда приехало много ее друзей, спасавшихся от новой власти.
К осени стало ясно, что из города надо бежать. “После оккупации Киева белыми (31.08.1919) были организованы страшные еврейские погромы, – писал Михаил Слонимский, – несравненно более зверские, чем когда бы то ни было до революции”.
Пути Варвары Мирович и Льва Шестова пересеклись последний раз в поезде, который несся из Киева, и после Харькова разошлись окончательно. Она с трудом добралась до Новочеркасска, где ее ждала Татьяна Скрябина, затем они все вместе ненадолго окажутся в Ростове, куда Олечка Бессарабова привезет слепую мать Варвары Григорьевны. А семья Шестова через Севастополь выедет за границу на французском пароходе “Dougai Trouain” благодаря визам, которые им послали родные, жившие в Париже.
Потом не раз и не два Шестов в письмах другу Михаилу Осиповичу Гершензону будет беспокоиться о Варваре, и сама она еще не раз ему напишет. В начале 1930-х годов Наташа и Татьяна Березовские, дочери Льва Исааковича, вышлют своей прежней наставнице немного валюты. А затем связь прервется. Но Лев Исаакович регулярно будет приходить к Варваре во сне, на страницы дневника, и его уход в 1938 году она безошибочно угадает.
“Сен-Жермен Сергиева Посада” – так называла Ольга Бессарабова это место за ту высокую духовную атмосферу, которая возникла там в 1921–1922 годах и где в то время помимо семьи Шаховских-Шиков обитали деятели религиозной мысли, аристократы и художники, решившиеся остаться в России. Флоренские, Фаворские, Олсуфьевы, Мансуровы, Челищевы, Голицыны, художники Иван Ефимов и его жена Надежда Симонович-Ефимова, дочери Василия Розанова и многие другие.
Незадолго до приезда туда Варвары Григорьевны, в 1920 году, Наталья Шаховская была арестована и заключена под стражу московской ЧК, но, к счастью, вскоре ей удалось выйти на свободу. В 1922 году у Шаховских родился мальчик, названный в честь преподобного Сергия Радонежского Сергеем.
Именно к этому ребенку Варвара Григорьевна со всей истовостью несостоявшегося материнства прилепится сердцем. Для него она будет записывать рассказы о его детстве – “Дневники Си”, посвящать ему детские стихи, мечтать о нем как о собственном сыне.
В июле 1925 года Михаил Владимирович был рукоположен в священники митрополитом Петром, которого вскоре арестовали. Михаил тоже был арестован и в декабре 1925 года после полугодового тюремного заключения отправлен в административную ссылку в Среднюю Азию. Пока он сидел в тюрьме, успел родиться его третий ребенок – Елизавета. После возвращения из ссылки в начале 1928 года о. Михаил стал служить в Воскресенско-Петропавловской церкви г. Сергиева, где настоятелем был его большой друг о. Сергий Сидоров.
“…головокружительные мои скитания последних четырех – теперь уже пяти месяцев, даны мне как мерило моей внутренней свободы. Я устаю. Ежечасно приспособляюсь (внешне) к чужому быту. Но внутренне я свободна как никогда”, – писала Варвара Григорьевна в своих дневниках.
С 1930 года начинается отсчет ее подневных записей. В первой половине 1930-х годов Варвара Мирович постоянно скиталась по московским квартирам своих друзей, оставаясь на несколько дней то там, то здесь. В каждом случае она соприкасалась с особым мироустройством той или иной семьи, с ее вписанностью в советскую жизнь или, наоборот, оторванностью от нее. Все это разнообразие интеллигентских московских семей, в их мучительной попытке выжить; найти работу, пропитание и одежду, при огромных усилиях, предпринимаемых, дабы не раствориться в быту, сохранить себя, свои духовные запросы, запечатлено на страницах тетрадей Малахиевой-Мирович.
Некоторое время Варвара Григорьевна жила в московской квартире Евгении Бируковой и ее матери Нины Всеволодовны в Неопалимовском переулке. Женечка, которую Варвара называла Ирис, а та в ответ – Баобабенька, была той девочкой, которая ходила к ней в кружок “Радость”. Внучка знаменитого филолога Всеволода Федоровича Миллера, Женя писала стихи и много переводила[7]. В 1930-е годы она вышла замуж за художника Андрея Дмитриевича Галядкина. В 1941 году он привлекался НКВД по делу Даниила Андреева, но в то время они с Евгенией уже расстались.
В 1949 году Евгению Бирукову арестовали за связь с розенкрейцерами[8]и дали пять лет лагерей; местом ее заключения стал лагерь Ишимбай. Отпущена она была по амнистии в 1953 году.
…Анна Васильевна Вышневская (в замужестве Романова) стала близкой подругой Варвары Григорьевны в самом начале века. Их юность прошла рядом, душевно они были очень связаны.
В редакции петербургской “Русской мысли”, где работала Варвара Григорьевна, Анна встретилась с начинающим писателем Пантелеймоном Романовым. Варвара писала, что это была любовь с первого взгляда. В то же лето они обвенчались.
Поначалу брак был счастливый, но, получив известность и поселившись в Петербурге, Романов[9] стал изменять жене. Роман с бывшей балериной Антониной Михайловной Шаломытовой привел к разводу.
Анна Васильевна тяжело пережила его уход, это стало для нее драмой жизни. Как-то она пришла на Маросейку в храм св. Николая в Кленниках, где нашла настоящее утешение и стала духовной дочерью о. Алексея Мечева. С того времени вся жизнь ее превратилась в постоянное служение ближним, жизнь в Церкви.
Ее небольшая комната на Остоженке часто бывала приютом для Варвары Григорьевны. Однако с годами им было все труднее общаться друг с другом. Варвара Григорьевна, натура поэтическая и внутренне очень свободная, с трудом воспринимала тот жесткий религиозный регламент, которому была подчинена жизнь Анны Васильевны.
Когда вернувшейся из лагеря Евгении Бируковой негде было жить, ее приняла к себе Анна Васильевна, но было это уже после смерти Варвары Григорьевны, в 1954 году. Анна ввела Бирукову в русло церковной жизни и стала ее духовной матерью. Они были вместе до последнего часа.
Так как семья Шиков после ссылки[10] Михаила Владимировича лишилась права жить в Москве, выбор пал на Малоярославец, находящийся за 101-м километром. В семье родился уже пятый ребенок, Николай, семья была большая, нужен был свой дом. Чудом им удалось его купить, он стоил 3 тысячи – по тем временам дешево: семья, срочно продававшая его, уезжала в ссылку к отцу.
Шики-Шаховские поселились в Малоярославце в начале 1930-х годов, сюда же довольно часто стала приезжать Варвара Григорьевна, которая учила детей, проводила вместе с ними лето. Отец Михаил сделал в доме маленький домовый храм, где тайно служил. К нему стали приезжать из Москвы его духовные дети, среди которых были Т. В. Розанова – дочь В. В. Розанова, Е. В. Менжинская (дочь бывшего наркома НКВД). Духовной дочерью о. Михаила была пианистка М. В. Юдина. Приходили к нему и некоторые из местных жителей.
25 февраля 1937 года Михаил Шик был арестован и посажен в Бутырскую тюрьму.
Отца Михаила обвинили в том, что он “являлся активным участником контрреволюционной организации церковников-нелегалов, принимал активное участие в нелегальном совещании в феврале 1937 года, в г. Малоярославец им была организована тайная домовая церковь, куда периодически съезжались единомышленники по организации”. 26 сентября 1937 года его приговорили к высшей мере наказания, а расстреляли на следующий день под Москвой на Бутовском полигоне.
Варвара Григорьевна, разумеется, не могла в те дни комментировать эти события и потому не написала об аресте, хотя, конечно, ей все было известно, но спустя несколько месяцев, 20 июля 1937 года с горечью заметила: “Загнанная глубоко, бесправная, неожиданная, грызет душу тоска о судьбе одного человека…”
Ее политические записи конца 1930-х годов производят двоякое впечатление. С одной стороны, она воспроизводит поток того, что говорят вокруг нее про врагов, “пауков в банке”, возмущается, опираясь на газетные отчеты, постыдным поведением на процессе обвиняемых и при этом все время делится с собой сомнениями, которые, если додумать до конца, опровергают всю ее политическую лояльность. Разумеется, ей не по силам было осознать весь морок происходящего, но она остро реагировала на все то, что касалось ее близких.
Незадолго до гибели Михаила Владимировича она записала пронзительные слова об этом времени: “Ангел с мечом огненным, попаляющим все на пути своего полета, пролетает иногда над целой страной, иногда над одним городом, и всегда на земле над какой-нибудь группой лиц – над шахтой, над войском, над семьей и над отдельными, одиноко гибнущими людьми. Оттого молятся в ектенье «о еже избавитися нам от глада, мора, труса, огня, меча, нашествия иноплеменных» и «от болезни, печали, клеветы людской»…
Ангел с огненным мечом пролетает над дорогим мне домом….
И хоть верю, что он может погубить только внешнее благосостояние, только здоровье, только жизнь, не душу – шелест его крыльев пугает и томит сердце…”
С того момента Варвара Григорьевна еще больше сближается с Натальей Дмитриевной. Ее терпением, самопожертвованием и выдержкой она не перестает восхищаться. Всего через год будет арестован и расстрелян отец Натальи Дмитриевны Дмитрий Иванович Шаховской, давно отошедший от политики, занимающийся историей литературы. На плечи Натальи Шаховской легли заботы о родителях Михаила Владимировича, об одинокой матери и старых тетках. Это при том, что приступы туберкулеза, которые мучили ее с юности, стали постоянно возобновляться. Наталья Дмитриевна верила, что муж вернется, но боялась, что не доживет до встречи с ним.
Но самое мучительное время наступило во время войны. Голод, смерти, бомбежки – всем этим полны страницы тетрадей Варвары Григорьевны, но и восхищением невероятной стойкостью Натальи Дмитриевны, защищавшей всех, кого она прятала под своим кровом. Однако силы ее были на исходе. В июне 1942 года Шаховскую удалось устроить в туберкулезную больницу в Москве, но было уже поздно, она надорвалась окончательно.
До последней минуты в больнице с ней была Варвара Григорьевна. В конце жизни все, что их когда-то разделяло, было преодолено.
Наталья Дмитриевна умерла 20 июля 1942 года в Москве, в Туберкулезном институте. Похоронена на Ваганьковском кладбище.
…В знаменитый добровский дом в 1923 году вошел муж Шурочки Добровой, оригинальный поэт-мистик, троюродный брат А. Блока Александр Коваленский[11]. Он стал прототипом главного героя “Странников ночи” – романа Даниила Андреева о мрачной эпохе арестов и ссылок, о московских углах, где продолжала теплиться культурная и религиозная жизнь.
Они ушли друг за другом: Филипп Александрович Добров еще до войны, в 1941 году, а Елизавета Михайловна, его жена, пережив его лишь на год, в 1942-м. Их смерть Варвара Григорьевна очень тяжело переживала.
В 1940-е годы Даниил сблизился с семьей переводчицы М. В. Усовой. Дочь Марии Васильевны Татьяна стала его невестой и очень подружилась с Варварой Григорьевной. Но после встречи в новогоднюю ночь 1943 года у Коваленских с Аллой Бружес, женой своего друга, художника Ивашёва-Мусатова, уже в июне 1944-го Даниил с Аллой решили, что больше не будут расставаться.
Алла стала устраивать в доме литературные чтения романа “Странники ночи”. Для нее была важна литературная слава ее избранника, которая никак не могла быть официальной. Это в конце концов привело к катастрофе. Все слушатели романа, а также родственники Даниила Андреева были арестованы. Роковым образом были полностью сметены остатки добровского дома. Забрали Шуру и Александра Доброва, Коваленского, закованного в гипсовый корсет, и многих других. К сожалению, в список, который вынудили составить следователи МГБ, тех, кто читал или слушал его роман, Даниил внес и имя престарелой Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. Только чудом она избежала ареста. Это ее и спасло. Роман “Странники ночи” сгинул в недрах Лубянки. Единственный экземпляр, который был спрятан под половицей под лестницей добровского дома, Даниил сам показал следователям.
Шурочка Доброва (Коваленская) в 1948 году оказалась в том же лагере в Мордовии, где сидела Алла Андреева. Шурочка не дожила до освобождения, умерла в лагерной больнице; ее муж Александр Коваленский добился разрешения привезти из Потьмы гроб с ее прахом. Ее похоронили в добровской могиле на Новодевичьем кладбище.
Варвара Григорьевна в дневниках, конечно же, ни словом не упоминает аресты в добровском доме (какие-то фрагменты появляются в тетрадях этого времени только в записях о Татьяне Усовой), которая, мало того что была отвергнута Даниилом, была еще и арестована по его делу.
К сожалению, В. Г. не дожила до выхода многих из них из лагерей и тюрем, но можно с уверенностью утверждать, что хранила всех в своем сердце.
Семья, которая приняла Варвару Григорьевну и где протекали ее последние годы жизни, – семья Леониллы и ее дочери Аллы Тарасовой, проживавших в Глинищевском (затем переулке Немировича-Данченко), была связана с ней еще с юности.
Рождение будущей актрисы Аллы Тарасовой происходило в буквальном смысле на руках Варвары Григорьевны.
Когда они еще жили в Киеве, она писала для Аллы и ее братьев и сестер детские пьесы, которые они вместе разыгрывали. Приехав в Москву поступать в 1-й МХТ, юная Аллочка часто жила там же, где ее взрослая наставница, принимала участие в заседаниях кружка “Радость”. Они жили все вместе в Киеве в доме Балаховского сообща с Шестовым, Скрябиной, Слонимскими. Когда в начале 1930-х годов Тарасовы поселились в Москве, Варвара заходила к ним, занималась с маленьким Алексеем (сыном Аллы), иногда оставалась на ночь. Однако вскоре все изменилось: Алла Тарасова становилась все более известной актрисой, лауреатом Сталинской премии, у нее возник сложный роман с немолодым и знаменитым актером Иваном Москвиным. Общим домом они не жили (их квартиры в Глинищевском переулке были одна над другой), но считались мужем и женой. В это же время Варваре удалось с помощью того же Москвина получить комнату в коммуналке в доме на Кировской. Правда, пожила она там совсем недолго. С одной стороны, ее, как всегда, тяготил быт, она всю жизнь грелась у чужого очага, и ей трудно было жить одной; с другой – племяннице Тарасовой, юной актрисе Галине Калиновской понадобилась жилплощадь, так как она выходила замуж. Варваре Григорьевне делают предложение отдать свою комнату Галине, поселиться у Тарасовых и жить на всем готовом.
Что она совершила роковую ошибку, Варвара Григорьевна поняла уже через два года, но сделать ничего было нельзя. Взаимное существование столь разных людей под одной крышей радости не приносило. Однако, пока она учила сына Тарасовой, разбирала с Аллой толстовские страницы “Анны Карениной”, была в более-менее приличной физической форме, она была уместна, с ней считались, ее жалели.
Но в конце войны все круто меняется. В жизни Аллы Тарасовой появляется генерал Пронин, который вселяется в ту же квартиру. В дом плывут трофейные вещи: сервизы, одежда, картины. Варвара Григорьевна с ужасом отмечает в дневниках, как неудержимо меняется Аллочка, “милый Ай”, как она звала ее с детства. С момента вселения генерала Варваре Григорьевне начинают недвусмысленно намекать, что ей надо искать какое-то другое место. За это время она сменяет множество адресов, Тарасовы пытаются найти ей угол в разных домах престарелых, но почему-то все планы постоянно срываются. Можно сказать, что время от гибели добровского дома до конца ее дней при общем драматизме судьбы Варвары Григорьевны – самое трагическое.
Себе она объясняет это тем, что должна расплатиться за холод, за отсутствие настоящей любви к смиренной и терпеливой “старице”, как она звала свою мать Варвару Федоровну. Сама она глохнет, плохо видит, у нее случаются постоянные “мозговые головокружения”, болит печень, но при всем этом она непрерывно ведет свои тетради и, что особенно поражает, продолжает помогать ближним.
Один из таких сюжетов – история с Игорем Ильинским, которого она знала еще маленьким. Когда-то дружила с его матерью; его сестра, эмигрировавшая в 1920-е годы, ходила в кружок “Радость”. В конце 1940-х годов Игорь Владимирович пережил огромное горе, у него умерла любимая жена Татьяна. Случайно он нашел в доме книгу У Джеймса “Многообразие религиозного опыта”, переведенную Варварой Григорьевной и Михаилом Шиком. И тогда он бросился к Варваре Григорьевне за помощью, советом, разговором. Несколько лет он возил ее на свою дачу во Внуково, они много говорили о смерти и жизни, Ильинский рассказывал ей о том, насколько он не реализован как актер. Но и эта привязанность миновала. Он выздоровел, женился и постепенно исчез из ее жизни.
…Дети Михаила Шика и Натальи Шаховской со временем перебрались в Москву, им надо было жить и учиться дальше. Сергей Шик прошел войну и женился. Мария и Елизавета учились в институтах, а младшие Дмитрий и Николай были усыновлены сестрой Натальи Дмитриевны – Анной Дмитриевной Шаховской, которая была секретарем В. В. Вернадского. Именно она забрала Николая с собой и семьей Вернадских в эвакуацию. В Москве они все собирались в уплотненной до двух комнат квартире Шаховских. Здесь Варвара часто останавливалась, учила младших детей, встречалась со старшими.
Дмитрий Шаховской с детства стал увлекаться живописью и скульптурой, его учителем был Владимир Фаворский, друг отца с гимназических лет, который имел в Новогирееве свой дом-мастерскую. В конце 1940-х годов Дмитрий женился на дочери Фаворского Марии и тоже стал обитателем Новогиреева, где живет и поныне, куда после долгих путешествий переехали дневники Варвары Григорьевны.
И все-таки, несмотря на редкие встречи, самым близким человеком Варвары Григорьевны оставалась Ольга Веселовская (Бессарабова). Она всю жизнь собирала и переписывала ее стихи, разбросанные то здесь, то там, делала выписки из дневников.
В 1927 году Ольга вышла замуж за замечательного историка, а затем и академика Степана Борисовича Веселовского, он был старше ее вдвое. Первое время они тоже жили в Сергиевом Посаде. Отношения с Варварой у него сразу же не заладились. Во-первых, Варвара Григорьевна предполагала, что для ее Олечки мог бы найтись кто-то более молодой, а во-вторых, ее расстраивало, что так и не был реализован литературный дар Ольги – та фактически стала секретарем своего высокоученого мужа.
В 1947 году Ольгу вызвали в НКВД, где целый день продержали, позже она сказала дочери, что от нее требовали показаний на Фаворского и его окружение. Она ничего не рассказала. Спустя несколько дней у нее случился инфаркт, но она старалась скрыть от всех его истинные причины. Можно предположить, что ее расспрашивали не только о Фаворском, иначе трудно объяснить, почему почти два года она избегала общения с Варварой Григорьевной. Скорее всего, именно страхом за близких объясняется и то, что, когда в 1954 году она получит в руки все дневники Мирович, то будет тщательно замарывать имена арестованных Даниила, Коваленского и других. Видимо, от нее пытались получить сведения и о них тоже.
Потом, когда здоровье Ольги Александровны восстановилось, умер Веселовский, родился внук, встречи стали чаще, но все равно их было очень мало. Варвара Григорьевна не раз внутренне зовет свою Олечку на помощь.
Всю вторую половину жизни Варвара Григорьевна готовилась к смерти, страшилась ее, ждала и даже звала.
Однако смерть застала ее неожиданно. Дневник обрывается за три месяца до кончины, последняя запись от 14 мая. Строчки уже плывут на странице, слова разбегаются в разные стороны. Последняя запись сделана рукой Ольгой Бессарабовой:
“Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович умерла 16 августа 1954 года”.
Обращаясь к своим будущим читателям дневников, Варвара Григорьевна писала:
“Если бы я нашла где-нибудь на чердаке тетрадь с искренними отпечатками жизни (внутренней) совсем безвестного человека, не поэта, не мыслителя, и знала бы, что он уже умер, во имя этого посмертного общения с ним я бы читала его тетрадь с жадностью, с жалостью, с братским чувством, с ощущением какой-то победы над смертью”.
Дневники В. Г. Малахиевой-Мирович и есть настоящая победа над смертью.
* * *
Дневники В. Г. Малахиевой-Мирович представляют собой не просто подневные записи, но и большие отрывки, сквозные сюжеты и новеллы. Огромный объем дневникового текста, их неизбежная повторяемость (в особенности в последнем периоде жизни) привели к необходимости отбора наиболее интересных фрагментов. Полная публикация всех 180 тетрадей – дело будущего. Сегодня мы осуществляем попытку впервые познакомить читателя с интересной личностью поэтессы, писательницы и мемуаристки, творчество которой непременно войдет в контекст истории культуры.
Эта книга не могла бы появиться без участия и помощи:
Елизаветы Михайловны Шик, Дмитрия Михайловича Шика, Анны Степановны Веселовской, Марии Михайловны Старостенковой-Шик, а также:
Татьяны Нешумовой, Ольги Мининой, Ольги Блинкиной, Ольги Волковой и Валентина Масловского.
1 тетрадь[12] 23.7.1930-5.2.1931
27 июня 1930
Православие много говорит “о прелести” – хотя бы Брянчанинов – да и каждый из Отцов православной церкви. Я склонна думать, что это всё – педагогия. Отечески охраняя неподготовленные души от опасного пути – преждевременного проникновения в горние миры (больше люблю эту терминологию, хоть она и не совсем точна), – православие, лучше сказать “церковь”, спешит совсем заградить вход во Врата Познания. И самое познание, всю область Разума, Творчества (свободного) она или игнорирует, или даже клеймит как стихии люциферианства.
Но, когда приходит пора “оставить младенческое”, для человека неизбежным становится – перешагнуть запретные Врата, ослушавшись педагога, не уменьшая уважения и признательности к нему – хотя бы уж за одну эту отеческую осторожность.
Покойная сестра[13] моя перед тем, как заболеть психически (в последние свои здоровые годы жила в большом напряжении богоискания), говорила однажды: “Каждый сумел бы написать «свой» апокалипсис, если бы умел удалиться на Патмос[14] с разъезженных дорог”.
У нее была полоса мрачного безверия. Во время одного припадка она повторяла в отчаянии: “Если бы был Бог! Хоть бы какой-нибудь Бог!” Потом, перед тем как совсем погас в ней разум, уже в больнице на несколько дней она засветилась таким светом, что совсем не мистически настроенная фельдшерица говорила мне: “Я никогда не видела больных в таком сиянии”.
В этом сиянии я видела ее несколько раз. Лицо было светящегося белого цвета (как просвечивает белый абажур на лампе). Из глаз шли снопы лучей. “Подойди ко мне, – сказала она, – я скажу тебе очень важное. Для тебя. Не думай, что я больна. Я была больна. Во мне была тьма. То, что называют дьявол. А теперь во мне Бог”. И через минутку просветленно-торжественное лицо ее вдруг потускнело, изменилось до неузнаваемости, и резким движением она схватилась за цепочку на моей груди, как будто хотела задушить меня ею. Тут вошла надзирательница и увела ее.
Некоторые из друзей моих не раз старались навести меня на мысль писать мемуары. Через мою жизнь прошло много лиц “с именами”, я лично, впрочем, не считаю, что человек “без имени” менее интересен, чем “именитый”. Иногда даже наоборот. Правда, у тех, кто с именами, – мысли. У безыменных зато зачастую больше жизни, то есть очищеннее она, а у именитых, особенно у литераторов, разбавлена мыслью, сидением за пером, самоотречением, нарываемым словом.
Что бы там ни было, я не мемуарист и не беллетрист. Я могу писать, только как Розанов писал свои “Опавшие листья”, но без его гениальности. И женским пером – лирически, исходя от себя. Я очень хотела бы дойти до розановской искренности, но не уверена, смогу ли. Когда пишу, так как я больна и сейчас вот в правой груди набухает та боль, которая, верно, и будет в скором времени моим вожатым к “гробовому входу”, когда я пишу, я очень помню этот “вход” и думаю, что это должно изжить всякое приукрашивание и стилизование из этой тетради. Но и искренность очень тонкая и очень редкая вещь. Тут нужно соединить и чистоту сердца, не уметь солгать, и бесстрашие, и умение спускаться в глубины подсознательного. Из писателей, каких я знаю, самый искренний, трагически искренний – Лев Шестов[15].
Мне, конечно, полная искренность недоступна. Но, не умея, может быть, охватить всей правды, не умея уловить ее главных штрихов, я люблю ее, ищу только ее. И я не боюсь спускаться в глубины бессознательного.
Обе старые и больные – я и Надежда Григорьевна (Чулкова)[16] – стояли на опушке леса. Ночь была белая, почти петербургская, со всех сторон, точно перебивая друг друга, о чем-то молодом, счастливом и прекрасном пели соловьи. И – не было жаль молодости. Ничуть не хотелось вернуть ее. Это чудо даже ужаснуло бы. Пройденная ступень.
29 июня
Little brother, так я называла тебя, маленький братец Николушка[17]. Захотел ли ты, чтобы я помянула тебя, или я сама стосковалась о том, что живу на свете так долго, когда нет уже ни сестры, ни тебя, ни столь многих друзей. Я вспоминаю твои пытливые широко открытые глаза, устремленные вдаль, – так слушал ты евангельские рассказы в моей маленькой школке.
Шестнадцатилетним отроком ты полюбил взрослую девушку, мою подругу, и убежал от меня из Петербурга в Воронеж, чтобы быть дальше от предмета своих мучений. И до 40 (почти) лет, до смерти, не было в твоей жизни ни одной женщины как жены, как возлюбленной, тебя ужасала плотская сторона брака, хотя любовь несколько раз загоралась в твоем сердце. И любовь, и нежность, и даже страсть. Ты любил детей, и понимал их, и сам обращался с ними в ребенка, но супружеская связь и деторождение были бы насилием над твоей природой. Ты, как и я, и сестра Настя, и отец наш, и братья его – “лунной природы”[18]. (Такие души только через насилие над собой и искусственно привитые навыки мирятся с браком.)
Во время воронежских передряг гражданской войны ты должен был “на три дня” покинуть город и с тех пор не возвращался на землю живых. Ты был чист и нежен душой, но суров и грубоват и замкнут внешне. Тебя выдавала только застенчивая улыбка и мягкость интонации, когда ты говорил тихо.
Ты был из тех душ, которым доступно чувство высокого и великого. Ты любил греческую трагедию, латинских классиков, Библию, которую в годы твоей юности мы прочли с тобой на трех языках.
Хотя мы с сестрой и не знали ни латыни, ни греческого, ты часто декламировал нам с возвышенным пафосом Гомера, Горация, Цицерона. Тебе ничего не стоило изучить в год-полтора по жалким самоучителям английский, немецкий, итальянский язык. Ты мечтал уже о санскрите, тебя ждала командировка в Италию, когда “туча пришла, все унесла” – война, фронт, революция.
Это я все вспоминаю здесь не для нас с тобой. Там, где ты теперь, и там, где скоро буду я, уже никакой роли не играют ни языки, старые и новые, ни командировки. Но мне, по-видимому, захотелось, чтобы до Сережи[19] дошел твой облик. Для этого же прибавлю здесь то чудо, какое совершилось на наших глазах, когда ты из безвольного, опустившегося, морально одичавшего юноши на 22-24-м году жизни добыл откуда-то упорную, непоколебимо крепкую волю, чтобы пересоздать все свои привычки, поставить себя в условия железного режима, самому подготовиться к экзамену за короткий срок и блистательно выдержать его, поступить в университет, где ты не проводил ни минуты времени праздно, за исключением предрешенного отдыха.
Ко мне, хотя ты и звал меня Great sister (большая сестра, старшая сестра, так как я на 11 лет тебя старше), ты относился, когда вырос, как к младшей, опекая меня в разных житейских затруднениях и вообще в деловой области. И всегда был трогательно добр ко мне и с необычайной внимательностью выбирал для подарков такие вещи, к каким у меня была слабость: красивые письменные принадлежности, одеколон, духи, горькие конфеты.
15 июля
Писатель Лундберг[20] (мы звали его тогда Герман), ныне вполне кабинетный, очень деловой, очень удачно приспособляющийся человек, в годы юности жил бродягой, пешком исколесил Россию, вечно нуждался, однажды из эксперимента (Was ist schwerste?)[21] хотел уморить себя голодом. Не ел четыре дня, лежал на своем аскетическом ложе, а на стене записка из Л. Шестова: “Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”[22]. И всегда носил в себе вихревое начало, бурю. И вовне больше всего любил бури. Все катастрофическое (меня при очень личном ко мне отношении подговаривал покончить с собой) и просто бурю в природе любил до упоения. Летом все мы жили на берегу Домахи[23], рукав Днепра; как только начиналась гроза и Днепр становился гоголевски страшным, наш Герман с веслами на плече устремлялся к своему утлому челну, на котором не раз тонул, и такое светящееся, отважное, отрешенное от всего бытового было у него лицо. Я прозвала его викингом. Другие звали его варяг.
Был 50 лет тому назад журнал “Ваза”[24] и “Всемирная иллюстрация”[25]. По ним (и еще по “Сыну Отечества”[26]) я научилась без всякого содействия старших читать. И первое слово, какое я прочла, было: “Ваза”. С ним соединилось представление о роскошном букете цветов (может быть, такой букет был на обложке). И присоединилось к “Вазе” таинственное воспоминание – вырезала из нее фигурку девочки в клетчатом платье, должно быть, это был журнал дамских мод. Контуры девочки, отделившиеся от страницы, произвели впечатление чуда! Было необычайно радостно класть эту девочку на разный фон, ставить, прислонять к чему– нибудь, прятать в коробочку. Тут зачатки ощущения скульптора. И еще что-то: девочка казалась живой, особой формой жизни живой.
Писатель Л. Шестов рассказывал о себе, что такое отношение было у него в 5–6 лет к бронзовому мальчику над часами в их гостиной. Он вступил с ним в дружеские отношения. Носил ему даже какую-то пищу, хоть и знал, что он не может есть, но как символ дружбы и питания.
То, что бронзовый мальчик, как и моя бумажная девочка, не ел, не двигался, не говорил, не мешало общению, не мешало представлению, что это живая жизнь. Это была только особая форма жизни, как и у самой любимой моей игрушки, солдатской пуговицы.
“Какой-нибудь год…”
“Какие-нибудь три-четыре года….”
Катюша Маслова (Нехлюдову): не годы, а жизнь. Но хорошо, что жизнь – тоже годы, а не тысячелетия и не сотни лет.
Когда хоронили мать Тани Розановой[27] (одно из самых трагических существований – Таня Р.), она зарыдала на отпевании и бросилась к древнему годами монаху, священнику – кажется, со словами: батюшка, совсем теперь одна, одна на свете.
Кругом были друзья. Так называемые друзья, т. е. хорошие знакомые. – Какие вы, – горячо сказал старец-монах, обращаясь к друзьям, – живете каких-нибудь семьдесят, восемьдесят лет, и на это столь малое время не хватает у вас любви, чтобы пригреть друг друга.
И потом эта Таня лежала около года в больнице, и кроме, в сущности далекой, и лишь территориально близкой семьи никто не навестил ее. Ни разу. Прошли годы, и она этого все не может простить “друзьям”, хотя некоторые из них после этого были к ней внимательны.
Недавно она писала – в ответ на письмо, где ей ошибочно показалось, что от нее требуют забот об одной женщине: “Обо мне никто никогда не заботился. Меня в больнице целый год никто не навещал. Я не берусь устраивать NN. Я больна и говорю прямо: не могу, тем более что обо мне никто никогда не заботился”.
6 августа. Сергиево
Тут хочу записать сон (вещий?), который повторялся у меня несколько раз – три-четыре раза – в жизни. Недавно я вспомнила его и рассказала Даниилу[28] (юному другу, поэту). Он говорит, что это сон “вещий”. Начинается с пустынной загородной дороги – предместье Старая дорога в Киеве, чем-то пугавшее в детстве. Впереди – знакомый уже тракт, направо тоже знакомый и тоже только по снам овраг, глубокий, с глинистой топью на дне. Из трактира несется топот, разгульные песни, брань, визги. Вся дорога проплевана скорлупой подсолнечников. Справа у оврага начинают встречаться тела убитых. Сердце замирает предчувствием чего-то более страшного и уже знакомого, но не припоминаемого почему-то в образах. И неизбежного.
За трактиром – в мановение ока срыв, прорыв, померкшее сознание, оживающее в ином мире.
Там забывается все прошлое, весь комплекс своей личности подменяется каким-то другим, но ощущаемым как мое “я”. Действуют иные законы. Человек беспол, как рабочая пчела, живет в непрерывной, скучной и отвратительной работе, терпеливо, без протеста. Нет религии, нет традиций культуры, нет творчества. Никакого общения, никаких отношений друг с другом, кроме сотруднических по работе. Работа – брать куриные перья, чистить серным цветом какие-то попоны, набивать перины и матрацы, обмазывать скипидаром бумажки (это уж неизвестно для чего), выводить пятна, переполаскивать пузырьки с дурно пахнущими остатками лекарств. Работа присылается откуда-то сверху, скользит по склону топкого оврага. Радости, отдыха, развлечений, каких-нибудь нюансов жизни в этом царстве нет. Живут все в каких-то курятниках с тонкими не доверху перегородками. Смерти тоже нет. Эта жизнь – бессмертная и безысходная.
Исход есть лишь один – проснуться. Нас водят смолить челн, огромный, как самый громадный пароход. В этом челне нас должны отправить в небытие, которое, однако, как-то будет учитываться как бессмертие. Смолят челн на пустынном (серый, пепельного цвета песок) берегу свинцовой, широкой, как море, реки. Небо совершенно черное. Откуда свет – неизвестно. Но на этом черном небе временами показываются знамения и иероглифы огненно-красного цвета, исполинская рука, серп, но чаще всего – меч, то острием кверху, то – книзу. Мы смотрим на эти знамения тупо, привычными глазами, бессознательно (сон во времени длится десятки, а может быть, и сотни лет), и вдруг одно из этих знамений пронзает сознание необходимостью проснуться, чтобы не погибнуть. Взлетает из недр духа вертикальная линия – вихревое движение – и вселяется в свою здешнюю личность лермонтовскими стихами – “Ангел” или “Парус”.
10 августа. Томилино[29]
Как стая вспугнутых птиц, взметнулась мысль и умчалась.
Когда я ехала в Томилино в потогонной тесноте и колготе вагона, они налетали на меня целым роем, и я была уверена, что, когда настанет ночь и я смогу открыть в тишине эту тетрадь, они с еще большей быстротой слетятся ко мне. Но их нет, и я не могу даже их вспомнить.
Где же они? И кто (или что) они? И откуда приходят? Потому что, несомненно – они приходят откуда-то, иногда совсем непрошено и с пугающей неожиданностью.
Бренное тело просит покоя, а душе жаль прервать ночное бдение. Ночь от ранней юности была любимым временем моим. В 16–17 лет я часто просиживала до зари летними ночами одна или с сестрой под акациями нашего сада в Киеве. Помню “тонкий хлад новоявленного”[30] над страницами второй части Фауста в такие ночи. Помню долгие разговоры с сестрой (двенадцати-тринадцатилетней) обо всем на свете, с нескончаемым изумлением и восхищением партийной жизни. И ночи, когда, собираясь на служение человечеству, мы зубрили политэкономию и социологию, а ветер шелестел в цветущей груше совсем о другом, ничего общего с прибавочной стоимостью не имеющем.
И ночи на Днепре. Молодость! 18 лет. Плеск черных волн под ударами весел. Завораживающая близость мужских тел и душ, завороженных нашей девической юностью и красотой. Ни одного нескромного слова, ни одного вольного движения, несмотря на отсутствие матерей, вообще старших. Блеснет, как зарница в ночи при свете костра, среди благоухающих лоз чей-нибудь влюбленный взгляд, в обычной фразе трепетно и музыкально прозвучит голос, испугает и обрадует – и опять лозы, волны, звезды, разлив песен о могиле, которая с ветром гомонила, о черном Сагайдачном[31], о “хлопцах-баламутах”, о “червоной калине над криницей”. А беседы – о Желябове, о Перовской, 0 страданиях народа, об “ужасах царизма”.
Не во всех кружках был этот романтизм и платонизм. От подруг я знала, что есть у них и такие знакомцы-студенты, которые “напиваются до зеленого змия”, и что в той среде нередки свободные сближения, безответственные браки на время. В моем представлении тогда (и всю жизнь), любовь была таинственным, священным и громадной важности явлением, и такие формы, как “связь”, да еще “на время”, казались мне самым низким из возможных для человека падений.
2 сентября. Томилино
На кухне особая кухонная уютность – мистика очага и тепло от него (на дворе холодные ночи). Вспомнились гимназические годы, когда кухня была моим рабочим кабинетом в долгие осенние и зимние вечера. Я запиралась в ней под предлогом учебных занятий, но им было уделено самое скромное место. Несравненно больше времени было посвящено чтению (Тургенев, Достоевский, Гюго, Диккенс, Теккерей и тут же безвкусные исторические романы, путешествия). Сколько слез было пролито над ними. Напрасно думают, что такие слезы подростков над книгами или в театре только сентиментальность. Они – расширение душевного опыта, увлажнение душевной почвы и этим содействие росту ростков духа.
Вторым занятием на кухне было стихотворство. Третьим – просто “мечтать”. Незаметно текли часы над какой-нибудь страничкой дневника. Отрывалась от строки, вслушиваясь в какую-то музыку в себе, а иногда казалось, что она звучит извне. Это был ветер или шелест деревьев сада, мартовская капель за окном, отдаленный лай собаки или перекликание поздних петухов. Часто, тоже под предлогом уроков, приглашалась вечерами на кухню сестра Настя. Я занималась с ней, готовила ее в гимназию (она была моложе меня на 5 лет). С уроками ее мы кончали скоро, она была очень способна и все заданное выучивала отчетливо и толково и в объяснениях моих почти не нуждалась. Но высшим наслаждением ее в то время было слушать мои “романы” или записывать под диктовку экспромты. Романы, где были и замки на отвесных скалах (откуда героям удобно было броситься вдвоем и поодиночке в море), и убийства, и самоубийства, бешеные страсти, подвиги храбрости и самоотречения, коварнейшие измены и неожиданные обращения преступников в благороднейшие личности. Романы эти, не имея заранее задуманного плана, сочинялись тут же за кухонным столом или на печке и рассказывались искусственным голосом, без запинок, как будто читались по книге.
Слушательница моя, ей было 6–8 лет, внимала мне с горящими глазами и с таким вдохновенным видом, как будто сама находилась в разгаре творчества. Несомненно, что не только фабула романа, но и самый процесс сочинительства заражал и глубоко волновал ее. Очень рано, в эти же 9-10 лет, она сама начала творить для себя драматические произведения, разыгрывая их в лицах где-нибудь в темном углу, в сарае, на чердаке, на пустыре за домом. Все привыкли к глухому бормотанию ее, и все знали, что когда Настя “сочиняет”, ее с одного раза не дозовешься и вообще нужно ее разбудить, а тогда уже разговаривать. Будили безжалостно, диким окриком или налетевши сзади. Хватали за плечи. Она очень пугалась, и это забавляло нас. Однажды мы с матерью, услышав ее монологи с чердака, поднялись туда и неожиданно громко ее позвали. Она, отчаянно вскрикнув, закрыла лицо руками и вдруг бросилась в слуховое окно, а оттуда спрыгнула с крыши в сад и повредила себе ногу.
Это был ребенок с зачатками гениальности и с ядом безумия в мозгу. Пяти лет от роду она так говорила наизусть лермонтовского “Пророка” с таким неподдельным жаром и с такими изумительными интонациями, что я до сих пор вспоминаю их как исключительное по художественности впечатление. В 18 лет я могла говорить с ней, тринадцатилетней, о Фаусте, о Дон Жуане, о Демоне, прислушивалась к ее мыслям. В 14 лет ее приняли в партию и посадили за политэкономию и социологию, предварительно заставив пережить отречение от семьи и от “личного счастья”, что требовалось от всех нас как условие поступления. В партии она пробыла всего два года, надорвавшись физически и душевно. За этим последовали не менее надрывные два года на фельдшерских курсах. Полуголодная жизнь, каждодневные путешествия по 14 верст – семь верст до Кирилловской больницы (в Киеве) и обратно. На конку не было гривенника. Обе мы жили тогда на мои нищенские заработки, – за двух-трехчасовой урок платили 5–7, редко десять и в виде редчайшего исключения 20–25 рублей. В течение нескольких месяцев ей пришлось служить простой сиделкой в больнице, чтобы не умереть с голоду.
Тускло выходит все, что я здесь пишу, безжизненно, бледно. Не умею передать той радуги цветов, какими играл жизненный поток, проносившийся через мою душу. Не умею воскресить блеска, силы и значения каждой волны, приходившей и уплывавшей в повести многих часов, дней и лет. Подкрадывается мысль: если так, надо ли “мемуары” дальше? Старикам бывает нужно время от времени перевернуть золу в потухшем камельке и в последнем перебеге искр там, где был свет и пламя, вспомнить и вновь пережить былое горение. Но нужно ли это другим – Олям и Сережам, если это безжизненно-тускло?
Встает вопрос: то ли делаешь ты, что нужно, в три часа ночи переворачивая пепел отгоревшей жизни кочергою мемуариста. Этого ли ты хотела от себя, взявшись за “преходящее и вечное”. Не было ли надежды, что душа сумеет еще высечь живое пламя в своих тайниках. Что это будет не старческая болтовня, а одна из форм творчества. Творчество. Молитва. Покаянное самоуглубление. Любовное общение с людьми, всяческого рода помощь. Остальные процессы – или паузы души, недуховной жизни, или жалкие суррогаты ее.
15 сентября. Сергиев Посад
Л. Шестов давно не нуждается в моем портрете, хотя в уцелевшем от молодости нашей его письме еще не стерты временем слова “…что бы то ни было – я никогда не отойду от Вас. Мне – спастись, а Вам – погибнуть – эта мысль для меня гораздо ужаснее, чем если бы это было наоборот”.
Не для укора ему я выписала эти строки, а для вздоха о преходящести того, что бедная душа человеческая мнит вечным.
13 октября
…Я знаю, что любить как я – порок. Но я слабей любить не мог[32].Вместе с Лермонтовым могу я сказать о себе, озираясь на свою прошлую жизнь. Какое огромное пламя зажигала во мне любовь, какие невыполнимые на этом свете задачи ставила перед душою, какие требования, – непременно быть Лоэнгрином[33] – предъявляла мужской душе. И сколько затрачено было душевных сил и сердечного горя над несоответствием этих запросов с ответом жизни и с собственной немощью.
Тот, кто пробуждал во мне чувства, называемые любовью, с этого момента становился для меня существом серафического порядка. И само чувство опознавалось по сладостному ужасу прикосновения к тайнам горнего мира. Чувство, о котором я здесь говорю, давно следовало бы обозначить иным словом, для отмежевания от любви в христианском смысле, о которой так прекрасно говорит апостол Павел в Послании к коринфянам, а также и от сексуального влечения, с какой-нибудь надстройкой для приличного вида.
Студент, темно-кудрявый поляк, революционер и красавец. Никаких надежд на брак или роман. Мечты погибнуть “на одном эшафоте”. Жестокая уязвленность сердца, когда избранник его предпочел мечтам со мною об эшафоте связь с красивой вдовой двадцати восьми лет, не предъявлявшей к нему никаких требований, кроме общего ложа.
В 19 лет влюбленный в сорокалетнюю мою тетку[34] (женщину замечательной красоты), замечательно некрасивый, декадентствующий разорившийся аристократик, принужденный служить на железной дороге. Пел отрывки из всех опер, читал стихи, говорил о бессмысленности жизни. Показался возвышенным, непонятым, гонимым Роком. Свежесть молодости моей привлекла его, но не настолько, чтобы отойти от тетки. Да и я сама считала бы это несчастьем, так как очень любила тетку и гордилась тем, что была поверенной в этом романе.
Здесь, как и в первом случае, – ни одного лишнего рукопожатия, ни одного поцелуя руки.
В 22 года – опять красавец, доктор, психиатр (лечил меня от нервного расстройства после напряженной партийной работы). Четыре года безмолвных и безнадежных пламенных томлений – красавец был женат, вообще даже не догадывался о моей драме, пока в конце четырехлетия я не решилась спросить его, любит ли он меня. Некоторые данные у меня были для этого вопроса – взволнованная радость его при наших редких встречах, особый блеск глаз, та улыбка, что была у Вронского, выражение покорной собаки. Ответ на письма мне был уклончив, туманен: такой-то любовью люблю, такой-то нет, но такой и вообще никого не люблю.
Тут мне представился случай поехать за границу и через полтора года – опять “красавец”, впоследствии общероссийский известный революционный деятель. Опять женатый. Опять полуответ. Три года жизни и неудавшаяся попытка уйти из нее.
Потом доктор Лавров, самое неподходящее для какого бы то ни было романа лицо, но этим и привлекавшее мой подсознательный поиск трагического и неразрешимого в этой области. Четыре года брачной связи в унизительных для меня условиях. Больной, злой, переутомленный, ультрапрактический человек с закулисной женой, от меня скрываемой, и четырьмя детьми. Так я говорю о нем теперь. Тогда же шляпа его и калоши казались мне окруженными особым нимбом его сияния, и сам он был полубогом.
Мы расстались, измучив друг друга до психического расстройства.
Затем – почти мальчик и с ним десять лет все крепнувшей и прораставшей в религиозную область связанности. Тут его срыв и (теперь для меня непонятное) трагическое восприятие мое этого срыва. Впрочем, это все оттуда же: “Но я слабей любить не мог…”
Пропустила встречу, может быть, более важную, чем все остальные. Лев Шестов, его любовь, мой полуответ и через несколько лет – два месяца ответа без слов, но когда каждое слово, каждый вздох уже ответ. Здесь от начала до настоящей минуты, хотя мы разлучены уже 10 лет, глубинная унисонность, глубинное доверие друг к другу и взаимное, обновляющее, окрыляющее дуновение при встречах.
Если бы я могла выбирать, с кем из этих людей хотела бы я встретиться в будущих жизнях, я назвала бы одного Льва Шестова. А может быть, и его бы не назвала. И может быть, чуяли это красавцы и некрасивые, юные и пожилые. И пугались. Или утомлялись. Или расхолаживались.
И любил меня по-настоящему только один из тех, кого и я любила. Но тянулось ко мне в свое время много мужских душ. А может быть, просто – мужские вожделения.
4 ноября. Москва, Красные ворота
Красные и желтые огни трамваев в безритменном хороводе кружатся по тесной площади. Один за другим несутся и перекрещиваются автомобили, развертывая перед собой длинные веера зеленоватого света. Глухой гул, приглушенные гудки сирен и железный лязг колес врывается в мои окна день и ночь. Город. Ожесточенная погоня за куском хлеба, за ржавой селедкой – “де б его достать, щоб его зъисты”. И рабий страх. Таков обыватель, четвертая, и пятая, и шестая категория. Комсомол, рабочие – “первая категория” – по-иному ощущают себя. У худших – “торжество победителей” в очень вульгарной форме. У лучших – энтузиазм строителей Новой жизни. У середины – стадность и спокойствие обеспеченного завтрашнего дня.
16 декабря
Мой отец[35] – крестьянин Псковской губернии, потом рабочий-металлист серебряного цеха. Душа, скитавшаяся по свету между отшельничеством и миром. Нас, детей, и мать нашу любил, но не мог с нами жить, не вынося той суеты, какой полна всякая семья. Приезжал к нам раз в год, гостил недолго. Никогда больше месяца. Мы обожали его, особенно я. Тут уж был, пожалуй, эдиповский комплекс. Помню отчетливо до сих пор сладостное волнение от его голоса, глаз, от каждой его ласки, всю заливающую радость от его писем, от его приездов, бурное горе, растерянность, сердечную боль после его отъезда и некоторую ревнивость к матери. Никогда (с 8 лет и до 16, когда отец умер) не давала ей читать его писем ко мне.
Приезд отца – самое лучезарное воспоминание детства. Почти всегда неожиданный, почти всегда ночью. Громкий стук в ворота, наши крики: папа приехал! Праздничная ночь без сна. Необыкновенные подарки – бочонок вина (с Кавказа), гранаты, виноград, 4 пары калош, которые никому не годились, какие-то с треском захлопывающиеся табакерки, голубые бусы, янтарь. Дамская шляпа, белая шляпа с розовыми цветами – мне. У нас в сарае был целый сундук с коллекцией лампад, старинных церковных книг. И на стенах нашего бедного жилья были развешаны великолепные гравюры Рафаэля, Винчи – все подарки отца.
Отец покупал попутно много ненужных вещей, особенно любил старинные вещи, но они были ему не нужны. А сам жил где-то в землянках или, селясь часто поближе к монастырю, в монастырских кельях, и для себя ему было ничего не нужно, кроме, может быть, момента покупки и момента дарения.
Перед смертью он писал матери из Батума: “Не в сонном видении, а наяву, на берегу моря, я видел «новое небо и новую землю»”. Думаю, что от этого видения было так прекрасно и так блаженно его лицо в гробу.
В 1918 году в Киеве я увидела случайно на вокзале старого крестьянина с лицом, до того напоминающим отца, что я не могла пройти мимо. Он оказался тоже из Псковской губернии, приехал на заработки. Почему в Киев? Потому что “святые места, а дома есть нечего”. Я привела его к друзьям, у которых жила. Мы старались как-нибудь создать ему “заработки”. Они были грошовые и утомительные – перемывать посуду в лазаретном буфете. А самое грустное – что-то легкомысленное в тоне этого старика, в его наивной хитреце стало меня раздражать, и я охладела к нему. И он почуял это и скрылся с моих горизонтов, но не с горизонтов моей совести. Ах, “на совести усталой много зла”[36].
2 тетрадь 28.2–3.9.1931
28 февраля
Когда я берусь лечить кого-нибудь из близких “массажем астрального тела” – это, конечно, тоже вмешательство в их судьбы, но это единственная форма вмешательства, на какую я смею решиться. И это мне дано, это не мое. Я тут орудие. Сознание моей недостойности этого дара мешает мне последние годы лечить так часто и так успешно, как я осмеливалась это делать раньше.
Раньше, когда приближением руки к чьей-нибудь голове я останавливала зубную боль или жестокую мигрень (в некоторых случаях мигрень совсем излечивалась), во мне не звучал этот вопрос, какой подымается в последние годы: кто ты, смеющий лечить наложением рук, как лечили святые люди?
Музыка – “Поэма экстаза” Скрябина, дирижер Коутс[37]. Что творилось с душой – не расскажешь, не разгадаешь. Только до жуткости странно было идти домой, делать тот же обиход жизни. Как “Крейцерова соната”, по мнению Толстого, довела жену Позднышева до измены, так “Поэма экстаза” доводит слушающих до необходимости какого-то внутреннего делания. В горделивом безумии Скрябина, в его мечте музыкой совершить чудо рождения нового мира и нового человека есть зерно каких-то возможностей. Не через его музыку, не на этом свете, не теперь, но, может быть, нечто подобное совершится когда-нибудь (для каждого из нас).
…И вернулись все в свои норы, забились в свои тараканьи щели. Обед, разговоры, трамваи. Вот судьба и послала музыку сфер.
1 марта
Зависимость от времен года, от часов дня и ночи, от того, какое небо, какое освещение, какова погода. Не надо бы ее, этой зависимости, но она есть. Есть печаль предвесенних и весенних сумерек. В ней нечто люциферическое. (“Он был похож на вечер ясный – ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет”[38]). Есть уют осеннего дождя и ветра, если в комнате тепло и светло. Но если силен ветер и даже подвывает в трубе, тут уже “страшные” песни “про древний хаос про родимый”[39]. Летом, когда только восходит солнце, и в саду еще не высохла роса, и вершины деревьев в звездных алмазах, есть “первое утро мира”. Меланхолия туманной погоды. Предрассветное томление, когда из нарастающей тоски зарождается пифагорейский гимн солнцу[40]. Романтика лунных пространств. И над всем – звездное небо – воспоминание, напоминание, обетование, залог. Забыла снег. Детская радость первого снега. Величие бесстрастной мысли в снеговых равнинах, горные вершины – престолы серафической чистоты.
Свидание с другом детства Леониллой Николаевной Тарасовой[41] (не виделись полтора года). Ей 61 год, а я все вижу в ней семилетнюю Нилочку с шелковистой белокурой косой и ясными голубыми глазами. Эту детскую ясность улавливаю и теперь сквозь муть старости. И в старческом голосе слышу нежность, какой он звучал в 7 лет, в 16 лет, в 20 лет.
Когда встречаешься с такими старинными друзьями, видишь их сразу в кольце всех из возрастов. Так с вершины горы видны бывают и начало, и конец, и все разнообразие какой-нибудь дороги.
19 марта
…Словно облака над вершиной горы… Есть такие мысли, такие чувства, которые касаются самой вершины нашего внутреннего мира – и только мимолетно, и их не уловить. Но они озаряют жизнь и от них остается воспоминание, что побывал на вершине горы и видел оттуда такие дали, какие видны только с самой вершины и для каких в долинах наших (“дольний” мир) нет слов.
П. Романов[42]. Самое ценное для меня в нем – считая все его одиннадцать романов – то, что вчера, сидя у меня на диване с детски доверчивым лицом, он сказал: “Два месяца тому назад мне каждый день хотелось умереть. И на письменный стол не мог смотреть без отвращения. Хотелось умереть, потому что задеты были высшие ценности жизни. Потому что есть «самое дорогое» у души. А «самое дорогое всегда дороже жизни»”. (Позволяю себе привести здесь афоризм из одной детской сказочки Мировича из ранних сказок.)
25 апреля
В сущности, я – приживал. Такой жребий, такая линия. Иначе не умею, не знаю, как прожить. И может быть, потому легко мирюсь с этим, что иначе понимаю и человеческие отношения и судьбы, чем то мироощущение, где слово “приживал” возможно. Я сказала: “В сущности, я приживал” в миг, когда посмотрела на себя со стороны, глазами, не похожими на мои. Только изредка я ощущаю неловкость и грусть от зависимого и неполноправного положения. Чаще я не смотрю ни на себя, ни на кого другого сквозь эту призму. Так однажды Ольга[43] в Ростове собиралась на скрябинский концерт в совершенно развалившихся башмаках. Т. Ф. Скрябина[44] сострадательно сказала: “Неужели вы решаетесь в этих башмачках идти?” – “Я на них не буду смотреть”, – ответила Оля. И после Татьяна Федоровна не раз вспоминала это и прибавляла: “Тут есть чему поучиться”. Учиться, научиться этому нельзя. У Ольги и у меня, у таких людей, как мы, в этом отношении наследственное устройство зрительной оси душевных глаз бессознательно отвращает душу от мешающих ее главному процессу явлений. Там же, где это почему-нибудь не удается, такие души жестоко страдают.
5 мая
(Последние дни К. П. Тарасова[45] со слов дочери его А. К. Тарасовой).
…Осенью прошлого года туберкулез перешел с легких на горло. Последние месяцы были мучительны. Не помогали ни ингаляции, ни прижигания. Трудно и больно было глотать. Распухли гланды и вся полость рта. Голос упал до шепота. Во время одного из сильных приступов боли Константин Прокофьевич сказал жене своей (всю жизнь с самоотверженной преданностью служившей ему и нежнейшей заботой окружившей его последние дни): “Дай опиума!” Сказал повелительным голосом, и по лицу было видно, что он испытывает нестерпимую боль. Она спросила: “Сколько капель?” Он не ответил, потом прохрипел: “Скорее. Дай морфий”. Она опять спросила: “Сколько?” – и в ужасе воскликнула: “Костичка, что с тобой?” Он указал на горло и сказал неожиданно громко: “Торквемада”. Эта была его манера выражаться. Она поняла, что он говорит о муках инквизиции. И опять спросила: “Сколько капель?” У него глаза блеснули решительностью, и, протянув руку, он сказал: “Все. Дай все”. Она поспешила унести пузырьки подальше. Он впал в бредовое состояние и в полубреду шарил у себя на столе, отыскивая их.
Это был предельный пункт боли. Но под этим было и другое. Он проснулся с необычайно светлым, успокоенным лицом, так что Леонилла Николаевна невольно спросила: “Костичка, тебе лучше?” Он ответил с усилием, но внятно: “Был прелестный кошмар”. Она переспросила: “Сон?” Он повторил: “Был прелестный кошмар: берега уплывают. Впереди – светлое пятно. Река. Впереди – море. Ничего этого на мне нет (указал на тело). Я двигаюсь, но не иду – лечу. Этого нельзя рассказать”. В часы, когда боль ослабевала, он спокойно и даже шутливо говорил 0 конце: “Вот приедут дроги. И адрес – Деловая улица”[46]. Сказал, что у него готово белье. Но просил надеть две рубашки. (Не хотелось быть одетому небрежно.) Дочь Нина[47] сказала: “А туфель ты не припас”. – “Там не нужно ходить”, – ответил он с улыбкой. Однажды заботливо заговорил о том, что желал бы, чтобы в день похорон была хорошая погода. Прибавил: “На Байковой горе[48] глина, вам трудно будет идти”.
Иногда высказывал сожаление, что не увидит, к чему приведет пятилетка. Но чем дольше, тем больше отходил от интересов земного порядка. Раз сказал со светлым и торжественным лицом: “Я все сделал. Я родился. (Какое волнующее это “родился” в порядке земной повинности и участия в ней собственной воли к жизни.) Я родил вас (это обращение к сыну и дочери). Сделал все, что мог, в порученном мне деле. И выслужил пенсию Ниле”.
За четверть часа до конца его Леонилла Николаевна (жена) ушла в аптеку. Нужен был боржом, без которого он не мог принимать пищи. Много заботливая по натуре и, может быть, и бессознательно искавшая передышки от напряженного сопереживания мук любимого, она взяла на себя это дело, которое можно было бы поручить Нине. У ложа К. П. остались сын Юрий (доктор)[49], дочь Нина и внучка Галочка[50]. Юрий заметил, что пульс падает. Он впрыснул камфару. Отец спросил: “Что это?” “Камфара”, – ответил Юрий. Константин Прокофьевич сделал безнадежный жест и повернул голову к портрету жены, висевшему над ним. Долго, пристально смотрел, и глаза его наполнились слезами. Потом, по словам Нины, взгляд его устремлялся все дальше-дальше, и как будто он видел уже не портрет, а другое, необычайно важное. И Нина, и Юрий поняли, что он кончается. Они молча обняли его голову и потом так же молча закрыли глаза. Только тогда Юра склонился к нему на грудь и зарыдал. И горько заплакала Галина: “Я потеряла не только деда, я потеряла друга”.
Хоронили в прекрасный майский день 3 мая. Исполнилось желание Кости. Было легко идти на глинистую гору провожатым. Распускались клены Байковой горы, зацветала сирень, пели соловьи. Когда погребальная процессия подошла к кладбищенским воротам, раздался звон (случайно – похороны были гражданские). Когда опускали в могилу, тоже случайно донесся его любимый шопеновский похоронный марш. Все было как он хотел. И опустили его прах в могилу с тремя красными розами на груди – подарок Леониллы Николаевны и Аллы. Были венки. Были речи. Об утрате не только профессора, но и учителя жизни. О его высоком сознании долга, о неутомимом труде, о справедливости, о человечности. О заслугах перед университетом. Сняли маску и постановили на факультете поместить в аудитории его бюст. Но лучше всех сказал один печник, сдружившийся с Константином Прокофьевичем во время перекладки печи в его комнате: “Верный был человек. Таких мало. Что скажет – так и есть. Не брехал. И знал что сказать. И – мог. Одним словом – верный”. У него не хватило речистости, он сделал жест, подтверждавший верность слова “верный”, и всех взволновал этим словом, вдруг передавшим ту силу веры в человека и нравственной крепости, какой так богат был Константин Прокофьевич.
Похоронили его на высокой горе между двумя каштанами. Не его, конечно, а милый прах, изможденное тело, величавое лицо с серебряной бородой, одежду, которую он так заботливо приготовил, красные розы… А его унесла эта светлая река, световой поток в океан Вечной жизни, прибой которого он почувствовал еще тогда, когда пережил пробуждение космического сознания лет 15–16 тому назад.
25 мая. Сергиево, Нижняя улица
Очередной шатер моих кочевий. Кукуевское кладбище[51]. Возвращались с могилы старицы моей[52], натолкнулись (я и Соня[53]) на бесчинствующую молодежь. Рабочие, человек пять, один с гармошкой, с ними молодая женщина. Орали песни, потом стали плясать под гармошку, возле церкви, на одной из главных аллей кладбища. Сначала меня обуял гнев, но удалось подавить его. Я подошла и тихо сказала: “Милые мои, ведь тут горе человеческое. Горю, слезам нужна тишина, место ли тут гармошке и танцам”. Один из парней с хорошим лицом спросил: “Вы тут схоронили кого-нибудь?” Я ответила: “Не я одна, смотрите, сколько тут схороненных, вон там две девушки плачут. Вы, может быть, не знаете еще этого горя, но придется ведь и вам хоронить”. Другой парень перебил меня: “Мы не знали, нам сказали, что тут гуляйте. Что ж, мы можем и в другом месте.” Гармонист, чтобы не сдаться сразу, брал еще на гармонике такты, но все замедленнее и тише. Девушка, которая смотрела на меня сначала как злой зверек, отвела глаза и задумчиво утупила их на соседнюю могилу. Другие тоже оглядывались, как будто только сейчас осознав, что они среди могил и что есть в мире смерть и горе.
7 июня
“Я – плохая актриса, вы – плохая писательница (в глазах таких-то людей)”, – со смехом сказала однажды Н. С. Бутова[54].
Она была хорошая – и очень – актриса. Но я плохая, вернее, никакая писательница.
Мне было 29 лет. Зинаида Венгерова[55] сказала мне: “Вам необходимо переехать в Петербург и стать заправским литератором”. Меня ужаснуло это слово – заправский – и эта перспектива. И я стала по-прежнему кружить по свету.
8 июня
Сколько энергии тратит человек на обслуживание телесных нужд! Довольно проследить утреннюю жизнь нашего муравейника (на Зубовском бульваре)[56]. Плеск в ванной комнате, шум водный у кухонной раковины. По коридору – оживленная кадриль нечесаных людей с полотенцами, с кофейниками в руках, в прихожей – меновой торг с молочницей: “На селедки меняете? А на хлеб? На папиросы?”, “Давай за три пачки две кружки солью…” У газовой плиты встреча локтей, горящих лучинок (из экономии вместо спичек пользование огнем соседа), наступание на ноги друг друга, кипячение, подогревание, разогревание. Если бы десятую часть этой энергии человек тратил на работу духа и на то, что составляет жизнь его души, как видоизменилось бы лицо жизни (кипячение пусть бы осталось, но без перевеса в свою сторону).
Вот я сказала: “Кипячение пусть бы осталось”. Но не вся ли беда в том, что по условиям своим оно (особенно в наше время) экзальтирует и поглощает силы почти без остатка. Но есть и другая причина. Почему “четыреста” – 400 лондонских миллиардеров в романе Синклера[57], сотнями слуг и всяких приспособлений освобожденные от забот физического порядка, всю душу свою вкладывают в еду, питье, флирт и спорт. Да и на всем свете так. У американцев только бросается в глаза чудовищный размах выдумки в сторону служения плоти (обеды для горилл, одетых в смокинги, стрельба фазанов, разжиревших в парках до того, что у них потеряна способность бегать, ванны из драгоценных эссенций, кружева, которые плетут в сырых подвалах, потому что в сухом воздухе слишком тонкие нитки рвутся). Лишь у отдельных особей ось сознания проникает так же глубоко в потребности духа, прислушиваясь к ним, будя их и заставляя их расти, как это, случается, бывает с потребностями плоти, когда сознание всецело занято ими. Редко кто бывает духовно голоден в такой степени, как телесно, чтобы, забыв обо всем остальном, предаться духовному насыщению или пуститься в поиски за ним мимо всяких других целей. “Как олень желает на источники водные”[58]. “Духовной жаждою томим…”[59]. Это желание, это томление кроме пророков ведомо и нам, “чадам праха”. Но у нас оно далеко не постоянное, не определяющее нашу жизнь состояние. В массах же человеческих, в большинстве “народонаселения” земного шара этот запрос так слаб и поверхностен, что его вполне удовлетворяет религиозная традиция. А когда она выпадает, чувствуется лишь удовольствие от упавших запретов…
15 июня
Менингит. В какой нежданный и ужасный застенок привела жизнь Лилю, Лиленьку, Лолиточку[60]. Мыслю ее почему-то не 35-летней женщиной, а семилетней девочкой, горько плакавшей однажды в своей постельке от мигрени и просившей меня: “Горенька, Гореночка (так звала она меня, исходя от отчества моего, – Григорьевна), держите крепче голову мне, еще крепче, Гореночка, дорогая вы моя”. Верится, что было бы легче ей, если бы я и теперь подержала ей голову. Но между нами расстояние в 50–60 рублей, которых нет у меня. А. В.[61] вчера утешала меня тем, что страдания нужны Лиле, что они от Бога. Все, все “от Бога”, но ведь существуют же в православии ектеньи “о недугующих, страждущих”, акафисты, молебны на все случаи жизни. Значит, считается оно с болью души, пораженной несчастием близкого или своим. И меньше всего уместен вопрос о “нужности” страдания у дверей застенка, где предают жестокой пытке дорогого человека (и просто – человека). Пусть эта мысль придет утешать потом. У дверей же застенка нужно рыдать и просить, чтобы выпустили. Или с минуты на минуту в бодрственном напряжении нести бремя тех же мук (тогда уже смея сказать “Тебя, Господи”). Менингит. Судорога не дает пошевелиться шее. В мозгу работают орудия пытки. Подкрадывается древний вопрос о тех 18-ти, которых задавила Силоамская башня[62]. За что именно их? Ответ на него один – любовь к девушке и Богу.
“Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”. Л. Шестов.
16 июня
Может быть, по сочувственному опыту – отражение Лилиного менингита – у меня так сильно болит голова, что не знаю, куда девать себя. Худов постели. Не помогает горячая бутылка. Попробую писать, иногда это помогало мне заглушить боль. Но пусть пишет сама рука. Голова отказывается в этом участвовать.
…От менингита умерла сестра моя Маруся, 7 лет. Она жила в Воронеже, я – в Киеве. Мать едва не сошла с ума. Подходила к каждой девочке ее роста, надеясь, что “а вдруг это Маруся”. Поехала в Царицын (ни одной души знакомой там не было) и бродила по замерзшей Волге. Потом приехала ко мне в Киев (мне был уже 21 год, я работала в полуфантастической партии – осколок народовольцев-террористов 1881 года)[63]. Рассказывала о последних днях Маруси. <…> Маруся была прелестный ребенок, из тех, на которых заглядываются прохожие на улицах. Глаза – наследие матери (мы с сестрой Настей – в отца) – гранитно-серого цвета с длинными черными ресницами, брови тоже черные, тонкие, длинные, изящного рисунка, а волосы светло-золотистые. И вся она была хрупкая, изящная, грациозная, в породу материнских предков. Была красивее нас всех, ближе нас всех к матери и раньше всех покинула ее. И нужно было, чтобы с матерью осталась до ее конца только самая чуждая ей по душевным свойствам и самая худшая из всех детей дочь (я).
18 июня
История одной жизни – (конспект биографии, которая не будет написана)[64]
15 лет – “хорошенькая” гимназистка. Хвост ухаживателей-гимназистов, кадетов. Влюбленность – несчастливая – в студента, именно в такого, который не был в нее влюблен. Рискованные поступки (“я пришла к вам, как Елена к Инсарову”[65]). Насмешливое отношение его и близких ему товарищей. Ожесточенные насмешки матери (жили вдвоем с матерью-вдовой).
19 лет. Курсы, партия. “Служба связи” (“в дождь, без зонта, без калош месишь грязь где-то за Пулковом, не знаешь, что в руках – бомба или просто книги, ночи не спишь, ждешь обыска, голодаешь”). До политики никакого дела не было, но хотелось “смысла жизни” и геройства. При этом – велик был страх тюрьмы. Начиналась уже мания преследования. Доктор отослал к матери в Киев на поправку.
20 лет. Ухаживание сильно пожившего неврастеника, богатого человека, 38 лет, владельца типографии[66]. Обещание с его стороны что-то устроить для рабочих, для партии[67]; обещание фиктивного брака и т. д. Замужество. Соблазн нарядов, головокружительного успеха у мужчин. Когда входила в ложу театра, множество биноклей устремлялось в ее сторону и в фойе раздавался шепот: “M-me K., M-me K. Боже мой, что за красавица”. Стала красавицей – редкой, поразительной. Воздушность стана, мраморность лица, при сильной, точно накрашенной, алости прелестного рта, льдистая синева глаз и сказочно обильные пепельно-золотые кудри, в которые можно было завернуться, как в покрывало. Неприступный – даже нечеловеческий облик – Горный Дух. Глубокий, глуховатый, нежный голос – точно издалека идущий. Была и поза. Театрализация своей жизненной роли, парадное несение своей красоты. Но была и детская доверчивость (ко мне, например, – я старше ее была на 8 лет), и ученическое обожание в мою сторону, и растерянность от нового положения, и тоска о любви.
Встреча с известным писателем-философом[68] – взаимная влюбленность (в первый год замужества). Его ссылка в Архангельск[69]. Она бросилась к нему – муж не препятствовал – по благородству и неврастении (устал от ее метаний, неудовлетворенности и от самой КРАСОТЫ ее). В Архангельске пробыла только три дня – все обсудив, решили там, что не в той стадии любовь, чтобы соединять жизненные пути. Приехала печальная, разочарованная, с чувством пустоты жизни. Стала мечтать 0 театре, о театральной карьере – муж отпустил в Петербург, в театральную школу. Там пленила целый ряд лиц своей красотой. Бальмонт, Минский писали ей мадригалы. Но почему-то она осталась там холодна ко всем. А вернувшись в Киев, по злому выражению своей матери, “влюбилась в сиреневые панталоны”. Поляк, аристократ, прожигатель жизни в театральной среде – красотой ли, изяществом манер или равнодушием к ее красоте сразу покорил сердце Наташи – вернее, разбудил в ней первое в ее жизни страстное, женское влечение к мужчине – к мопассановскому bel-ami[70]. Может быть, он согласился бы на флирт, на легкую связь – но его испугало исступленное, открытое обожание, каким, потеряв голову, Наташа окружила его. Он был груб, не отвечал на записки, говорил публично дерзости. Однажды она стала на колени у его подъезда, когда он выходил (дом стоял в саду). После одного из оскорблений с его стороны Наташа отошла от него, разбитая нравственно. Муж, то негодовавший, то жалевший ее, ничем не мог помочь ей.
24 года. Приехал в Киев философствующий критик, замечательно плюгавый человек[71], ростом с тринадцатилетнего мальчика, но опьяненный своими мыслями, искренно считающий себя гениальным писателем, кроме того – пророком, призванным “глаголом жечь сердца людей”. Он попал в гостиную Кульженко и скоро загипнотизировал пленившую его, тоскующую без дела и без любви красавицу, внушил, что она только его и ждала, что они – “вечные спутники”, что она его Мадонна и т. д. И увез ее от мужа. В Петербурге они бедствовали.
Четыре года она протомилась в жалком номерке на Пушкинской улице[72] (от мужа избегала брать денежную помощь).
Мать ее рассказывала: “Приезжаю, а моя дура сидит с ногами на кровати – башмаки в починке. С поджатыми ногами ест размазню. Я говорю: признайся, это весь твой обед? Отвечает гордо: конечно. Входит Волынский, со мной и не здоровается, не замечает, лицо сумасшедшее. – Наталья Николаевна (к ней)! Знаете, что я понял сейчас? Что я – царь иудейский! Моя дура – хлоп размазню об пол, а сама на подушки. Обморок. Я начала его честить. Как только я одна умею. Все высказала. А он – что ж бы вы думали? Улыбнулся и говорит:
– Вы еще не родились, Юлия Владимировна. Как же с вами разговаривать?
Это я-то не родилась – в 66 лет!”
28 лет. Наташа вернулась к мужу, устав голодать в Петербурге и разочаровавшись в своей роли – а может быть, и в своем пророке. Муж устроил ее в местном театре. Она сыграла красивую сумасшедшую девушку в какой-то пьесе Юшкевича[73] Потом эврипидовскую Артемиду[74]. В этот день – на Масленицу – у нее хлынула горлом кровь. Оказалось – туберкулез, и уже запущенный. Начались скитания по курортам Ривьеры и Швейцарии. Муж время от времени навещал ее, звал вернуться в Киев, где за столом его всегда ставился прибор для жены и перед прибором – цветы. Но была уже связь с молоденькой евреечкой, маленькой актрисой[75]. Когда Наташа наконец надумала вернуться, заместительница ее готовилась стать матерью, прибор и цветы уже не ставились перед креслом отсутствующей жены – и муж сказал, что уже поздно. Что он готов помогать, но жить вместе не придется. “Живи с матерью. Я буду давать на содержание. А тут, ты видишь, хозяйка уже Полина”. Подошла революция. Состояние мужа пошатнулось – потом и совсем рухнуло. Помогал он мало. Началась жизнь, полная одиночеством, болезнью и лишениями. Все прежние друзья охладели за годы заграничных скитаний Наташи, забыли ее и, вспомнив, не узнавали в растолстевшей, хотя все еще красивой женщине, близкой к сорока годам, ослепительно прекрасного горнего духа прежних лет. Не было даже переписки с друзьями (хотя Наташа была очень литературна и превосходно владела пером в области писем, и друзья, большинство, были литераторы).
Она сделала еще одну попытку (перед революцией) постучаться в Художественный театр – но ей здесь также сказали: поздно. Последние годы жизнь ее была лежачей. Она много читала философских книг, перечитывала великих писателей в художественной литературе, интересовалась религиозными вопросами, томилась тоской по Италии, раскаянием о том, что уходила от мужа. Радовалась его приходам (суровым и редким), как безнадежно влюбленная девушка. Пережила свою мать. Умирала одна – с горничной соседнего дома, принесшей ей кисель. Последние слова ее были (обращенные к этой горничной): “Приласкайте меня, Лиза”.
23 июня
Биша[76] сказал: “…ведь Блок совсем оглох последние годы, говорил: ничего не слышно, а вот Мейринк говорит, что «никогда в мире не было столько оглушающей музыки»”.
Я хотела бы знать, отчего Блоку, поэту “Божьей Милостью” не дано было сквозь толщину современности слышать то, что “единый от малых сих”, Мирович, слышит непосредственно из первоисточника Слова– Звука.
Да, но где же все-таки я была весь год? Я ведь не распылилась. Я даже худо ли, хорошо ли, но “собралась”. Может быть, не очень крепко, но собралась. Не есть ли это прорастание умершего для Красных ворот пшеничного зерна по другую сторону, куда сознание еще не смеет, не имеет права проникнуть.
Если это ростки иной жизни, то как они еще хилы, как ненадежны. И как я не умею ими жить. Мне бы нужен “Гуру”, такой, какой снился однажды. У него была такая реальность власти во мне, такая трепетная живость касания к душе моей. Но беда моя (а может быть, это и хорошо), что я ни в какого Гуру для себя уже не могу на этом свете поверить.
30 июня
Сейчас проходя мимо, точно в первый раз увидела на фронтоне бывшей Городской думы на красном кумаче слова: “Революция есть вихрь, сметающий со своего пути все, что ему противится”[77]. Обывателю, может, не нравится, что вихрь унес его привычные удобства, его любимые книги (как “противящиеся вихрю”), любимые игры и занятия. Обыватель прав, трижды прав в своем ужасе, в скорби своей, когда вихрь удушает и бесследно уносит любимых людей. Но ему не на кого роптать, некого проклинать. Не странными ли показались бы нам проклятья самуму, засыпавшему в Сахаре караван, или землетрясению, разрушившему до основания Мессину? Скажут: там не в людях причина, там циклон или хтонические силы. Вот этой аналогией и поразился сегодня мой ум. Я и раньше так думала – в моем стихотворении “Революция”, это записано лет пять-шесть тому назад. Но сегодня эта мысль из мимолетной лирики не привыкшего размышлять на социальные темы мозга превратилась в крепкий кристалл сознания. Стихия, циклон, Terremoto[78]. Люди здесь очень мало значат. Они делают ошибки, жестокости. Неизбежные, потому что свойственно человеку и ошибаться, когда вокруг все сложно и сумасшедше динамично, и быть жестоким, когда власть, положение властелина удаляет отдельных лиц и группы их на расстояние, где они уже цифры, отвлеченность, преграды “вихрю”. Неизбежно вертится в циклоне революции и та поднятая вихрем пыль и гниль столетий и разнузданных страстей, которая делает для нас, если мы не на фронте, таким отравным воздух жизни. Фронтовики (я не говорю о хулиганах, присосавшихся к революции, которым пыль и гниль – родная стихия), фронтовики-бойцы надевают противогазы. Они наполнены воздухом той страны, будущими завоевателями (а некоторые уже и строителями) которой они себя чувствуют. Наконец… к чему только не принюхивается чистый и верный своему долгу солдат в окопах. Вихрь сваливает храмы. Но разве нельзя построить новые, лучшие, если они будут нужны человеческому духу. А может быть, пришло время нерукотворных храмов. Не знаю, дохнул ли на меня воздух Kinderlan’да[79] с надписи о вихре или совпало прочтение ее с тем, что в этот миг сложились те же строки в глубине сознания. Но так ясно мне сейчас, что вихрь, который и у меня унес многое, – очистительный, что он пронесся в полосе, где не будут разрушены высшие культурные ценности, что угасить дух нельзя.
14 июля
Разбирала старинные письма – уцелевшие листки и полулистки писем Льва Шестова. 1896-й, 1897-й год. XIX век! Помечены – Рим, Базель, Берн, Париж, Берлин. Годы скитаний и лечения после жестокого столкновения наших жизней: своей, сестры Насти и его, где все потерпели аварию, одно их тех крушений, от которых нельзя оправиться в течение одного существования. Сестра вынесла из него неизлечимую душевную болезнь, которая длилась 18 лет. Я – утрату руля в плавании по житейскому морю и ряд великих ошибок. Уцелел, то есть стал крупным писателем и не прервал дела своей жизни – философствования – только Лев Шестов. Но в этом уцелела только одна часть его души. Самая главная, интимная, глубинная, которой он был обручен мне, осталась обескровленной, беспочвенной, бездеятельной. Все это ясно только теперь, издали, в дни итогов. Временами и раньше казалось, что это так. Но потом душа забывала, где она дала жизни перерезать питавшую ее артерию. Из гордости забывала. Из безнадежности. Я убеждена, что во святая святых Лев Шестов о том, что я тут пишу, думает то же, как и я. Но легко представляю себе, что он отрекся бы от меня перед лицом жены, детей, друзей. Не столько из моральной трусости (есть и этот элемент), сколько из болезненной мимозности, из величайшего целомудрия по отношению к своему внутреннему миру.
20 июля
Большая часть писем Льва Шестова сгорела во время общероссийского пожара в 1918-м году. Уцелели разрозненные клочки. Самые ранние из них, киевские (я гостила в Воронеже), полны кристально-прозрачной, солнечно-щедрой любви и заботы. Я не умела ценить их в те дни. Неопытное сердце, еще не заживившее недавней раны своей фантастической и безнадежной любви (к доктору П.), не понимало, что настал час его обручения. Чувствовало в религиозном порядке важность этой встречи, но прислушивалось в ней только “к философии и литературе”, пугалось всякого намека на возможность брачного характера отношений. Термин “философия и литература” как характер нашего общения зародился в те дни от случайно подслушанных слов маленького шпиона, гимназиста Юзика, который по соглашению с любопытствующей немкой бонной взялся проследить, о чем мы говорим целыми днями. Немка завистливо и ревниво возмущалась. “Wo ist die Fräulein, da ist der Bruder, wo ist der Bruder, da ist Fräulein”[80]. Я была тоже на положении бонны, но более квалифицированной в миллионерском доме сестры Л. Ш. И ревность немки относилась не к тому, что “sie sind beide verlobten”,[81] а к тому, что я из бонн могла попасть на высшую, недоступную ей ступень социальной лестницы. Подкупленный вареньем и другими лакомствами (немка была также и экономкой), Юзик то и дело вырастал из-за кустов над нашими головами, когда я гуляла в парке или в лесу с детьми и с Bruder’ом. Вскоре ему это надоело. И он громко признался в безрезультатности своего шпионажа. “Когда ни подойдешь к ним, только и слышишь философию да литературу”, – жаловался он. Ницше, Толстой, Достоевский, Шекспир были нашими ежедневными, неубывными темами. Лирическая же область наполнялась только пением. У Льва Шестова был обаятельного тембра голос и высоко артистическая манера пения. Он готовился перед этим к карьере певца и часто говорил потом, что променял бы на пение свое писательство, если бы не пропал голос (для сцены, камерным певцом, он мог бы оставаться и при изменившихся голосовых средствах). Лев Шестов пел из “Риголетто”, из “Джиоконды”, из “Севильского цирюльника”, шаляпинские (и не хуже Шаляпина) “В двенадцать часов по ночам”, элегию Массне[82], “О поле, поле, кто тебя”, “Ты одна, голубка Лада” из “Князя Игоря”. Были письма в короткий момент, когда я пошла навстречу обручению, где он называл меня Ладой. Тогда это слово не пробудило во мне ответного трепета. Теперь, когда мне 62 года, оно как ласка, коснулось души. Потому что, если бы мы прошли жизнь в той степени духовного единения и в той любви, возможность которой я услышала в себе через 15–16 лет после нашей первой встречи, и теперь, в 62 года, он мог бы называть меня именем Лады. Потому что ни с кем в мире не была моя душа в той степени радостного, творческого и гармонического единения, как с ним. В то же время, очевидно, прав был инстинкт, отводящий меня в дни молодости от физиологической стороны брака. И брак мой с Львом Шестовым, если бы суждено нам было пройти через него на этом свете, должен был бы остаться неподвластным гению рода, бесплотным, бездетным.
Беда в том, что я до сих пор конгломерат. Что не сделан выбор высшего организующего “я”. Известен. Намечен. Но не притекают все силы к организующей работе. Сохранена автономия целого ряда низших “я”: младенца, которому нужны только игры, созерцателя, которому достаточно смотреть, понимать, поэта – гуляки праздного, лентяя, которому дороже всего нирванический покой и все равно, что с ним будет.
22–23 <июля>. Ночь
На смертном одре Лиля. На крестном пути Матушка Дионисия[83]. На скользкой тропинке над пропастью Женя[84]. И все-таки – купаешься, заинтересовываешься тем, в каком саду подешевле продают вишни и малину. Болтаешь с детьми о пустяках, радуешься закатным краскам, запаху скошенной травы. Что это? Эгоистическая решимость не упустить своего и отсюда навыки переключаться, закрывать глаза души, затыкать уши? Или глубинный инстинкт самосохранения, так как сознание, вероятно, не вместило бы напряжения, нужного для того, чтобы все время смотреть на страдания или опасность дорогих лиц и на свое горе? Или только дневное сознание знает эти передышки? В ночном же мы помним все обо всех и обо всем. И недаром, проснувшись ночью, как под лучом прожектора и в каком-то гигантском виде встречаешь образы Несчастия и какую-то свою ответственность за него.
Спрашиваю себя: что меня тянет к этой тетради? За что я полюбила беседы с ней? Тут есть, конечно, один из элементов творческой, литературной работы, которой я давно лишена и к которой у меня всегда был запрос. Есть сладко-горькая радость загробной беседы с любимыми душами – Сережи, Ольги, Вадима[85]. Может быть, Жени. И еще кого-нибудь из друзей, кому это будет чем-то нужно. Но нет ли также и тщеславия? Желания обелиться, представиться в приукрашенном виде посмертному читателю? Как я этого боюсь! И не могу поручиться, что не прокралась где-нибудь струйка этого мотива.
28 июля
Молодой мечтатель, юный друг мой, Даниил Андреев сидит в Трубчевске[86], а душою то и дело пребывает в Индии. Уверен, что попадет туда не позже, чем через пять лет. В сегодняшнем письме прислал такие стихи, посвященные его прародине:
Уйду от мертвого колодца В твои певучие деревни; Над чашей голубого лотоса Прочту века во взоре древнем. Под вечно ласковыми пальмами, В цветах невиданного счастья, Ночами Индии хрустальными Переберу твои запястья. В утихнувшего сердца заводи Да отразятся – в час отрады — Подобно золотистой пагоде Бесплотные Упанишады. И душу золотыми петлями Завяжут мудрецы и дети, Чьим голосам внимают медленным Из сумрака тысячелетий.Обнадеживает меня, что я прочту его книгу об Индии, книгу, которая появится через десять лет. “Вам тогда будет всего 72 года. Живут ведь и дольше”.
10 августа
Сегодня в ночь Лиленька освобождена от мучительной болезни и от уз плоти. Мир ее чистой душе!
13 августа
Прах твой, дорогое дитя мое, Лолиточка, еще не предан земле. Но милые так доверчиво и детски-лукаво улыбающиеся глаза твои, но косы твои, но лилейно-нежные твои руки, полные такой одухотворенной прелести, все, что было земной формой твоей, – уже прах. Как трудно это понять, как трудно будет к этому привыкнуть.
Я хочу сегодняшнюю ночь побыть с тобой, хочу поднять твою жизнь, как чашу со священным вином, и смешать его со своей любовью и скорбью.
Конец. О, я знаю, что это также и начало. Но когда знаешь, что уже завтра вырастет холмик могильной земли над дорогим существом, трудно обойтись без надгробного рыдания.
Ты жива в Боге. Жива и в нас, в тех, кто любит тебя, но голоса твоего мы не услышим. Не увидим лица и улыбки твоей. Вместо них будет холмик и над ним надпись о дне, когда зарыли под ним все это, что называлось Тобою.
О, да, я помню – только форму, только прах зарыли. Но мне нестерпимо больно, что это случилось раньше, чем я перешагнула этот порог.
…Тебе шесть лет. У тебя тугие розовые щечки, розовое платье, розовые туфельки, пышные орехового цвета локоны и золотые крылышки за спиной. Детский бал-маскарад в богатом еврейском доме С. В. – фабрикант-философ[87], подвел тебя ко мне: “Как вам нравится эта бабочка?” Ты посмотрела на меня с той же улыбкой, как через 29 лет после этого бала, в нашей последней встрече четыре месяца тому назад. Радостно и умно, доверчиво и лукаво. Эта улыбка говорила: “Я знаю, что на свете много смешного. И не только смешного. Но я хочу верить во все хорошее в человеке. И хочу, чтобы всем было хорошо”.
Через несколько дней твоя мать попросила меня присоединить тебя к нашим занятиям с Таней Лурье[88], дочерью фабриканта-философа. Ты была замечательным математиком в 8–9 лет и решала все задачи на бассейны и синие и черные сукна, которых я не умела решать. И всегда у тебя было столько много редкого в ученическом возрасте благородства и жалости к учителю, что ни одного раза ты не оконфузила меня перед Таней. Слышу твой вкрадчиво-деликатный голосок: “Постойте, Гореночка, это ваш способ, но я вот каким решила, хотите посмотреть? Тут, верно, два способа”.
Четверг – день чтения. Мифология Штоля[89], Дон Кихот. Вы с Таней прыгали от радости: сегодня мифы, мифочки.
В 9 лет ты с пафосом говорила наизусть шиллеровское “Торжество победителей”. В годы, когда у меня мучительно силен был запрос материнского чувства, вы с Таней заполнили то место в моем сердце, где была пустота без детского существования. В эти же годы развилась твоя дружба с Таней, за которую ваша немка сравнивала вас с Гектором и Ахиллом.
Вспомнился Кудиновский лес – ландышевые аллеи, кукушки, черника. Это был очень несчастливый этап моей личной жизни. И тем страстнее я привязалась к тебе в кудиновское лето, когда ты была отдана мне на попечение. С материнской нежностью заплетала я твои густые и длинные косы, радовалась твоей резвости и твоей привязанности ко мне.
Но были у тебя и философские запросы. Помню еще в семилетнем возрасте в красном капоте (который ты ненавидела), когда мы возвращались от Тани Л. бульварами, твои взволнованные тирады на богословские темы.
С 12 лет ты увлекалась театром. В гимназии тебе дали роль Елизаветы в “Марии Стюарт” на спектакле. Для своего возраста ты была великолепная Елизавета. Тебе очень аплодировали, а ты, убежав в раздевальную, горько плакала, обнявшись с Паулетом и с Марией Стюарт, которые также рыдали от слишком большого потрясения.
Не этот ли день решил Твой жизненный путь – через театр, который так много отнял потом у тебя и так мало дал. Помню, это было пять лет тому назад прекрасным осенним днем в Нескучном саду, когда мы шли в золотой полутени аллей и ты грустно, но с какой-то возвышенной простотой и спокойствием говорила: “Пора сказать себе, что твоя жизнь – неудавшаяся жизнь. И не делать из этого трагедии”.
А за десять лет до этого в ночь на Оке, в ожидании парохода на Тарусу, когда я доказывала Тебе до рассвета, что ты не актриса, что театр не твой путь, Ты до слез горячо отстаивала свой выбор, и не уступила, и пошла. Так было суждено.
На этом же пути повстречались и те люди, которые, задев самые интимные, самые важные струны твоей души, ответили на них, как может ответить бесструнная балалайка.
Я не знаю ни одной женщины, к которой мужчины относились бы в такой степени нечутко и грубо-эгоистично, в такой степени игнорируя запрос женского сердца, женской природы, как это было в твоей судьбе. Это они называли товарищеским отношением. И столько было у тебя чистоты, гордости и глубоко человечного и матерински нежного к ним прощения, что и после того, как они ранили Тебя своим “невидением, неслышанием и непониманием”, ты не лишала их своей дружественности и, спрятав глубоко горечь и уязвленность, продолжала без натяжки свою роль прекрасного товарища.
Лишь изредка вырывалось, как стон долго заглушаемой боли, признание в письмах ко мне: “Женщина, у которой нет ребенка, не может не считать свою жизнь проигранной. Все те же Х и У (два человека, близко подходившие к жизни ее) и, наконец, вместе, в одно время в Ленинграде, и каждый рассказывает мне то, от чего я бежала из Москвы”. Или: “Когда женщине за 30 лет, она должна хоть искусственно изменить жизнь, а не жить с папой и мамой”, “в Москве уже потому трудно жить, что там семь племянников и ты – прежде всего тетка, и это лишь напоминает, что ты не мать и уже никогда ничем не будешь, кроме тетки”. Это отнюдь не исключало твоей нежности к семи племянникам и заинтересованности всеми сторонами их жизни.
Не случайно в этом скорбном памятном листке, хотя я пишу в Твою последнюю ночь на этом свете, мой драгоценный Лолитик, я пропустила твое крещение. Не случайно я до настоящей строчки не вспомнила 0 нем. Я знаю, что предшествующий крещению год был важным в Твоей жизни, что общение с Флоренским[90] в свое время много тебе дало. Но я видела потом, как чужда тебе церковная жизнь, путь церковника. Поскольку Твоя душа во многом от природы – христианка, она таковой и осталась. Но в частности ортодоксальное оформление душевного пути для тебя оказалось невозможным, о чем ты неоднократно беседовала со мной – то с богемной беззаботностью, то с легкой грустью, то с философской и безжалостной к себе объективностью.
Таинственны посмертные судьбы. Но верится, что честность, искренность и все добрые порывы твоей души и великие твои предсмертные страдания привели Тебя в “место светло, в место злачно, в место покойно”, о котором поется в православном чине погребения…
22 августа
Из Даниного письма:
“…Тут была одна ночь, проведенная у костра, гораздо более значительная, чем ночь на Ивана Купалу, о которой Вам писал. Река Нерусса – одна из тех, что, по легенде, орошала рай[91]. Почти таитянская гармония, хотя и другая по тонам. Спутники мои уснули, и я один бодрствовал у костра и просидел всю ночь с первой затеплившейся звезды до последней погибшей. Ночь была божественная – другого эпитета не может быть – и развертывалась, как мистерия со своим финалом – закатом луны, полным необыкновенного трагизма.”
Как дорого мне это двадцатипятилетнее дитя (Даниил). Кого мы знали четырехлетним, тот и в 40 будет для нас “дитя” в каком-то смысле. Душевная ткань таких людей в нашем представлении нежнее, чем у других; все, что они делают, будит в нас особый интерес, как если бы мы присутствовали перед чем-то новоявленным. И труд, и достижения таких людей хочется оберечь, облегчить, поощрить.
3 сентября. Москва
Добровский дом[92] (странноприимница для одиноких скитальцев, душевный санаторий для уязвленных жизнью друзей и нередко “дача Канатчикова”[93] – для самих членов дома). Редко человеческие фамилии так соответствуют смыслу того слова, от которого они происходят, как фамилия Добровых. И не от слова “добрый” она в данном случае, а от слова “Добро”. В доме от стародавней традиции теплого гостеприимства и от навыка сочувственного отношения ко всякой окружающей беде и живого интереса к судьбам друзей образовался стойкий флюид человечности и бескорыстной, активной дружественности. Разнообразные горести, усталость, нервы всех членов семьи не мешают попадающему в атмосферу этого дома ощутить себя в теплой целебной ванне и уйти согретым и размягченным.
Вспомнились слова сверстницы моей Л. Я. Гуревич[94]: “Решительно нет ничего на свете, что было бы мне легко. Начиная с тех вещей, какие считаются отдыхом, нелегко лежать, нелегко сидеть, труден даже приятный разговор, трудно даже самое интересное чтение…”
Какая огромная нежность у меня к друзьям. В каком праздничном осиянии рисуется каждая встреча. А будет иначе. В празднике встреч нужно сотворчество. Мне же только Ольга (в Москве) будет по-праздничному рада. И еще, если бы была вправе, – Женя. И Даниил, если бы не был в Трубчевске.
3 тетрадь 20.9-23.11.1931
20 сентября. Киев
Днепр, длинный мост. Как всегда: усi зачиняйте окна! В окно видны горы – вправо от них низины Подола. Вечерние огни города как вспышки памяти из ночи прошлого, световые значки отошедших в вечность дорогих жизней. И моего детства, моей молодости. Украинская речь – интонации песни, смеха, юмора и резонерства. Или равнодушной и высокомерной тупости. Взволнованное лицо старого друга – некогда Нилочки Чеботаревой, потом Л. Н. Тарасовой (душевная связь с 7 лет). Купель освежительных, обновительных воспоминаний детства, юности, всей жизни. Старики, живущие далеко от мест, где прошла первая полоса их жизни, должны непременно попадать в эти места, чтобы отчетливее спаять кольцо сознания – от первых предутренних проблесков его до последних лучей заката.
Так велика была потребность души пройти сегодня с Сережей по этим полупустынным печерским окраинам, по этим улицам и площадям, где я ходила в детские годы. Было даже минутами такое чувство, что он идет рядом, и я мысленно говорила ему:
– Вот здесь было приходское училище[95], куда меня отдали восьми лет. И был у меня расшитый розами “саквояж” для книг и тетрадок. А в нем кроме книг лежал стеариновый кролик – величиной с мизинец. Величайшая драгоценность, хрупкость которой я сознавала и потому не решалась оставлять его дома, где были малыши 5-ти и 3-х лет – брат Миша и сестра Настя, жаждавшие овладеть моим сокровищем. И в первый же школьный день кролик погиб под “Родным словом” или “Задачником” Евтушевского, гибельности чьего соседства для стеариновых свойств любимого существа я не предвидела. Было утешение: за 10 копеек купить такого же кролика. Такого же! И в те годы, как всю жизнь, мне было недоступно утешаться заменой чего бы то ни было, мной утраченного. Всё, как и сейчас, ощущалось как неповторимое и незаменимое.
…А вот, Сережа, – “плац”, за ним – видишь – валы[96]. Они еще совсем зеленые. И такого цвета зелень только в Киеве, в стране моего детства. И такой голубоглазой, ясноглазой, божественно прозрачной лазури, как в здешнем небе, нет во всем мире. Сквозь эту лазурь просвечивают ангельские крылья и лик Христа, благословляющего детей, как в “Родном слове”. И еще что-то неназываемое, упоительно-прекрасное, тайна, которую потом душа старалась уместить в словах: Истина, Красота, Любовь.
Под этим небом, на этих валах росли весной фиалки. Как жаль, что теперь не весна! Такого фиолетового цвета нет ни у одного цветка, кроме киевских фиалок. Он темен, таинствен – никакая голубизна незабудок не сравнится с ним. И аромат этих фиалок родствен лилиям Благовещения.
…Там, направо, в круглой крепости была Прозоровская церковь[97]. В ней стоял под стеклянным колпаком сосуд, где хранилось сердце князя Прозоровского. И была на металлической урне надпись: “Будь верен до смерти, и дам тебе венец живота”.
В этой церкви на Троицын день щеголеватый, лысый, с кудрями у висков священник в голубой муаровой рясе раздавал букетики роз, жасмина, пионов и нарциссов с серебряной травкой, окропленные святой водой. Церковь была вся в березках. На полу – мята, кануфер, любисток. На голове у меня красовалась белая шляпа – “пастушка” с синей лентой. Новая. В руках букет – самый желанный с полурасцветшей розой. Батюшка мне улыбнулся. Певчие пели что-то ангельское. В окне пыльно золотились лучи майского солнца и указывала надпись: “Будь верен до смерти”.
Это было преддверие райских радостей.
А вот и Большая Шияновская – улица, на которой я родилась. И дом, и двор уже другие. Но так же выходит на Малую Шияновскую[98] забор, на котором мы, попирая все запрещения, висли каждый раз, когда раздавалось “святый Боже, святый крепкий”. По Малой Шияновской часто проносили покойников на Зверинское кладбище[99]. С головокружительным любопытством и с ужасом смотрели мы на желтые и бело-восковые лица, силясь постигнуть, что такое произошло с ними, всем существом возмущаясь против закона смерти. Эти покойники вплетались потом в наши сны, от которых мы просыпались в холодном поту: они приходили обедать с нами (все такие же восковые, с закрытыми глазами), оказывались спящими, прислонясь к нам, на наших кроватях, ловили нас по темным закоулкам. На 9-м году, проникшись идеей воскресения мертвых[100], я решила заняться делом воскресения. Без тени сомнения в своих силах и правах. Я обещала осиротевшей двоюродной сестре Маше, что весной, как только можно будет пройти на кладбище, я воскрешу ее мать. Когда я услыхала от бабушки, что только Христос и немногие святые творили такие чудеса, я решила прибегнуть к чудотворному кресту с частичкой мощей, который хранился в нашем кивоте. И велика была горечь моего недоумения, когда взрослые мне разъяснили, что и чудотворный крест тут не поможет и что вообще чудеса были раньше, а теперь “давным-давно уже никто не воскресает”.
Коротенькая Шияновская вывела нас на рыночную площадь. Отсюда мать приносила нам раскрашенных фуксином мятных петушков с позолоченной головкой и артистическое кулинарное достижение печерских торговок – жареные пирожки с горохом и с кашей – копейка за штуку.
На площади стояла дегтярная лавка. Ее черный вид, тяжелый запах и одноглазый продавец, весь перепачканный дегтем, внушали мне страх не меньший, чем гуси, которые часто разгуливали около возов с овсом, стоявших недалеко от лавки.
Однажды обуяло меня желание добрых дел. На этом рынке я купила большой хлеб у солдата, продававшего излишки своего хлебного пайка. Деньги же для этой цели я собирала три или четыре дня. Это были пятаки, полученные на завтрак и припрятанные в копилку – жестяной домик с зеркальцами вместо окон. Было мне тогда уже 10–11 лет. Доброе дело началось с того, что солдат, просивший за хлеб гривенник, уступал его за 8 копеек. А я вмешалась и сказала: гривенник – это дешево. Вот вам 15 копеек (солдатское житье нам в детстве казалось очень несчастным).
– Чи ты, дивчина, сказылась (с ума сошла), – сказал и даже сплюнул. Но добавочный пятак взял, пожимая плечами. Энтузиазм добра сильно уменьшился во мне после этой сцены. И совсем потух, заменившись обидой и стыдом, когда с огромным хлебом под мышкой я начала скитаться по базару, невпопад предлагая его женщинам, которые казались мне бедно одетыми. Одна из таких хозяек спрашивала: – Сколько ж ты за его хочешь? – и с тем же оскорбительным недоумением, как солдат, пожимали плечами и отворачивались от меня, услыхав, что мне не надо ничего. Другие высказывали мысль, что я этот хлеб “дэсь” (где-то) сперла. Десятифунтовый хлеб оттянул мне руки, я не знала, что с ним делать. Напрасно отыскивала глазами нищих, которых не оказалось нигде поблизости. Кончилось тем, что я в отчаянии почти насильно всунула эту ковригу в кошелку какой-то старухе, которая протестовала в ответ на мое бормотание: это вашим курам… или, может быть, поросенку. У нас были куры. Но я предвидела общее удивление, смех и, кроме того, расспросы, откуда деньги, если бы я ни с того ни с сего притащила такой хлеб домой.
Но не довольно ли на сегодня. Эти прогулки по стране, “где я впервые вкусила сладость бытия”. Впереди прогулок будет еще много в течение месяца, который я думаю прожить здесь, под небом моего детства…
Я знала, уезжая, что здесь меня ждет нечто важное. Это важное – опыт новой ступени сознания. Почти непрерывно я живу сразу во всех слоях моего детства, юности и молодости. И одновременно в судьбах смежных, близких мне жизней.
24 сентября – 4 октября
…Рано утром в переднюю с шумом ворвался старый коммунист З.[101], знавший тарасовскую семью еще во время молодости родоначальников ее.
Родоначальница спала на складушке у самых дверей. Увидев ее высунувшуюся из-под одеяла голову, З. закричал на весь дом:
– Леонилла, здравствуй, или не узнаешь? Скрываемся! – собирает материал для истории той партии, где смолоду была “Нила Чеботарева” и я. Лицо азефовское[102] – невпроворот каких-то лишних мускулов на щеках и на лбу, бегающие глаза, во всей фигуре стремительный натиск, в интонациях наглая развязность. Посидел у Леониллы час, взбудоражил в ней, отраженно и во мне, древние партийные воспоминания.
…Это было 43 года тому назад. Я сидела за прилавком в книжном киоске на станции Грязи[103], где мечтала накопить денег и поехать с одной из гимназических подруг освобождать заключенных из Карийских тюрем[104].
Этот план созрел после чтения книги Кеннана[105]. Но уже становилось ясно, несмотря на девятнадцатилетнюю желторотость, что денег, не только нужных для такого подвига, но и таких, на какие можно доехать до Кары, при 30 рублях жалованья не собрать и что Сибирь нам вдвоем с Лидой Б.[106] не поднять на защиту карийцев и на свержение ненавистного режима.
Неожиданно пришло письмо от Леониллы: “Есть дело. Есть люди”. В предшествующий год мы часто толковали с ней о необходимости “дела” и о том, где найти “людей”.
И я, бросив все, примчалась в Киев и попала в иезуитски строгую организацию, намеревавшуюся перевернуть весь существующий строй, начав с личного фанатического закала каждого партийца. Никакие крестоносцы не были так пламенно, безоглядно воодушевлены, как мы, женская половина нашей партии. Как неопалимая купина, мы горели с утра и до вечера, а то и всю ночь напролет жаждой отдать свою жизнь за “Истину – Справедливость”, за “прогресс”, за “всемирное братство”. По этим киевским улицам, где сейчас тащатся калечные трамваи, обвешанные гроздьями полуголодных, запыхавшихся от спешки и 24-часового рабочего дня ударников, мы ходили чинно с непроницаемым видом заговорщиков, не смея при встрече обменяться взглядом с членом своей партии. Но внутри нас шла такая же 24-часовая в сутки работа разрушения старого мира. Ради нее мы спали на досках, ели то, что было противно, лишали себя самых невинных радостей – театра, катания на коньках, “обывательских” вечеринок. И с мученическим экстазом приносили огромные жертвы: порывали все связи с родителями, с женихами, выходили замуж по указке главы партии. Чувствую ли я теперь связь между той своей “работой”, тем энтузиазмом юности моей и толпой ударников, заталкивающих меня на трамвае № 10?
Конечно, мы не так воображали себе послереволюционное время. Это была “слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение”. Но история всегда вносила во все мечты реальнейшие поправки. Она внесла этот ударный темп строительства, колхозы, пятилетку, каторжный труд, недоедание, недосыпание; она не позволяет читать то, что ты хочешь, писать так, как ты хочешь, она свела на нет все права личности как таковой, Человека с большой буквы, заменив его классом. Это повергло бы нас 40 лет тому назад в недоумение и скорбь, а может быть, обескрылило бы наши фантазии.
Но оттуда – к этому перегруженному трамваю – все-таки есть мост, по которому я вхожу беззлобно, вынося заталкивания и грубость. Пришли ударники, те, которых во время моей молодости жизнь заталкивала в топь невылазной нищеты и бесправности. Оттуда они принесли свою грубость – господствующий класс не гладил их по головке. И естественно, что на трамвае, как и повсюду, им хочется доказать “старым пани” и белоручкам-интеллигентам, что пора их царствования прошла. И конечно, они не могут поверить, что я вместе с ними рада, что у них есть рабфак и вуз, что они, а не “паны” – господствующий класс, потому что не может быть иного распределительного для благ мира сего принципа, чем принцип труда.
8 октября
Поеду через час в Лавру, в “музейный городок”[107], искать путеводитель для моего именинника. Наконец солнечный день, лазурно-золотой и такой теплый, как в зените московской весны. В воздухе реют стаи мелких молодых прозрачно-желтых листьев акации. Они появились на ней за последние два-три дня, но так обильно, что она уже почти золотая. А клены от вершины до низу великолепных апельсинно-лимонных оттенков. Тополь не хочет желтеть. Он просто сморщивает и покрывает ржавчиной свою блестящую зелень. Эти готики пирамидальных тополей я скоро не увижу. Да и увижу ли еще когда-нибудь? Это был, по всей вероятности, последний рейс старого корабля в страну моего детства.
В Лавре – великолепное сочетание архаически-величавой архитектуры, сияющих, как солнечные диски, массивных куполов, воздушного прозрачного золота осенней листвы лаврского сада, глубокой синевы неба и Днепра и окутанных голубой дымкой необъятных заднепровских далей.
Опять пережить удивительное состояние сложнейшего, но сконцентрированного в едином миге сознания: затворники “дальних” пещер, печенеги, половцы, плач Ярославны, юность матери моей (я прошла по той лесенке у дальних пещер, какой она ходила к ранней обедне 65 лет тому назад), судьба друга – моей Людмилы[108], с которой я провела этот лаврский день, и судьба той одинокой старческой жизни (74-летней Насти), которую приютил домик у дальних пещер, где мы обедали и пили чай.
На обратном пути – вид с бугра за лаврской стеной – часть киевского берега, громадные обрывы, холмы с лаврскими садами и постройками. Над Днепром линия берегового шоссе, за Днепром – полгоризонта Черниговщины, пространство, объявшее белые отмели и дымно-синие дальние излучины Днепра-реки, сосновые леса Дарницы и точно висящие в воздухе легкие мосты справа и слева. И над всем – бело-золотое видение лаврских храмов, ушедших в прошлое, в Древнюю Русь, как град Китеж в подводное царство. От этого вида не грусть и не радость, а торжественность смерти, залог нетления и обет преображенной жизни.
13–19 октября. Москва
Ферма Орлово-Розово близ Мариинска в Западной Сибири[109]. Барак на 40 человек. Нары там же, где спят, на стенке и под головами продукты – бедные дары близких. Долгий безропотный рабочий день. Надсмотрщики, удивленные добросовестностью и безответностью “черничек”, относятся более или менее человечно. От работы болит спина. От переутомления и недоедания оживают у более немощных и пожилых все недуги. Но это переносится терпеливо (крест!), и к врачу обращаются в крайних случаях. Пища – кило хлеба и приварок. Посылки – общая радость, как и письма, праздничные дни. Ночью спят вповалку, на нарах. По телам спящих суетятся крысы, добирающиеся до припасов. Таков обиход моей матушки Дионисии, о котором она пишет: “Все слава Богу”, “все мне на пользу”. И только прибавляет: “Вот о вас скорбею душой, кто за вами поухаживает, когда заболеете”.
Молодая женщина, сердечно мне близкая и дорогая[110], показывает свой уголок, куда только что перебралась: “Вот здесь будет тахта. Вот гравюры – портрет прабабушки. Над Аничкой (годовалая дочь) повешу nature morte – букет цветов. Аничке сошью голубые рубашечки”.
Естественно и даже трогательно. Но все время сквозь эти стены, завешенные японскими циновками, притепленные давно желанным ребенком, украшенные любимыми книгами и гравюрами, просачивался воздух бараков, нар и сибирских далей.
“Страшная глушь за Байкалом…”
Как важно (для души) заботиться даже самым чернорабочим способом, самыми докучными заботами – о других, о близких и далеких.
И как томительна, как несносно пуста забота лично о себе.
Мечутся обыватели, предвкушая близкие морозы, в поисках замазки. Мечусь и я в их числе – Смоленский рынок, Покровка, Мясницкая, Спиридоновка, Замоскворечье. Везде, в москательных и нефтяных лавках появилась предупредительная надпись: замазки нет. Спрашивает старуха приказчика:
– Что ж теперь делать? Замерзать?
Приказчик наставительно отвечает:
– Ну что ж? И замерзайте. Довольно поцарствовали. Теперь все равны. Не царские времена.
Рассказ в вагоне
Из современных четьи-миней – жизнь Фамари[111]. Прикрыли монастырь, создали трудовую артель – образцовый порядок, чистота жизни – внутреннего и внешнего обихода, как символика ее – все белое – в одеждах, в квартире. Артель разогнали. Такую же чистоту завели в тюрьме. Делила на всю камеру, включая и уголовных, всё, что ей приносили. Ввела своеобразный чин в распределение дневных часов, благообразие построений – почти вывела грубость, фривольность тем и т. д. Выслана была на Лену. “Перегибщики” поняли это как необходимость высадить из лодки на необитаемый берег. Ночь под проливным дождем. В деревне никто не принимал (пришла об этом телеграмма).
Биша написал еще несколько стихов великолепного и совершенно неожиданного для него цикла “Глаза извечного брата”[112]. Будет день, когда Сергей и Вадим прочтут прекрасную книгу – вне граней современности, над временем, голос человеческой души об ее извечной боли, извечной правде. В жгучий момент борьбы классов жизнь не может дать места этой книге. Но когда борьба завершится тем, что не будет больше классов, рухнет капитализм во всем мире и воцарится в экономике трудовой принцип, – можно будет говорить об иных потребах, кроме хлеба животнего, который так дорого достается и которого так сильно недостает на фронте мировой борьбы. Хочется верить, что через 10–20 лет это время настанет и сам Биша, хотя бы уже в седовласом состоянии, на шестом десятке, увидит в печати “Извечного брата”.
Третьего дня, возвращаясь ночью по слабоосвещенной винтовой лестнице домой, я услышала из ниши, прилегающей к самой двери Лермонтовской библиотеки[113], сиплый голос, окликнувший меня:
– Гражданочка! Гражданочка!
Не без некоторого испуга я оглянулась, увидела скорчившегося под сводом маленькой ниши, где во времена Лермонтова у бабушки его, Арсеньевой, стояли какие-нибудь амуры и психеи, – оборванца, алкоголичного вида босяка.
– Вынеси, гражданочка, попить водички, а?
Я принесла ему воды, хлеба, булки и два котлетных бутерброда, какими снабдила меня Женя для утреннего завтрака. Детская улыбка довольства расцвела на распухшем лице “извечного брата” – и с ней он остался в холодном и сыром своем логове, а я легла на мягкой кушетке и постаралась потеплее укрыться.
7-11 ноября. Сергиево (Загорск)
Места, где мы давно не живем, места, куда приходим лишь изредка, места, населенные только тенями прошлого, имеют свойство и нас делать на время тенями, позволяют посмотреть на себя издали, притушают разнообразные крики жизни.
Выглядывают на свет Божий ростки новых талантов (упоительная весенняя радость этого зрелища): Вадим – архитектор, “Строитель Сольнес”[114] (ему 7 лет). Юня Вишневская – скульптор (9 лет), у нее уже целая галерея – котов. Мыши, куры, хамелеон, сумчатая крыса – необычайная индивидуализация и насыщенность жизнью. Галина (Аллы Тарасовой племянница) – несомненная актриса (14 лет), Никита Фаворский[115] – уже сложившийся художник (14 лет). И сколько еще в шестой части света!
Думаю о тебе с любовью и печалью, мое сокровище – Сергеюшка. Больше, чем во всех детей, с какими соединяла меня жизнь, вложила я в тебя тайных творческих сил души, организующего детские души материнского начала ее. А теперь не вижу, не знаю, как растет твой сад, где кривизна юных дерев? Где в нем плевелы, где запустение. Печаль об этом подгрызает старые корешочки моей жизни. Но – так суждено.
Надо покориться. И самое печальное в этом – сознание недовершенности. Именно теперь, в годы пробудившегося сознания, в отрочестве твоем, – нужна тебе моя неусыпающая каждодневная близость. Чувствую это всем существом.
Но “тщетны мечты, бесполезны мечты”[116].
Растет в Посаде слух о мартовской комете – о конце мира. Характерно, что в большинстве случаев трактуется это как избавление от всех тягостей исторического момента.
“Темен и глух Посад – в ноябрьскую ночь”[117]. – Черная грязь, черное небо, фонарей нет (светят, но не греют). Только скупые блики света из окон на лужах. Темна приникшая к земле, влипшая в нее недвижимая, косная: жизнь посадского “домовладельца” и вообще обывателя. Душная замкнутость в семейных ячейках, высокие заборы между соседскими ячейками, устойчивое равнодушие к окрестным судьбам, страх перед жизнью, страх перед “новым”. Только у монахинь это немного иначе. Тот же страх, то же врастание в свою кадку с капустой – но еще и этого синтез – значение креста есть отвлечение в молитвы и сны.
12–16 ноября. Москва
Спрашиваю Даниила:
– Отчего ты так мрачен? Что-нибудь случилось?
– Да. Случилось. Но не внешнее.
– Поправимо?
– Не знаю. Я потерял отправную точку. Ту, которая связана с Евангелием.
Как часто слышишь теперь об этом кризисе сознания.
…Верится, что это лишь этап духовного роста…
…“Сыны свободы”. Есть такие слова в Евангелии. А какая же свобода, если не сметь сделать ни одного шага на собственный страх и во всем спрашиваться у оптинского старца? И может ли быть творчество при такой указке, с такой степенью несвободы?
Что такое молитва? Мне она понятна как таинственный акт (но без всяких книжек и славянских слов) общения души с Богом. Но непонятна как обязанность христианина каждый день (чужими словами) трафаретно что-то выпрашивать у Бога. Непонятны просительные молитвы, столь противоречащие единственной молитве, оставленной Христом, – “да будет воля Твоя”. Понятно прибегание к высшей силе в минуты слабости, опасности, боли, смерти. Но это утреннее и вечернее “помоги”, “спаси” в будничной оправе чаепития, причесывания, умывания – не уводит великое таинство молитвы к мертвому ритуалу. И менее всего понятно прибегание к “заступничеству” перед Богом со стороны Богоматери и святых. Тут невольно является представление о Боге как о грозном, недоступном для жалости тиране, который нуждается в том, чтобы ему льстили (потому сколько умилостивительных и самоуничижительных слов в просительной молитве). И как наивно, и как по отношению к Богу неблагочестиво это представление о Его Матери, “в молитвах неусыпающей”, т. е. своим непрестанным женским, материнским влиянием старающейся удержать от кары и склонить к милосердию жестокосердного царя – сына своего.
Не только теперь в старости, но и в молодые годы при более или менее недурной наружности (если не учитывать плебейской коренастости и рано деформировавшей фигуру толщины) я не умела и не хотела уметь так одеться, чтобы не делать антиэстетического впечатления вычурности. Но какие-то шляпы пирожком, случайные платья, ветхость, небрежность, линючесть одежд, наверное, кому-нибудь тоже давали от меня такие впечатления, что хотелось “плакать”. Помню – дядя Петр Федорович, чувствительный к женской красоте, возмущенно сказал однажды:
– Красивая ты девушка, Варя. А не понимаешь, что лифчик надо потуже носить, ходишь как кормилица.
Изящный парижанин Пети, муж моей приятельницы тех времен – Софьи Григорьевны[118], воскликнул однажды с искренним возмущением:
– Mais comment peut on se défigurer comme ca[119].
И я сама в обществе чужих людей чувствовала себя карикатурой. Мне казалось, что все учитывают недостатки моей фигуры. Только после того, как друг Надежда Сергеевна[120] изобрела для меня сарафанное одеяние, я стала чувствовать себя самой собой и перестала стесняться своего вида. А кроме того, с годами я закалилась и мне стало почти все равно, какое я произвожу впечатление.
…Не знаю, зачем я об этом разболталась. Это так неинтересно, и совсем не об этом хочется писать. Повлекли куда-то ослабевшую нить воли смешные ассоциации.
…Все, кроме ангелических или одухотворенных полетом мысли лиц, напоминают каких-нибудь зверей – или даже какие-то предметы: утюги, корыта, кувшины (только дети и молоденькие женщины – цветы). Я себе напоминаю бегемота. Ляля[121] – сестра Вадима, степная лисичка. Сколько женщин – кур и мужчин – собак, козлов. Верно лишь то, с чего я начала: “Некрасивость обязывает к особому стилю”. Лучше же всем – когда человек совсем не думает о стиле, заботясь только о чистоте своих одежд и их целости, но бессознательно не допускает чудачеств и безвкусности.
17 ноября
Так часто я употребляла слово “великое, великая, великие” – и только к концу жизни поняла, что все со мной бывшее – обыкновенное или ниже обыкновенного. И всего этого было мало, чтобы выковать настоящего человека. И нужно мне еще несколько жизней, чтобы стать в ряды человечества, где – ну, скажем, хотя бы Миклухо-Маклай, или – забыла ее имя, англичанка, которая уехала к прокаженным[122], или Иван Каляев[123] – не говоря уже о подвижниках и бескорыстных искателях истины и творцах в области искусства, не щадивших для него самой жизни, – как Гоген, Бальзак, Винчи, Микеланджело.
18 ноября. Все та же Москва
Есть минуты, когда я живо чувствую унизительность своего положения “на чужих хлебах”: эти минуты обуславливаются холодком или требовательностью со стороны тех, на чьих я хлебах. Если бы не было этих условий, я бы легко и беспечно ела чужой хлеб. Может быть, потому, что нет у меня грани между чужим и своим (она есть, но очень поверхностная, привитая привычкой и юридической необходимостью). Когда у меня в доме жил кто-нибудь – дни, месяцы или годы, это все равно – мне ни разу не приходило в голову, что эти люди на “чужих” хлебах, живя у меня. Может быть, этого не думает и Людмила Васильевна[124] (чьи “хлеба” теперь моя пища). И может быть, не от ее отношения проистекает по временам горький привкус этой пищи – но он есть. И все чаще. И тогда помогает переносить его сознание, что это мне поделом, что это возмездие за горечь, которую я вносила в жизнь моей старицы.
Хороший глагол “долдонить” (Воронежская губерния). Дедушка долдонит за стеной, занимаясь с Вадимом. Точно тупые деревянные гвозди, вбивает он математику в нежную головку Вадима. Он приходит после урока бледный – под глазами синяки. И нельзя ничего сказать. А Вадим напоминает в такие часы Павла Домби[125].
Негде жить – еще успеется, если повезет, найти нору, где жить. Негде умирать – хуже. Как умирающему зверю, умирающему человеку в высшей степени нужна уединенность. Тишина.
Вот для чего нужна йогическая наука. Ценно научиться такому сосредоточению, чтобы чувствовать себя уединенным во всяком шуме и нечувствительным ко всем уколам повседневности.
Одна женщина (средних лет) говорила, что, когда на нее напал грабитель в ее комнате и стал колотить ее по голове, она была спокойна и точно со стороны смотрела на это.
Со мной такое раздвоение – несчетное число раз в жизни. Высшее “я”, главная точка самоощущения, пребывает в нерушимом спокойствии и наблюдает откуда-то издали над тем, что делается на периферии, на физическом плане. От этого можно улыбнуться, слушая жестокие и унизительные вещи. Можно даже смеяться, как смеялась я однажды в ранней молодости, когда наша лодка – было много, кроме меня, молодежи – тонула в Днепре.
Можно в опасный момент, когда в исступленно-чувственном порыве (почти в глухом парке) осыпал меня сумасшедшими поцелуями влюбленный в меня инженер, говорить ему в ледяном спокойствии успокоительно-ласковые слова, чем остудился весь пыл его страсти. В моем одиноком и неосторожном и длинном – до 32 лет – девичестве такой случай был не единствен. И всегда помогало это раздвоение. Нервы, кровь даже приходили в некоторое возбуждение, начинали отвечать. Иногда любопытство даже длило такой момент. Но стоял на страже некто спокойный, которому было чуждо и отталкивающе не нужно то, что происходило с нервами и с кровью.
Мистерия старости (симфония)
1-е действие. Ужас приближающегося разрушения, последние вспышки молодости. Попытки сопротивляться – борьба с неотвратимым. Жалобное недоумение (45–55 лет).
2– е. Усталость от борьбы. Боль привыкания к новому. Элегия воспоминаний. Трудность восхождения на крутизну (55–60 лет).
3– е действие. Посвящение в старость. Да – новой ступени. Растущее одиночество. Растущие недуги. Растущее мужество. Первые ростки в потустороннее.
4– е. Первые звуки реквиема. Томление расставания с Землей. Зовы. Звук нарастания реквиема. – Новое рождение. – Смерть. – Колыбельная песня.
23 ноября
Неожиданно приехал отец Сережи[126] и позвал меня в Малоярославец. Сколько раз уже было так в жизни: когда подходил предел терпению в каком-нибудь испытании, – но намерение терпеть не ослабевало – распахивалась какая-то отдушина и не давала задохнуться.
В бурные годы гражданской войны, в Ростове, когда я искала заработка, Мариэтта Шагинян спросила меня, как насчет жизненной энергии, боевых сил, умения бороться – вы богач или так себе?
– Я? Нищий.
– Ну тогда вы пропали.
Но я до сих пор не пропала. На страже моей жизни бодрствовала чья-нибудь дружественная энергия. А почему и для чего это было – не знаю.
Преследуют со вчерашнего дня две строчки из Цветаевой:
В оны дни ты мне была как мать, Ночью я могла тебя позвать[127].Как тонко указано здесь одно из мерил интимности и нежности отношений. Возможность разбудить, позвать человека; не в случае какой– нибудь предельной боли или опасности – расцветает на прочной уверенности, что разбуженному это не в тягость, что ему важно и радостно откликнуться на все, для чего его зовут.
Из всех друзей я могла бы позвать ночью только Ольгу и сестру Людмилу. Еще Елизавету Михайловну Доброву (тут какое-то крепкое возрастное единство, понимание друг друга в трагизме старости, болезней, всяких безурядий).
Человек по-разному отражается в разных людях. В одном зеркале он кристально чист, в другом – весь в пятнах. В одном мил и красив, в другом – урод. Есть зеркала, где мы можем увидеть себя в крокодиловой чешуе и с его зубами. И тут же кто-нибудь рядом увидит нас беззащитными, как амеба. И так редки зеркала, объединяющие наши черты со всеми их изъянами в один живой, растущий, меняющийся многострунный образ.
Умение воспринимать людей в их изначальном замысле о них Творца и в то же время в динамичности их внутреннего существа – редкое умение. Но оно появляется чудесным образом в каждом, кто по-настоящему любит Друга – свое Другое Я.
5 тетрадь 21.4.<?>.1932
21 апреля. 11-й час
Дети уснули.
На днях около полуночи раздался звонок от петрушечников Ефимовых[128].
Предложили посмотреть “Макбета” в их исполнении. Они соседи, живут через два дома от нас. И мы, несмотря на поздний час и усталость, отправились втроем уже в начале второго часа в фантастическое их жилье. Там в обществе пантеры (зеленой), ягненка (белого фарфорового), медведя, вырезанного из дуба, – в человеческий рост, среди картин и беспорядочно раскиданных предметов домашнего обихода ждали еще полчаса представления. Как во сне. За дверями раздавалось бормотанье подучивающего роль Макбета. За другими – звуки рояля, репетиция аккомпанемента. Наконец в крошечной комнатушке на красном фоне выскочил из-за желтой занавески страшный, злодейского и несчастного вида, с перекошенным лицом Макбет, талантливо сделанный трагический шарж на шекспировских злодеев. И опять, как во сне, гудели из-за желтой занавески, сбиваясь, шекспировские монологи, мало связанные с трагическими размахами рук Макбета, налетала на него жуткая, с низменным лбом и злодейскими синими глазами (по-своему тоже великолепная) леди Макбет. Звонил в колокольчик, изображая звон башенных часов, сын Ефимовых, стучали в стену перед убийством Банко. “Зачем не мог я произнесть аминь? Я так нуждался в милосердьи Бога”. Эти слова вдруг тоже, как во сне, перекинули сознание к Л. Шестову, к далекому прошлому, к общим мукам богоискания и путанице личных трагедий. И перешиблась цепь бытовых звеньев и распалась связь времен в ту ночь.
23 апреля. Под кровом Ириса
Поэт Коваленский делает игрушки (принужден делать) – лыжников, аэроплан, стрекозу. Нет литературных заработков. Зато расцвела лирика – свободный поток. Поэт Андреев рисует диаграммы. Поэт Ирис корректирует статьи о торфе. Но это не мешает цвести лирике. “Жрецы ль у вас метлу берут?”[129] Да, случается – подметают. Метет (в буквальнейшем смысле) полы старый Мирович – и ничего в этом нет плохого. Лирике и потоку духовной жизни это не мешает, во всяком случае, не это мешает. Лишь бы не переутомляться на работе. И всегда мне казалось, что высшая справедливость в том, чтобы все по мере сил приобщились к черной работе.
В стихах Ириса есть какое-то исступление и чрезмерная, болезненно-эксцентричная яркость образов. Но они становятся все правдивее, и со стороны мастерства (звук, рифмы, ассонансы) – большой шаг вперед. И что-то в них неженское…
До чего переутомлены все, кто служит, кто работает. Вернувшись домой, сваливаются как подкошенные и спят среди бела дня. И не только темпы этому причиной, но и хроническое недоедание, и жестокая давка в трамваях. В результате – шизофрения, истерия, неврастения, туберкулез, сердечные заболевания.
25 апреля
Не приняли посылки – хлеб и крупа опухшей от голода старой двоюродной сестре моей и внучку ее, трехлетнему Юрию. С 1 апреля запрещены съестные посылки. Что это? Какой перегиб? Чье головотяпство? Отвратительное чувство – глотать пищу, зная, что близкие, которым хоть немного можно было бы помочь, голодают, гибнут без помощи.
Возлюби ближнего как самого себя (hos seaton по-гречески). В древних списках hos heauton – как Его самого, то есть как Бога. Насколько это глубже, чем в первом случае. (Справка из разговорника “Живые слова Л. Толстого” Тенеромо)[130].
Фрей[131] молился несколько раз в день – перед пищей, перед сном и т. д. Кому же? Великому человечеству?
Странная надежда вспыхнула во мне вчера, и ярко вспомнилось и точно подтвердилось сегодня: в Малоярославце, куда собираюсь на лето, я буду писать стихи (с осени этот поток иссяк).
И другая странная надежда: не знаю почему, не знаю где, но я поживу еще хоть с месяц вдвоем с Сережкой, вдвоем, без обычного круга лиц.
29 апреля. День
Как много терпения у русских людей (терпения, выносливости). Из всей огромной толпы, мокнущей перед вокзалом (посадка на Малоярославец, целые часы под тяжестью мешков и сундуков, под шум, вопли, крики, перебранку), только я одна, потолкавшись с полчаса, бросилась, как из пожара, на первый попавшийся трамвай и вернулась к своим Красным (но не прекрасным) воротам с чувством спасшегося от гибели. И не от гибели, не так страшна гибель, как конечный этап. Страшнее очередной этап той особой житейской пытки, которая есть во всякой давке, сопряженной с грубостью, жесткостью, вонью и грязью. Оставив в стороне железы, которые от сдавливания разливают по всему телу дергающую зубную боль, – и в совсем здоровом состоянии никаких встреч, никаких радостей я не могу покупать такой ценой. Только очень сильный импульс заставил бы меня преодолеть эту преграду, вопрос крайней необходимости для близких или для себя, вопрос жизни и смерти. От радости же и от нужности во всех других степенях мне всегда было легко отказаться. И сейчас легко, хотя грустно, грустно…
Проезжая мимо Гранатного переулка[132], подумала: “Там Ольга”. И сейчас же встал вопрос: где – там? И прозвучали строки покойной сестры:
Все, что тобой называлось, Так далеко отошло, Точно с землею рассталось, Облаком ввысь уплыло.Да, так. И даже не больно уже, как было зимой. “Мир Египту и всем усопшим странам, и тебе, Ниневия, и тебе, Вавилон.” Если суждено воскрешение нашей отмершей душевной связи – да будет! Но после того, как О. не пошла навстречу моим попыткам нарушить ее молчание, новые попытки стали для меня невозможны. А сегодня я увидела, что даже умерло желание желать, чтобы было иначе.
Полное горячей, бескорыстной, нежнейшей любви письмо Дионисии. В каждом письме тревожится и печалится обо мне. Она – живущая на каторге.
Красные яички. В четырехгранной форме сладкий творог с маслом – Пасха. Приземистая ритуальная булка – кулич. Игры. Детство. Традиция. Детские восприятия Божества. Сладко и уютно совмещается с этими яствами (тут же задняя нога свиньи – окорок) – самое трагическое, что было в мире, – распятый людьми Бог. Торжественная и нарядная плащаница, вся в цветах.
О, до чего нужно душе иное восприятие, иная форма, иное исповедание в этой области.
9 мая
Вечер. Весенний. В какой “и счастливых тянет вдаль”[133]. В долгой “стоянке” под сводом нестерпимо душного пенсионерского распределителя отметила в очереди чистенького розового старичка. Вспомнились при взгляде на него слова Москвина: “Лицо хорошее. Одет чисто”. Лицо не то чтобы хорошее, для этого оно было чересчур холеное, хитроватое и самодовольное, но хорошо выбритое, хорошо вымытое, что в нашей очереди представляло уже незаурядное явление, особенно принимая во внимание хорошую (а не какую-нибудь чудаковатую, или протертую, или грошовую) шляпу, легкое хорошее летнее пальто, а не размахай или утильсырье. И перчатки. У стола менялись пропуски, узнала, что это профессор Железнов[134]. В юности были вместе в одной партии, “но в мире новом (в мире старости) друг друга они не узнали”[135]. Вспомнилась его жена Нина. Красота человеческого лица, человеческого существа имела надо мной в те годы необъяснимую власть, как и человеческий голос в пении Нины. Восемнадцатилетняя, белокурая, архангельски прекрасная девушка, тогда еще Нина Петрусевич, пленила нас с сестрой своей внешностью до того, что встречи с ней по партийным делам отмечались как события в нашей жизни. Эти события трактовались тогда как греховные. Но грех был сильнее нас. И остался от него только огромный след, как позднее от картинной галереи в Милане, где я чуть с ума не сошла от потрясения перед красотой Магдалины и Мадонны, перед человеческой Красотой, понимаемой именно так, как я ее понимала. Я и Рафаэль. И Тициан. И Винчи. И еще моя сестра. Мы были в высшей степени одиноки в нашем чувстве красоты в киевском затоне, в среде, где по стенам висели приложения к “Ниве” “Дорогой гость”. А Нина Железнова являлась для нас вдвойне очаровательной – и как прекрасная картина, и как идеально чистый служитель идеи “Братства, Равенства, Свободы”.
18 мая
“Запада” на западе нет. И точно также нет “востока” на востоке. “Восток” и “Запад” – треснувшие каркасы умершей культуры, из середины которой мы выходим в борении нашей совести, в падении великолепных соборов ее, в мировой войне, в мировых безумиях, в революции, нас влекущей к Голгофе: завеса старого храма разодралась ныне надвое – на “восток” и на “запад”, за ней – мгла, за ней – возглас: “Ламма савахфани[136]”.
Случайно среди старых книг на чердаке наткнулась на книжечку “Эпоха” и в ней на статью Андрея Белого “Восток и Запад”[137]. Поразили в статье выписанные сейчас слова. И не столько историческое пророчество полуюродивого, полугениального, полуистеричного, полупифического А. Белого, сколько это “Ламма савахфани”, эта раздравшаяся внутри души, духа – завеса и обнаружение за ней еще не узнанного, не называемого. А. Белый говорит: “Мы примем распятие” – для того чтобы приобщиться к воскресению.
Примем или нет – оно будет, оно уже есть. И надо помнить, что самый важный и самый страшный миг в нем – это миг “неприятия”. “Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня”. Вероятно, вопрос о воскресении разрешается тем, скажет ли после этого мига человек: в руки Твои предаю дух мой – или просто содрогнется в последних судорогах агонии – и умолкнет.
27 мая
Ах, как много значит доброта. И как мало ее в “холодном” мире. У доброты есть свои виды, степени и множество индивидуальных оттенков. Есть доброта ровная, постоянная, неизбывная, хотя в отдельных случаях и не поражающая щедростью. И есть доброта порывами, вперемежку с равнодушием. Есть доброта активная, жертвенная. И бездеятельное доброжелательство, добрые слова, и т. д., и т. п. Доброта Сережиной матери Натальи Дмитриевны[138] первого вида (ровность, постоянство, неизбывность). И собственно говоря, только один этот вид и создает категорию так называемых добрых людей, надежно добрых, выделяющихся из “хладной”, теплохладной или только более или менее редкими вспышками излучающей Добро человеческой массы. От воспоминания о настоящей доброте делается тепло в душе, как в самый момент ее излучения. И даже от представления о факте такой доброты, даже и не на нас направленной, уже подымается в нашем сознании температура “хладного” мира.
17 июня. 8 часов вечера
Только что пролетела гроза с ливнем. Каждый день стучатся в калитку голодные украинцы. Иные с пришибленным видом, с потухшим взором. Иные, помоложе, с мрачно ненавидящими глазами. Ненависть от голодной зависти к сытому состоянию и от смутного представления, что мы – частица той Москвы, которая забрала у них всю “худобу” и пустила их по миру. Дашь ржаные или еще какие-то якобы русские сухари, такие, что даже в кипятке не размокают. Воображала, с какими проклятиями они грызут их где-нибудь под откосом у вокзала.
Но как же быть? Ведь сам как-никак ешь суп и кашу и какие-то унции масла время от времени. Можно ли есть досыта рядом с голодными. Так было и раньше. Всегда. Но не стучались в калитку, в окно. Не располагались голодным табором за углом на улице. Не получались открытки из Киева от родных с мольбой о хлебе “хотя бы заплесневелом. Не стесняйся…”.
Митрич во “Власти тьмы”[139] отвечает Анютке (которая слышит, как “хрустят” косточки раздавленного ребенка), которая вообще спрашивает: “Как же быть?”, отвечает: “А так и быть, завернись с головой и спи”.
19 июня. Вечер. 11-й час
Друг и внучек моей души Даниил Андреев пишет в последнем письме: “Хочется с самых первых слов выразить Вам чувство, которое меня сейчас переполняет: это любовь к Вам. Любовь довольно странная и чудаковатая.” А кончается письмо: “.желаю Вам укрепления сердечного мира, и тихого, безболезненного обрывания канатов, удерживающих душу у пристани Майи – и да поднимется она над миром в просветленном парении прежде, чем его совсем покинуть”. Не знаю, почему так драгоценна и так нужна мне эта внежизненная, наджизненная, “чудаковатая” любовь. Как глоток воды – в пустыне. Потому ли, <что> я жадна, потому ли что – слаба, потому ли, что одиночество души достигает иногда космических размеров, оттого ли, что просто нет внука – вот такого, как Даниил, у которого для умеющей внимательно и нежно слушать бабки (и понимать, что он ей говорит) есть полчаса для внимательного и нежного письма. И еще больше дорого уместностью своей заключительное пожелание. Каждое слово в нем напоминает именно то, что мне нужно помнить, на чем надо сосредоточить душевные силы, о чем надо просить помощи свыше: “Сердечный мир”. “Тихое, безболезненное обрывание канатов у пристани Майи”. Просветление. Крылья. В последнее время глухо, в подсознательных снах, душа содрогается от представления длительной и мучительной агонии.
22 июня
Не помню, вошел ли в предыдущие тетради образ Даниила. Я верю, что в свое время будет о нем биографический очерк. Может быть, даже целая книга. Верю, что кто-нибудь ему созвучный напишет его портрет и по тем данным, какие найдет в его поэмах. Но не для тех, кто будет собирать материал, для немногих, кто будет читать мои тетради, хочется мне набросать трагический профиль моего юного друга – мечтательный, гордый и такой мимозный, такой “не для житейского волненья, не для корысти, не для битв[140]”. Мечта. Гордыня. Уязвимость. Острый, беспощадный анализ и детская наивность суждений, навыков, поступков (иногда). Юмор, смех – и под ним мрачная безулыбочность. Жажда дерзания, любовь к дерзанию и страх перед жизнью. Наследие отца, Л. Андреева, беспокойный дух, фантастика, страстность, хаотичность. От матери – стремление к изяществу, к благообразию, к жертвенности. Чистота, наряду с возможностью тяжелой, может быть, даже инфернальной эротики. Талантливость – в ранние годы почти Wunderkind’ство, потом некоторая задержка роста, трудность оформления. С 23–24 лет определяется его лицо в творчестве: горячий пафос мысли, взор, жаждущий внемирных далей, повышенное чувство трагического, отвращение ко всему, что не Красота, крайний индивидуализм, одиночество духа и вера в конечную мировую гармонию.
6 тетрадь 28.6.1932-24.1.1933
22 августа. 6 часов утра
Проснулась – и уже не могу уснуть – от щемящей, неоформленной мысли о дочери. От воспоминания ложного, что она была (Ольга? Наташа?). От вопроса: где она? Почему ее нет со мной? Пусть даже такой плохой дочери, какою была я – но которая каждый раз при встрече со мной детски радовалась бы, что я еще жива. И по-детски боялась бы моей смерти, волновалась бы, когда я заболею. И если бы она была далеко, а я заболела, ей бы послали телеграмму. И она всполошилась бы и все забыла: “Мама больна”. Вот что-то и сейчас ущемилось в сердце. Нужно проползти, сжавшись, в тесные врата сознания: никто не называл меня на этом свете словом “мама”. “Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться – ибо нет их”[141].
Опять вопрос – тревожный – для чего, для кого я это пишу? Сережа становится все более чужим – в своем душевном облике – хотя корни чувства моего к нему неискоренимы. Ольга отделена роковой чертой. Даниил? Он сейчас обращен ко мне лицом сыновно-дружеского внимания. Но нужно ли ему это все мое – заштатное, запечное, бессонное, неумно-интимное. Это могло бы быть нужным дочери (Ольге? Да, Ольге, если бы не “роковая черта”). Ах, не надо об этом думать и смешно тосковать о дочери. Жалкая, архаическая, мещанская тоска. Сюда входят подсознательно и тот уют, и те заботы, какие внесла бы дочь в холод старости (оттого и грезится дочь, а не сын). А линия-то жизни задумана (не мною, а Тем, кто предначертал ее) выше этого – по касательной, одной точкой надо было прикоснуться к планетному миру и пронестись дальше в Неведомое, куда влекла и теперь еще влечет тоска иного порядка. Но ветхой матери-Рахили вдруг понадобилась дочь – во сне. А наяву нужны внучонки. Огорчает холодность Сережи. Умиляет и греет младенческая прелесть Николашки и Дима[142].
26 августа
Дождь. Холод. Внезапно налетела осень. Жутко думать об осеннем устроении; и о самом процессе его, и о том, что надо начинать новый круг года…
27 августа
Завтра Успение. Вспоминается Киев. Детство. Торжественный ночной звон в Лавре. Тысячи богомольцев во дворе ее – со всех концов России шли и ехали крестьяне, мещане, купцы к этому дню в Киево-Печерскую лавру. Верили нетленности мощей, верили, что “сама Божья матерь дала Антонию и Феодосию икону Успения”[143]. Верили, как и я в то время всему этому верила (и была счастлива этой верой). Ушла ли она от народа, как ушла от меня, – или, если бы свыше разрешили, пошли бы опять толпы крестьян и городских обывателей прикладываться к мощам и к той иконе, на которую я в семи-восьмилетнем возрасте смотрела с неизъяснимым трепетом благоговения, считая, что она спускается прямо с неба на красных шнурах и что брильянты, какими она осыпана, – небесные камешки.
Ничего нет интимнее движений человеческого сердца в религиозной области. Приближаются к ним по целомудренному страху обнажения, по таинственности и ни с чем несравнимой значительности мига те “да” и “нет”, радость, экстаз радости и бездны горя, какое приносит человеку любовь.
Вот оттуда – то смятение, та замкнутость, какую мы испытываем, когда кто-нибудь приступает к нам с вопросом: како веруеши? Так же не понимала религиозно-философских диспутов Бердяева, Булгакова, Эрна и других.
Проповедь Савонаролы, Франциска, Петра Амьенского – и даже просто – искренне верующего священника после обедни – другое дело. Это уже некоторым образом исповедничество и богослужение. Но говорить, да еще спорить там, где, по существу, все неподсудно дневному сознанию – это мне представляется кощунственным актом. Были случаи, когда я сама совершала это кощунство, вовлеченная в него или инерцией беседы, или напряженностью долга, невысказываемого чувства, или желанием что-то нужное услыхать в ответ. Но каждый раз оставался осадок недолжного, святотатственного. Если я доверяю такие мысли-чувства этой тетради – это лишь потому, что она – нечто посмертное и как бы уже не мое.
Первая, длинная влюбленность – Аня, подруга матери[144], любившая меня со всем жаром несостоявшегося материнства (она была девушка, ей было под 30 лет). Здесь влюбленность уже перешла в любовь, и к шести годам, когда Аня покинула нашу семью, – в бурное отчаянное горе. Я любила Анины руки – белые, пышные, с красивыми ногтями. Целовала ее коричневое шелковое платье и гладила его, когда Аня уходила из дому. Она стала для меня мерилом душевного тепла, дружественной нежности, щедрости самоотдачи. Когда она от нас уехала, точно солнце погасло на небе моего детства, и я впервые испытала дуновение холода межпланетных пространств.
На месте этого чувства, перешедшего в мир мечты и печали, воспоминаний, вырос эдиповский комплекс к отцу. Он существовал в разных фазах до самой кончины его, до моих 16 лет. Это было особое чувство, о котором можно было бы написать целую повесть. Когда я в гимназии узнала из мифологии, что Афина Паллада родилась из головы отца, это показалось мне чем-то завидным, в какой-то мере имеющим отношение ко мне. К матери в те годы у меня было отчуждение, боровшееся с горячим чувством вины, – и страх потерять ее.
Что же еще было в детстве на этом общем фоне? Извозчик Самилка, парень лет восемнадцати. Он подвозил меня, выезжая из-под навеса сарая через длинный двор к воротам. И при этом брал на руки, сажая в “фаэтон”. Прикосновение его рук, близость его розового остроносого профиля с длинной черной бровью – первое откровение какой-то розовой волнующей тайны.
В эти же 7–8 лет влюбленность – уже как в образ красоты недостижимой, томительной – в гимназистку Любу, снимавшую у нас комнату на время экзаменов. Томление разрешилось видением красоты Иного мира – может быть, “Девы Радужных Ворот”[145], – после чего сразу в сторону Любы наступило успокоение и охлаждение.
В 8 лет (длилось до 12–13) – Ваня Аверин. Первое чувство силы “власти своего женского «я»”. Упоение рыцарственностью его отношения. Сувениры, картинки (среди них лошадиная голова), записочки, передаваемые из рук в руки. Празднично засияли все игры – фанты, фан-фаны, лото. По-новому ощутился ветер, снег, своя косичка, набор лент для нее, свои слова, интонации. (Смотрела на себя со стороны, на святках декламируя “в дверях Эдема ангел нежный”[146], и чувствовала по восхищенному взору Вани, что отражаюсь в нем, как этот “ангел нежный”.) Когда ослабевало напряжение ответного чувства к нему, появлялись на сцену другие возбудители. Приходский священник отец Григорий, пожилой, похожий на Николая-угодника. Он волновал значительностью своего сана, иконностью лица и одежд. Каждое слово его запечатлевалось как событие. Приходил он редко, только по большим праздникам. Но здесь я отмечаю тех лиц, которые хотя бы даже один-единственный раз вошли в мою орбиту так, что повысили тонус жизни, заставили сердце биться сильнее.
Параллельно с романом, где героем был Ваня, шли романы с учительницами приходского училища, куда я поступила в 8 лет, и с учителем мужского отделения. Сердце пыталось включить сюда и батюшку Поплавского – тяготея к предмету его преподавания – и его багровый нос, кончик которого двигался, когда он говорил. Наряду с учительницами – косой и старой Людмилой Николаевной и молодой миловидной чешкой Александрой Иордановной – в круг влюбленности вошла Нилочка Чеботарева – позже Тарасова, мать актрисы Художественного театра Аллы Тарасовой.
Косая учительница принесла много огорчений тем, что в классе было принято смеяться над ее косоглазием, и я никого не могла убедить, что она красива. Насмешники над ней задевали меня лично, и я не умела дать отпор, какой блестяще удался мне, когда девчонки окружили вновь поступившую Нилочку Чеботареву и начали дразнить непонятным, но страшным словом “незаконнорожденная”. Тут вспыхнула во мне месть и довела до священной ярости. Я была уже очарована благородством и трогательной беспомощностью голубоглазой белокурой девочки с длинной шелковой косой и в безупречно чистом платье. Защита и обожание ее стали содержанием наших отношений в первый год. После она длительно и щедро возвращала мне обожание почти до самого замужества своего; у меня же появились новые кумиры, а влюбленность и рыцарственный жар перешли в привычную, крепкую и живую, но уже лишенную поэзии дружбу. (Она, впрочем, заново расцветала потом несколько раз.)
В душе воздвигся понемногу культ второй учительницы (чешки), заменившей Людмилу Николаевну. Здесь было дело нечисто. То, чем волновал некогда Самилка (и чего совершенно не было в романе с Ваней Авериным с начала до конца), почему-то прихлынуло к очарованности моей Александрой Иордановной. У нее были тонкие удлиненные черты, большой алый рот, красивые крупные миндалины-зубы и узкие или улыбающиеся, или гневные серо-зеленые глаза. Доводить ее до гневного состояния было для меня особым, жестоким удовольствием. Потом я рыдала – но и в этом было греховное услаждение. Прикосновение ее больших белых рук приводило меня в трепет. Ложась спать, я мечтала о невероятном, о чудесном событии, о том, что когда-нибудь она придет к нам. Это нездоровое чувство рядом с поэтически-платоническим ответом на обожание Вани Аверина и рыцарски-покровительственной дружбой к Нилочке владело мной до 11 лет. Школу я кончила 10-ти лет и еще год ходила к Александре Иордановне подготовляться в третий класс гимназии. Занимались французским языком и с моей стороны – ментально-чувственным флиртом. Я следила за каждой переменой в выражении лица учительницы, отмечала огненным знаком каждое ее прикосновение и редкие поцелуи, какие она дарила мне, прощаясь или здороваясь. Думаю, что она была слишком примитивна, слишком неопытна и мало психологична, чтобы понять до конца особенность моего отношения к ней. Для меня же она была жуткой бездной, из которой проливался особый свет на все окружающие предметы. Под окном ее комнаты росла высокая дикая груша. Листья и плоды на этой груше, особенно осенние листья – запомнились как единственные в мире, как сотканные из какого-то пламени. Так же вспоминается и ее бежевого цвета летнее платье с такими же кружевами. Оно было как сладостный головокружительный туман.
Похожее на это, но по сравнению с этим слабое и лишь изредка вспыхивающее на этом фоне ощущение пробуждал учитель смежного мужского училища. Ему что-то нравилось во мне – думаю, что без примеси нечистых помыслов. Он меня иногда ловил – я любила забегать на мальчишескую гимнастику, – целовал, подбрасывал кверху.
4–5 часов.
Ценная книга талантливого “циника” и “верхогляда” И. Эренбурга “Лик войны”[147]. Правдиво, художественно, насыщено подлинным негодованием. Над черепами (8000 черепов, 18 тысяч черепов), над разлагающимися трупами, над бессмысленным разрушением культуры и неописуемыми телесными и душевными страданиями людей. На его, эренбурговских, глазах, мальчик от голода кусал себе руки, взрослый серб ел землю; он пережил (значит, не верхогляд, если пережил) то, что делалось на фронте и в тылу – во всех странах, вовлеченных в ужасную бойню. Он был с тем, кто штыком открывал бочонок консервов – и только потом заметил, что штык в крови. Он отгоняет людей от реки забвения, расколдовывает тех, кто поспешил напиться летийских струй, и вносит этот штык в крови в их столовую, в спальню, в самое сердце. Верхоглядам не дано это умение. Его поражает крепость, неискоренимость быта, обыденность, цепляние человека за привычный обиход, отсутствие емкости, нужной для того, чтобы вместить трагические жизни. Какая-то госпожа Лебрюи в бомбардируемом городе нанимает глашатая, который трубит по улицам о том, что утеряна брошка с изумрудами. Вывешиваются анонсы о свадьбах. Так было в дни потопа. Так будет до конца времен. Но бывает и несколько иначе. В Ростове, когда белые ежедневно бомбардировали город из Батайска, на базарной площади продолжали торговать сулой, молоком, хлебом. Через день я и моя приятельница Екатерина Васильевна ходили под обстрелом за покупками. И в том была от начала до конца, как во всех ростовских днях и ночах времени обстрела, какая-то литургийная торжественность. И я знаю людей, которые в таких обстоятельствах (в Киеве в 1918-м году) жили как на лезвии ножа, ни на миг не теряя ощущения катастрофы. Но и литургийность, и философия трагедии – для единиц.
31 августа
Пропало желание писать на тему влюбленности. Почувствовалась тщета этой затеи. Почувствовалась, кроме того, усталость и нежелание разворачивать пласты могильной земли в сердце. Мир им – всем семидесяти человеческим душам, пересекавшим мою орбиту, обжигавшимся и приносившим ожоги и долгую боль от них; приносившим иллюзию единой, свыше сужденной, свыше благословенной встречи; дарившим радость, мечту, коротавшим долгое сопутничество дружбы. Делившим со мной житейские заботы, горести и неудачи. Мир – и нежная благодарность слушавшим, слышавшим и понимавшим меня. Мир – ушедшим с непониманием и осуждением. Земной поклон всем семидесяти мужским и женским душам за каждую минуту, когда сердце мое билось от лицезрения их красоты (внутренней или наружной, действительной или воображаемой) и от прикосновения их души к моей душе. А вывод отсюда – опытное познавание сводится к томлению души с 3 до 63 лет, души, заблудившейся на своих путях, ищущей на них того, чего нельзя было найти, – единения своего с вечной незыблемой Любовью – Богом.
25 сентября
Нет сна. Не хочется читать Горького – единственная книга из числа Жениной[148] библиотеки, которую я не читала. Прочла один рассказик, точно мыльную тряпку пожевала, что-то серое, липкое, едкое. У него есть лучшие вещи. Но все всегда плоскостное и вульгарное. Как мог Цвейг назвать его великим писателем, да вдобавок и великим человеком. И Ромен Роллан рассыпался в неумеренных комплиментах к 40-летнему юбилею Горького. Там не без влияния Майи[149], этой маленькой ловкой интриганки с детской челкой на умном мужском лбу над глазами, страшными тем, что из них вместо человеческого взгляда смотрит наглая и беспощадная воля к жизни. Дочь приниженной гувернантки-француженки и неизвестного отца, натерпевшаяся в детстве вдоволь нужды и унижений, она задалась целью взобраться на верхние ступеньки социальной лестницы. Незаурядный ум, французский практицизм, стихотворный дар, ловкое актерство, полная беспринципность, наивная порочность и лживость помогли ей проникнуть в литературные круги, заинтересовать ряд известных писателей теми пятью французскими стихотворениями, какие она читала на вечерах, и своей особой. Ей удалось сделаться княжной, поймав в свои сети юного рыцарственного Сережу Кудашева[150]. Она замучила его своими истерическими причудами, и только ранняя смерть освободила его от ее тирании. Когда пришла революция, Майя быстро перекрасилась из теософии и аристократства в большевизм. После ряда мопассановских романов с французскими и русскими коммунистами она задумала ни больше ни меньше как стать m-me Ромен Роллан. Пущен был в ход обычный арсенал – письма, стихи, посылка портретов. Старый идеалист заинтересовался молодой княжной-коммунисткой – Princesse Майя. Ему захотелось увидеть ее en chair[151]. И она не замедлила исполнить его желание. Чем-то, как-то – со всем своим душевным холодом и ложью она все-таки сделалась нужной для Р. Р. – поселилась у него в качестве подруги, да и, вероятно, не отчаиваясь получить желанный приз – европейски славное имя, – и, вероятно, ей поможет в этом та отточенная, как бритва, воля к самоутверждению, какая двумя стальными точками блестит в зияющей бездушности ее глаз.
26 октября. Утро
Проснулась с мыслью о том, как должен страдать Бог в тварном мире, в роковых, неустранимых страданиях твари. Начиная от инфузории, пожирающей другую инфузорию, от волка, пожирающего зайца (кажется, именно это мне и приснилось – волк – заяц), и кончая тяжкими, долгими болезнями, пытками, кознями, сумасшествием, самоубийством и разнообразными нравственными ужасами и муками Человека. Если Бог не отменил, если он допустил действовать закон борьбы и страдания – значит, он был неизбежен. И, сотворив мир, Бог принял на себя Крест мира (паскалевское: l’agonie de Jesus Christe durera jusqu’a la fin du monde[152]). То, что я написала, я не только думаю, но и чувствую. С раннего детства, когда еще никто этого не втолковывал мне, все свои проступки я ощущала, как оскорбление, как ранение Бога, божественного начала в себе. Отсюда наши тайные молитвенные сборища (в возрасте 10–13 лет), полные покаянных слез и обетов исправления. И тогда это все соединялось с именем Христа, с теогонией Ветхого и Нового Завета. Так длилось до 15 лет. В 14 лет был особенно сильный, до состояния экстаза религиозный подъем – жажда умереть в молитвенном состоянии от предельного блаженства и какой-то нестерпимо сладостной муки. Письма Христу, относимые в Лавру и тайно подкладываемые под местной иконой Спасителя. Ладанка с обетами “благоветствовать слепым прозрение, хромым исцеление, проповедовать лето Господне благоприятное”. В 16 лет – перелом в нигилизм. Отказ от причащения. Через 10 лет по-иному возврат к христианству – евангелизм, толстовство, интерес к армии Бутса[153], к неплюевцам, к сектантству. В 30–33 года – Заратустра.
Десять лет пустоты, метания, жажды гибели, близость к самоубийству, попытка в личной жизни найти религиозный смысл и религиозное деление. Опять – Евангелие. Сопереживание Голгофы, углубление в смысл страдания. Достоевский. Искусство. Оно как дверь религиозного познания; наряду с чувством природы со школьных лет, начиная с лермонтовского “Паруса” и с рафаэлевских репродукций, случайно попавших в нашу мещанскую обстановку. Но в эти годы верилось, что через символизм найдешь путь, какой жаждала душа, – путь Богопознания и наполнения религиозным смыслом своей жизни в днях. Интерес к теософии и отвращение к тем сторонам ее, которые так очевидно allzumenschliches[154] – к Безант, Ледбитеру, Блаватской. От 48 лет ряд попыток войти в церковь. Невозможность принятия догматического христианства и церковных канонов. Мелькнувшая на краткий срок надежда сделать из жизни мистерию и найти путь познания через “науки тайной письмена”, горькое разочарование, убеждение в ультра– и мелко-человеческой чепухе, наряду с осколочками, обрывочками того, что знал Египет, Индия. Долгое горестное распутье, провалы в пустоту и вскарабкивание на какие-то нагие утесы, с вершины которых брезжит вдали гора Навав, с которой дано было перед смертью Моисею увидеть Землю обетованную – благодарное сопутничество, соприкосновение с некоторыми ее тайнами, с эзотерической ее частью. Порою жажда прежней детской верой веровать в Христа и в каждое слово Евангелия. Сознание, что это уже навеки невозможно, что нужна новая ступень, новая форма религиозному чувству. Мир более одухотворен для меня, каждый миг жизни более ответственен, чем в молодости. Но нет стройности во всем этом. Есть какая-то зыбкость, неудовлетворенность, тревога, тоска. Есть и часы высокого покоя и ощущения близости к Богу. Но они редки. И не они дают тон всей жизни.
Канатчикова – теперь лечебница им. Кащенко.
Несомненно, от таких учреждений, от самих стен их исходит особый флюид, вредно действующий на неустойчивые душевные организации. Оттуда возвращаешься в каком-то омороченном состоянии – бодрствование, похожее на сон. А сон после него похож на бодрствование. Безотчетность, затрудненность внутренних процессов, мозговая тошнота[155].
Одеревенелость, оцепенелость, инфантильность интересов, старческий эгоизм, плюшкинство – вот чего надо бояться старости, а не артериосклерозов. Но поскольку такие душевные состояния вытекают из склерозов и других перерождений тканей – физиология старости, поистине испытание огнем и мечом духовной мощи человека.
В письмах Плиния-младшего 80-летний старец, поэт (забыла имя) играет в мяч, мудрой беседой услаждает гостей, делает пешеходные прогулки по нескольку верст. Так было и с нашим Л. Толстым. Ездил верхом за два года до смерти, наслаждался музыкой, природой. Не прекращал религиозно-творческого процесса и учительского общения с людьми. Но еще трогательнее старость моей матери, где силы телесные уже совсем упали, человек был пять лет прикован к постели – вдобавок слепой, глохнущий – тем не менее последние годы ее были временем наибольшего духовного просветления, ясности, мира, любви к людям, религиозной покорности и готовности к смерти.
7 ноября
П. А. Ж.[156] Таковы инициалы человека, внезапно и так странно и радостно близко вошедшего в мою орбиту. И в старости бывают такие чудеса. И тем чудеснее они, что уже как nonsens исключено всякое иное тяготение, кроме духовного. Всколыхнулись те слои, где протекают глубинные воды внутренней жизни. И все, чем они были завалены, замутнены, унеслось быстрым движением далеко. Почему так бывает, я не знаю. Сужденное. А может быть пришли времена и сроки сдвинуться застою. И тут довольно было одного понимающего слова, одного верного отражения Лика того, который бывает скрыт и от нас самих, как явились тайные силы и права – сдвинуться с мертвой точки.
П. А. Ж. – паж той, которую искал, почти нашел и потерял Блок, на свидание с которой В. Соловьев ездил к пирамидам и которую выкликал всем гениальным кликушеством А. Белый.
У П. А. творческие возможности несоизмеримы с теми, какими обладали Блок, Соловьев и Белый. Но, может быть, здесь еще большая интенсивность чувства в сторону Дамы. И не нарушалась рыцарственная верность Ей – как в кутежах Блока, кощунственных шутках Соловьева и перекраске А. Белого. Так почувствовалось мне. Но если я в какой-то мере ошиблась и нарисовала образ большего масштаба и такой чистоты, какой на свете не бывает, все равно остается важным то, что дали мне эти встречи, – душевный сдвиг с мертвой точки, оживление и осияние тех ценностей, какие померкли, как ризы на тех иконах, перед которыми – по бедности ли, по скупости ли, по иным ли, роковым, причинам не зажигают свеч, и они тускло светятся из угла.
П. А. смотрит на творчество как на процесс, религиозно обязывающий идти в мир и послужить миру (“Не ставьте светильники под спудом”, “Духа не угашайте”). Ради писательской работы собирается расстаться с семьей, уйти в одиночество. Хорошо сказал Лев Исаакович: “Писательство – жизнь, а жизнь нельзя прерывать”.
Взволновала меня еще одна его мысль. Не новая, евангельская – “не бросайте святник псам”. Но это ожило и зазвучало от силы живого убеждения, с каким было сказано. И вскрылась за этим “реальность”. Вся значительность общения с людьми – не измеряется ли силой и тонкостью касания к реальности высшего порядка.
Он рассказал (вечер был длинный, и никого, кроме детей, от 8 до 11 часов не было дома) о своей первой любви к одной девочке, 10-11-летней, как и он. “Мне довольно было сознания, что она живет в том же городе и что вообще она есть на свете”. И я точно сквозь магический кристалл увидела весь этот детский роман со всеми перипетиями, со всеми ростками в юность, взрослость и по ту сторону жизни. И когда он спросил меня об очень важном, о таком интимном в области религиозной жизни, что я никому бы, может быть, не сказала, кроме Л. И. (“апофеоз беспочвенности”), – я не удивилась вопросу и ответила с лихостью и естественностью, как будто была наедине с собою.
А сегодня вспомнились мне розановские, незадолго до смерти записанные, кажется, в “Уединенном”, слова о неожиданном подарке Судьбы – дружбе Цветкова. Здесь, конечно, не дружба – по объему, по ритму, житейскому смыслу это нечто высшее. Вернее, это совсем другое – а по духовной значимости (для данного момента) большее. Встреча.
13–14 ноября. Вечер
Молодая женщина, актриса, полюбила в ответ на очень большую любовь старого актера[157], очень талантливого, внутренно несостоявшегося и моложавой наружности. И потому, что у актера громкое имя и в театре он занимает крупное положение, театр, вместо того чтобы смотреть на это с грустным тютчевским умилением (“сияй, сияй, закатный свет любви последней, зари вечерней”) – все забрызгал грязью. Говорят о хищности, о легкомыслии и расчете женщины, о комическом амплуа “влюбленного старикашки”…
Ночь.
Кто-то рассказывал мне, что, когда к Владимиру Соловьеву обратилась однажды какая-то близкая ему старушка с вопросом, как ей жить, он будто бы сказал: – Как живешь, так и живи. Ты стара, ты слаба, все равно ничего уже в своей жизни не переменишь.
Странно, если В. Соловьев мог с обывательской поверхностностью видеть в старости только процесс доживания.
Насколько глубже мысль Л. Толстого о прямой пропорциональности слабения изможденной плоти и духовного роста.
Это, конечно, не значит, что так бывает у всякой старости. Духовный рост, увы, не рядовое явление в человечестве.
Ничто так не обязывает нас к мужеству, как горе и слабость близких.
17 ноября
Рассказала Даниилу свою классификацию старческих лиц. Вспомнили толстовские категории старости в “Холстомере” – старость величественная, жалкая и смешная. Прибавили к этому – трагическую, умилительную, окамененную и “отвратительную” старость. Последняя там, где измельчание интересов, неряшество, скупость, дрожь эгоизма, воркотня. Впрочем, все эти свойства могут привести человека в другие разряды – в жалкий, в смешной, в окамененный и трагический.
11–13 декабря
Два дня вне дома. Ночлег у Затеплинских[158]. Ночлег у Бируковых. Милый добровский дом, где все уголки прогреты устоявшимся многолетним теплом к Человеку – в частности, к приходящим в него друзьям. У них я гораздо более “дома”, чем дома.
…А в сущности, не к лицу русскому человеку английский home и даже французский chez soi[159]. Курная изба – с теленком с одной стороны. Странничество – с другой. Смерть в Астапове. И представительница гнезда, усадьбы, “дома” только заглядывает в окно. Не смеет войти к умирающему мужу. “Мне самому, одному, умирать”, – вырвалось у него еще задолго до смерти. Уют, камин, пушистая кошка – в английском home? Гиацинты в синих вазах у норвежцев, кокетливое изящество французского жилья – как все это не похоже на нашу среднюю интеллигентскую дореволюционную квартиру. Обезьянничанье стилей или случайная обстановка – мещанствовкусие. Главное – лучшей части интеллигенции не это было нужно. Бессознательно стыдилась гнездиться на этом свете. Скитальчество (типичное для 1920-1930-х годов) – “беспокойство, охота к перемене мест”, бегство за границу, Печорин и другие его современники, потом хождение в народ. Монастырь (Леонтьев). Тюрьмы (революционеры). Кавказ у Печорина. Как презирали мы в первой молодости подруг, вышедших замуж, погрузившихся в заботы и домоводство. И как нескладно, богемно, неизящно устраивалась их домашняя жизнь. Или по-мещански трафаретно. Что-то нервное, торопливое и как будто бесправное. Вкус, богатство, стиль и настоящую уютность быта знают только предания родовитых усадьб – Абрамцево, Мураново, Прямухино[160]и другие. Если забыть о задворках быта, где покупали и продавали людей.
14 декабря
Говорят, Булгаков[161] постригся в монахи. Как это теперь далеко от меня. А было время, когда я была на волосок от такого шага. С большим юмором один большой человек, с которым я говорила об этом своем желании, описал, “как игуменья мне покажется тупой, послушания бессмысленными, товарки-черницы мелочными и все вместе скучным и ненужным. И как через три дня я буду уже вне монастыря”. Отдать свою волю в чужие руки, молиться по чужой указке (“вычитывать”), чужими словами, ходить ежедневно на длинные тягучие всенощные, где столько юдаизма (в смысле ветхозаветности) – этого бы я, конечно, не смогла вынести. Против этого восстает извечная генеральная линия моего существа – стремление к свободе, к ответственности, к “своему” индивидуальному пути, хотя бы он даже оказался беспутьем. Но неизъяснимую прелесть таит для меня и до сих пор тишина монастырской жизни, оторванность от суеты, уединение, строгий чин быта. У одной из моих приятельниц была мечта, теперь уже неосуществимая, устроить в своей усадьбе подобие светского монастыря, то есть собрать вокруг себя одиноких, религиозно настроенных женщин, желающих провести остаток дней в тишине, в братском окружении, в полезном труде (больница, школа и т. д.) – но в полной свободе совести. В такой монастырь я и сейчас бы поступила с радостью. И может быть, даже ходила бы в церковь – если бы научилась вкладывать в то, что там делается, свое делание, свое внутреннее горение, которое теперь, без этого ритма, какой дает церковный уклад, собственно, и – не горение, а тоска о нем, то тихая, тупая, то мучительная, мятежная.
19–26 декабря
Сейчас на моих глазах помешалась от горя молодая женщина. На почте. Она писала открытку, а сумочку с деньгами и с талонами (проклятие обывательской жизни) положила рядом. Кто-то унес ее. Окончив писать, женщина воскликнула: “Господи, где же сумка? Граждане, кто видел? Кто взял мою сумку… Там все мои деньги, все карточки… Ширпотреб! Господи…” Народу было мало, три-четыре человека, на которых не могло быть подозрения. Кое-кто заметил, что рядом с ней писал какой-то гражданин, который, “не сдавая письма”, исчез. Она кинулась на улицу, точно можно было в уличной толпе догнать укравшего сумку, лица которого она сама даже не видела. Потом вернулась и уставилась глазами на то место, где положила сумку: “Вот здесь лежала, вот на этом месте”. Она гладила, щупала это место, постукивала кулаком, пронзительно в него всматривалась, точно какими-то магическими приемами надеялась привлечь к нему исчезнувшую сумку. Потом вскрикнула, схватилась за голову и убежала. Я вышла за ней, боясь, что она бросится под трамвай (такое безумное отчаяние было в ее лице), но она скрылась в дверях соседнего подъезда. Кто знает, почему она так быстро кинулась домой. Может быть, вот сейчас она уже повесилась или перекинулась через перила в пролет лестницы с десятого этажа афремовского дома[162]. И может быть, это будет уже не первый и даже не сто первый случай самоубийства из-за пропавших талонов. Или из-за того, что им не дали права на хлеб.
День.
Одно из опаснейших движений – духа – движение к самооправданию, желание “непщевати вины о гресех”[163]. Как бы это ни было трудно, и морально, и психологически трудно, – необходимо там, где нас обвиняют, а нам не кажется, что мы виноваты, все-таки поискать и отыскать свою вину.
Поскольку виновны другие по отношению к нам – для нас важно только учесть нашу дальнейшую линию поведения – без суда и осуждения кого бы то ни было.
Может быть, нам нужно отойти подальше от людей, с которыми выходят те или иные житейские или психологические конфликты. Может быть, нужно подойти поближе, вникнуть в их жизнь, взять на себя часть их тяжестей. Может быть, нужно сделать те или иные уступки в обиходе – если он общий… Тут важно разобраться как можно трезвее и справедливее. Но самое важное: отказаться от созерцания и оценки чужой вины и взять вину на себя.
27 декабря
Женится один из моих молодых друзей – внучатое поколение – Даниил Андреев[164]. Таинственный порог – как рождение, как смерть. Истоптанное сравнение с лотереей – здесь страшно тем, что выигрывается или проигрывается самая жизнь. И больше, чем жизнь, ее гармония, ее так называемое счастье, ее путь к его самосозиданию или саморазрушению. Был момент, когда я желала для Даниила Верочку[165] – ту, которую называла мысленно, исходя из случайного детского определения, “Голубая Красота”. Но хорошо, что этого не случилось. В., кроме того, что голубая, еще и ледяная “красота”. В ней есть Гольфстрим, которого хватает на согревание одного какого-нибудь побережья области ее души. И три четверти их в нетающих льдах. Ей не чужд пафос мысли – но и он похож на замороженное шампанское. Она очень интеллектуальна (если не синий, то голубой чулок). Стремление к эрудиции, к самому процессу приобретения знаний и достижению результатов. Благородна, немелочна, способна быть великодушной, но, плавают по морям души ледяные горы. Впрочем, если бы муж попал на берег, омываемый Гольфстримом, ему было бы тепло и даже выросли бы на берегу его мирты и лавры. Только и Гольфстрим тут ненадежен. Точно все внутри души под угрозой возможного оцепенения. Дай Бог, чтобы угроза эта не исполнилась. И благодарение Богу, что не исполнились мои пожелания два года тому назад – и ждет Даниила моего другая голубица, “от Лавана кроткая невеста” (по его словам, кроткая, а Верочка сдержанна внешне, а внутренно часто вздымается на дыбы).
11–12 января 1933 года
Сон, реальнее действительности. Свидание с матерью (покойною, горячая, экспансивная любовь и близость к ней, какой не было при жизни). Мысль: теперь я буду осторожна, нежна, бесконечно внимательна к ней. Я знала, помнила, что она умерла. Но во сне это ничего не значило. Дана была нам во сне жизнь, где можно было начать жить по-новому.
Заслуженный укор в жестоковыйности. Закрыла непроницаемым экраном глаза сердца от лика и судьбы девушки, очень несчастной, очень некрасивой и трагически вплетшейся в жизнь Даниила (как его невеста). Я думала только о нем, о его ошибке и смятости его душевного расцвета в случае решения на этот брак. Теперь мучает совесть.
14 января
Добрым словом поминали Аллилуеву – “хороший товарищ”, “хороший человек”, скромна, тактична, добра. Вспомнились ее большие печальные глаза на худо отпечатанном портрете в “Известиях”. Ранняя загадочная смерть[166]. Мир ее праху.
П. А.[167] читал свои стихи – прозрачные, женственно-нежные. Сказал, закрыв тетрадь: “Я думаю, что мои стихи похожи на ваши”. Это верно. Его стихи похожи на мои, но они праздничнее, нежнее. В них больше лазури и серебра. И нет и не может быть таких вещей, как у меня, – “Всклокоченный, избитый, неумытый, драчун и пьяница душа моя – раздетый и босой под стужей бытия стоит под вьюгой с головой открытой”.
Ирису моему не хочется покидать свою “Канатку” (дом Канатчикова перешел в психбольницу имени Кащенко). Депрессия ее почти прошла. Она может работать. Заведует библиотекой, стенгазетой, раздачей продуктов, водит гулять больных. Но жизнь за стенами Канатки пугает ее голодом, борьбой, грубостью, безрадостностью и, с ее точки зрения, – бессмысленностью.
Старая приятельница моя (66 лет) Екатерина Васильевна Кудашева[168]в последнее свидание сказала: “И вот что я должна вам сказать, Варичка: я заметила в себе очень странную вещь – я полюбила жить. Просто жить. Раньше этого не замечала. Теперь же вот, например, растянусь на постели после толкотни в кухне и думаю: Екатерина! Тебе нравится жить. Тебе приятно вот так лежать на удобной постели, смотреть в окно на деревья, поджидать Сережу (внука). И если бы сейчас пришла к тебе смерть, тебе, пожалуй, было бы жаль расстаться – не только с Сережей, нет – с этой вот комнатой, с этим нектаром (кофе)…”
16 января. Ночь
Вчера написала рецензию на стихи П. А. Из этого вижу, что не замолк во мне литературный зуд. Писала с особым, литературным удовольствием, как некогда фельетоны в “Волыни” и в “Курьере”, в “Речи”[169]. И настолько захотелось иметь читателя, что тут же снабдила плод своего труда конвертом, маркой и отправила к поэту. Впрочем, рукой моей двигало еще желание доставить автору “приятность”.
Нужна работа. Нужен заработок. Когда этот вопрос жизнь выдвигает как категорический императив завтрашнего дня, это железное требование становится осью сознания. Но пассивность моя, величайшее, мучительнейшее отвращение мое к поискам работы, к прорытию рабочего русла подсказывают мне иные выходы и надежду на “звезду”. Обыкновенно так бывало: когда я начинала тонуть в житейском море, передо мной появлялся спасательный круг – и, вынырнув, я видела перед собой лодку, корабль, мостки, отмель, берег.
В 23 года я собралась покончить счеты с жизнью вместе с сестрой (ей было 18 лет). Когда борьба за существование показалась такой отвратительной и ужасной, что смерть являлась в самом привлекательном виде. И только потому, что сестра, от которой зависело выполнение нашего плана, отказалась от него, – только потому и я его не выполнила. В тот же день, когда было назначено умереть, пришло предложение работы. И с тех пор во все критические моменты я знала, что непременно будет “спасение” в той или иной форме. Будет и теперь.
17 января
Я вмешалась в письме, очень резком и очень лирическом, в жизнь дорогого мне Даниила. Он был и продолжает быть на рубеже возможного брака с девушкой жуткой наружности, таких же манер, провинциалкой, неразвитой, больной. Года на три старше его. И все это не было бы преградой, если бы с его стороны было настоящее чувство. Он сам усомнился в его настоящести, пришел в крайне угнетенное состояние, растерялся. В день приезда “невесты” у него был глубоко несчастный вид. Все домашние были почти потрясены впечатлением от будущей родственницы. Все говорим, что необходимо помочь ему выйти из тупика, удержать от непоправимого шага. После общих охов, ахов и совещаний я решилась (не могла удержаться) написать о том, как отразилась во мне (да и во всех нас) “невеста” и как пугает и огорчает предстоящий брак. В результате он обиделся на меня – стал на защиту NN (“она честный, мужественный, критичный, тонкий и гордый человек”). Все это, кроме тонкости, я допускала и тогда, когда писала свое несчастное письмо. Несчастным называю его, потому что оно ненужное. И результат его – только надрыв, а может быть, и разрыв дорогих мне отношений с внучком-другом. Были уже в моей жизни печальные и дорого стоящие уроки в этой области. И пропали даром. Вмешиваться в такие личные дела, хотя бы они были сумасшедшего, чудовищного характера, нельзя. Тут больше, чем где-нибудь, нужны ошибки, нужна ответственность за них. Нужен опыт ошибок и ответственности. И нужна неприкосновенная самостоятельность решений. Старый дурак в самый нужный момент забыл об этом. Вот и наказан – порвалась золотая ниточка к нежно любимой, к долго любимой душе (от 4 до 26 лет Данииловой жизни).
19 января
Угроза отнятия пайка. То есть выключение из тех тварей (по семи пар от каждого животного вида), которых Ягве постановил пощадить от гибели в дни всемирного потопа. После минутки внутренней растерянности услыхала в себе полное согласие делить судьбу тех, кто будет на свой страх и риск куда-то карабкаться, пока не зальет вода. Так легче (в моральном отношении), чем шествовать в числе спасенных тварей в ковчег, в то время как вокруг будут барахтаться утопающие. Хватит ли сил “карабкаться”? Как-то не хочется думать об этом, как не хочется прилагать особой энергии и заботы о спасении своей персоны. Житейски: поеду на какой-то срок нянчить малоярославских ребят. Потом кто-нибудь напишет Тане и Наташе[170] о Торгсине – им нетрудно будет присылать несколько долларов время от времени. А если не Торгсин – что-нибудь выдвинет жизнь. А если не выдвинет ничего – значит, так тому и быть… Верю, однако, что в последнем случае будет дарован мне исход из всех этих затруднений – решительный и окончательный – через крематорий.
Болезненно скользнуло – оцарапало кожу души и омрачило свет солнца сознание бесправности своей (отныне) делить, приблизительно справедливо, обиход дома, где живу. Отныне, пока не уеду в Малоярославец, – а необходимо из-за паспортов задержаться – с трудом буду проглатывать кусок дневного пропитания. Болезненней всего в этом если не полная уверенность, то допущение, что возможен “косой взгляд”, нетерпеливое ожидание моего отъезда, некий холодок – в течение длинной скитальческой жизни не раз почувствованный, хотя во всем своем значении только недавно понятый. (Думаю, что мое допущение неверно. Раскаиваюсь в нем. Приписка на другой день.)
20 января
Не знаю, каким чудом выдали мне дополнительный паек. Он, собственно, не дополнительный, а основной, а то, что считается основным, – конфеты и печенье, вдобавок очень скверные, – является дополнением к нему, без которого легко было бы обойтись. Первым чувством моим в момент этой неожиданности было какое-то равнодушие, далекое от оценки факта, недоумение. Два часа стояния в давке, присутствия при истериках и препирательствах у стола с вожделенным штампом, дающим право на масло и сахар; два часа созерцания напряженных, страдальческих, взволнованных, злобных или убитых лиц увели меня от личной судьбы моей в какое-то глубокое, странное раздумье. Когда я вырвалась из магазинной давки и шла потом в 20-градусном морозе по Мясницкой, я почувствовала согревающую меня горячую благодарность к руке, которая дала мне это масло. Ощутила незаслуженность этой милости… и смутный стыд, что пробралась-таки по кладочкам в сухость и тепло ковчега. Не осталась среди волн.
Какое отчаяние было на лице одной бедно одетой женщины, которой протянули один пропуск – без спасительной книжки со штампом. Где она вот сейчас – спит или без конца рассказывает домашним о своей обиде. Завтра дети будут есть мороженый картофель без капли масла. Вместо чая – пить кипяток без сахара.
7 тетрадь 25.1-22.4.1933
27 января. Летопись дня
Отправила посылку моей Дионисии. Овсяное какао, халву, немножко печенья и две копченые воблы.
Полуграмотный малый, принимавший посылки в нашем отделении, отказался принять мою: “Там у вас буханок хлеба” (прощупывая кусок халвы). На все мои заверения твердил свое: “Разве ж не видно, что это буханок хлеба?” На главном почтамте приняли без возражений.
Вконец замучена Людмила Васильевна[171] – с завода на завод, из промакадемии – в комакадемию, порой до глубокой ночи. Приезжает, измятая трамвайной давкой, перезябшая до внутреннего озноба.
Мажордом наш Анна Ильинична[172] тоже зябнет, устает носиться по кооперативам, не выходит из гневного распадения – на детей и на взрослых, раздраженная тем, что снизилась питательная и вкусовая сторона питания.
3 февраля
Мы обменялись с Даниилом письмами по поводу его “невесты” (она пока еще в кавычках невеста). Он простил резкость – и, как теперь оказалось, неуместность моего вмешательства в этот шаг его пути. Понял и поверил, что мной руководила любовь, бережность, страх за его будущее, чутье правды его пути, а не деспотическая воля бабушки, желающей, чтобы внук плясал по ее дудке. Вернулась наша дружественная близость. Я могу, как раньше, подолгу сидеть с книгой или с работой в его комнате, где он корпит теперь над диаграммами. Но есть какая-то грусть и недоговоренность. У меня – чувство вины, нетактичного шага (не надо было вмешиваться, нужно было подняться выше факта и вовремя увидать, что бывают нужны человеку ошибки и нелепости как путь к своей правде). Ему при мимозности его существа, вероятно, болезненно воспоминание о тех днях, когда я нанесла ему боль и обиду, но думаю, что этим проверялась крепость нашей внутренней связи.
11–12 февраля
Ощущение чуда: появились ботинки. По случаю. До этого было в башмачной области чувство полной безнадежности. Уже протопталась подошва. Уже касался чулок пола; уже отстал и щелкал временами каблук. Много раз зашитые трещины давали рядом параллельные линии трещин. Казалось, не было никакого исхода. Собиралась просто не выходить до весны, когда можно будет надеть брезентовые туфли. Вдруг, как в сказке, Сивка-бурка, вещая каурка приносит тончайшую, старинного сорта обувь. Прибавлю, впрочем, что в “безнадежности” моей всегда есть не только надежда, но и уверенность, что нужное в нужную минуту у меня будет. А то, чего не будет, – не нужное. Безнадежностью же в этой в узкоматериальной области я называю только отсутствие видимости исхода из затруднений. Невидимый же исход именно тогда и назревает, когда нет видимых дверей.
Замечательно – в моей и в Ирисовой “планиде”, что, когда мы беремся что-нибудь устраивать для других, это почти всегда удается. Все же устраиваемое лично для себя оканчивается неудачей. Все так называемые удачи, какие были в моей жизни, – результат чьих-то забот и хлопот. Или “счастливых” случайностей. Так и с Торгсином. Письмо, посланное мной Наташе Березовской (одной из учениц), вернулось с надписью “inconnu”[173]. Теперь за этими волшебными долларами – мне лично ввиду появления ботинок уже почти ненужными – вышел на охоту мой Ирис. Хочет написать Ариадне Скрябиной, некогда тоже моей ученице, очень меня любившей. Она живет в достатке. Ей ничего не составит присылать временами 5-10 долларов. А здесь это будет масло – безмасленным друзьям, сахар – бессахарным, мука – бесхлебным.
17 февраля
Один сердцеведец сказал мне однажды: человеческая природа жестока и низка: если не возвышаться над нею, будешь, как многие дети (не укрощенные воспитанием) мучат котят, жуков, бабочек, – мучить людей уколами, упреками, гневом, пренебрежением. Слабость, убогость, несчастие будут в тебе пробуждать не симпатию и жалость, не порыв деятельной любви, а глухое раздражение, желание отойти, не смотреть. Вплоть до исполнения ницшевской заповеди: падающего толкни.
Легенда или быль? Один из не получивших паспорта, лишившийся службы и жилплощади отец семейства застрелил жену, троих детей и застрелился сам.
Легенда или быль? Попавший под трамвай военный, которому отрезало обе ноги, выхватил револьвер и застрелился.
Легенда или быль? Чумные суслики в Крыму. Чума в Ростове, черная оспа в Москве, кукурузные кочаны вместо хлеба на Кубани, стопроцентная смертность детей на Урале.
19 февраля
На предложение помочь сестре и племяннице, попавшим в безысходно тяжелую нужду, профессор Миллер[174] веско и убедительно ответил:
– Не такое теперь время, чтобы помогать. (Живет со старорежимным комфортом, ни в чем себе не отказывая.)
К счастью для жизни и для Человека (для образа человеческого), в мире есть противоположный полюс. Там, Сережа, ты встретишь родителей твоих, которые в голодные годы – 18-20-й годы – делились в Сергиеве со всеми, кто нуждался. Делились картофелем, репой со своих участков, обработанных ими в поте лица, миллионами и тысячами миллионов, заработанными преподаванием в техникуме; и надо прибавить к этому деятельное, напряженнейшее участие в судьбах окружающих людей – щедрая моральная поддержка словом и делом.
20 февраля
Прекрасные стихи у Даниила – благородный стиль и дар воскрешения прошлых эпох. Местами напоминает Мариа Эредиа, но нельзя говорить о влиянии последнего, так как Даниил не читал его. И всегда таким романтикам хочется невозможного. Даниил недоволен тем, что он “камерный” поэт – поэт для немногих. Он не хочет видеть, что в этом и есть его сила – в отсутствии громкого, широкошумного голоса, в грустной и строгой изысканности интонаций и образов. И никогда я не могла понять, почему быть чем-нибудь для немногих хуже, меньше, чем для многих. “Многие” всегда будут позади немногих в области духа вообще, в эстетическом развитии – в частности.
23–25 февраля
Люди пухнут от голода, миллионы украинцев нищенствуют, голодная смерть перестала быть замечательным явлением, вплелась в норму современности. Неужели нельзя было обойтись без этих гекатомб Молоху истории. Прекрасна жертвенность тех революционеров, которые отдавали все, включая и жизнь, за будущее благо человечества. И в страданиях их для них был источник высокого, редкостного счастья, “дарящего добродетель” и ответственность за нее. Но ужасны темные, принудительные жертвы. Быть обреченным пасть под колеса Джаггернаута[175] не в священном безумии творческого “да” своему божеству, а как бессловесное животное…
Икра, блины, кильки – животная сторона им радуется, а душа сознает, что это уже непристойность. Не так уж наивно со стороны Чернышевского заставить героичнейшего из своих героев отказаться от апельсинов по тому мотиву, что “народу они никогда не достаются”.
Сейчас, когда по нескольку раз в день звонится в наш подъезд саратовский, уфимский, рязанский, киевский народ, которому не досталось хлеба, когда видишь серые, испитые, обреченные на вымирание покорные лица детей, подростков, молодых женщин и можешь им уделить крохи (и только хлеб, а сам будешь есть и котлету временами, и кашу, и картошку по двугривенному штуку), тогда блины и все слишком сытное или слишком вкусное покалывает совесть. Не то чтобы запрещает все это порой внутренний кодекс морали. Просто слышится чей-то голос: ничто, ничто не заглушит в тебе хрюканье плоти.
4 марта
“Мы – фавны, сатиры, силены, стремящиеся стать ангелами, безобразие, работающее над тем, чтобы стать красотой, чудовищные хризалиды, тяжело вынашивающие в себе крылатую «бабочку»”.
Так говорит Амиель[176], в дружественном общении с которым я провожу часть ночи. Читаю его с нарочитой медлительностью, чтобы подольше не расставаться с ним.
Когда расстанусь, мне будет некем заменить его (в смысле интимно-дружественного общения).
С волнением дочитала Филдинга (“Душа одного народа”), где собраны в одной из глав рассказы бирманцев о их прошлых существованиях. С первого момента пробуждения сознания я верила, знала, что жила в иных образах, в иных семьях, в иных странах. Несколько раз в жизни я встречала людей, обменявшись с которыми взглядом, я знала уже, что это не первая встреча (в ряде случаев и они знали). Оля Б. была однажды моей дочерью. И в другой встрече – матерью. Даниил был сыном. И близким другом – спутником. Были сестрами Анна и Людмила (Владимировна). Также Елизавета Михайловна была старшей, опекавшей меня, заменявшей мать сестрой. Был моим сыном Виктор Затеплинский. Были возлюбленными Шингарёв[177], Шестов, д-р Петровский. Были моими трубадурами И. Новиков[178], П. А., Б. Николаев[179], моя покойная сестра Настя. Дочерьми моими были Таня Лурье (недавно умершая после долгой душевной болезни) и Лиля – твоя тетка, Сережа. И много других. И редко кого я встречаю на этом свете первый раз (огромная кармическая связь с Ирисом – дочь, друг, трубадур – сотаинник). Таинственнее, чем все эти, – нежнее, горячее моя встреча с тобой, Сергеюшка, с той минуты, когда я узнала, что мать твоя зачала тебя.
5 марта
Гитлер. Загадочная фигура. Кто дает – что дает – власть говорить таким языком: не допущу в Германии марксизма. Наполеоновская воля? Исторический фокус многих воль? Закат истории – диалектика тез – антитеза? Так говорил Ленин на другом полюсе. Так всегда говорят вожди – “как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи”. – Еще загадочнее тут роль человеческого стада, миллионноголового обывателя. Идет ли он по кличу “власть имеющего”? Или сам возглавляет его над собой, как свой клич? Для марксиста альфа и омега – экономика. Но не могу верить так. Экономика, но рядом с ней и таинственность исторического процесса, о которой говорит Ромен Роллан в его “Дантоне”, и человеческие страсти, сумма воль, личности, вожди, наконец, равнодействующая всех государственных конъюнктур.
Что бы ни было – жуткий момент, страшно новых жертв (4 миллиона коммунистов в Германии), новой крови на лице земли. Бедная мать Эрда[180] захлебнулась кровью своих детей.
7 марта
Шла в Орликовский кооператив, откровенно превратившийся в кабак. Три четверти полок заняты водкой, которую тут же распивают по очереди из бутылки спившиеся с кругу, опухшие от голода сезонники-оборванцы. Шла в кооператив за кабулем – приправой к обычной цинготно пресной пище. По дороге встретила трех крестьянок с грудными детьми. Землистые, обреченные на смерть лица. Тупое отчаяние или полное окаменение в глазах, в чертах лица, в фигурах. Отделила для них какую-то мелочь и все-таки пошла за кабулем. В наказание за окамененное нечувствие и гортанобесие – кабуль оказался такой мерзостью, что ни у кого не хватило духу проглотить его. На 2 рубля две бабы купили бы себе по фунту хлеба. А главное, была бы – и отнята кабулем – у них и у меня минута братского общения.
9 марта
С. Н. Смидович[181] получила орден Ленина. Не щадя живота десятки лет служила своему богу. У таких натур социализм – бог, и служение ему принимает формы религиозного культа. Самоотречение, жертвенность (я видела, как она жертвовала воспитанием детей для женотдела). Неизбежен тут и фанатизм.
Шевельнулись в сердце забытые воспоминания. Мне 27 лет, ей – 24. Ницца. Сквозь зеленые шторы проник в спальню ослепительный луч южного утреннего солнца. За окном певучий голос торговки выкликает названия рыб и долго тянет последнюю высокую ноту. В соседней комнате лежит муж Софьи Николаевны Платон Луначарский, психиатр. У него на голове огромный тюрбан – повязка после операции, сделанной Дуайеном[182]. Нож Дуайена вскрыл в его мозгу какой-то абсцесс и на несколько лет отсрочил конец. Но попутно срезалось что-то, обезглавливающее его истинную личность. Снизился уровень душевного развития, желания, вкусы.
В комнату мою вошла С. Н. – тогда Соня, с белокурой головкой, с нежными красками лица, с серебристым полудетским голоском. Правдивые, пытливые каштанового цвета милые глаза со следами слез смотрят с мрачной безнадежностью. Нежно целую ее голову, лицо. Она плачет и сквозь плач говорит:
– Я не знаю, где теперь Платон. Я не узнаю его. И он меня как будто забыл. Расспрашивал сейчас, какой сегодня обед. Я сказала. А он рассердился: “Не умеешь повкусней рассказать”. Разве это Платон? Никогда он не придавал значения еде, теперь только о ней и думает. Ни обо мне, ни о Татьяне (дочь грудного возраста) не задает даже вопросов. Ничто ему не интересно. И бывает циничен… Боже мой! Разве это Платон?
Тем не менее, с величайшей преданностью провела она возле останков его личности те годы, какие подарил ему Дуайен. И потом, когда вошел в орбиту ее сердца П. Г. Смидович[183], ей нелегко было изменить памяти Платона. Об этом знаю от друга Софьи Николаевны – старичка– переводчика Никифорова. Он, зная мою близость к жизни С. Н., сказал незадолго до ее второго замужества:
– Трудно ей, бедняжке. Хочется единобрачия, посмертной эдакой верности и чтобы жить только для идеи. А натура женственная. Требует своего. Молодость еще не зажила, кровь молодая. Ну и сердце нежное. Словом, влюбилась и мучается.
10 марта
Только тогда, когда человек полюбит трудное, неудобное, maximum напряжения, minimum отдыха – начинается внутреннее делание как путь, а не как отдельные короткие подъемы над низами плотоугодия.
В поэзии Даниила есть дозорная башня (недаром один цикл у него называется “Дозором”). С этой башни ему дано взором проникать в отдаленное прошлое народов. Он переносит читателя чарами созвучий и магией воскрешения прошлого в Индию, в Египет, в шумеро-аккадскую культуру.
Эта часть его стихотворчества мне по-особенному волнующе близка. Мне также свойственно перевоплощаться в человеческие существования далеких эпох далеких стран (иногда христианин в дни Колизея; дочь Плотника в Энгадди[184], дни Христа; иересиарх, Средние века; египтянин времен десяти казней и др.). Но мои перевоплощения узко личны. Я проникаю только в душу и в судьбу одного лица. Даниил же схватывает душу эпохи, освещает изнутри судьбы народов и целых культур.
Вчера, когда Даниил читал стихи и я видела, как Вера[185] слушает – и слышит его, во мне опять возникло сватовское настроение. Захотелось, чтобы они соединили свои жизни и дали друг другу счастье. И – смешно, а надо и покаяться: не успев довести до сознания своего то, что я делаю, я мысленно начертила три заклинательных знака (не знаю даже, откуда они). Из тех, о которых я когда-нибудь слыхала или читала, я ничего не запомнила. Так неистребимо сильны во мне мои предки– кудесники. Между прочим, сознательно, обдуманно я ни разу в жизни не сделала ни в каких случаях своей и чужой судьбы такого кудеснического внутреннего движения. Но бессознательно они, вероятно, вырывались у меня. Впрочем, это трудно проверить.
20 марта
Вот и еще одна “вечная память”. Вечная память! Да не изгладится этот лик из “Книги живота” – это смертью еще больше высветленный для меня лик, которого мы звали здесь Зиной Денисьевской[186]. В нем соединялась горячая доброта с трезвостью правдивой натуры, вера в жизнь, вера в человека, любовное приятие мира и трагизма собственной судьбы – человеческого и женского одиночества. Изредка в письмах ко мне вырывался вздох о том, что нет рядом мужа, возлюбленного, друга, единомышленника. Но в этом мужественном (и таком нежном!) сердце не было места для долгого сосредоточения на себе. В последнее время она уверовала в “коллектив” – в том, что он может заменить члену его личную жизнь. Он не заменял (и коллектив подобрался из людей, неспособных ничего понять в такой богатой и сложной натуре). Но явилась иллюзия братства. И весь пафос жизни был отдан будущему, строительству социалистического строя, вере в недалекий Золотой век для всего страждущего человечества. Свои лишения, как и свое одиночество, и свою неизлечимую болезнь она сумела скинуть со счетов.
21 марта
Вошел в кухню добродушный парень в ушастой шапке с какой-то рыжей тетрадью под мышкой. Спрашиваю (это было третьего дня), что нужно.
– А вот пришел: кому – жизнь, а кому – гроб.
Оказывается, извещение о дне и часе паспортизации. Какой гигантский невроз треволнения, мнительности, кошмарных страхов овладел страной в связи с паспортами. Не говоря о тех, кто имел все основания ждать, что очутится без хлеба и без крова – и те, кто не имел таких оснований, не спали ночей, силясь припомнить, нет ли какого двоюродного дяди с неблагоприятной анкетой.
23 марта
Муж (очень несчастный) показал жене, как сильно у него опухли ноги – от сердца. Она с гневом прикрикнула на него:
– Это скрывать надо, а ты показываешь.
Надо скрывать опухоли, язвы, раны. Это верно. Но еще больше надо скрывать, т. е. подавлять и совсем уничтожать – досаду, раздражительность, нетерпение, недружелюбие.
Подающие руку. Проходящие мимо. Толкающие слегка. Толкающие наотмашь. Таковы мы каждодневно по отношению к тем, кто идет с нами рядом. Семьи или другие коллективы, где все подают друг другу руку в нужную минуту – делом или словом, голосом, взглядом, – редки. Там, где в обычае проходить мимо или толкать слегка, а не с размаху и с удовольствием, – уже благополучные семьи. Проверьте свое окружение непременно. Вы толкаете кого-нибудь из близких (холод, небрежение). А уж за то, что проходите мимо, – ручаюсь.
31 марта
Жизнь богата чудесами. Разве не чудо, что я каждый день, вот уже 4 дня вижу Ольгу. И тогда, когда это казалось уже навеки невозможно. И когда это стало так вопиюще нужно (ввиду ощущения близости конца).
Читаю Ольгины дневники от самых предрассветных лет юности. Свежесть. “Радость жизни”. Купаешься в этих серебристых и золотых струйках (похожих на Арагву с ее ручейковыми, кристально чистыми излучинами и тысячью разветвлений). Купаешься не отрываясь и выходишь как из легендарной source de la Jouvence[187] Средневековья – помолодевшим.
Ольга мне: “Вы еще не знаете, среди людей есть гады. Гады, которым естественно выделять ядовитую слюну, жалить, извиваться. Они хотят вредить, не могут не вредить…”
Это мы все знали со школьной скамьи, когда повстречались с шекспировским Яго, с Тартюфом, с Фафниром и еще раньше с Бабой-ягой. Но все это, пожалуй, и оставалось там, где Баба-яга, как миф, как презумпция мирового зла.
И страшно в убежденной лиричности Ольгиных слов их, по-видимому, фактическое, глубоко ранившее мимозное сердце, обоснование. Божья коровка вплотную встретилась где-то с ехидной. Не пожрала ее ехидна, но облила ядом, от которого обгорела кожа души. Недаром у Ольги какой-то полусожженный вид.
У выхода из булочной в 10-м часу вечера попала в группу деревенских ребят от 8 до 15 лет. Молча расступились, и только один сказал несмело:
– …Дала бы, тетенька, хлебца.
Что за лица! Испитые, серые, с провалившимися глазами, где застыло терпеливое отчаяние. Я вернулась к продавщице и попросила разрезать мои 2 фунта на 6 кусков. Мне показалось, что мальчиков шесть. Но, когда стала раздавать это мелкое подаяние (причем каждый в ту же секунду начинал жевать его), я увидела, что одному, самому младшему мальчонке не хватило куска.
– Как же теперь быть? – вырвалось у меня. – Хлеба больше нет.
И тут двое старших с мягкой деликатной улыбкой сказали:
– Ничего, тетенька, мы поделимся.
Успокоительно сказали. И на моих глазах, отщипнув по кусочку от своих ломтиков, протянули малышу. Опять лепта вдовицы.
1–2 апреля
Дионисия моя просит “хренку, горчицы, чесночку”. Обыкновенно она ничего не просила. Боюсь, что там у них цинга (под Мариинском, в Западной Сибири). Испытание испытанию – рознь. Есть такие, перед которыми содрогается душа. К ним принадлежат для меня те болезни, где как-то жестоко и унизительно изменяются ткани плоти. Где возможен запах разложения (рак, цинга, проказа).
Жестоко и унизительно то, что я смогу послать лишь в самых ничтожных дозах “горчичку, хренок и чесночок” (Дионисии). Не справляюсь с посылочкой так, чтобы она по-настоящему облегчила жизнь дорогого человека. Не умею прирабатывать. Нет энергии, нет умения искать, находить работу.
Читаем с Ирисом корректуру “Ярмарки тщеславия”. Заработок рублей десять, вот и посылка, т. е. отсылка посылки. А послать нечего, кроме горсти сахару, горсти (буквально) кедровых орехов, фунта скверных конфет, осьмушки чаю, пахнущего муравьями, и немножко толокна – 3 пачки, Олин дар. Буду разыскивать горчицу, хрен и чеснок – “да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу”.
Каревы – двоюродная моя сестра и племянницы пишут из Киева:
“…Принес бывший Марусин муж для Юрика (трехлетнего сына) кило мяса и еще что-то. И в ту же ночь разобрали застекленную галерею со двора и унесли свинину, и кастрюли, и керосинку. А на другую ночь уже откровенно ломились в двери с улицы. Спим по очереди с Марусей. Грабежи по соседству каждую ночь. Бывают и убийства. А то, что с голоду умирают, стало обыкновенным. Многие из знакомых сами видели, как на улице валились и умирали прохожие”. Письмо в кротком тоне, даже не без юмора. И без комментариев.
11–12 апреля
Голодные глаза. Сотни голодных глаз. Обменяются с тобой безмолвным взором, если пройдешь версты две по городу. Редко просят вслух изголодавшиеся пришельцы из деревень. Может быть, бессознательно знают, что с достаточным красноречием говорит за них вид их. И глаза. В иных мольба – какая-то предпоследняя и почти безнадежная. У других – мрачный укор. В третьих – спокойствие последнего отчаяния. У подростков – или апатия, или растерянность, страх. Жутко и стыдно, потому что ты сыт, – встречаться с глазами голодных. И жутко избегать, отворачиваться. И в том и в другом случае, когда наступает ночь, их уже не избегнешь.
8 тетрадь 27.4-22.6.193З
1 мая
Был разговор о славе за обеденным столом в добровском доме. Биша иронически спрашивал: на сколько лет слава? На сто, на пятьсот, на тысячу? Утверждал, что ее не нужно ему. Даниил скромно сказал, что ему хотелось бы славы. Я спросила, что он понимает под этим словом. Он ответил: “Оставить по себе след в потомстве, свое имя”.
– А если бы след без имени?
Он подумал немного и в замешательстве проговорил:
– Ну что ж? Даже без имени, но чтобы не пройти бесследно.
Мое отношение к славе делится на три фазы. Первая: мне 8 лет. Я сижу одна в маленькой столовой нашей, в Киеве, на Большой Шияновской улице. Вся комната в предзакатном весеннем свете. Похожий на этот свет восторг заливает мое сознание. Прочитав накануне лермонтовский “Парус” (первый раз в жизни), я вся полна им и исходя от этой полноты вдруг ощущаю, что я тоже поэт, то есть что я “сочиню” что-нибудь не хуже “Паруса”. И тут же хмельное головокружительное желание, чтобы все это знали, все люди, главным образом дворовые товарищи– мальчишки, – удивлялись и завидовали. (Эти два чувства проползают и в жажду славы у взрослых.)
Третье чувство – мелочное: чтобы с энтузиазмом благословляли. Лавровые венки. Ура. Чувство могущества. Его я возжаждала в том же возрасте, много раз принимаясь мечтать о том, как я “завоюю Константинополь”. Я слышала из разговоров бабушки и отца – пламенных патриотов, что “России нужны проливы”[188] и “что св. София должна быть наша”[189].
Вторая фаза: сотрудничество в газетишке с названием “Жизнь и искусство”[190] и вдыхание местных фимиамов за плохие стихи и прозу. Чтение на эстраде. Приглашение в сахарозаводческие еврейские дома и там ряд каких-то выступлений.
Дальше – отрезвление и без всякой горечи сознание, что иной славы и не будет, и притупление всякого вкуса к ней. Теперь же, в старости, ей совсем ясно, что это квинтэссенция суеты – желать славы, упиваться ею. Но что в социальном механизме она нужна не для прославляемых, а для прославляющих, как праздник Героя в противопоставление негероям, как празднование и чествование в его лице высшего уровня достижений духовных человечеству.
Добровская семья, загроможденная заботой, работой, и в данный момент безденежья нашла возможность взять на неопределенный срок совершенно чужого ребенка 4-х лет, мать которого попала в больницу и он остался совершенно один в квартире.
“Блаженны милостивые…”
Сережины родители при наличии пятерых собственных ребят нашли возможность взять двух чужих из голодающей и не умеющей (не могущей) выбраться из когтей нужды знакомой семьи. Маленькие пришельцы заболели корью и заразили Сережиного брата Николушку. Сережина мать приняла все это как должное, без нервничания, без охов, без укора судьбе.
“Блаженны милостивые.”
Я перестала быть поэтом и не могу рассказать себе, как сегодня зарождалось на моих глазах облако и как оно вытянулось лебединым крылом ввысь и заголубело там и растаяло. И что это было для меня, бывшего лирика. Ольга сказала с ужасом: “Какие плохие стихи у вас 33-го года!” Это верно. И всего их штук 7–8 за четыре месяца.
4 мая
На днях Людмила Васильевна[191] с оживлением стала передавать мне содержание шолоховской “Целины”. Она и Вера смеялись и негодовали, принесли книгу, цитировали разные места, довольно острые и яркие. А мне хотелось сказать им, как С., покойный приятель Нины Всеволодовны[192], незадолго до своей смерти: “Я отошла от этого”. Какая-то часть моя краем уха временами слушает “это”. И может смеяться. И праздновать. Но другое, истинное, то, какое будет жить после моей смерти “я”, отошло так далеко от всего шолоховского, что я и сама не знаю, где оно.
5 мая
Перед окнами Ириса, где была Неопалимовская церковь[193], строится какая-то многоэтажная, бездарно-казарменного вида махина. И опять тот же “Анчар”. Кто-то задумал ее строить. Рабы под бичом голода “послушно в путь потекли”, на пятый этаж с носилками, полными кирпичей, сгибаясь в три погибели. Среди них есть и рабыни. Эти-то уж, наверное, пойдут через какой-то срок в районную амбулаторию: “чтой-то внутре сорвалось”. А может быть, и прямо “на лыки умирать, у ног непобедимого владыки”.
Ночь. 12 часов. Комната матери Ириса Нины Всеволодовны. Н. В. перелистывала сейчас фамильный альбом. Прекрасное лицо Всеволода Миллера[194] (Ирисова дедушки). Лоб мыслителя. Благородство, спокойствие, человечность. Века германской культуры. Сыновья тоже профессора, эпигоны. Ни у кого нет отцовской значительности. Федор[195] и Виктор[196] красивы породистой красотой, но без отпечатка творческой мысли. Этот луч пробился в личике Ириса на детской фотографии, но тут же споткнулся о бабушкину истерию и потонул в отцовской меланхолии.
7 мая. Красные ворота
Какой страшной зловещей старухой была я час тому назад. В булочной. Продавщица не хотела отрезать от моего хлеба кусок, который нужно было дать тающему от голода украинцу. Она была ничем не занята и даже играла ножом, а мне в ответ на просьбу говорила: “Прахадите, гражданка, не стойте у прилавка”. И тут я завопила (и даже кулаком по прилавку застучала): “Вот этот самый нож может пополам вашу жизнь разрезать. И будете ходить под окнами, и никто не даст корки хлеба, узнаете, что значит голод, тогда вспомните этот день и этот час”. Она смутилась и стала озираться, вероятно, хотела позвать приказчика, чтоб меня вывели. В очереди кто-то засмеялся.
“Трунечек”[197], который сегодня целый день бушует у меня во всех венах и артериях, ударил мне в голову, и я совсем уже как Иеремия, и даже не своим голосом, выкликала что-то пророчески грозное о сердцах, поросших волчьей шерстью, о камнях мостовой, которые будут есть вместо хлеба те, кто еще не понимает, что такое голод, и об ожесточении, об окаменении, об озверении. Уже никто не улыбался, а меня, кажется, серьезно собирались вывести. Вдруг из-за прилавка какой-то детина с проломленным носом, украинец, примирительно шептал: “Бабуся, бабусенька”. Мы с ним вышли при жутком молчании всех. И подумали, верно, что я сумасшедшая.
9 мая
Лис, Лис[198], мой дорогой, пусть любовь и благодарность за то, что ты есть на свете, прозвучит для тебя с этой странички в нужную минуту как утешение, как благословение, как залог той радости, о которой мы так дружно мечтали в дни твоей юности.
Сегодня ты была в белой шапочке и не казалась 35-летней, а было тебе не то 7, не то 14, не то много-много 19 лет.
И ты приникла ко мне с неудержимой лаской. И я к тебе. Без слов. Но в такие минутки вино жизни переливается из чаши одного сердца в чашу другого и причащает его неназываемой на земле любовью. Может быть, уже “таинством будущего века”.
12 мая. Утро
Ирис поехал с матерью на Ваганьковское кладбище. На могилу о. Валентина[199]. По просьбе матери в области иррациональной: “нужны знаки, нужны рубежи”. Явления того же порядка, как поездка В. Соловьева к пирамидам[200], как моя два года тому назад в Киев, как в ранней юности, запутавшись, замутившись, ослабев духовно, кидалась я на Аскольдову могилу[201].
Тишина кладбища, величавая ширь и даль Днепра, туманно-лазурные горизонты за лесами Черниговщины. Сказочное обилие цветов. Местечко между двумя любимыми памятниками – прекрасному юноше с мечтательно ввысь и вдаль устремленным взором и какому-то профессору, где на мраморе была вырезана и латинская надпись: “В другом месте, в другие времена, другой работой миру поработал”. Все это было благодатным условием, благодатным знаком для того, чтобы перешагнуть нужный рубеж, осилить нужную пядь восхождения. Таким рубежом, кроме тишины и красоты и встречи с духовно просветленными домами, бывает еще болезнь, тюрьма, утрата и др. несчастия. Изредка – великое счастье. Нечаянная радость.
16 мая. Вечер, 11-й час
Комната Н. В. (матери моего Ириса)
“Привет тебе, приют священный, мирный…”[202]
Все тревожное, суетное, злое, больное, вся накипь прожитого дня со всеми флюидами пронизывающей его современности волшебно остается за порогом этой комнаты, когда я запираюсь в ней для ночлега. Здесь меня ожидает то, чего никогда я не испытываю на моей жилплощади у Красных ворот, то, что Елена Гуро[203] называла “одиночество звездное”. Там – или неблагополучный, полуразрушенный симбиоз с самой Людмилой Васильевной, которую продолжаю любить, но уже издалека с ее бытом. Или корявое, холодное, старохолостяцкое одиночество, столь же далекое от звезд, как и от тех людей (исключая Вадима и отчасти Анну Ильиничну – домработницу), которые объединены со мной общим кровом.
5 июня. 11 часов вечера
Ирис в театре. Смотрит “Мертвые души”[204]. Не тянет меня на этот спектакль. И не только потому, что в старости редко кого тянет к зрелищам (музыка – другое дело). Когда и помоложе была, не любила манеры иллюстрировать классиков. Редко ведь образ иллюстратора совпадает с тем, какой мы сами творим на основании данного текста. Интерпретация же Гоголя с помощью актерского грима, голосов, мимики и бутафории представляется мне ничего общего с настоящим искусством не имеющей. В частности, тут нет места театральному действу, нет отношения к театральному искусству. И воображаю, как огорчен был бы Гоголь этой антихудожественной выдумкой. Тащить на сцену его Плюшкина и Собакевича. Точно он сам, если бы мыслил их в драматической или комедийной форме, не сумел бы сделать этого, как сделал “Ревизора” и “Женитьбу”.
6 июня. Вечер. Ночлег в Замоскворечье
Фантастический вид из окна. При лунном свете эта часть города напоминает Стамбул. Церкви без крестов кажутся мечетями. Канаву, смутно поблескивающую между ветвей бульвара, можно при игре воображения, рвущегося вдаль, принять за Эюб. (Сладкие виды возле Константинополя и все вместе – какая-то далекая от жизни Шехерезада.) Очень я благодарна за эту “игру” Создавшему меня. Пусть она праздная и отвлекает меня от тесных врат и узкого пути. Но без нее я бы не осилила жизни в какие-то полосы. Она помогла нам с сестрой в год безработицы и голода в Киеве в ранней молодости заглушать терзания желудка чудесным воображенным путешествием с тысячью поэтических приключений (лежа на кровати в сумерках). И в вокзальных буфетах Германии, Швейцарии, Италии до иллюзии вкусовой, а потом и до ощущения сытости поглощать те блюда, какие особенно нравились. Игра эта помогала в болезни и в одиночестве, чуть повышалась температура, чувствовать себя в таинственном, великолепном розарии (оживали на обоях розы), слышалась чудная музыка, приходили те лица, которые не могли прийти без этой “игры”, не могли и не хотели. А в такие часы они были полны небесной нежности, понимания и великой любви. “Игра” помогала осиливать зубную боль и прохождение камней в печени, делала нечувствительным, претворяя болевые ощущения в образы, краски и звуки. “Игра” помогала в некрасивых, обыденных лицах, в заурядных натурах видеть их первообраз и воспринимать, как счастье, их красоту. Потому пусть она будет благословенна, как и все другие дары, какими наделил нас “премудрый Архитектор”.
В домах, через которые прошла жизненная катастрофа, очищенный грозой воздух легче для дыхания, чем дым и чад суеты засыпанного мелкими заботами или в так называемом благополучии пребывающего обывателя.
7 июня
Благоуханно прелестное существо, редкостный оранжерейный цветок М. Ф. М.[205] выставлена судьбой на перекресток всех вихрей и непогод бытия. После потери мужа и больше, чем мужа, – Друга и великой духовной опоры (четыре года тому назад) – одинокая, героически терпеливая, полная лишений жизнь. Всегда с мешком на плечах, в непомерно больших башмаках на маленьких ногах, с лицом боттичеллиевской “Primavera” под случайным линючим колпачком или белой коленкоровой повязкой, в бедных вылинявших одеждах на царственной, вернее архангельской, высокой фигуре. Серафический взор прекрасных лазурных глаз, сурово-созерцательный, далекий, и детски-беспомощная застенчивая улыбка. Вся жизнь – единый подвиг смирения, терпения, непрерывность усилий – душевных и телесных. Если бы существовала подобная книга Поселянина[206], которую она любит перечитывать, “Жизнь подвижников 20 века”, она бы непременно попала в нее, а ее портрет был бы лучшим украшением этой книги.
11 июня. Утро
(Ночевала у Аллочки – А. Тарасовой, которая через три часа обязана перевоплотиться в Негину из “Талантов и поклонников” – на генеральной репетиции.)
Родное и это дитя мое – Аллочка. Обиход и интересы театрального мирка от меня дальше, чем Сережин, Женин, Даниилов быт. Но по временам, как было это вчера, обменяешься каким-то взглядом, услышишь интонации до того милого, понятного до самых глубин и тебя там же воспринявшего душевного движения, что сразу ощутится вся значительность и вся действенная жизненность нашей внутренней связи. И всегда при этом вспомнится крохотное, беспомощное тельце, только что покинувшее материнскую утробу и очутившееся у меня на коленях (я присутствовала при родах моей подруги, Аллиной матери). И встает то чувство тайны и потрясающей жалости, с которым преодолеваю столь императивную у меня брезгливость, я прильнула поцелуем к неомытому еще от ила творения загадочному существу. Потом оно с головкой, покрытой нежнейшим белым пухом, и удивленно радостным, вопросительным возгласом “А?!” приветствовало меня из своей колыбели; и нередко утром, когда я гостила в их семье, мать, уходя на рынок, подкидывала ко мне на диван проснувшегося “Ай”, исходя от ее младенческого “А”. Матерински помню ощущение нежного тельца, копошившегося рядом, переползавшего через меня, со смехом тормошившего мою грудь и лицо. Никогда не больно, стараясь разбудить меня осторожными, шаловливо играющими движениями, пока совсем не открою глаз (крепко спалось по утрам в те годы).
Театр – с 8-ми лет сочинялись какие-то “представления” и разыгрывались с актрисами того же возраста. Ай была и режиссер, и костюмер, и декоратор, и актер сразу в нескольких ролях. Взрослые знали это по рассказам. На спектакли они не допускались.
В 12 лет – это было на даче, под тополем, в Злодиевке[207] – однажды утром я вбежала на призывные крики в комнату, где спали девочки, Аллины две сестры[208] и подруга их Маруся Карева, и увидела, как с безумно вдохновенным лицом, в развевающемся на плечах платке, в затейливом сооружении на голове Ай носится по кроватям сестер в дионисийском экстазе, кружась, танцуя и перепрыгивая через их тела. Сестры хохотали и защищались и звали на помощь. Может быть, думали, что А. сошла с ума. Осознав мое присутствие, Ай остановилась и с кроткой улыбкой (есть у нее такая улыбка в мою сторону) пояснила: “Я индийский принц, Вавочка”. Так мы ее и звали в то лето: индийский принц.
К 16-ти годам мечта о театре у такого цельного волевого человека, каким была Ай (теперь немножко цельность раздвоилась), должна была прорасти в жизнь, в действие. Она настояла, чтобы ее отправили в Москву, в школу Художественного театра. Через год отец ее написал мне: “…если, по справкам твоим (я была знакома с Аллиной преподавательницей Муратовой)[209], окажется, что Алла никаких особенных надежд не подает, уговори ее оставить эту дорогу. Пусть идет на курсы. Театр хорош для тех, кто в первых рядах. Для эпизодических лиц – это мука и проигранная ставка”.
Муратова сказала, что было бы преступлением такую выдающуюся из всех учениц по талантливости девочку отнимать у театра.
– Вы не можете себе представить, как она была прекрасна в Дездемоне.
Это была ее выпускная работа. Потом – “Зеленое кольцо”, головокружительная слава, от которой ничуть не закружилась житейски трезвая и возвышенно принявшая служение искусству юная головка.
В этом же году – брак. Так называемый “счастливый”. Потом – годы за границей. И опять головокружительные отзывы об Офелии, о Грушеньке, на всех языках. И опять никакого угара. Душа, не сдвигающая своих оценок жизни под напорами соблазнов суеты.
Призыв на родину (Немировичем) “играть Шекспира” – телеграмма в 100 слов. И обычное “затирание”: вместо Шекспира – Настя “На дне”, треневская мелодраматическая “Пугачевщина”, “Горячее сердце”, “Фигаро” – все мимо магистрали, все окольное, а кое-что и пагубное.
А жизнь не переставая ткала кокон застойного семейного благополучия. Душа рвалась из него, искала своих крыльев, тех, которые предваряют творческий полет, находила, теряла, билась, как птица в сетях. Бьется и теперь. А улететь не может. Может быть, потому что некуда.
Перевоплощение в образ Негиной удалось. Особенно последний акт, где перемалывается весь путь души вместе с житейской колеей: эта сложная, внутренняя драма горечи, презрения к себе, гордых надежд, боли разрыва с женихом (хоть и не страстно любимым) и с “честным путем” передана Аллочкой в таких благородных тонах, с такой полнотой понимания, что публика притихла, покоренная, зачарованная, как на спектаклях Комиссаржевской, Ермоловой.
12–14 июня. Малоярославец
“Вы очень красивая” (по моему адресу сидящая против меня в вагоне спутница моя, не с иронией, напротив, с ласковой улыбкой). Я внутренне задрожала от неожиданности и от какого-то смешанного чувства: удивления, удовольствия, благодарности (лишний патент на право существования?) и насмешки над собой – что верю этому и что мне это небезразлично.
И сейчас, когда записываю это (ведь записываю же, захотелось записать), представляю, какую улыбку вызывают такие записи в читающих. Такую улыбку, какая была у меня, когда я читала в дневнике Софьи Андреевны Толстой записанные ею комплименты знакомых насчет ее стройности, свежести, моложавости – в 60 лет. Но там хоть были налицо некоторые черточки наружности для такого замечания. У меня же столько в лице, да и во всем теле столько оплывов, теней и гофрировок старости, что только по крайней слабости зрения могло показаться моей визави общее впечатление “красивым”. Но благодарность остается: хотела сказать приятное, подбодрить. И это, пожалуй, удалось.
День.
Нет, не вытеснить этого. Не хотелось писать – праздно, нецеломудренно звучат там слова, где нужно дело. Может быть, всю жизнь изменить. Но нельзя и мимо, вечно мимо проходить.
Встреча с голодающими. Рабочий-торфяник; застывший в безысходном отчаянии взгляд, покойницкие тени на молодом, пергаментно-желтом лице. Убежденное: “На що его жить? Скорише вмерты всим зараз”. Оставил в Черниговщине трех опухших от голода ребят от 4 до 8 лет. “Одно, я так думаю, вже вмерло”. С головы до ног покрыт насекомыми.
Темная свитка, которую положил возле себя, вся шевелилась белыми точками. “В баню? Яка ж баня, як сорочка одна и мыла немае и грошей немае…” Что заработает, идет на хлеб. 2-х фунтов при 12-часовом дне не хватает. “Борщ, як та вода из канавы, тилько щоб живот болив”. “Картошки – два раза глотнуть”. Голодные девушки из-под Брянска: красивые, еще крепкие, но с распухшими от голода и болота руками и ногами. Едут с торфов, “меняют счастье” на кирпичный завод. В день отъезда хлеба не выдали, и купить негде. Сутки не евши. Печальные, осунувшиеся личики. Кто-то спросил: – Поют ли у них? И какие песни? Удивились: – Какие песни? Голод.
15 июня
Разговоры о дневных грабежах: в таких-то городах нельзя донести муку с базара и посылку с почты домой. У нас ночью забрались в козий сарай, отбивши замок. Коза ночует в сенях, чего местные bravi не знали. Унесли топор какие-то гастролеры, банда в 19 человек, угнали из стада пять коров. За ними погналась милиция. Они отстреливались. Какое одичание нравов. Но по существу нечего возразить против таких явлений. Пружина голода, как и холода, так импульсивна, что люди с моральной брезгливостью, с устоями, идеалами (мы все знаем это по устным и печальным анналам 18-20-го года) таскали друг у друга и везде, где можно, дрова, сахар, валенки…
А день такой чудный, мягко-знойный, в тени прохладный с легким ароматным ветром.
Много разговоров. Опустошенность. Прекрасная мать-пустыня, зачем суждена разлука нам? Ни с кем общение не может заменить “пустыню”. Когда душа жаждет безмолвия.
16 июня. Утро. (Спутница жизни моей на базаре, и я одна)
“Невозможно объять необъятное” – этот козьма-прутковский афоризм вчера был применен ко мне. Но разве я хочу “объять”? Я пришла бы в отчаяние, если бы необъятное могло вместиться в объятия моего постижения. И нужно мне только очень простое, очень личное, то, о чем пишет Джемс в “Многообразии религиозного опыта”[210] – “обращение”: войти всей тканью души (а не частично, как я вхожу и не раз входила) в осязаемо-реальный живой поток религиозной жизни, со всеми следствиями второго рождения, второго крещения. Без этого все будет “на распутье”[211] (есть у меня такой стихотворный цикл). И все же я не могу завидовать тем, кто “утверждался на камени” в православии. Потому что “камени” этого я боюсь – с тех пор, как почувствовала недвижность, окаменелость религиозного сознания в некоторых душах. Религиозная жизнь не может быть ни “на камени”, ни “Столпами утверждения истины”[212]. Она – поток, непрерывное движение, творчество. Все формы, все утверждения частичны и временны, как в жизни отдельных народов и у отдельных людей. Если бы германо-немецкий католик 14-го века прожил 100–200 лет, он бы умер не католиком, а лютеранином. “На камени” можно оставаться лишь потому, что очень коротка человеческая жизнь.
9 тетрадь 23.6-28.9.1933
1 июля. Москва. Пробило 12 часов. Ночлег в комнате Ирис
400 человек персональных пенсионеров снято с Госснаба – узнала час тому назад это от Нины Всеволодовны (Ирисовой матери, которая возложила на себя все тяготы получения моих карточек и пайков). 400 человек. Сколько растерянности, угнетения душевного, жалоб, слез, обреченности “недоедать”. Меня почему-то не сняли. Спросила себя, а если бы?.. Готова ли я к этому? Да, потому что верю, что рука, ведущая меня, дала бы мне силы на работу и привела бы к работе, которую теперь не умею подыскать.
Спрашиваю себя дальше: – А вот те, которых ты видела между колонн на ступенях Брянского вокзала с голодными, безнадежно на проходящих пассажиров устремленными глазами. Разве они не также “в руке ведущего” их? Или они хуже тебя и за это лишены приюта, хлеба в то время, как ты укладываешься здесь в чистую постель после чаю с печеньем под сияющими лаской глазами Нины Всеволодовны. Ах, я знаю, что они не хуже. И что они тоже “ведомы”. Но, может быть, они ведомы таким тесным путем именно потому, что они лучше? Но опасно успокаиваться на этой мысли. Вообще опасны закрытые глаза покоя. Другое дело – тишина. Она – условие внутреннего роста (для некоторых людей, в том числе и для меня). Покой – пуховик духа, инерция бездвижности, анабиоз. В тишине человек все помнит, в покое – все забывает, кроме неги удовлетворения чувственных потреб и эгоистических влечений ума и сердца.
Хорошо написал Гумилев в одном стихотворении, посвященном Анне Ахматовой:
Все о тебе, о тебе, о тебе, ничего обо мне[213].Когда душа проходит через такое большое чувство, где есть уже желание и возможность притушить свой эгоизм, она созревает в этом опыте для слияния с высшим “Ты” и для служения ему.
2 июля. Ночь. Половина 12-го
Приют и уют комнаты Нины Всеволодовны. Шура Доброва (она же Коваленская) как-то робко спросила: “А водяные лилии уже есть?” Было любимой мечтой в этом году как можно раньше уехать из Москвы. И вот третье лето уже среди известки, пыли и всех городских смрадов, натягивающих в окно, как только откроется. Ночью приходилось вскакивать и с быстротой вихря захлопывать рамы, так как в комнату набирался какой-то газ, от которого, казалось, можно задохнуться. Шура научилась терпению – и вообще многому научилась за десять лет замужества. Перекроила весь внутренний план душевной структуры и наполнила его новым, раньше недоступным содержанием. Выросла и оформилась в этой работе. Поистине здесь была “метанойя”[214], новое рождение в 30 лет.
Разве дело в объекте восхищения? Все дело в самом процессе, в его напряженности, чистоте и в его тональностях. Перед самыми роскошными видами иной человек и сотой доли того восхищения не испытает, какое испытывает Шура и муж ее, Биша, перед несколькими ростками папируса на их подоконнике. Такой же восторг – уже до потребности театрализировать – его вызывают у Шуры случайные букеты, которые иногда мать приносит с рынка. Непременно завтра принесу ей цветов, как можно больше, всяких, какие только найду на Зубовской площади.
Шура – красивое явление. Мраморно-гладкая беспористая кожа, как у римлянок, изумительный рисунок бровей, лба и разреза глаз – больших, трагических, светло-стального цвета. Некрасота нижней части лица совершенно искупается верхней частью его и прекрасной по царственной стройности и редкому изяществу фигурой. К этому огромные, тяжелые, блестящие темно-каштановые косы.
3 июля
Давно это было, больше 30 лет тому назад. Ритм моего первого брака сложился очень уродливо, очень несчастливо. Человек, которого я полюбила любовью-страстью, любовью – жаждой материнства, откликнулся на нее скупо, боязливо, лукаво, хотя любил меня не менее страстно, ревниво и для обоих нас мучительно. Он был женат, у него были дети, что я узнала только спустя четыре года. Семья жила за городом, он в Москве жил один в большой квартире (он был очень известный в Москве доктор). Особенно мучителен и унизителен для меня был самый ритм наших встреч – мопассановских, альковных, всегда – у него. Об этом ритме и захотелось мне рассказать.
Я пошла на них, потому что изживала в них рабью сторону женской моей природы. Был один канон жизни – подчинение воле того, кто стал главой жизни, Душой – души. И как это ни странно сказать, года три я не могла допустить, что он по отношению ко мне может быть морально несостоятельным. Что вообще он не первый из людей по своим нравственным качествам, по душевной красоте. Когда я стала сомневаться в этом, расшатался брак и после четырех (из них 3-х мучительнейших) лет рухнул.
Вот в этом-то в высшей степени несчастливом браке, если можно назвать браком то соединение, где, по Розанову, женщина “проходимка в любви”[215], были встречи, несмотря на свое альковное содержание, а может быть, именно благодаря этому содержанию в моем сознании до такой степени богатые, разнообразные и прекрасные, что все больное и горькое таяло тогда как дым…
4 июля. 12-й час. Комната Нины Всеволодовны
Возвращаясь от Добровых часа полтора тому назад, услышала из полутемноты рыдающий бабий голос: “Сестрица, с голоду помираю, дай что-нибудь, сестрица”. Крестьянка средних лет. Искаженное мукой и отчаянием лицо. Я дала ей две конфеты (!). И только придя к Бируковым, где мне приготовили огурец со сметаной, чай, простоквашу, сообразила, что все это можно (и должно!) было дать “сестрице”, чтобы она хоть один раз досыта поела во время нищенских и безуспешных скитаний по страшному чужому городу, среди страшных своим равнодушием людей. Что из того, что имя этой сестрице – легион, и что было бы большой неловкостью привести ее в квартиру Б<ируковых>, и все испугались бы насекомых, и разворчалась бы Аннушка. Что все это перед тем, что человек умирает с голоду. Ведь не легион меня позвал на помощь, а именно эта Авдотья или Марья. Позвала тоже не легион московских обывателей, а меня, старушку Малахиеву-Мирович, которая сегодня исключительно много поглотила всяких пищевых продуктов (выдали паек и угощали в разных домах) и которая дала умирающей от голода женщине две конфетки. Если уж так неловко было позвать ее в столовую Б., можно было вынести ей на лестницу хлеба. Ай, ай, какой стыд и какая непоправимость. Задаст мне совесть – неумытный судья за эти две конфеты.
Как бывают “герои труда” в области затраты физических и умственных сил, так нужно отмечать и героев моральной выносливости и устойчивости и героической затраты эмоциональных сил. К таким героям принадлежит Валя Затеплинская, теперь жена “вредителя”, на 10 лет присужденного в концлагерь. Она знает, что все это какое-то недоразумение, что муж ее из породы “энтузиастов” и предан не за страх, а за совесть социалистическому строительству, но она знает также, что такие недоразумения совсем не редки. И что распутать их бывает почти невозможно. Тем не менее она соблюдает полное равновесие и только свыше меры напрягает всю энергию на работу (для передач) и на хлопоты о муже.
Думала по поводу одной близкой мне женщины о пришвинской теории “брачного полета” в человеческих брачных встречах. Он описывает в “Кащеевой цепи” безумную гонку героя романа – думаю, что это сам автор в юные годы – за некоей Инной, “светолюбивой березкой”, которая оказалась не светолюбивой, а светской барышней-самкой, которой нужно было, чтобы полет, то есть ухаживание, то есть замаскированное преследование, продолжалось еще дольше, еще энергичнее. Близкая мне молодая женщина описывает в своих дневниках очень правдиво и художественно такой брачный полет своего несостоявшегося брака. Несостоявшегося, потому что герой, полюбивший женщину серьезно, высоко ценящий в ней свободное и равное себе существо, не хотел преследовать, добиваться неотступно, был рыцарствен в некоторых случайных обстоятельствах, где легко было овладеть девушкой, потянувшейся к нему и душой и телом в ответ на его чувство. И может быть, даже раньше, чем в нем возникло это чувство. Замечательно одно местечко дневника, дающее ключ к дальнейшим событиям. В тех рискованных обстоятельствах, которыми влюбленные мужчины мопассановского типа так легко “покоряют” женщину – до победного конца, герой этого тончайше целомудренного в своей рискованности романа говорит испуганной собственным страстным порывом, чистой, хотя и не очень молодой девушке: “Все будет постольку, поскольку вы хотите и как вы хотите”. “Мало”, – вырывается у девушки, к ее собственному удивлению. На этой страничке она искренно не понимает, что значило это “мало”, было оно “озорное” или “неприлично наивное” в ее возрасте. Было оно естественной жаждой мужа и ребенка – отсюда и “победного конца”. И отсюда же последовало то всех поразившее неестественное, что, разлучившись с обрученным уже будущим мужем, девушка через две недели выходит замуж за другого человека, перенеся на него чувство, предназначавшееся первому. (Первый в письмах не сумел подчеркнуть своей настойчивости и пылкости. И письма были редки.)
Г. И. (Чулков)[216] жалуется, что не с кем пофилософствовать – атрофировался вкус к отвлеченному мышлению, атрофировалось и самое умение мыслить. “У меня сидело недавно за этим столом семь человек гостей. Все литераторы. Почтенные, неглупые, среди них были и даровитые. Зашла речь о фашизме. Что же вы думали: все как один как завертелись на газетном пересказе, возле фактов, а если обобщеньице – так вот какое – с ладонь и с шорами на глазах. Я при этом затосковал, как представил себе, что сказал бы на такую тему Вячеслав Иванов, как говорили бы, ну, хотя бы Мережковские…”
6 июля. Все еще Москва
Смоленский бульвар. Возле будки с мороженым два парня – один, с портфелем под мышкой, грязными пальцами запихивает в рот крошечную вафлю с прослойкой, похожей на полурастаявший весенний снег, полежавший в лужице с навозом. Трое полуголых школьников – кто с завистью, кто с уважением, кто с хулиганским огоньком – не могут оторваться от этого зрелища. Когда парни отходят, проглотив по три вафли, один из мальчиков пытается уговорить продавщицу дать ему мороженого “без вафли, в руку, на гривенник”. Дети у скамеек, занятых старыми и малолетними няньками, роются в земле, обмениваются какими-то щепочками, ревут. Больной ребенок лет трех провожает созерцательно умным взором ноги прохожих. На коленях у него какая-то игрушка, но, очевидно, он не в силах играть ею. Чуть не прикрывая его головку огромным свисающим турнюром, его бонна – немка с головой мопса презрительно беседует с сидящей рядом нянюшкой, явно “бывшей барыней”. Рабфаковки в чем-то оранжевом, красном, с зелеными гребешками в стриженных в скобку затылках, в туфлях на босу ногу, пугая ярым хохотом и визгами малышей и галок на нижних ветвях лип, промчались куда-то с папиросами. Старик еврей с тонким скорбным профилем, бедно, но чисто одетый, старательно чертит что-то на песке бульвара короткой палочкой, низко согнувшись на скамье. Что он чертит? Подхожу. Окно, тщательно вырисованное итальянское окно. Закончив рисунок, он вперяется в него долгим неподвижным взглядом. Видится ли ему там что-нибудь каббалистическое, или какие-нибудь воспоминания, или заботы.
8 июля. Полночь
Моя симфония (подражание А. Белому)[217]
Залихватскими голосами раздирает тишину радио, над квартирой, где умирала жена Цявловского[218]. Она поджидала его из Крыма. Она не знала, что он там с другой женой.
Цявловский в Ясной Поляне. И жена его с ним – тонкобровая, тонконогая, тонкостанная, темно-русая аристократка-немка Зенгер[219], ученая женщина. Молодая и красивая. У Цявловского непомерно широкие брови, черные (крашеные?), седые виски, и сам он похож на объемистый, плохо взошедший сырой кулич.
Ирис мой, Ольга моя – им по 35 лет, но были они за добровским столом как девочки. Смотрели молодо, свежо, наивно и застенчиво. Как любила их я.
Украинцы. Серые, черные, желтые от голода лица. “Не треба житы” – слышала от троих в разное время. Дети. С тусклыми, покорно умирающими глазами зарезанных ягнят.
Самоубийство Скрипника[220] – наркома Украины. “Не треба житы”. Не мог вынести.
Тарасовы отдыхают в Посадках на Днепре[221]. Можно ли там отдыхать? Пир во время чумы. И у нас – пир во время чумы. Мы проголодались сегодня сейчас же после обеда и продолбили консерв-бычки и проглотили его втроем.
Ольгина тетка, секретарь канцелярии Воронежского университета, просила прислать ей какого угодно хлеба. Хлебных корок просила прислать моя двоюродная сестра в Киеве. Племянница Лида хочет приехать за хлебом сама из Воронежа в Москву.
В музее Александра III[222] стоят Ефимовский индюк, петух и лань. Музей Александра III – его колонны, его вестибюль.
Эхнатон, Тутанхамон – “от Египта воззвал Я сына моего”. В одной из пещер Гималаев нашли изображение Христа.
Мне не хочется в Малоярославец. Мне безумно не хочется к Красным воротам. Мне нужно изменить всю жизнь. Всю жизнь.
Страшные имена дали Гекате – Луне: фессалийские колдуньи Бомбо, Мармо. Бомбо. Горго, Мармо. Страшнее всего – Горго. Иисусе, сын Давидов, помилуй меня.
9 июля. 12-й час. Комната Нины Всеволодовны
Симфония 2-я
Вместо лани, индюка и петуха Ефимова (в музее на выставке, куда было идти условлено) захотелось Мировичу старому песнопений церковных, и поплелся он в Дорогомилово. “Милость мира, жертву хваления”[223] – разносились слова не совсем понятные, но такие с трех лет знакомые. Подпевал бородатый рабочий хозяйски-уверенно невероятным голосом. Как много рабочего люду в Дорогомилове, у Богоявления[224].
Желтый, желтее шафрана, стоял на паперти мальчик – кожа да кости. Где он сейчас? Спит, свернувшись на голой земле, как все украинцы, или без сна смотрит во тьму, как и днем глядел на свет – без надежды во взоре. Впрочем, с надеждой на смерть-избавительницу. Милосердия двери отверзи нам мать-земля, Богородица.
22 июля
Филипп Красивый[225] – так звал доктора Доброва родственник (со стороны жены) Леонид Андреев. И до сих пор все в нем своеобразно красиво, несмотря на деформирующий резец старости. Внутренно ничего не деформировалось. Наоборот, душа его цельнее, сосредоточеннее, углубленнее, чем в молодости (я знаю его 24 года). Внешне отяжелела и разрыхлилась плоть. Но то же сурово-правдивое, с отпечатком независимой мысли выражение в северных хмурых чертах, священнически благообразных. И вдруг эта хмурость прорывается целым снопом света и смеха. Смех раскатывается, как гром; лицо розовеет (не краснеет, а розовеет, как заря), глаза блестят, как вода на солнце. И сохранилась нерушимо чистота сердца и высота мысли.
23 июля
Было мне очень плохо вчера. Железы не давали глотать, мешали вздохнуть. Так было уже несколько раз этим летом. Вспомнился бедный Павел Михайлович Велигорский (брат Елизаветы Михайловны Добровой), умиравший медленно и мучительно от рака пищевода. Он не говорил о своей болезни; только близкие родственники знали и молчали о ней. И я не понимала, почему за добровским столом Павел Михайлович ничего не ест. Обыкновенно в гостеприимнейшем их доме все с особым удовольствием ели. Был один пир, кажется день свадьбы Коваленских[226], когда П. М. до того заметно ничего не вкушал, что кто-то спросил его об этом. “Не хочется”, – сказал он с улыбкой. И прибавил: “Я пью”, – подняв маленькую рюмку с вином. Глаза у него были странно блестящие, так что мелькнула мысль, не слишком ли он много выпил. А он, бедняга, мог пропускать лишь по одной капельки жидкости, и то с мучительным ощущением в горле. Не вынес голодания, пошел оперироваться и умер под ножом очень скоро после этого вечера.
28–29 июля. 7-й час утра. Москва. Благословенный приют – комната Нины Всеволодовны
Вчера по дороге из Малоярославца в Москву парень лет 18-ти ни с того ни с сего начал глумиться над старым, очень бедным евреем – главным образом над его старостью. Парень в тюбетейке, глаза, выпученные от наглости и глупости, и от этого же выпятилась нижняя губа. Старик чувствовал себя оскорбленным, но так плохо говорил по-русски, что каждым словом давал лишний повод для издевательства парня.
– Ну, как же ты не грач? Гляди, у тебя нос какой! Разве у людей такие бывают. Более ничего, как грач.
Тут раньше, чем я сообразила, стоит ли с ним говорить, кто-то, во мне прокалившись внутренним гневом до полного спокойствия, молодым уверенным голосом громко сказал: “А ты разве не грач? Посмотри на себя в зеркало – желторотый, губошлепый – Грач – каркаешь по-дурацки, сам не знаешь что, тошно всем слушать”.
Парень остолбенел от негодования.
– Ты, ты, ты – купчиха, барыня старая, ты мне: грач. Я – комсомолец. Ты можешь это понимать? Тебя через тридцать лет не будет, вас через тридцать лет всех выведут, – захлебываясь, лепетал он с побелевшими глазами.
– Меня не через 30 лет, а через год, верно, уже не будет, а тебя от злобы, может быть, вот тут, на месте, сию минуту разорвет, – так же спокойно сказала я.
Вокруг захохотали и дружно обрушились на губошлепа так, что на глазах у него выступили слезы, и мне даже стало его жалко.
Рыженькая колхозница средних лет с крепким сбитым скуластым лицом и с колючими умными глазами, маленькими, как изюминки, разразилась монологом:
– Волю вам дали, вы и рады бузить. Там, в Москве, не видят, что вы разделываете. А уж стали приглядываться. Такого, как ты, давеча на 10 лет в Сибирь угнали. Восемнадцатилетний приехал, ту, другую, третью работу всем назначает – и все без толку. А муку запер, хлеба не дает, народ не евши. Подумали, да и поехали в Москву куда следует, пожалились, а как вернулись с комиссией – он уж, губошлеп-то, половину муки куда-то отправил. Ну и живым манером на 10 лет; туда вас и надо всех таких. А над нами мальчишкам довольно чудить – начудили и так, вредители.
Вечер. 10 часов. У Нины Всеволодовны
Уползла сегодня сюда, как старый больной зверь в надежное логовище, где никто не тронет. Трудной показалась беседа с милой Н. В. и ее приятельницей, трудна перспектива слушать стихи Ириса. И от столь любимого добровского дома отказалась на этот вечер. Нет сил. И железы мешают глотать и дышать. В разгаре домкомных неувязок (с карточками) зашла к Ефимовым, чтобы не уезжать далеко от своего застенка. И чтобы с ними и среди их картин и скульптуры очиститься от грубости и “классовой ненависти”, какой встречают в нашем домкоме всех, кто имеет несчастье не принадлежать к рабочему классу. Впрочем, и “своих” они тоже ругают при случае еще забористее.
У Ефимовых, несмотря на их исключительный эгоцентризм, самоутверждение и славолюбие, чистый воздух, провеянный аристократичностью их мировосприятия и отсутствием мещанства. С ними легко и просто, как с хорошими детьми. Обаятельность Ивана Семеновича в его красоте – теперь уже старческой, но еще без заметных следов разрушения (первая старость бывает еще красивой и внешне); в гармонии с этой мощной красотой (соединяющей с мужским богатырством и что-то детское, особенно во взгляде васильково-синих глаз) и творческий поток его внутреннего существа. Недаром он творит зверей, зверь у него из первобытного Эпоса – человекоравный, мудрый, полный стихийных сил и, может быть, оборотень. И так близко это к детскому восприятию мира. К тому, как трехлетний Сережа (мой), подойдя в зоологическом саду к медведю, первый раз в жизни увиденному в натуре, сказал: “Здравствуй, Мишка. Вот мы к тебе пришли. Ты совсем не страшный, только очень большой”.
Ефимовские звери не страшны. С ними можно говорить, только, разумеется, не на интеллигентском языке, а как говорил Сережа. И в этом разговоре с ними, и с куклами, и с картинами Нины Яковлевны так отдохнула душа. Это ведь тоже одно из моих души-отечеств, мимо которого, лишь краешком его задевая, я прошла на этом свете: картины, скульптура, игрушки.
Этого душе-отечественного элемента, неуловимо тонкого воздуха искусства, излучающегося из всех пор существа, у Нины Яковлевны еще больше, чем у ее красавца мужа. И этим некрасивая смолоду и поблекшая соответственно со своими 56-ю годами Н. Я. обаятельно прекрасна; настолько, что и неправильные серые оплывшие черты ее лица, освещенные извнутри, воспринимаются как своеобразная красота, на которую радостно смотреть и которую приятно вспоминать. Ничего не хотелось бы изменить в этом лице с набухшим семитическим носом, с вытянутыми губами. Н. Я. из тех редких людей, каждого слова которых, каждого душевного движения ждешь как своеобразного, значительного и милого.
31 июля. 1-й час ночи. Надвигается гроза
Москва. Комната Нины Всеволодовны
С П. А. неожиданная встреча, малоразговорная, но вся напоенная чем-то хорошим-хорошим, самой высокой пробы. Отдохнули с ним от фантастически суматошного и невыносимо грубого дня. Целый день трамваи и метанья между распределителем и домкомом. Облеченное доверием домкомное начальство в лице наэлектризованного классовой ненавистью рабочего обрушилось на меня всеми копытами…” по дачам ездите… так вам и надо: вот и посидите без хлеба. Справка? И не подумаю. Какая такая еще справка?” А из глаз – все четыре копыта.
Вспомнилось, как в старину орал и топал ногами на нас – на меня и знакомую курсистку – киевский жандарм полковник Новицкий[227]. Чуть-чуть другой жаргон, но то же содержание, такая же насыщенность человеконенавистничеством. Курсистка вышла от него в слезах. “Честь, правду, человеческое достоинство, все затоптал своими сапогами”, – всхлипывая, говорила она. Я не плакала, как не заплакала и теперь. Я испытываю в такие минуты глубокое недоумение, недоверие к тому, что это действительность, а не сон. И смотрю и силюсь разгадать это откуда-то со стороны. И уж потом приходит мысль о “чести, правде, человеческом достоинстве”. И не скажу “обида” – может ли обидеть вас собака, которая ошеломит вас лаем и вдобавок и кусает. А поскольку такой управдом человек, за него, за звериность его проявлений неловко и жутко. Поскольку же сам все-таки облит помоями, говоришь себе:
– Такова историческая Немезида.
За то, что я, мы – интеллигентский класс – имеем возможность читать, думать, творить, за то, что мы знаем Шекспира, Байрона, Данте, Герасимов [председатель жакта. – Н. Г], который с трудом одолевает “Рабочую Москву” и полжизни – на заводе, ненавидит нас прочной, тяжелой, завистливой ненавистью.
1 августа. 12 часов ночи
Москва. Комната Нины Всеволодовны
Отшумела, отгремела очередная гроза (третьи сутки или вечером, или ночью грозы). Откричал что-то хрипло-назойливое, на весь двор орущее громкоговоритель из чьего-то окна. Тихо. Время развернуть хартию прожитого дня. Что в ней? Утром Нина Всеволодовна, Ирис, Аннушка. Нина Всеволодовна охвачена приступом тоски о пропавшем сыне. “Не пишет. Два месяца уже. Уехал на Алтай? В сыпняке где-нибудь валяется, может быть, уже схоронили его. Или женился, негодный мальчишка, и все на свете забыл…. Надо опять на могилку о. Валентина съездить. Иначе не вынесу этой неизвестности”. Аннушка: “Пропаду, все пропадем з етой жизни. Третью ночь за керосином стоим. А в 4 часа говорят: нету. И дров нету. Как же ж варить? А постирать? Значит, и Женя будет у грязном ходить”.
Потом у Добровых. Все соболезнуют мне в моих мытарствах по получению карточек и в безнадежности вопроса. Все негодуют на грубость Герасимова (нашего преджакта). Пожалуй, мне приятно, что они возмущены. Но у меня нет негодования, “я голубь мужеством, во мне нет желчи и мне обида не горька”[228]. Не во всех случаях жизни, но в очень многих.
Потом – апофеоз добровской дружественности: Елизавета Михайловна прибегает сияющая с вестью, что, несмотря на все козни домкома, пайка меня нельзя лишить. Я уже успела примириться с этой неудачей, уже расчислила то, что у меня в руках, так, что получилась перспектива хоть очень скаредного житья, но можно было не бросать дачной комнаты. Тем не менее празднично пережила эту весть из-за этого чудесного сияния на лице Елизаветы Михайловны, доброты и самой неподдельной и очень сильной (сильней, чем у меня) радости за мою удачу и за конец моих мытарств. Еще и еще раз вспоминаю, как умирающая Н. С. Бутова говорила: “На смертном одре познаешь, что такое друзья и кто твои друзья. Мои – Добровы. Лиля. Елизавета Михайловна и Филипп Александрович”.
В шесть часов пошли с Ирисом на Девичье поле, в маленький, но очень зеленый треугольник “второго” сквера с большими развесистыми деревьями и бархатными лужайками. Там Ирис читал и отбирал при моем участии стихи для рецензии Луначарского. Так ей кто-то посоветовал. И встала над нами апокалипсически грозная туча с лиловыми и красными молниями. Успели добежать домой до ливня. Отбирали книги для продажи – семья бедного Ириса почти голодает. Его подкармливают, а мать и кормилица питаются кое-как. Отобрали мне для ночного чтения Марка Аврелия, Буаста[229]. Открываю его, чтобы встречей с ним закончить день: “Попался тебе горький огурец – брось его. Попался терновник на дороге – отстрани его. И довольно. Не говори при этом: зачем такие вещи случаются в мире?”
Но ведь это “зачем” – начало всякой философии, начало религиозной мысли – во имя чего же отстранять его.
12 августа
У Эренбурга – самого умного, самого прямого, острого и фельетонно-блестящего писателя современности хорошо сказано о кино: “Кинематограф был дан человечеству, впавшему в детство, как гениальная соска, с его совмещением экономии времени и нормальной питательности души. Он нес в себе универсальную упрощенность для усталых фантомов, а также для молодых, вполне здоровых кретинов. Поэтому до войны он оставался низкой забавой, воскресными выходами детворы и прислуги, чтобы стать потом основным искусством современности”[230]. Тут ярко сформулировано то, чем кинематограф будит во мне отвращение. Брезгливое чувство к соске (даже когда Даниил “водил” нас с Анной Васильевной Романовой на “Зигфрида”[231]), недоумение и обида: за кого меня принимают, угощая под видом искусства – даже не суррогатом, а пародией на него. Вращающие белками лица величиной с дверь, каждая слеза – с крупную грушу, все нарочито, все подчеркнуто, сметано на живую нитку. И в угорелом темпе. Никогда не могла понять, как люди, не лишенные художественного чутья, могут серьезно говорить о той или другой постановке в кино. И кто-то еще имел безвкусие наименовать его “киношку” – “великий немой”.
28 августа. Москва. Комната Нины Всеволодовны
Порой чужая радость звонче и полноценнее раздается в душе, чем своя. В своей всегда почти есть привкус грусти о неполноте, о преходящести всякой радости. И контрастное представление обо всем трагическом в жизни близких. (Радость – утренняя телеграмма в семье Ириса от ее без вести пропавшего брата, которого мать считала уже мертвым.)
11 часов (вечера). Так я стремилась сегодня в бесконечных трамвайных скитаниях (из-за продуктовой карточки, как и прошлый месяц) к этой тетради, в тишину милой, гостеприимной комнаты. Но оттого ли, что я физически устала, оттого ли, что много было хлопот, а также всяких лиц, встреч, разговоров, – не притекают к перу мысли и образы прожитого дня. Мелькают обрывочки: Шура – гриппозный вид и голос: “Разве Биша без меня может прожить десять дней”. – “Почему же нет, если вы больны, а ему необходимо ехать (в Калугу)?”. “Потому что не может, и я без него не могу”. У меня, не знаю сама как и зачем (не нужно было!) вырвалось: “Это вызов Року, это не проходит безнаказанно”. Шура огорчилась и обиделась. Я просила прощения (не нужно было говорить).
Леонилла, только что приехавшая из Киева, рассказывала о трупах, валяющихся на улице и по дороге в Киев (из разоренных деревень). У Красных ворот все перевернуто. Людмила Васильевна, уже по-городскому усталая, бледная, с заметной сединой в распадающейся прическе, убирала книги и морила клопов. В комнатах стоял ужасающий смрад скипидара. Вадим завтра держит экзамен. Просил мать не отдавать его в школу. “Ты увидишь, я сделаюсь там хулиганом”. Получение заборной карточки после мучительнейших и унизительных хлопот (моих, Елизаветы Михайловны и Нины Всеволодовны). Низкая радость, что есть карточка (какая-то зоологическая, нищенская, жратвенная радость). Поэты: милый своей искренностью Берендгоф[232], бездушный кривляка Пастернак, “заумный” Хлебников (канатчиковские выдумки, психопатический бред). Даниил: поэтические экскурсы в страны Древнего Востока. Хорош Магомет – в рекдакт пушкинскому и лермонтовскому пророку – миг несказанных видений и метаний – (новая жизнь). Но исторически все неверно, и он хочет вычеркнуть эту вещь. Очень жаль. Там видения ощущаются как реальность. У меня и сейчас перед глазами Серафим, между бровей которого “семь тысяч дней пути”. И крылатый конь. Спать, спать, спать. Ах, все это периферия. А под ней микеланджеловская ночь.
“К кому нам идти? Ты один имеешь глаголы жизни вечной”[233], – так сказал некогда, – не помню, какой из апостолов. Если бы я жила тогда, неужели, встретив Христа, я не повторила бы этих слов. И еще чего-то желали бы. Думаю, что пошла бы за Христом. Тогда.
30 августа
Приехала Алла (Тарасова) из Ленинграда. Привезла свои фотографии из “Грозы” для кино. Не просто хороша она в них, а волнующе, до слез прекрасна. Особенно одна карточка, где Катерина на берегу Волги, над обрывом, как птица, рванувшаяся для полета, всей грудью устремилась вперед, и ветер взвил за ее спиной концы шали, как широкие крылья.
Привезла себе севрскую чашку и алое кимоно с фиолетовыми отворотами, расшитое сложным пестрым узором. Алла в зените артистической карьеры, и ей нужны блестящие безделушки, как трофеи, как флаг, развевающийся над зенитом. Но она лишь малою частью души живет в “обстановочке”. Самая большая часть ее – на сцене. Глубинная, интимная часть души (и ее сердце) напряжена, как вот эта Катеринина шаль, поднятая не то парусом, не то крылом встречным ветром – полет… а лететь некуда. От этого так сродни ей трагическая безысходность Катерины. И еще цела в ней девочка-гимназисточка. С таким лицом смотрела она, кутаясь в свой розовый халатик, как заводил муж часы, и считала бой, не отрывая глаз от циферблата (часы “папины”, только что перевезены из Киева), и улыбалась, забыв закрыть рот.
1 сентября. Вечер. 11-й час
У Художественного театра под водосточной трубой опухший от голода человек слабыми руками подставлял под струю воды кружку – рука дрожала, вода лилась мимо. На руках у этого человека копошилась такая же распухшая девочка лет двух. Сверху их поливал дождь. Мимо шли потоком люди, таким же бездушным, как дождь, как судьба. Мимо прошла и я. На обед к Алле. И, когда ела котлеты и пила чай с пастилой, образ человека “защитной реакцией” душевного организма был предусмотрительно вытеснен. Ожил только теперь, к ночи.
Двухлетний Женя, сосед Ириса по квартире, вкатываясь в их комнаты, если увидит меня у стола, лепечет: “Масла, дай масла” – жалобным голоском. (Это после того, когда я однажды дала ему хлеба с маслом.) И когда есть масло и я намазываю его на ломтик хлеба, с жадным блеском в глазах Женя умоляюще говорит: “Побольше, побольше, хорошенько мажь”. Женина мать – химик, заработок выше среднего. Но на масло не хватает.
14 сентября
Однажды (было мне тогда 30 лет с чем-то) приехал в Москву знакомый по Киеву миллионщик-сахарозаводчик[234] и с места в карьер: “Давай соединим наши судьбы…. Я не могу видеть, чтобы такое прекрасное существо жило в такой отвратительной гостинице (я жила в номерах, переполненных темными неудачниками всяких профессий, а назывались номера «Успех»)”. За этим следовали “комплименты”, “признания”. Среди них: “Я полюбил Вас с того вечера, когда вы читали «Гефсиманскую ночь», все струны души у меня так чудесно при этом зазвучали. И я подумал: она или никто”. Софья Исааковна была его жена, очень тепло ко мне относившаяся, когда я была у них в доме гувернанткой и потом, когда я гостила в их семье летом. “Ах, этого не надо трогать, – сказал он, – это больное место. Но там уже ничего нет, нас ничто не связывает. Я думаю, что С. И. будет уже все равно, если мы вступим в союз. Но лучше, конечно, чтобы она не знала”. – “Лучше обмануть?” – “Я как-то об этом не думал. Будет, как вы захотите. Захотите – мы афишируем это. Захотите – впоследствии это можно будет даже превратить в законный брак”. – “Но неужели вы серьезно думаете, что я могу чего– нибудь в этом роде «захотеть»?” – “А почему нет?” – “Прежде всего, потому что я Вас не люблю. И еще, потому что меня мало соблазняют те блага, какие вы собираетесь мне предложить вместо номеров «Успеха»”. – “Я почти рассчитывал на такой ответ и не могу не ценить вашего возвышенного образа мыслей. Тем не менее, я огорчен”. – “Тем, что незаслуженно меня оскорбили?” – “Вы считаете оскорблением то, что человек приносит к Вашим ногам свое чувство, свое состояние?” Он был в искреннем недоумении.
Зачем я вспомнила это? Сахарозаводчик уже где-то в шеоле[235], в ожидании нового воплощения, а прах его на одном из кладбищ Парижа. Мир его душе, мир его праху. Он не был плохим человеком. Любил дружить с философами, с артистами. Задумывался (на минутку) о смысле жизни. Что-то улучшал на своих заводах. А за меня, за тот вечер с него спросится. В том “классовом” освещении жизни ему противоестественным и глупым казалось, что бывшая гувернантка и бедная поэтесса, живущая в ободранных номерах “Успеха”, может не желать такой блестящей перемены жизни, как переезд в “Метрополь” или за границу, и вместо жалких случайных одежд облечься в шелка и меха (было шутливое предложение “горностаевой мантии”). И разве он первый или последний так разговаривал со мной? Самое же странное для тех, кто будет эту страницу читать, вот что: такие гнусные предложения меня никогда не задевали. Они до того ко мне не относились, до того чужд был круг мысле-чувств, из которого они рождались, что было так же необидно это слышать, как если бы монгол, замазывающий кувшин с молоком навозом вместо крышки, наивно предложил отведать этого молока.
А пишу я все это, потому что дождь, сумерки и вдруг выплыла эта полоса. Были и такие случаи, когда билось сердце, но не от чужого золота – от чужой страсти.
10 и 11 тетради 8.10–10.12.1933
8 октября
“…Вы обременены собою…” – была такая фраза в одном из летних писем П. А. Верно, верно. Очень я обременена собою. Очень мне в тягость Мирович. Жить с ним неразлучно, обслуживать его – “какая усталость, какая тоска”. Сегодня (или вчера?) было мгновение такой воздушной, такой блаженной отделенности от этого старого грузного тела, и не только тела – от способов мыслить, чувствовать, воспринимать.
Биша (Коваленский), “детский” писатель и (недетский) крупный поэт, – начальник тюрьмы в Калуге. Комментарии излишни, но. “жаль, Яго, страшно жаль”[236]. Ie faut manger[237].
10–11 октября
Была ли когда-нибудь борьба за существование такой ожесточенной, как в наши дни? Пошатнулась морально брезгливость, все средства кажутся допустимыми – лишь бы достигнуть победы, то есть не пропасть. И вряд ли страшен конец (смерть). Страшнее длительность агонии, в какую превратилась жизнь. И страшен миг перехода из нее. Убеждена, что если бы существовала, как в американском клубе самоубийц, гарантия комфортабельной, безбольной смерти, многие (из людей неверующих) променяли бы на нее свое медленное умирание от голода, холода, от всех гнусных перипетий “борьбы за существование”.
Впрочем, в самоубийствах нет недостатка. Сколько раз приходилось в этом году слышать от очевидцев, как кто-то бросился под поезд. Людмила Васильевна рассказывала третьего дня про одну женщину, громко воскликнувшую в трамвае: “Господи, какое счастье было бы – умереть!” Покончил с собой отец Лиды Арьякас. Старик. Не вынес лишений полуголодной жизни. Лида рассказывает, что, приехав на родину (Владикавказ), не узнавала при встречах своих знакомых. За три года, в какие она их не видела, все “пожелтели, позеленели, превратились в ходячих скелетов”.
13 октября
Пожилая дама с тускло-лиловыми глазами села в трамвае против меня и застенчиво спросила: “Скажите, Ваше имя не Варвара Григорьевна?” “Да”, – сказала я и сразу узнала на измятом годами лице глаза, некогда похожие на лесные колокольчики, глаза Людмилы Линдфорс[238], которой было 12 лет в то время, когда мне было 23. Потом мы виделись еще раз лет 13 тому назад, мельком, вместе получали ару[239]. И тогда сразу узнали друг друга после 30-летней разлуки.
“Я узнала вас по голосу. Только по голосу”, – грустно сказала она. Должно быть, сильно разрушилась я за последние десять лет, не в первый раз вырывается у долго не видевших меня знакомцев: “Вы очень изменились”. Стали вспоминать – кто жив, кто умер из киевлян. “Этой весной умерла Марья Вильямовна Кистяковская[240], вы слыхали?” – “Нет, я не слыхала”. Умерла Мума Беренштам (так ее звали в девичестве). Ну что же, это хорошо, что умерла. Не надо доживать до полного разрушения.
Чувство, похожее на товарищескую радость: перешла в следующий класс Мума Беренштам. Выдержала экзамен. А у меня он еще впереди. Встал в памяти яркий солнечный день, густые заросли Китаевской рощи под Киевом, великолепная синева Днепра. Мы приехали туда на пароходике – человек 10 близких знакомых, все молодые. Мума – стройная, гибкая, высокая, как молодой тополек, только что обручилась с Богданом Кистяковским, недавно окончившим университет. Он не отходил от нее, не спускал с нее глаз. У нее было спокойно-счастливое лицо. Так пленительно чист и отчетлив был его овал и такая особенная ласково-юмористическая улыбка светилась в умных темно-карих глазах, приподнятых к вискам. Большая белокурая коса, небрежно заложенная на затылке, светлое платье с коричневым поясом. Прекрасный бархатистый грудной голос с убедительными ласковыми интонациями. Мума Беренштам. Где она?
14–15 октября
Давно, в годы молодости, в “бывшем” Петербурге стояли мы с сестрой Настей в вестибюле воспитательного дома. Только что отвезли туда ребенка несчастной портнихи Мани, брошенной женихом (“обещался, а потом, подлец, отвильнул… у меня сердце гниет, как об нем думаю”). Жалели эту Маню, временно приютили у себя в комнате, но уже тяготились ею. Она все одно и то же говорила про сердце, про подлеца, стоя на коленях в кресле, вытащенном на середину комнаты. Глаза были устремлены в одну точку, безумные от неподвижного, безысходного горя.
Стояли мы в вестибюле воспитательного дома в серый весенний день, когда еще много нестаявшего снега и улицы тонут в тумане. Жалко было ребеночка, мелькала мысль усыновить его. Но сами были неустроенны, жили случайными литературными заработками и уроками. Сторож окликнул нас: “Барышни, а барышни! Вы, как видно, не спешите. Если есть времечко, пошли бы шпитанцев покрестить”. Мы пошли. Сиделка положила нам на руки копошащиеся свертки. Появился священник, и процессия из семи или восьми крестных матерей (все сиделки, кроме нас) и одного отца– сторожа пошла кружить кругом купели. Когда это кончилось и мы вышли на крыльцо, сестра стала неудержимо, до слез хохотать. Потом, когда садились в сани, стала очень серьезной, сказала: “Там окрестить, там похоронить, там стишок, там проза, Петербург, Киев, Воронеж, Калитва… Что Бог дал, то и делаем. А ведь жизнь должна же быть прямой, как стрела!”
18 октября. Москва. Красные ворота
Открытие памятника Сакулину[241] на Новодевичьем кладбище. Людмила Васильевна, его ученица, рассказывает о выступлении Гусева[242]. Прочел присланную умирающим Чертковым краткую речь, на всех произведшую сильное впечатление. О важности духовных ценностей, о необходимости быть готовым к смерти.
Степуны[243] описывали памятник Аллилуевой (там же). Бюст на высоком белом пьедестале[244]. У подножья роза из розового мрамора. Почему так взволновал меня этот замысел: точно я где-то уже касалась, видела, читала, точно он прошел через мою душу и как замысел, и как исполнение.
Роза из розового мрамора; бюст рано умершей женщины, загадочным жестом положившей руку на грудь близко к подбородку. По народному поверью там, где “душка”, душа. Задержать ли ее исход, утишить ли ее волнение, поведать ли земную или загробную уже тайну хотел этот жест (он может быть также исповедническим), я ведь не видела памятника, отчего же так ясно, до последнего штриха вижу ее…
(Ему 16.)
Ромен Роллан пишет внуку Екатерины Васильевны, Сереже[245]: как счастлив ты, что живешь в такую эпоху, в такой стране, которая умеет приносить такие великие жертвы во имя будущего, которая живет для блага всего человечества, а не для своих узко эгоистичных целей в каждом отдельном человеке.
С тоской подумалось: как бы это было в самом деле прекрасно, и счастливо, и высоко героично, и свято, если бы правда каждый из нас, гражданин шестой части света сознательно и добровольно, а не из-под палки отдал свою жизнь на служение величайшей идее: все за одного, один за всех.
26 октября
Угнетающий стыд. Прошла мимо голодного человека (знакомая женщина из Посада). Могла накормить, но лукаво уклонилась, не желая вступать в общение с неприятным (и по ассоциациям, и лично) собеседником.
С какой укоризной смотрит на меня с портрета моя старица. Никогда бы она так не могла поступить. У нее было “сердце милующее”, а у меня половина его под непроницаемой скорлупой (может быть, для защиты другой половины, слишком уязвимой и ничем не защищенной?). И когда я повернусь к людям этой скорлупой, – о, я прекрасно научилась это делать, – ко мне доходит только внешне и только внешняя ситуация их. Это очень страшно. Эту скорлупу необходимо разрубить. Это зачаток плюшкинского склероза души.
Вот для чего посты, вот к чему относятся слова “бдите и молитесь, да не впадете в напасть”: очень я припала к маслу (получила паек на днях). Очень допустила в круг сознания заботу о “хлебе животнем”.
Замерзла. Три дня не топлена комната – экономим дрова. Сейчас спрячусь под тройные покровы. Но беда в том, что не только не спрячешься там от ненакормленной Нюры, но еще ярче и ближе увидишь ее голодные глаза, с какой-то робкой надеждой на обеденный стол устремленные. А потом и на меня, когда я мимо прошла со сковородой. Тогда же мелькнула в голове лукавая молния: ее покормит Людмила Васильевна, или брат Николай, или жена другого брата. Она не раздевается даже… Она спешит.
Гнусное козлище – та часть души, которая не оборачивается сразу на такие зовы жизни. То козлище, из-за которого и всей душе в какой-то срок будет сказано, чтобы шла в геенну. В той степени очерствелости, до какой на этом пути можно дойти, уже перестанет восприниматься горний мир и остается одна геенна.
2 ноября
Перед тем как переселиться в Некрополис, все чаще вступаешь воспоминанием и думой и живой любовью в общение с теми близкими, кто уже переселился туда. И все чаще снится исток земного бытия и окружение его.
Бабушка[246] с маленькими глазами, с большим лбом, с седыми локонами, спрятанными под черную шапочку. Сказочница, молитвенница, патриотка и лакомка. Хорошо рассказывала, как она, дочь крепостной девки и графа Орлова, воспитывалась во дворце его полубарышней. Танцевала качучу на отчем пиру с другими крепостными подростками. А пока папаша ужинал в ожидании выступления, девочки (вероятно, все были его крепостные дочери), затянутые в жесткие корсеты до полуобморока, стояли наготове в соседней комнате, чтобы выпрыгнуть оттуда и начать пляску по первому зову.
Из сказок почему-то особенно пленяла нас “Царевна – ослиная шкура”, должно быть, за ее лунное и солнечное платье. По ночам бабушка часами молилась, стоя за аналоем над большой книгой в кожаном переплете с прилепленной к ней свечечкой. А под подушкой у нее не переводились мятные пряники, пастила, карамельки, которыми она оделяла нас. Она была патриотка славянофильской закваски. Говоря о засилье немцев, даже кулаком ударяла об стол и личной ненавистью ненавидела Петра за то, что бороды резал и немецкую одежду ввел. Нас, внучат, она баловала, покрывала наши шалости, старалась вникать в наши интересы.
Но мы, неблагодарные, мало ценили ее, избегали разговоров с ней, как и с матерью, только сказки с упоением слушали. Иногда она горько роптала на наше невнимание или непослушание, но это как-то нас не трогало.
Дядя Петя. Очень высокий, очень стройный, аристократического вида, с манерами милостивого феодала. Милостивый и по существу. Он был инженер, был долго начальником депо, начальником участка на железной дороге, и рабочие всегда находили в нем заступника и блюстителя их интересов. Никогда ни о ком не говорил худо. Был снисходителен к людским слабостям, начиная с своих собственных. Главной слабостью его были женщины. Своей красавице жене, тетке, он начал изменять чуть ли не на второй год свадьбы. К женщинам относился как страстный охотник к дичи. Не мог пропустить ни одной, попавшей в поле его зрения. Связи его были мимолетны, расставания почему-то мирны. И по-своему он остался верен первому и единственному чувству – любви к своей жене. Она дала ему свободу для романов, когда ей не было тридцати лет, но отстранила его от супружеского ложа, оставаясь до конца жизни хозяйкой в его доме и преданным другом. Безбрачное состояние было для нее естественно.
“Дядя Саша” не был похож на “дядю Петю”. Приземистый, кудрявый, с выпуклыми бледно-голубыми глазами, с круглыми щеками, с круглым между пушистыми бакенбардами подбородком, с круглым носом, он был весь погружен в интересы наживы. Как это бывало в разночинских семьях, детей воспитывали неровно. Из шести двое братьев моей матери получили высшее образование – Петр и Михаил, умерший 22-х лет. Один – Сергей – среднее, двое умерли маленькими, а старший, Александр, побыл года два в каком-то коммерческом училище, потом работал у часовщика, потом помогал отцу в конторе дилижансов. Как он ухитрился нажить каменный двухэтажный дом в Киеве – его тайна. Потом он продал его и купил на ст<анции> Грязи трактир с бильярдом. Женат он был на прислуге своей матери и очень нежно к ней относился, хотя она была пьяница, неряха, страдала анекдотической скупостью и даже изменяла ему. Он звал ее всегда “душка”, “Дунечка” и был у нее под башмаком.
В детстве по праздничным дням мать посылала нас на поклон к дяде, и тетя Дуня пекла для нас особые миниатюрные пирожки “с пашанцом”, для того чтобы не угощать воскресной кулебякой. Дядя относился к нам благосклонно, ценя и жалея единственную оставшуюся в живых сестру Варю, нашу мать. Уехав из Киева, он сделал ее управляющим своего дома и отвел бесплатно для жилья часть флигеля. Когда я стала подрастать, он дарил мне перчатки, зонтики, рубли и даже трехрублевые бумажки – в руку, как доктору, тайно от мучимой скупостью Душки. Мать мою он всегда звал “сестра”, и она его всегда “брат”.
Вижу его в Екатерининской больнице в последний день его жизни. Он задыхался, не мог ни сидеть, ни лежать. Стоял, опершись на подушку, положенную на столик. Смотрел на меня жалкими глазами полузарезанного барашка. Он знал свой приговор и томился смертельно. Не помню, по какому поводу сказал: “Хотя бы до четверга дожить”. Я спросила: “Почему до четверга?” – “Так, все-таки два дня… Сегодня понедельник”.
Довольно. Хочется уйти из Некрополиса. Некрополис – вся прожитая жизнь. Передвинешь ли там что-нибудь? Все там уже неподвижно, как надгробные памятники. Видишь лица, слышишь голоса, помнишь слова, заново переживаешь горе и радости – но неподвижно, как барельеф склепа, все там бывшее. Непоправимо все тобой содеянное. Может быть, оно и поправимо, но уже не на этом берегу. И, побывав в Некрополисе, нужно, отойдя прочь с земным поклоном, устремить взор в будущее – на тот берег.
Примадонна Художественного театра Алла Тарасова, собираясь сразу на три концерта, одевается в темной комнате. Повреждено электричество, вовремя не пришли поправить. Ищут свечу. “Не надо, я так оденусь, все равно”, – усталым голосом. Болит сердце. К доктору некогда пойти. Загнана театром, гастролями в Ленинграде, съемкой в кино и концертами. Нужно было из сока своих нервов выжать 9 тысяч на квартиру (кооператив) и продолжать выжимание для туалетов и для того, чтобы питаться не одной картошкой. Муж ничего не зарабатывает уже полгода. И вообще – иждивенец жены во всю брачную жизнь с малыми перерывами. Раньше как будто этим тяготился, потом привык. Алле зажгли все-таки свечу перед зеркалом (а потом и электричество поправили). Надела шелковое платье, черное, в цветочках. Высокая – в нем. Стройная. Красивая. И какая-то грусть ущемила сердце от ее расцветшей зенитной уже красоты.<…> Вечером час – далеко от злободневности, в уюте комнаты Людмилы Васильевны. Вера читала из своей тетради вписанные туда стихи – из Ахматовой, Цветаевой, Гумилева. И случайно прочли мы Хлебникова из “Звезды”. До чего неуклюжи, антимузыкальны и антихудожественны эти “заумные” вирши. Что это? Зачем это? “Это не более чем жаргон, это пройдет”, – сказала Людмила Васильевна. Но вот Лида Случевская[247], покойная Лена Гуро и ее окружение находили же в этом нечто для себя обаятельное, нечто значительное.
11 ноября. Вечер. Комната Ириса
Узнала от Вали Затеплинской и от Людмилы Васильевны, что Ольга (моя) с головой ушла в обработку своих дневников[248]. Радуюсь, что захотелось ей наконец творческой работы. И может быть из этого что-нибудь выйдет. Во всяком случае, будет хорошее наследство ее Анели, и лет через сорок это напечатают.
Ирис в зените творчества и в грозовом напряжении энергии. Только не подкосила бы ее депрессия.
Есть у Шестова книга “Начала и концы”. Его сестра сказала однажды: “Как весело смотреть на всякое начало. И как печальны всегда концы”. Конец Пушкина, Гоголя, Гёте, Бетховена, Лермонтова, Толстого – мучительный, неразрешенный катарсисом финал жизненной симфонии. Но что мы знаем о “конце” как о точке, движущейся в бесконечность? Не перенесен ли катарсис за постигаемую нами грань уже в непостижимое для эвклидовского ума. “Лестница, лестница” – предсмертный бред Пушкина – не появилась ли как некая реальность в его сознании, освобожденном от оков праха?
Пружина жизненной энергии, тугость ее напряжения и ритм разворачивания предрешается наследственностью.
12 ноября. Утро
А у меня был сон, ожививший полосу жизни из далекого прошлого, когда мне было 27–30 лет. Встреча с А. И. Шингарёвым – музыка зарождающейся любви, еще без слов о ней, да и не были наяву сказаны эти слова.
…Встреча в Париже у Чичкиной. Синеглазый доктор, что-то изысканно-русское, что-то былинное в походке. Алеша Попович? Чурила Пленкович? И того и другого понемногу, но и просто “млад – ясен сокол”, Иван Царевич, молодой месяц. И глаза. Сестра Настя позже, когда служила под его началом, писала о них: “Я знала, что могут такие глаза мой дух без возврата унесть. В них первая свежесть, ночная гроза, в них тайна глубокая есть”.
Потянуло ли его ко мне с первой встречи так же трагически сильно, как меня к нему, не знаю. Но знаю: что-то началось. Стали видеться каждый день. Осматривали вместе музеи, Notre Dame; пригородные места. Иногда вдвоем, иногда с его сестрой, с Чичкиной и с П. Г. Смидовичем (теперь секретарь исполкома). Ярко-синяя шелковая рубаха, ярко-синие глаза. Они истлели теперь в земле, как и шелк этой рубахи. “Разбилась прекрасная форма”. Все парижские дни окрасились тогда этой живой лазурью глаз, глядевших на меня все пристальнее, все неотрывнее, все ласковее и тревожнее с каждым днем. В Медонском лесу уже была та торжественная грусть, которая стоит на страже входящих в душу серьезных чувств, уже можно было обмениваться долгими безмолвными взглядами. Можно было говорить о самом важном, о чем говорят с ближайшими друзьями. Уже мельком Иван Царевич дал понять, что его “личная жизнь сложилась несчастливо” (у него была жена и двое детей). Я не задумывалась об этом. То, что принесли в мою жизнь его глаза, было еще высоко и далеко от помыслов брачного характера. “Кто веслом так ловко правит через аир и купырь? Это тот Попович славный, тот Алеша-богатырь”, и “у ног его царевна полоненная сидит”[249]. Эта царевна была я. Он часто читал это стихотворение и другие стихи А. Толстого, своего любимого поэта. И у него в ту пору, я думаю, не было обо мне ни одной мужской, страстной мысли. “Вы, – сказал он мне однажды, – тень от облака ходячего, вас не прибить гвоздем к сырой земле”. В Россию решили возвращаться вместе, втроем: Андрей Иванович, его сестра Саша[250] и я. Близость в вагоне, в тесноте создала новую, волнующую, земную тягу. Сестру, изнеженную и истеричную, уложили кое-как. Пришлось сесть тесно, прижавшись друг к другу. “Давайте спать по очереди. Вы на моем плече, а я потом на вашем. У меня есть маленькая подушечка”. Это была наша первая и последняя брачная ночь. Без поцелуев и объятий, но в глубоком слиянии душ. Слышно было, как бьется сердце, и свое, и другое, и в каждом ударе его – глубокое, трагическое счастье. Приподнималась с плеча голова, и встречали глаза долгий-долгий, откровенно любящий взгляд. Мелькнули, как сон из другой, из нашей общей жизни, ворвавшиеся в эту, разделенную навеки, – мелькнули Инсбрук, Зальцбург, Вена. На границе меня арестовали – я взяла запретные рукописи с печатью, которые дал мне Смидович. Меня препроводили из Волочиска в петербургскую предварилку, и после того я не видела Алешу Поповича больше года. Не искала встреч с ним, боялась встреч, но мы переписывались изредка. И виделись в Петербурге, где я послала ему прощальное письмо и фото Венеры Милосской, которую мы вместе выбрали в Париже. Через два года сестра Настя, фельдшерица по профессии, поступила в земскую больницу под Воронежем, где главным врачом был Андрей Иванович[251]. Я приехала к ней погостить. Здесь я почувствовала себя замкнутой в очарованном круге (на это я, впрочем, и ехала в Гнездиловку).
Здесь у царевича моего вырывались уже полупризнания, чаще в стихотворной форме. “Радость безмерная, ты ли душа моя, красная девица” – таким речитативом не раз выдавал он себя, повстречавшись со мной на дороге в больницу. Но уже мы начали избегать друг друга. Вскоре я заболела тифом. Ему пришлось каждый день навещать меня. Вот тут уже были не только взгляды. Была робкая, но все более неудержимая ласка. Я прикладывала его руку к своей щеке. Он, склонившись надо мной, дышал или шутливо дул на мои локоны. Я не хотела выздоравливать, не хотела жить без него. Не хотела и с ним (жена, двое детей)[252]. И я выпила морфий. Но такую большую дозу, что она уже не могла подействовать и нетрудно было меня спасти. Впрыснули апоморфин, поднялась тошнота, и все прошло. Думаю, что тут сыграл свою роль и тиф. Без ослабленности нервной, в какой я тогда была, без изменения сознания я бы ни до ни после не решилась на самоубийство.
После Гнездиловки мы с Андреем Ивановичем увиделись последний раз в Воронеже. “Выпала жемчужина из нашей встречи, – сказала я, – нам больше ее уже не найти”. “Что же делать, – сказал он глухо, – да я и сам их не хочу”.
Жемчужиной мы называли ту близость, легкость, простоту и открытость в наших отношениях, какая сразу установилась у нас.
Но беда была в том, что я уже хотела других отношений, что мне страшна и не нужна была жизнь без них, что, может быть, даже компромиссную, закулисную любовь я приняла бы от него, только бы не расставаться. И то, что он предрешил расставание, что мог мыслить жизнь свою без меня, нанесло мне тяжкое оскорбление; и оно же было исцелением раны, нанесенной встречей с Андреем Ивановичем, и последней строчкой в эпилоге нашего трехлетнего романа. Мы встретились еще раз на Пироговском съезде, но тут стало для нас ясно, что и дороги, и сердца у нас разошлись в разные стороны и стали мы чужими.
И только один раз, в 18-м году, в Киеве, когда я узнала, что Андрей Иванович погиб от ножа убийцы[253], я испытала жгучую горесть и целые сутки чувствовала себя как бы вдовой его. Только одни сутки.
Да еще вот в снах изредка вижу его лицо, склоненное ко мне в звездной темноте степной ночи (как было однажды). И что-то вроде тех слов, какие он сказал, – забытой молодой всеозаряющей радостью пройдут через память сердца: “Зачем звезды, когда так близко ваше лицо. Посмотрите же на меня своими ясными зореньками…”
16 ноября. Ночь. Красные ворота
Печальная весть: заболел психически Герман – Е. Г. Лундберг. За что-то его арестовали в Тифлисе, подержали несколько месяцев в тюрьме. Он не вынес испытания (плохие всегда были нервы). Заболел психически. Мания преследования. Когда он сидел в Петропавловке[254], он также близок был к психозу. Я писала ему каждый день открытки. Он под конец отвечал что-то нервно-сумбурное. В освещении психопатической конструкции его, которая теперь только вполне осозналась, легко должны отпуститься ему все прегрешения его против дружественности и против общепринятой морали.
У него такой же неудачный земной двойник, как у меня. А Психея его больше всего любила “горния мудрствовать” и “горнее искать” и знала небесную нежность в касаниях к тем душам, какие он любил, в тех встречах, когда он любил.
20 ноября. Ночь. Красные ворота
Приснился сегодня Л. И. (Шестов). Вошел молодой, быстрый, радостный. В руках огромный букет цветов. Положил его передо мной с лучистой застенчивой своей улыбкой. Четырнадцать лет прошло с тех пор, как видела ее в последний раз. Десять лет со дня последнего письма. Не означает ли сон этот (цветы, помолодение, улыбка), что он перешагнул уже и, может быть, именно в эту ночь за ту черту, где нет уже старости, нет условностей и преград человеческого обихода, нет ни Парижа, ни Москвы. И нет разлуки.
Бесконечно трогает меня, греет, умиляет и поддерживает в трудные минуты доброта Нины Всеволодовны. “Я думала сегодня ночью, как вам устроить, чтобы не дуло из окон”. Ночью. Обо мне, о чужой старухе.
Спросила сейчас себя: – А ты, Мирович, думаешь ли вот так пристально, действенно, заботливо о ком-нибудь в ночи, когда тебе не спится? Нет этой привычки. Ухожу в какие-то беспредметные созерцания или в угрызения совести бесплодные, потому что чаще всего они касаются моей жестоковыйности к матери, которая уже пять лет как избавлена от всех испытаний горькой своей (и благостной) старости. Впрочем, думаю иногда поневоле “действенно” о посылке Дионисии, о голоде Каревых. Думаю иногда о подарках малоярославским малышам.
23 ноября
Слушали стихи Даниила – я, Вера, Женя (Ирис). У девушек, у обеих, были зачарованные лица, унесенные мощным потоком его лирики далеко от стен моей комнатушки. Индия, метампсихоз, видения Магомета, тысяча дней пути между глазами Серафима. Как вырос, как прекрасно расцвел двенадцатилепестный лотос его поэзии. И звук, и динамика внутреннего движения, и магия слов, и насыщенность горячей подпочвой (Индия! Индия!) – все делает стихи его особенными и в то же время дает ему право стать рядом с Блоком, с Волошиным, с Гумилевым.
10 декабря. Поздний вечер. Красные ворота
Гёте и Христина Вульпиус, прирожденная кухарка. Гейне и его Матильда, чуть ли не проститутка и притом попугайного типа женщина. И еще раньше Сократ и Ксантиппа. Менее потрясающие контрасты, но все же контрасты: Л. Толстой и Софья Андреевна, Достоевский и стенографистка Анна (забыла отчество)[255], Шестов и его Елеазаровна[256] (Т. Ф. Скрябина прозвала ее “Елеазавром” за примитивность психических очертаний, за допотопную угловатость и грубоватость проявлений). И должно быть, все это нужно там, где мужская личность не хочет повседневно тратиться духовно и душевно на подругу – Музу, на Прекрасную Даму, которую нельзя отправить на кухню, как Христину Вульпиус. Прекрасная Дама нуждается в поклонении. Подруга, более или менее равная по душевным запросам, стесняет внутренней требовательностью (Анна, первая жена Пантелеймона Романова). Н. С. Бутова сказала однажды: “Из нас, актеров, как и из поэтесс, редко выходят уютные жены. А любая безликая дама, если она не Ксантиппа – лежанка, пуховый платок, теплое одеяло. И это залог уюта”. “Не женитесь ни на психопатках, ни на еврейках, ни на синих чулках” (чеховский “Иванов”). Редко, как все прекрасное, есть и другие сочетания: у А. Толстого с Софией Миллер, у четы Соловьевых (Сергея Соловьева – см. у Андрея Белого в “Записках мечтателя”). У Рембрандта и Саскии. У Биш (Коваленские). И у твоей матери с твоим отцом, Сергеюшка.
12 тетрадь 1.1–9.2.1934
1–2 января 1934
(тетрадь – подарок Сережиного папы в день ангела 4/17.XII.1933)
За ширмой Ириса.
В малом круге сознания – надвигающаяся депрессия Ириса. Героическая борьба ее с болезнью. Таинственное заболевание. Маша. Нарывы Сережи. Смерть Луначарского. Волна воспоминаний о его молодой страсти. Пылкие речи его о “крушении старого мира”, о революционном фронте пролетариата, о Гегеле, о марксизме. Голубые весенние и летние ночи Ниццы, аромат моря и апельсинных цветов. Однажды, когда собирался в Болье к Максиму Ковалевскому[257] и не было приличного костюма – гневная клятва: “Клянусь, что будет у меня автомобиль, и вилла, и европейское имя, получше, чем у этого толстяка”. Все это сбылось: был автомобиль, и вилла, и если не вилла – квартира со стильной мебелью, всемирно известное имя красноречивого трибуна большевизма. Была Розенель[258], Испания. Потом глаукома, вынутый глаз, агония – страшная тем, что не было у души слов: в руки Твои предаю дух мой. И вот уже сегодня он по материалистической концепции – прах. Толя Луначарский – блестящий красноречивый мальчик, охваченный страстью к 27-летней женщине на берегу Средиземного моря в те фантастические, прекрасные, лучезарно-голубые ночи.
Революционер. – Эмигрант. – Журналист. – Агитатор. Потом – ораторские лавры в СССР. Нарком. – Театр. – Цирк. – Женщины. Огромная, опасная для стареющего тела жажда жизни. Большевистские темпы… Где все это? Милый, бедный мальчик! Верится, что там, где ты уже не журналист и не посланник в Испанию и где уже не мучает ни горло, ни больной глаз, ни старческий склероз, – там тебе виднее, что это было и зачем все это было.
4 января. Красные ворота
Поговорили, стоя на пороге, с милой Екатериной Васильевной Кудашевой о Марфе и Марии[259]. Я слегка и косвенно укорила ее в страстности, с какой она отдается пряникам перед Рождеством и куличам перед Пасхой. “Нет, нет, извините, это совсем не марфинство, тут больше мариинского, чем, например, у Майи, которая бежит от всякого черного труда и якобы сидит у ног учителя (Ромена Роллана), а сама – эгоистка, каких мало. И всех Марф кругом способна замучить своими причудами”.
Я согласилась, что “Марии нередко выезжают на Марфах” и что в чернорабочести Марфы иногда бывает больше “мариинского”, чем в иных Мариях.
5 января. Красные ворота
Глубокая ночь. Трамваи перестали громыхать.
Что было? Длинная беседа с Людмилой Васильевной о Пушкине и Радищеве. “Пушкин почти завидовал Радищеву, порицая его в своей статье только из необходимости прибегать к эзоповскому языку”.
Алла. Горячесть встречи. Розовая, в новой квартире тоже все розовое. Екатерининская люстра с хрустальными подвесками, стильная мебель, сервизы, хрусталь. Детски радовалась подобию отдаленного серебряного колокольного звона от удара одной вазы о другую. Прелестно было ее лицо с широко открытыми, младенческой улыбкой сияющими глазами.
“Бывает розовое счастье”. Я когда-то предсказала ей такой этап.
Но это лишь этап. Да и под ним гул землетрясения, непрестанные подземные толчки. Может быть, оттого она так безжалостно к себе мечется в погоне за заработком, а не только из-за самого заработка. Работа – опиум и народов, и отдельных личностей, особенно работа нервная, безотложно спешная.
Даниил, Вера[260]. Какой трогательно девически-женственной становится она в его присутствии. Как сосредоточенно-внимателен он в ее сторону и как чувствует ее красоту. Но кажется, пройдут мимо друг друга. Кажется, не будут знать того, что называется “счастьем”. Но, может быть, это только кажется.
“Что есть вера”? Такой пилатовский вопрос задала я им обоим, когда они говорили о том, во что каждый из них верит, во что не верит. Они не ответили. А я думаю, что кроме веры порядка религиозного (в истинном значении этого слова) – это психический акт самозащиты и самовнушения. И в религиозной области бывает так же, когда душа не живет на достаточной глубине.
Насмешливо смотрят на меня кроткие глаза матери с портрета. Пять лет тому назад близко к этим дням она перешагнула туда, куда и мне пора.
– Пора, ты вот чем занимаешься, – говорят ее грустные, кроткие, умные и насмешливые глаза.
“Я помню о тебе, родная моя. И в ночном сознании моем ты неразрывно со мной. В дневном же приходится думать обо всем на свете”.
7-21 <января>. Вечер. Клиника
Сестра Смерть отошла. Или, вернее, была отозвана. И тут некая тайна. Человек, который спасал меня от кровотечения (8-го и 9-го), д-р Работный, точно взял у меня мой жребий. (Такое еще до его смерти было чувство.) Умер в три дня от неизвестной болезни.
Сколько тайных соотношений в мире. И как незримо тонко, но реальнейшим образом связано все. Все – едино.
6 февраля
Поглядела сейчас на свою руку и подумала: скоро она станет горсточкой пепла. И естественным это показалось. И ничуть не жалко.
А некогда – было мне тогда около 30 лет – я именно руки свои пожалела до слез. Был тяжелый душевный кризис, мысли о самоубийстве как о единственном выходе.
Я стояла на крыльце летней ночью (в Пенах Курской губернии)[261] полуодетая и думала о том, какие существуют способы покончить с жизнью: поезд, отрава, река. И вдруг обратила внимание на свои руки. Молодые, стройные, в лунном свете мраморно-белые, они показались мне необыкновенно прекрасными. И до того стало жалко предавать их тлению, что хлынули слезы и на время унесли план самоубийства.
Было жаль рук как отдельных, но от меня зависящих, трогательно красивых существ.
А теперь, может быть, потому и не жаль, что существа эти поблекли, сморщились, огрубели – их кости, вены, кожа чувствуются какими-то обреченными на распад, отчасти предавшимися уже этому процессу.
13 тетрадь 11.2-23.4.1934
24 февраля
“Были дни, когда мне казалось, что, несмотря на кажущуюся полноту сил, где-то, не в диспансере, а в Высшем Совете приговор уже произнесли…” и дальше о томлении гефсиманской ночи. Так пишет Наташа, твоя мать, Сережа.
Как в давние, девические ее дни, ощутилось между нами таинственное сестринство и та любовь, когда нетрудно, а естественно “положить душу за други своя”. Если бы можно было, как в жизни Серафима Саровского, некоей Марии “умереть за брата ее”, если б можно было мне умереть “за Наташу”, какое это было бы счастье, какая полнота завершения нашей встречи. Но нет на земле уст, которые осмелились бы сказать: “Можно. Умри”. И если я умру завтра, я не посмею поверить, умирая (по недостоинству своему), что это продлит дни Наташи, какие и ей и другим от нее нужны, каких она хочет, не может не хотеть.
Таинственны врата, у которых мы стоим с Тобой, сестра моя Наташа. И плотское существо мое, приближаясь к ним, впадает в смятение и в то, что можно назвать страхом. Плотское. А душа не боится их. С тех пор, как она осознала бессмертие свое, она видит в смерти освобождение свое от плена материи.
28 февраля – 5 марта
“У Наташи оказалась такая форма горлового туберкулеза, какая излечивается быстро и радикально”. Из письма Сережиного отца.
Радость. Благодарность. Иной был Зубовский бульвар. По-иному – без черных органных труб Requiem’а светило солнце, когда шла домой, впервые услышав эту весть. “Ныне отпущаеши раба твоего”. А вдруг принята моя молитва, мое дерзновение заменить Наташу в сроках общечеловеческого жребия. И не оттого ли такая предельная слабость, какой до этого не было (была только в первые дни после клиники).
И недаром, может быть, оптинский Нектарий в оны дни упорно называл меня Натальей, хотя я сказала ему свое имя.
6 марта. 4 часа дня
Грязная площадь залита солнцем. Каждый булыжник прочерчен световым полукругом. Ирис сегодня едет в деревню, в земскую больницу (вместо санатория) к Валентине Михайловне Жунковской, хорошему врачу и чудесному человеку.
Две недели тому назад Ирис бежал из дома отдыха в Малеевке, где не оказалось ни уборных, ни освещения, ни умывальников. “Писатели” (Малеевка – дом отдыха для писателей) развлекались тем, что устроили инсценировку нападения бандитов на одного из своих товарищей, который шел пешком со станции. С товарищем от перепуга целый вечер была истерика. Инициатора этой затеи прогнали. O, Rus!
Людмила Васильевна подарила мне букетик ослепительно-белых подснежников. Где-то уже весна – чудо весны. У подснежников три лепестка и маленький белый с золотой каемкой бокальчик посередине, а внутри его нежно-золотое пушистое сердечко. Почему же так волнует их вид…
“Недавно я поверила про вас и про себя, что мы смертны”, – сказала Ольга. И выдвинула проект пожить летом хоть месяц вместе. Я подумала, но не сказала: неужели будет у меня лето? Так велика слабость, так запущены недуги, что не верится в такие сроки, как ряд месяцев.
7 марта. 10 часов вечера. Комната Ириса Некрополис
..У бабушки моей со стороны матери[262] было 12 человек детей. Вот что говорила о них бабушка: “Фленушка и Митрошенька ушли к Богу младенчиками 5-ти месяцев и 9-ти месяцев. Я о них и не скучала. Третья, Софьюшка, в балетной школе училась, и, хоть красивая из себя была, ее в кордебалете держали – танцевала «у воды» (на заднем плане). Но и там увидал ее суженый, богатый купец, – цветы посылал, подарки, а потом стал женихом на дом ездить. Восемнадцати лет замуж выскочила. Жили так себе. Не пара друг другу были. Софьюшка веселая, танцорка, хохотунья. Ну а он – постарше, солидные на уме мысли, брови нахмуренные, выговорами ее тревожил. Она не смолчит, и пойдет катавасия. Впрочем, он любил ее и задаривал и ревновал. Двух деток прижили – Николю и Лизоньку. (Блистательно-красивую Лизу, кумир моего отрочества и юности.) А тридцати лет танцовщица моя Богу душу отдала – чахотка. И внучат мне оставила. Отец их тоже сначала разорился, а потом от тоски умер. Лизоньку к нам трехлеточкой привезли. Дикая была, совсем дикарка. И некрасивая – глаза большущие, и все исподлобья смотрит – Волчком ее прозвали. А как стала подрастать, выровнялась. В 17 лет уж красавицей была, лучше матери. Алеша – четвертый – пяти лет умер. Как умереть, просил «пузыриков на веточке», забыл, как виноград называется. Но я догадалась. Съел две-три ягодки и отвернулся. А через полчаса его уж не стало. Перед тем как заболеть, книжку рассматривал про Анику-воина. Аника нарисован и смерть с косою над ним. А мой голубчик задумался, а потом и говорит: «Вот, маменька, так же как его Смерть сразила, так и меня сразит»”.
Тут бабушка отирает слезы, и мы вслед за ней от жгучей жалости и страха перед косой потихоньку и почему-то сладко всплакнем каждый раз.
С таким же замиранием сердца любили в сотый раз слушать, как умирала десятилетняя Сашенька, над смертным одром которой доктор сказал: “Какая неземная красота улетает”. Пепельные у нее были кудри и синие глаза, и белизны была она мраморной… Мне она представлялась всегда улетающей и даже улетевшей очень высоко, за облака. В раннем детстве улетание ее понималось мной совсем не как метафора, а как птичий или ангельский полет. И слился ее образ потом с лермонтовским “по небу полуночи ангел летел”.
8 марта
Детство и старость полнее чувствуют религиозное значение жизни, чем молодость и зрелость. Может быть, потому что ближе стоят к вратам Тайны – у выхода из нее и у входа в нее. Молодость опьянена собою, чувствами, страстями, разгулом волевых сил. Зрелость – заботами.
Детство же – первое утро мира, первоначальная свежесть восприятия. Ни забот, ни страстей, разве только мимолетные движения их. Окружающий мир волнует, радует и изумляет именно Тайной. Эту же тайну, волнующую, радостно изумляющую, знает каждый религиозный, не окостенелый душевно старик.
Вспомнилось: в любимом моем пушкинском стихотворении[263]: жизнь – от детства до какого-то момента ее просветления (он может быть и раньше старости), жизнь – “художник-варвар”, который “кистью сонной картину гения чернит”. И счастье, что “краски” этого варвара с “беззаконным” рисунком с годами “спадают ветхой чешуей”. И воскресают тогда видения “первоначальных чистых дней” детства, первой юности.
Видения, видения детства – критерий на всю жизнь законного, важного, священного – неведомого варвару с непробужденным сознанием “хладному миру”, житейской жизни.
17–18 марта. Комната Ириса
Живя в одном городе, интересуясь жизнью дружественной души, ценя личность друг в друге, нашли полную возможность не видеться два года – я и Татьяна Алексеевна[264]. Старость и вся сумма условий. И теперь списались и повидались лишь потому, что недавно я была у грани вечной разлуки. У Татьяны Алексеевны очень измученное лицо. Старое, но не одряхлевшее. Уцелело изящество черт, утонченность их пропорций. “Высокий взгляд” – брови высокими арками над впалыми страдальческими глазами. Пепельная седина. Вообще – сожженность, сквозь которую светится то несгораемое, что делает душу бессмертной. И еще – благородство породы – Италия (со стороны матери), античный канон скульптуры лица.
Безрадостно и жертвенно построилась ее жизнь. В юности – брак не по любви, по родительской воле. Муж-доктор оказался чуждым по душе, по вкусам, по всему и вдобавок человек тяжелого нрава. Прижив с ним четырех детей, в один решительный час Татьяна Алексеевна воскликнула: “И с этим человеком я могла жить под одним кровом столько лет!” И на другой день ушла из его дома к родителям. Потом “в поте лица” добывала хлеб себе и детям с малой поддержкой родителей и бывшего мужа. Несколько лет состояла чем-то вроде компаньонки у писательницы Александры Андреевой, женщины тогда уже престарелой, одинокой и богатой. Несмотря на итальянскую свою красоту, на лицо Мадонны и на прекрасные душевные качества, после ухода от мужа Татьяна Алексеевна осталась до конца дней без мужской любви и опоры. Все время и силы были отданы детям. А когда они выросли, начались отраженно от их судеб материнские терзания. Единственный сын – “Петушок” – погиб на войне. Три девочки, все каждая по-своему красивые, в женской доле своей прошли через тяжкие испытания.
Старшая Машенька[265]. Помню ее еще институткой, потом невестой с тугими толстыми орехового цвета косами и черными, капризного изгиба бровками, с ямочками на изящном худощавом личике, с пленительной улыбкой и певучим голоском. Двадцати лет она вышла замуж за норвежца Кристенсена, оказавшегося легкомысленным и бесчестным человеком. Он увез ее в Норвегию и там покинул с двумя крошечными детьми в то время, когда третий был уже на пути к рождению. Машенька вернулась в Россию и с тех пор своими трудами растит детей (она стала известной переводчицей с норвежского). Впрочем, старшего сына Яльмара в прошлом году кто-то из родственников мужа предложил поместить в норвежский пансион в Осло; как норвежского подданного его выпустили без всяких препон, и он живет и учится там, в чудесных условиях на берегу фиорда. Дочери Машенькиной – Маше, она же Сольвейг[266], уже минуло 16 лет. Хрупкая тростиночка, очень миловидная, очень эгоистичная и меланхоличная девочка, по отзыву бабушки. Младший, двенадцатилетний Алеша, добрый и способный, но дефективно-буйный мальчуган (любимец матери).
Все горе Машенькиного разрыва с мужем, всю женскую обиду ее, всю тяжесть забот и огорчений в области воспитания ребят пережила вместе с ней и мать. И за вторую, Олю[267], пришлось пережить немало. В 19 лет она сделала блестящую партию, жила в Петербурге как принцесса. Во время революции всего лишилась, начиная с мужа. Сама едва не попала под расстрел и с маленьким сыном после разных приключений добралась до матери, на общую нужду и все испытания, какими уснащена была тогда жизнь.
Стала актрисой – обнаружились в эту сторону способности. Помню, как она хорошо прочла монолог Татьяны – последнее объяснение с Онегиным. Она стала у стены высокая, тоненькая, и тоже, как у старшей сестры, с великолепными белокурыми косами. Вперив долгий задумчивый взгляд в лицо воображаемого Онегина, выговаривала пушкинские строки с такой искренней печалью, с таким благородством, без укоризны, но с чувством рока, что осталось это в памяти как нечто необычайное, трогательное и красивое. Она проходила в то время через несчастное увлечение товарищем по сцене, который не стоил “ее ресниц единого склоненья”, а стал, к счастью ненадолго, властелином и грубым тираном ее жизни.
Позднее она заехала с труппой Германовой за границу и там встретилась со своим настоящим мужем, с человеком, преданно любящим и благодарно ею любимым. Со сцены она ушла с той поры, как пришла на сцену дочь, дитя этого брака, – с медвежьими ступнями, с рядом мучительных операций. Теперь, на 4-м году ребенка, они (операции) уже подходят к концу.
Третья дочь, Аня[268], больше всех принесла горя матери, хотя по характеру и по отношению к ней могла бы приносить одну радость. Но жестоко сложилась ее судьба, соединившая ее с безмерно эгоистичным, легкомысленным и неудачливым человеком, вдобавок страдающим manna gran – манией величия. От него у нее шесть человек детей, безысходная нужда, чернорабочий обиход и туберкулез легких. По наружности, как и мать, – из типа мадонн. Итальянски правильное, ясное, кроткое, небесной чистоты личико. В соответствии с ним и в тяжкой повседневности ангельская кротость и терпение, верность мужу “до гробовой доски”. Ни единой жалобы. Одну из дочерей Анички (их пять!), самую хилую и карликового роста, Агнию, мою крестницу, бабушка Татьяна Алексеевна взяла на воспитание и тоже восемь лет убивалась над ее болезненностью. Теперь девочка стала поправляться, расти и отличается большой жизнерадостностью.
Звучат неведомо откуда долетевшие в мою память латинские строки:
Te spectem suprema mihi cum venerit hora Te teneam moriens deficiente manu[269].А Юдина[270] вот чем волнует – поняла, чем ранит: оказалось, она была близко знакома в Ленинграде с покойной Лиленькой, она точно завещана мне ею. Она и ее музыка. Иногда я дивлюсь: как это я могу жить без музыки, могу так редко слушать ее.
Та, которая звучит порой во мне, не заменяет Бетховена, Моцарта, Гайдна, Глюка.
3 апреля
Нигде нет столько грязи, как там, где люди усиленно моют. Например, в торговой бане. Так же и при чистке в моральной области. Один священник признавался: “Это такой ужас – исповедь. Чего только не наслушаешься! Иногда так себя чувствуешь, как будто по уши завяз в зловонной тине”.
К алкоголю, к наркотикам чувствуют отвращение те люди, которые и без того пьяницы. Опьяняются тем или другим своим душевным процессом.
8 апреля
…Какое неблагообразие в церквях в пасхальную ночь в последние годы. Сегодняшние рассказы с разных сторон полны эпизодами жестокой давки и разгула враждебных чувств на этой почве. В церкви Адриана и Наталии[271] задавили на Вербное воскресенье старушку. Сын предупредил: не ходи, задавят. Она пошла, но на всякий случай положила себе в сумочку записку с адресом своим. По этому адресу ее и доставили домой насмерть задавленную. На писателя К. опрокинулась лампада, пришел домой с обмасленной головой. В то же время, когда пели в церкви: “С радостью друг друга обымем”, со всех сторон раздавались то вопли “пропустите”, “спасите”, “ой, давят”, то злобные проклятия. Огромная часть молящихся, как и в прошлом году, стояла вокруг церкви под снегом, в грязи и в воде и ничего не слышала, кроме этих воплей.
10–11 апреля. 12-й час ночи. За перегородкой у Ириса
Одна старая дама, ломая кисти рук, с тоской в глазах говорила: “Хотела бы я быть умной, такой умной и такой образованной, чтобы понять, что в мире происходит, и во что все выльется, и какое у этого значение, высшее указание”.
Мало тут помогают ум и образование. Два одинаково умных и образованных человека могут совершенно по-разному объяснять для себя то или другое явление в процессе истории. Есть у души какое-то кожное чувство, каким она схватывает иногда то, что делается с ее страной и с теми, какие с ней в идейном общении, дружественном или враждебном.
14 тетрадь 25.4-25.6.1934
30 апреля
Типично пролетарского вида женщина лет 40 в красном платке, в прозодежде, с корявыми от черной работы руками, сидит на скамье бульвара, углубившись в книгу. Когда я проходила мимо, подняла на меня глаза – спокойные, умные, не видящие ничего вокруг, переполненные содержанием той книги, какая в руках. Такой невидящий взгляд бывает у любящих чтение детей, когда они уткнутся в книгу, а их вдруг кто-нибудь окликнет. Этот взгляд пролетарки и спокойная поза над книгой – новое, то, что дала революция. Правда, некоторых особей из класса гегемона она сделала заносчивыми, тупо эгоистичными (А. Герасимов)[272], словом, теми же шкурниками, какие были при Николае, но под красным соусом. Зато какие свободные, исполненные человеческого достоинства вот такие женские лица. Они, конечно, редки, как редко все талантливое, все переросшее зоологический эгоизм и начавшее искать свою человеческую правду.
1 мая
…И совсем я не индивидуалист, как Анахарсис Клоотс[273], я “гражданин вселенной”, а исторически, территориально и под лозунгом “Вся власть трудящимся” – я гражданин СССР.
Я не пойду сегодня на демонстрацию не только потому, что я стара и слаба. Я могла бы выйти на Смоленский бульвар и, сидя на скамеечке, как-то слиться с двумя потоками человеческих масс, с их красными знаменами и плакатами. Красное знамя, поскольку это знамя свободы и жертвенной крови, в годы молодости было моим знаменем. Многое на плакатах – кроме безбожия – я приемлю. Многому тому, что на них, если бы я была помоложе, я бы с радостью отдала свои силы. Учащимся, молодости, детям, в частности – беспризорникам.
Но меня огорчает самое слово “массы”: сейчас же возникает представление о какой-то икре, о размельченных крупинках зерен, замешанных в общее тесто. Если бы такая “масса” декретно не объединилась вот в такие искусственные потоки, шла бы в них сегодня радостно и добровольно, – кто хочет и куда хочет, на разные площади, в разные сады. Там пусть ожидала бы ее музыка, митинги, угощение, можно было бы только радоваться. В этой же шагистике во всякую погоду, под барабан (даже мои глухие уши услышали барабанный бой со Смоленского бульвара) есть что-то бездушное, что-то милитаристическое, Николай I, Павел I в “Поручике Киже”[274].
Слово “массы” точно нивелирует личность, прессует ее, сливая в какой-то бетон для целей строительства. Я бы хотела, чтобы в такой демонстрации, как сегодня, пусть все было бы как есть, но с тем, чтобы каждая единичка этого миллиона, продефилировавшего по Красной площади, была полна настоящего энтузиазма, настоящей веры в идею коммунизма (по существу такую высокую и прекрасную), а не шла бы, как лавина.
10 часов. Квартира А. Тарасовой
Аллочка в театре играет Елену в “Страхе”[275]. Мы с подружкой моей Леониллой (Аллина мать) ходили в “дорогой магазин” за колбасами. И на ужин, и Аллочке в дорогу. Завтра в 7 часов утра она едет на гастроли во Владимир. Такова ее жизнь последние годы: спектакль на спектакле, гастроли, концерты. Почти год – киносъемки (“Грозы”).
На углу Тверской и Огаревской над входом в огромное здание почтамта вращается, освещенный извнутри, синея своими океанами, большой глобус. Над ним цепи красных, белых и зеленых огней и геометрические фигуры, осененные сверху электрической пятиугольной звездой. Народ толпится на углу, созерцая то гаснущие, то вспыхивающие лампочки. Громкоговорители ревут что-то мажорное, нескончаемый пестрый поток льется вниз к Театральной площади. Там стоит, верно, какая-нибудь гигантская модель машины под лучами разноцветных прожекторов.
Всю жизнь поражает меня эта бедность, однообразность, невыразительность народных торжеств. Для тех, кто в них вливается как их активная частица, есть, вероятно, компенсация, какой я не знаю – усиление, расширение своего “я” до ощущения коллектива. Гражданину вселенной не нужно гулять по улице в общем потоке для того, чтобы почувствовать свое единение с Целым. Это лучше всего чувствуется наедине с собой. Или в дни общих бедствий. Или в моменты великого исторического сдвига, как было в Москве в февральские дни 16 лет тому назад.
И все-таки праздничный вид улиц порадовал меня. Приятно было видеть на лицах вместо обычной угрюмой озабоченности оживление небудничного порядка, глаза, устремленные на огни иллюминации, а не на кооперативы с модным и тоскливым вопросом: что дают? И эти спокойные шаги прогулки вместо лихорадочного бега на службу и со службы.
15 тетрадь 26.6-23.9.1934
26–27 июня. Москва
Перед глазами у меня все стоит этот молодой рыжий комсомолец, который приходил в нашу квартиру обивать потолок. Нашему дому грозит обвал, потолки в трещинах, осыпаются, пол коробится, оттого что под домом проводят метро. Рабочий, юноша лет 22-х, сидел, отдыхал с папиросой на подоконнике и, ласково, назидательно глядя на меня блестящими серыми глазами, говорил: “…оно, конечно: жить в таком доме – мало удовольствия и даже опасно. Многие обижаются на метро, а того не понимают, что нужно же при такой населенности упорядочить движение”. Я согласилась с ним. И тогда он уже задушевным тоном продолжал: “Ведь надо же правду сказать, товарищ, против запада, и против Саши (так называл он САСШ Америки) мы отстали. И значит, должны догнать. И догоняем вовсю. Рабочий день у нас 24 часа на стройках. Наша нефть уже на всех рынках, и в Париже, и в Берлине, и на востоке. Оно, правда (с мягкой, виноватой улыбкой), правда, что провинция сидит без керосину. Но, если здраво рассудить, на социализм работает одна Москва и такие города, как Магнитогорск, Горловка. И тех, кто работает, нельзя оставлять без отопления, освещения. Мы работаем для будущего. А провинция – для себя. Пусть они скажут, какая у них цель! Нету ее. А мы, кто строит, знаем, что нам обязательно нужно догнать капиталистические страны. Это – цель”.
– А я думаю, товарищ, что цель дальше и больше, – сказала я.
– Как так? – спросил он заинтересованно и даже папиросу бросил.
– Цель, по-моему, – служение тому будущему, когда совсем не будет капиталистических стран, и некого будет ни догонять, ни перегонять, и можно будет ощущать всех народов, всех людей на своей планете как одно всемирное братство.
– Это вы правильно, – сказал он. И задумчиво прибавил: – До этого мы с вами, конечно, не доживем. Но хорошо для этого жить, хорошо, что пришлось в это время жить.
Бесконечно тронуло меня его лицо, его слова. С утра до вечера обсыпанный известкой отбитой штукатурки, не успевающий из-за спешности работы пообедать, он сумел вложить в это, и вложить действенно, свою высшую мечту о благе человечества. И он служит миру всего мира по-своему и тем, что отдает всю энергию работе, и тем, что готов пропустить для нее обед, и не ропщет на то, что “пятилетки заставят и приучат потесниться”.
Дрались на улице два беспризорника. Одному едва ли минуло пять лет, другой – побольше. Старший избил маленького, и тот, вырвавшись от него, заплакал так младенчески и так жалостно, подымая кулачонки к голове. И побрел куда-то за угол, ковыляя на зашибленной ножке. А я смотрела с балкона. (И потом пошла пить чай.) Видела? Видела. Слышала? Да. Поняла? Нет. Никогда не пойму, как это повелось на свете, как это смело у нас, у людей, так повестись и как я могу на это смотреть и после этого жить, как и жила.
5 июля. 3-й час ночи. Бессонница
Во время бессонницы лучше всего было бы прислушиваться к музыке сфер. Но далеко не всегда это можешь. Так близка, не отзвучала до конца какофония суетных, мелких, жалких душевных движений прожитого дня. Что мешает мне вот сейчас вместо того, чтобы строчить в этой тетради, вслушиваться в торжественную мистерию рождения зари – если уж не к музыке сфер? Многое мешает. Борис Пильняк. Малярные, но вычурные мазки его кисти и яркость дешевых красок, фельетонное философствование, претенциозность и неряшество мысли. Мешает то, что провела с ним больше двух часов. Мешает осевшее на совести пятно от раздражения, какое вызывают одним видом своим некоторые люди. “Дядя Боряка” – великан, безвредный, добродушный, но с таким нестерпимо глупым лицом, что стеснялся поднять на него глаза; и с развязнностью “своего человека”. Там, где он в тягость. И другие. Зачем их описывать! Они нисколько не виноваты в том, что лишают меня музыки сфер. Какофония, дисгармония во мне, в моем их неприятии. Они были бы правы, если бы им сделалось отвратительным мое касание к их жизни. Как-никак они терпят меня, мое отношение даже с улыбкой – в тех редких встречах, какие нам суждены. А я каждый раз грешу недобрым движением в их сторону, желанием не видеть, забыть.
Эстетика редко живет в мире с этикой. И этика недаром презирает эстетику.
9 июля
“Постоянна только переменчивость; устойчива только смерть. Каждое биение сердца ранит нас, и жизнь была бы сплошным исхождением кровью, если бы не существовало поэзии. Она дает нам то, в чем отказала природа: золотое время, которое не ржавеет, весну, которая не отцветает, безоблачное счастье и вечную молодость”. Л. Берне[276].
Из этих слов Берне можно, пожалуй, заключить, что поэзия не более чем прекрасная ложь, нечто вроде гашиша, нагоняющего упоительные видения, проходящие как сон, как только человек проснется.
Поэзия – настоящая – не мандельштамов и пастернаков, именно тем и важна, что дает чувство реальности того мира, о котором говорит символика образов поэта и музыка формы, в какую они отлиты. “По небу полуночи ангел летел”, – рассказывает нам Лермонтов. И когда мы слушаем его, нам ни на минуту не приходит в голову, что это выдумка. Скорее мы сами, каковы мы в данной форме существования, нереальны, потому что преходящи, изменчивы, конечны. Полуночь та, в какую летел лермонтовский ангел, и сейчас вот есть, и ангел есть, и несет он, как тогда, когда увидел его Лермонтов, “душу младую <в объятиях нес> для мира печали и слез”[277].
10 июля
Ночь. Скоро свет – из-под шапки туч мутно белеет над лесом полоска близкого утра.
День был отмечен гортанобесием и чревоугодием (кофе, земляника, вишни, без меры хлеб с маслом, салат, крутое яйцо). От этого ночью стыд и чувство тягостного внедрения духа в материю. Лишний опыт (увы! отрицательным путем) важности поста или, по крайней мере, воздержания.
Лефорт[278], умирая, потребовал роговой оркестр и вина (которого уже не в силах был проглотить) – вот как может разогнаться жажда удовольствий. Уже рассыпается в прах аппарат чувствилища, а воля не перестает взывать о привычных плотских ощущениях.
В старости немалую играет роль заматерелая привычка к жизни. Там, где нет к этому процессу сознательного отношения, нет ежедневного ожидания смерти, – этой привычкой обусловливается, может быть, и самая длительность иных старческих жизней, по существу тягостных для старой плоти.
25 июля. 8-й час утра
Солнце. Ветер. “Холодное серебряное утро”.
Два профессора – оба старые. Муж и отец молодой женщины Нины Владимировны Буткевич[279], гидролог и биолог. Два антипода. У отца милое, детски застенчивое, тихое лицо. Деликатные манеры, спокойный голос. Если приходится противоречить мнению собеседника, говорит извиняющимся тоном. Между тем это авторитетный ученый, много писал, ездил несколько раз в Арктику. К дочери дружественный и бережный тон. У мужа – глаза, да и все лицо как-то навыкате. Слишком круто рельефна каждая черта и все вместе вызывающе самоутвержденно. Такой же голос, отрывистый, нетерпимый, капризно-требовательный. Избалованный и сам никого не балующий эгоцентрик. К жене – небрежен, высокомерен. Но кто его знает, может быть и “любит” – по-своему. За то, что она молода, крепка, свежа, добра. Альковная любовь. Вне алькова – ворчун, ропщет на бесхозяйственность. Свирепо раздражается на трехлетнюю дочь.
1 час дня. Знойный ветер носит белые тучи известковой пыли над городом и крутит ее по улицам вихревыми воронками. Весь лес окутан угарно-синей мглой. Тихо в доме. Да будут благословенны ныне и на веки веков часы человеческого одиночества.
…Однажды Лис сказал про себя: “Я могу ходить только туда, где меня встречают с распростертыми объятиями”. Прав и мудр детски-зоологической мудростью Лис в этом своем обычае. Дети идут туда, к тому, где им дают конфеты, где их встречают лаской (“распростертые объятия”), где раздается восклицание: “а, такой-то пришел!” – с нелицемерною радостью. И кошка, и собака подходят для общения лишь к тому, кто ласкает их. Так надо поступать и людям – взрослым людям. Идти, кроме деловых или “благотворительных” целей, нужно лишь туда, где приход наш – радость. Если ее нет или если она у друзей наших выдохлась в нашу сторону, – душа рискует простудиться. Появляется скверный озноб, воспалительного свойства мысли, жар, бред.
26–28 июля. Москва
“Глупая моя жизнь в Малоярославце, бессмысленная”, – нечаянно вырвавшийся у Мировича ответ на вопрос приятельницы, как ему живется на даче. В таких необдуманных словах – правдивый голос подсознательного схватил главную суть моего летнего жития.
Две ночи под кровом у Лиса – первый раз в этой ее квартире. Вечером (и часть ночи) из окон ее спаленки сад какого-то посольства. Между великолепными столетними деревьями бирюзовые, голубые, синие, красные, малиновые фонарики. В этом было что-то детски-праздничное. Вообще в наших встречах с Лисом всегда есть детство. Ее детство. И мое.
Остоженка. Страшно развороченная внутренность всей улицы. Метро. Инфернальный лязг, визг, свист каких-то буравов, непрерывные стуки. Ночью, когда снуют в этой преисподней, прикрытой решеткой мостиков, человеческие тени, – сцена из Дантова ада.
Какое-то у меня тупое, депрессивное восприятие московских друзей на этот раз. Как будто бы хлебнула душа мертвой воды.
29 июля. Ночь. Малоярославец
Утащили у меня на вокзале все мои продукты, паспорт, пятьдесят рублей. С полчаса была какая-то удивленная растерянность, незнание, как выйти из этого положения. Не знала и потом, не знаю и теперь – как. Но явилось откуда-то далекое от всего житейского спокойствие. Вероятно, от сознания, что это не случайно, а нужно. Я все же слишком прилежно обдумала свои пищевые запасы и слишком эмоционально встретила гречневую крупу и рис, полученные в подарок.
Догнала меня по дороге с вокзала пожилая женщина и предложила поднести вещи. Живет в деревне у чужих, платит 5 рублей в месяц. Совершенно одинока. Ходит на поденную работу, берет заказы на одеяла, на починку матрасов. Я дала ей рубль и булку. Она сказала, что это много, хотела рубль вернуть. Почувствовался стойкий мир душевный. Ни жадности, ни чревоугодия, ни зависти, ни суетных желаний. Узнала ее адрес. Хочу пойти к ней на днях.
30 июля. 11 часов
Час тому назад заполонила небо огромная туча с мохнатыми краями, с подпалинами. На фоне ее гигантская птица с белым брюхом, а над птицей какой-то фантастический черный гад с закрученным хвостом.
Может быть, прав автор “Илиотропиона”[280], что мировое зло нужно для того, чтобы им – борьбой с ним и опытом страдания – увеличивалось количественно и качественно мировое добро.
31 июля
Дальние плавания. Арктика. Айсберги. Северное сияние. И тропики. Острова Ноа-Ноа, Египет. Как странно: жизнь прошла, а я не видела этих мест. Такая маленькая планета. Неловко и жаль закрыть глаза последним сном, не увидав столько ее красот и чудес. Древние цивилизации. Колыбели и могилы их должен бы посетить каждый, через кого идет линия преемственности культуры.
1 августа. Утро
…Итак, что же дала мне моя долгая, беспутная, безумная жизнь? Какой опыт уношу я из нее?
Страдание – нужно. Необходимо. Но оно жестоко. Его нельзя желать ни для кого. Дерзко желать и для себя. Когда же оно придет неотвратимо, его нужно благословить. Оно – путь и врата новой ступени восхождения.
Человек – слабое и косное существо. Вот почему сказано, что один и тот же грех (увяз, сделал неверный шаг, покатился назад, уснул на пути восхождения) прощается ему не до семи, а до семижды семидесяти раз. Прощает Бог. Должны прощать другие. Но никогда и ничего не должен человек прощать самому себе.
Каждая человеческая личность единственна и неповторима, как Лицо, Лик, и равноценна всем другим личностям. И в то же время все личности составляют единое и в неповторимом для разума смысле неделимое – Целое.
По слабости своей человек ничего не может сделать в области духовной без помощи сил высшего порядка. Для этого он часто (а если сможет – и всегда) должен быть коленопреклоненным и сердце свое должен держать открытым и подъятым ввысь (“горе имеем сердца”) – для приятия помощи горних сил (благодати).
Духовные возможности человека неисчислимы и способны к бесконечному развитию (“Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный”).
Смерти нет – есть переход в иные условия духовного роста. Есть новое рождение – где, куда – этого никто не знает. На это есть лишь намеки (“У Отца Моего обители многи суть”).
10 августа. 11-й час вечера
По-летнему теплый, тихий темный вечер. За лесом тускло и долго не отгорает темно-алая заря. На Калужской улице резко белеющая известковая мостовая освещена бледными электрическими фонарями.
Болезненно-живо ощутилась сегодня жизнь города, может быть, потому что многих уже знаю здесь. Захолустная, испуганная и обиженная – с одной стороны, “рваческая”и кулаческая – с другой. Но с обеих – не доросшая ни до каких идей, вопросов, ни до какой работы мысли и тревоги совести. Окна на улицу из боязни воровства не выставляются все лето. Такая же непроветренная духота в умах, в сердцах. В одном доме кроткая старушка Ольга Никитична ненавидит и презирает жену сына за то, что они “не венчаны”. В другом – застарелое одиночество еще нестарой девушки наедине с собакой, голодной и не спускаемой с цепи. Дальше “богатеи” – шестидесятилетние муж и жена морят с голоду, сживают со света попреками полуслепую девяностолетнюю мать.
Мосток без перил, с которого упала в овраг корова, – город не удосуживается починить мостка, а на площади разбивают сквер и уже засадили цветами клумбы.
Обыватель, кроме “ответственных работников”, сидит круглый год без электричества и без керосину. На вопрос: “отчего?” отвечают: “Ассигновали было на починку поломанной машины 50 тысяч, но «головка» их, верно, проела или туда-сюда размытарила”.
Вот здесь доктор-хирург, славящийся своей грубостью. У него в квартире день и ночь ревет радио. Такой же перманентный хрип, рев и завыванье в магазине “Книгоцентр”. Спрашиваю: “Неужели это не мешает им работать”. – “Наоборот, без радио пропали бы от тоски”.
Служилый люд – полуголодный, ест пустые щи и винегрет без масла. Картофель ловит в переулках – на рынках запрещена продажа, пока не сдадут положенную часть государству. Керосин покупают из-под полы – 2 рубля литр. И разговоры, и все интересы в заколдованном кругу картофеля, керосина и “что дают?”. Вон там, в низеньком домике, – железнодорожный служащий из читающих газету. У него жена и дочь – маленькие, точно заморенные работой, и такая же мать. Шестнадцатилетней Верочке, умненькой и развитой девочке, некогда читать, некогда выкупаться или пойти в лес за ягодами, некогда, словом, дохнуть. На девчурок здесь возлагают нередко все тягло хозяйства, мальчишки растут оболтусами, обворовывают сады.
Какой-то индусский культ коровы у каждой хозяйки. Коров называют Дочками, иногда женскими именами. Есть телка Зоя (Зоя – по-гречески жизнь!). Если похулить молоко чьей-нибудь Дочки или Зои, хозяйка будет совсем не меркантильно, а мистически задета. Наша квартирохозяйка однажды серьезно произнесла такую сентенцию: всякая своя корова кажется лучше всех других коров.
За хлебом очередь с 3-х часов утра, и в очереди несмолкаемая брань и драка. Интересы молодежи – соцсоревнование (довольно вялое), кино и флирт. Библиотекой интересуются по-настоящему только дети. Может быть, потому что подбор книг для взрослых и по качеству, и по количеству в высшей степени мизерен. Отдушина этой душной и серой жизни – близость природы: купанье, грибы, малина, черника, брусника, из-за которых в летнюю пору все, кто может, – и старый и малый – бродят по лесам, видят восход и закат солнца, попадают под ливни. И служащие в выходные дни идут по грибы или за ягодами.
14 августа
Ольга привезла весть, что дом, где я живу, разрушается (под ним шахты метро). Какой-то рубеж. Отчасти и символ разрушения “земной храмины – тела”. Вверяю его Воле, мной заведующей, и радуюсь избавлению от злых козней домкома и гнусных флюидов его представителей.
15 августа
6 часов утра. “Встает заря во мгле холодной”.
Чувствуется близость осени. В листве садов кое-где блеснуло золото и зарделись кораллы. В свете солнца золотистый оттенок. Воздух хрустален. А по утрам над лесом огромными, седыми и синими волнами плывет туман. Любимое мое время. Такое же любимое, как ранняя весна. Там – робость и в робости – беспредельность надежд обновляющейся жизни. Здесь – величавое “аминь” уходящей жизни и перенесение надежд в иные планы.
Каждая жизнь (человеческая) важна уже тем, что она жизнь. Что в каком-то отрезке времени она творит заодно с нами нечто исключительно нужное в общем плане мироздания. И еще тем, что она причастна мировому страданию и несет в себе возможность бесконечного развития (“будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный”).
27 августа. 11 часов вечера
Тускло-зеленая холодная лунность неба.
Разговор о деньгах. О моем отвращении к деньгам, к факту их существования в человеческом обществе, к их роли в отношениях между людьми, к их флюиду. О том, как для меня всегда была чуждой и чем-то страшной такая линия жизни, где у меня появилось бы много денег в руках (два раза судьба подводила к такому порогу, и оба раза я без минуты колебания отказалась переступить его).
Ольга: “А я ничуть не боюсь денег. Когда их нет, – обхожусь и даже забываю, что их нет. А когда они есть – они для меня совсем не бумажки и не флюиды, – а ботинки, платье, дача для Анички, красные розы, если мне хочется положить их перед статуей быка (случай, имевший место в Олиной жизни на одной скульптурной выставке)”.
Нина Владимировна (с ясным лицом, музыкальным голосом): “А для меня – есть ли деньги, нет ли их, то есть много их или сравнительно мало – как-то все равно. Я не чувствую разницы”.
31 августа. 7 часов утра
Ехать? Не ехать? Дело в том, что уезжать завтра или оставаться еще на неделю одинаково не нужно ни для кого и ни для чего. А лично для себя и в том и в другом решении ощущаются только предстоящие трудности. Ехать – значит, завтра же впрягаться в беличье колесо московской пестроты, скитаний и ненужности, ненужности этого бега. Оставаться – выезжать одной, без Нины Владимировны, что будет еще сложнее. Обедать у Наташи, на глазах у бабушек, учитывающих поедаемое лишним ртом. Возможны дожди, и тогда тесная вкрапленность в чуждый быт и главное – ненужность, ненужность всего этого. Что же тебе нужно, ненужный, ненужный двойник мой?
Тишина. Сосредоточение всех духовных сил перед дверью в Неведомое. И безболезненная, непостыдная, мирная кончина.
Вечер. 10 часов.
Неожиданно, в одну минуту изменились планы. От одной фразы Наташи о том, что я могу быть полезной им после обеда, когда все отдыхают, если займусь часа на два с Николушкой. Передвинулись стрелки с “все равно” на Малоярославец до тех пор, пока это будет “нужно”.
1 сентября
Весь день туман. Небо легло на землю холодным серым покровом. Ночь темная, “как дело измены, как совесть тирана”. Наивность и выстраданная сила этого сравнения поразила меня в тексте одной революционной песни.
Всколыхнулось прошлое, далекая – и сегодня такая близкая – молодость. От записок покойной сестры Насти, которых давно не касалась, а сегодня утром перечла. Семнадцать-восемнадцать лет ей было, когда она их писала. Записки растеряны. Осталась в разрозненном виде только часть их, менее интересная, период фельдшерской школы.
Какие богатые, горячие силы бродили, кипели, рвались наружу в этой юной душе. И как бесплодно погибли. Непосильная борьба с нищетой. Полуголодное существование, надрывная работа учения, – каждый день семь верст пешком до Кирилловской больницы, где проходился фельдшерский курс. Неудачно помещенное чувство – в 17 лет. И еще более неудачно – в 20 лет.
Тут жизнь приготовила нам мучительнейший конфликт. Сестра полюбила человека, который любил меня, был моим женихом. Брак наш по моде того времени и по не пробудившемуся у меня темпераментному влечению рисовался мне как непременно фиктивный. Но и у меня отношение к этому человеку было настолько глубоко и для всей внутренней жизни ни с чем несравнимо важно, что “отдать” его сестре без борьбы оказалось невозможным.
И возгорелась борьба неописуемо жестокая тем, что наши души были как одна душа, что каждый удар, наносимый другому в борьбе, отражался такой же болью, как полученный возвратно удар. В этой борьбе окончательно подорвались душевные силы сестры, расшатанные предварительно отрывом от матери, поступлением в партию, непосильной идейной нагрузкой (в 15 лет ряд решающих вопросов о личной жизни, об участии в терроре, о судьбах близких).
Человек, из-за которого мы “боролись”[281], сам переживал в это время – отчасти на почве этой нашей борьбы – огромный идейный кризис. В житейской области он предоставил нам решать, кому из нас выходить за него замуж. Перед сестрой он чувствовал вину, как перед девочкой, которой “подал ложные надежды” своим чересчур внимательным и нежным отношением (я в это время была за границей и сама поручила сестру моральной опеке его). С моей стороны уязвляла и пугала этого человека неполнота моего ответа на полноту его чувства. И все это перенеслось для него в философское искание смысла жизни и в тяжелую нервную болезнь, которая привела его в одну из заграничных лечебниц и потом на целые годы за границу. Я “уступила” наконец его сестре, но он за год заграничной жизни встретился с женщиной, которая с величайшей простотой и безо всяких с обеих сторон обязательств привела его на свое ложе. Она стала его женой. Он стал крупным писателем. Сестра заболела душевно и окончила свои дни в психиатрической лечебнице. А я по какой-то унизительной живучести осталась жить и без него, и без сестры, и “без руля и без ветрил”.
2 сентября. Ночь. 12 часов
Вышла перед сном умыться на крылечко, – там висит умывальник. Купол бархатно-темного неба сверкает мириадами звезд и вдруг – точно воспоминание: так было. Но там было не крыльцо и не умыванье запачканных медом рук, а портик храма. И омовение сопровождалось символикой ритма. Воздевали руки к звездам, и звезды посылали лучи, как благодать. И вспомнилось, как почему-то в дни юности сестра однажды сказала мне: “Ты не можешь без алтаря, без богослужения обойтись (она считала, что может, но тоже не могла). Отчего бы тебе не построить алтарик, маленький, – ну хоть звездам. Ты ведь так смотришь на них, как будто молишься им”.
9 сентября. 7 часов утра
Солнце торжественно выплывает из-за окна “итальянского” дома с зелеными кафелями и с балюстрадой на крыше.
Думала вчера, думаю сегодня о шестом чувстве. Под ним каждый употребляющий эти слова разумеет нечто свое. У Гумилева – это (в прекрасном стихотворении о шестом чувстве) отклики души на красоту. У Пришвина (в книжонке “Мой очерк”) – чутье, каким распознают “хорошего человека”. Со свойственной ему беззастенчивостью он дает понять, что это шестое чувство всегда располагало в его пользу даже глубоко падших людей. Для меня шестое чувство – смутно брезжущая в нас форма сознания, когда объединяются и примиряются антиномии мироощущения: все раздельно, все глубоко индивидуально – и все едино и нераздельно; мир и человек в нем трагичны, и все в целости гармонично, все в становлении – и все дано, дано, все предустановлено. Без воли Божьей “ни один волосок не спадет с головы” – божественно свободна воля человека.
11-й час
В квартире Тарасевича[282] (у его свояченицы и дочери) неожиданная встреча с Л. А. Алексинской, служащей в биологическом институте, а 40 лет тому назад – двенадцатилетней девочкой Людмилой Линдфорс, которая смотрела на меня в саду их черниговского имения совершенно теми же однообразно удивленными выпуклыми лилово-голубыми глазами, как вчера за чайным столом глядела пятидесятилетняя женщина. По этим глазам я узнала ее 12 лет тому назад в конторе, где получалась “Ара”, узнала, не видя тридцать лет (последний раз перед этим видела ее двенадцатилетней).
Такие встречи важны тем, что в одно мгновение уничтожают преграду между прошлым и настоящим, между возрастными ощущениями нашего “я”, восстановляя целостность самосознания.
Было мне тогда, когда я гостила в семье Линдфорсов[283], 24 года. Как живо вспомнилось даже то платье, в каком ехала к ним, – кремовое с какими-то редкими розовыми звездами, и крымский шарф на голове вместо шляпы. Назывался он – марама. В вагоне окружили меня какие-то молоденькие девушки – гимназистки, ехавшие из Киева домой на каникулы. Наперебой оказывали разные дорожные услуги. Чем вызывалось то девическое обожание, какое дарила мне жизнь (иногда эти дары были тягостны)? Тем ли, что я очень рано, чуть минуло 20 лет, стала чувствовать деметровское материнство к этим “корам”. Или тем, что с детских лет была чувствительна ко всем оттенкам человеческой, в частности – женской красоты? Или, может быть, тут играло роль умение слушать и заинтересованность, такая горячая в молодости – чужой психикой, чужими судьбами. Может быть, все вместе. И еще та повышенная процентность вейнингеровского М (мужского начала), какую я сама нередко чувствовала в своей рыхлой ультраженственности. В моей крови живут, несомненно, и псковские ушкуйники, и тот пращур, до 120 лет живший, пещерный отшельник Малахия, в честь которого отец и его братья переменили фамилию Осиповых на Малахиевых.
Линдфорсы, давно обрусевшие шведы, в крови которых жили и шотландцы – Латри, – и еще какие-то западноевропейцы и украинцы, были очень известной в те годы украинофильской семьей в Киеве. Семья состояла из четырех девушек, двух девочек и одного подростка– мальчика. Родители рано умерли. Были в стороне какие-то опекуны. И жила в доме немолодая учительница, которая неожиданно для всех вышла замуж за гимназиста Тасика. И тогда, когда я приехала в Алешню, хозяйничала в доме старшая сестра, недавно вышедшая замуж, Ольга Александровна. Она была самой красивой из всех “наяд”, как прозвал кто-то всех этих барышень за их стройность, грацию, белизну и белокурость. У Ольги были огромные, редко-синего цвета, как итальянское небо, глаза с очень черными ресницами и черными, изящного рисунка бровями. И все в ней было изящно, хрупко, тонко и породисто. Житейски проявлялась она мало, не интересовалась общими разговорами, вся ушла в колыбельку крохотного Бобика, первого сына, которому было тогда несколько месяцев. У нее был чудесный голос, и пела она артистически, как опытная певица. Но почему-то она очень неохотно, очень редко склонялась на просьбы и даже на мольбы спеть что-нибудь. Для меня пение в те времена было каким-то волшебным, сверхчеловеческим наслаждением – я сразу, при первых звуках какого-нибудь из любимых романсов, переселялась в особый мир, где существовали только эти слова, эта мелодия, а я сама и все окружающее переставало существовать. Песня уносила меня, как могучая река, в те страны, где человеческие чувства живут в преображенно прекрасном мире, вне условностей, вне преходящести, где все так воздушно-легко и нет вопросов о заработке, о пище, нет быта…
Его имение Олешня (Алешня) находилось в Гоооднянском уезде Черниговской губ.
Синеокая сирена только два раза, склонясь на мои униженные мольбы, спела для меня. Один раз Чайковского “Ни слова, о друг мой”, другой раз, – не знаю, чье – “Убаюкай, родная, больную меня, как баюкала в детстве качая!”.
Это было 40 лет тому назад, но и сейчас я помню тот холодок восторга, какой заставляет бледнеть лицо и шевелит волосы на голове.
Не менее прелестна, хоть и не так ярко красива, была вторая наяда – Зина. Она была высокая, тонкая, как боттичеллиевская Primavera, с такими же загадочно грустными зеленоватыми глазами, умеющими пленительно улыбаться. Одевалась в высшей степени аристократично – дорого и просто (они были очень богаты). Эту наяду окружало множество так называемых поклонников. Но ей было суждено отвечать на мужское чувство только тогда, когда оно уходило от нее к другой женщине, или тогда, когда кто-нибудь уже был заранее застрахован от ее чар. Так прошла ее первая молодость. А под 30 лет в ее жизнь вошел тот доктор П.[284], который играл большую роль и в истории моих “неудачных” встреч (по-своему они были удачны, и может быть, особенно тем, что не привели к “законному” завершению, принимая во внимание нужность трагического рисунка по замыслу создателя для таких жизней, как моя). Но что это я все сбиваюсь на Мировича?..
Целыми вечерами наяда Зина, превосходная пианистка, играла Шопена, Шумана, Шуберта, вкладывая в музыку всю жажду любви, всю неутоленность запросов счастья и тайную, ревнивую муку. Я потом узнала, что у нее было несестринское чувство к мужу своей сестры Ольги, что она ожидала признаний с его стороны, когда он признался ей в любви к Ольге. Все сестры были крепко дружны, и на отношениях их друг к другу не отразилась внутренняя драма Зины. Да, может быть, старшая сестра и не узнала о том, что мне случайно стало известно.
Это были девушки высокой духовной культуры и большого душевного изящества – Грэс и ее сестра из диккенсовской “Битвы жизни”.
Личная жизнь прекрасной Зины сложилась грустно и компромиссно. Был долгий роман с доктором П., красивым украинцем, с обаятельно музыкальным голосом. Он рано женился, у него уже было трое детей, когда, очарованный Зиной, он вовлек ее в закулисную связь. Вовлек так, что она серьезно и уже навеки полюбила его той любовью, которая ничего не требует и все прощает. Под каким-то предлогом она отделилась от сестер, устроила себе восхищавшую ее подруг белую квартирку. Все там было в разных оттенках белое – мебель, ковры, посуда, цветы. Вся в белом всегда была и хозяйка квартиры. И так белоснежна была ее репутация – с монастырским уклоном миросозерцания, – так, что ревнивая жена доктора П. одну только Зину из всех молодых пациенток мужа не ревновала к нему.
В японскую войну Зина уехала сестрой милосердия на Дальний Восток.
В это время в Киеве произошла моя третья и последняя встреча с человеком, которого она любила.
П. пришел взволнованный, горячо обрадованный – с теми же глазами, что и 14 лет тому назад. Мы стали видеться в семье общих друзей, где я остановилась. Ночные катания на лодке по Днепру в лунные ночи. Свидания в Лавре, на Дальних пещерах. Длинные беседы о чувствах. Брошены весла; так горестно, так безоглядно, так безнадежно страстно любимый некогда человек у ног моих – и музыка его голоса поет о долгой, о роковой любви, о моих “чарах”, о моей “огромной власти над мужскими сердцами”. Поет чуть-чуть искусственно. И оба мы оживлены, заинтересованы, но не в меру спокойны. И нет перед нами будущего. И нет даже завтрашнего дня. И жив, и цел передо мною образ человека, с которым в том году с раздражающей болью живой ткани сердца разорвалась жизненная связь.
В одну из встреч, когда начались вошедшие уже в обиход “клятвы, признанья” и даже “любви лобзанья” – кроткие, робкие, в обоих оставляющие неловкость и стыдливое недоумение, я спросила П. в упор:
– А как же Зина?
Он нахмурился, смутился:
– Я виноват перед этой женщиной. Больше ничего вам не могу сказать.
– И все уже кончено?
– Само собой разумеется.
И снова неловкие, ненужные ласки. А через день в одной из английских книг, которую он принес мне для упражнения (мы переписывались с ним по-английски), я нашла письмо Зины, письмо любящей и любимой жены, благоухающее печалью разлуки, надеждой на скорое счастье свидания, полное глубоко женственной, изящной, заботливой нежности.
Возвращая ему книгу, я без всяких комментариев сказала: “Здесь было письмо Зины. Я прочла его”. И без всяких комментариев он взял книгу и письмо. И не было больше английской переписки (I love you very, very much), ни лунных катаний, ни встреч на Дальних пещерах. Была осень уже, когда я уехала в Воронеж, попытка что-то объяснить, как-то по-иному наладить отношения: “…верьте, что я навсегда Ваш добрый друг, как бывает добрый конь, что и через 20 лет вы будете мне так же по-особенному интересны и дороги.”
Я разорвала письмо, написала, что мне не нужно доброго коня, что я пойду пешком и одиноко. Духовного сопутничества у нас нет, а никакого другого мне не нужно. Прощайте.
Но еще раз суждено было увидеться нам, когда Зина уже была в могиле, а все мы в пламени гражданской войны. В одну из 14-ти смен власти в Киеве Петровскому с сыном пришлось в спешном порядке бежать через Цепной мост в Бровары. Это было в 1919 году. По дороге он забежал в семью моих киевских друзей[285], где я тогда нашла приют. (Прошло новых 14 лет!) Он был уже сед, лимонно-желт, но еще красив теплой бархатной темнотой глаз, и не огрубел его голос. И я была пятидесятилетняя толстая старуха. Я ощутила тревогу за него, но не больше, чем за всякого знакомого, кто в это время бежал. Он, кажется, не ощутил ничего.
Он был смертельно озабочен какими-то документами, о которых говорил с моей приятельницей, стоя в передней с сумкой через плечо. Когда я с ним поздоровалась, его глаза чуть скользнули по моему лицу, и ничего не отразилось в них, кроме: не мешай, не задерживай. Так мы расстались. И уже навеки. Через год он умер от сыпняка на хуторе, где, укрывшись от киевских бурь, нянчил годовалого внука.
Мир праху его! Пусть легкой будет ему земля, которую он любил несмелой, жадной любовью, детям которой он служил, как умел, и часто бескорыстно, и с хорошим человечным участием, которое так красило его говорящие, мерцающие почти физическим излучением, ласкающие глаза – в дни молодости.
10 сентября. Сивцев Вражек
Умерла Соня Голлидэй[286]. Еще молодая – лет 36–37. Талантливая, умненькая и глубоко незадачливая в театральной и личной жизни. “Зеленое кольцо”, “Белые ночи”, в Художественном театре большой успех. Ушла оттуда в самом начале карьеры – отличалась непримиримой гордостью, неспособностью приспособляться. Пошли скитания по провинциальным сценам. Нужда. Временами почти голод. Немилый, но крепко с ней связанный (“тайна сия велика”) муж, маленький актер и алкоголик.
Как недавно и как хорошо прочла она (наизусть) страничку из Толстого о детском романе Наташи, где “поцелуйте куклу!”. Было это за столом у Аллы Тарасовой, экспромтом, по моей просьбе. Маленькая, темноволосая, темнобровая – такие изящные брови – темноглазая, Соня Голлидэй перевоплотилась на те мгновения в Наташу Ростову. Розовое платье все в оборках, полудетские, горящие “отчаянным оживлением” глаза при сдержанности мимики и тона, вдобавок прическа с висящими по-английски локонами дополняли иллюзию. Так ярко светило солнце на стол с виноградом, с яблоками. Мы начали строить планы, как “вывести Соню Голлидэй в свет”. Очень одушевилась Алла желанием помочь беспомощной и трагически неудачливой подруге (по школе Художественного театра). И я придумала познакомить ее с Крестовой, для иллюстрации (платной) лекций о классиках в разных учреждениях. И это как будто пошло на лад. С большим успехом она выступала несколько раз и еще где-то. Но все побаливала “печень”, а это уже был рак желудка, последняя его стадия.
И вот нет Сони Голлидэй под солнцем наших стран. И – почему она, а не я? Мне так пора, а ей, казалось бы, так рано. Она как будто и совсем не жила; что-то было в ней трагически неутоленное и такое неразрешенно-несчастливое.
Трагедия без катарсиса.
И вот сожгли эти глаза, брови и милый молодой голос. А Соня-то, Соня где? Будем ли это когда-нибудь знать, Господи?
11 сентября
У Ефимовых. Синеокий, седой уже, старый, но не старик, могучего сложения, начинающий жиреть красавец выбежал в одних трусиках. “Здравствуй! Здравствуй!” Это к старой поэтессе, с которой никогда не был на “ты”. И дальше – громко гогоча, размахивая кистью, показывая все еще белые, еще целые зубы: “Как хорошо, что пришла. Вот мило. Отлично, в самом деле. Пойдем обедать. Впрочем, нет, сначала сюда, смотри, что я сотворил!” Поэтесса покорно двинула старушечьи оплывшую фигуру, увенчанную седеющей головой в совершенно круглой, очень старой шляпе, с болезненно-терпеливым выражением лица в комнату, заставленную скульптурой, завешанную рисунками и картинами вперемежку с какой-то поломанной, несуразной мебелью, рамами, кусками холста.
На полу были раскинуты большие картины – лев, телец, орел и ангел.
– Это поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще, – с жадно засветившимися глазами могучим бархатистым басом возгласил, размахивая кистью, голый красавец и пытливо заглянул в лицо старухе.
– Вас, может быть, смущает, что я так, в трусиках? – вдруг застенчиво спросил он, переходя на “вы” и учтя застывшесть ее лица.
В дверях появилась в старом капоте с некрасивым, но умным, тонким и обаятельно милым лицом жена скульптора, тоже талантливая, но малопризнанная художница. Она светло улыбнулась поэтессе:
– Что тут может смущать? – обратилась она с легкой укоризной к мужу. – Ты уже всех приучил к тому, что ходишь нагишом.
Поэтесса внимательно посмотрела на трусики; потом на картинно-красивую голову скульптора.
– Мне все равно, как вы одеты, – сказала она, задумчиво наклоняясь над картинами.
– Хорошо? Звери-то, как по-вашему, удались? – жадно спросил художник.
– Да-а… Только в зверях этих мало небесного. И поют, и взывают, и глаголют они об одном – все о том же, о чем ваши быки, козлы и кабаны.
– Но – позвольте! Куда же льву девать зубы? Открыл пасть, чтобы славословить Творца, а зубы тут как тут – торчат. Неужели без зубов его писать?
– С менее ужасными зубами. И в глазах поменьше бы свирепости.
Поэтесса вспомнила знакомого кота, выходившего на закате в Сагамилье в Финляндии под можжевельники провожать солнце. Про него Елена Гуро написала “.очарованный молится кот”. Но не сказала гостья об этом художнику, не хотела обидеть. Да разве опишешь, как самому представляется молящийся лев.
– И орел похож на ворона, – тоном бесстрастно-кротким сказала она.
Художник детски огорчился.
– А ведь правда! – воскликнул он, схватывая с полу картины. – Но можно ведь переделать.
– Пойдемте обедать, – молодым музыкальным голосом позвала жена.
Артистически курчавились еще не седые волосы над ее маленьким с заостренным подбородком личиком. Глаза зеленели подвижной мыслью, грустью, пытливым вниманием.
Поэтесса почувствовала прилив величайшей, любующейся симпатии к ней и сразу поняла, что именно вот такую, вот эту женщину должен был полюбить и во всех своих изменах не разлюбить избалованный женщинами красавец, полуапис, полумладенец. И как он прислушивался к каждому слову жены, как приглядывался к каждой мине подвижного лица, когда она говорила о его творчестве.
Обедали в кухне, где также со всех сторон смотрели на обеденный стол из-за кухонной посуды фаянсовые бабы, акробатка, олень.
За обедом Ефимов горячо рассказывал о своих успехах и заработках.
“…Теперь на Кузнецовской фабрике мы с Ниной такие блюда распишем, – всю Европу удивим. А на венецианской выставке моего козла купили. И кабана. Да-да-да. 300 рублей за кабана”.
Поэтесса заинтересовалась кусочком жира, оставленным на блюде как нечто несъедобное. Она питалась кое-как, не хватало жиров, и, когда видела жирное что-нибудь, ее непреодолимо к таким веществам тянуло последнее время. В этой великолепной богеме, где можно было ходить голым, не стесняясь наготы, не подумать о замене старого затасканного халатика, получив тысячу рублей за роспись блюда, и где так открыто можно было говорить о своей жажде славы, было ничуть не неловко попросить у хозяйки этот соблазнительный, а для них несъедобный кусочек жиру. Но в этот миг из-за вопиющих зверей у хозяина трапезы мелькнула мысль: “А ведь старушка, пожалуй, подголадывает”. – Лицо его стало испуганным и добрым. Он начал накладывать на тарелку гостьи что попало – помидоры, груши – и был огорчен, когда она остановила его движением руки и укоризненным взглядом.
После обеда жена, по предписанию врача, должна была с час полежать. Она пригласила на единственное в доме ложе и гостью. Они легли в разных концах его и приготовились к доверительному, откровенному, женскому разговору. Но вдруг в их комнату бурно ворвался Ефимов, что-то подмостил к ложу, какую-то табуретку, и возлег рядом с гостьей, прижавшись к ее плечу. Она удивленно посмотрела на жену, потом повернулась к Ефимову. На вершок от ее глаз доверчиво, ласково, радостно синели совершенно детские глаза. Жена смотрела снисходительно на милую проказу своего enfant terrible[287]. Поэтесса подумала: вот чем хороша старость – 15, 20 лет тому назад я бы рассердилась, обиделась или взволновалась бы от этой близости. И как все равно сейчас.
Через пять минут ее сосед с каким-то грустным вздохом (может быть, также на тему о старости) вскочил и стал прилежно перерисовывать орла, повторяя: “А ведь правда правду она сказала – смахивает на ворона”.
16 сентября. 4 часа дня. Красные ворота
Разруха, облупленные потолки. Дыбом вставшие плитки паркета, в окнах подпорки из бревен в виде виселицы. Трещины, расселины со всех сторон.
Медленно надвигающаяся катастрофа становится буднями. К ней привыкают, как привыкают к необходимости рано или поздно умереть.
Но вырывается порой (у Людмилы Васильевны, например): “Пусть бы скорее все рушилось, не хочется жить”. Это “не хочется жить” слышала вчера от Аллы. Вялое равнодушие к тому, жить или не жить, и к судьбам театра, по ее словам, чаще всего встречается в товарищах ее возраста (30-36-37 лет). Она приписывает его нервно-психическому надрыву в юности, в эпоху гражданской войны. А потом – отсутствие поднимающей дух творческой работы, отсутствие дирижера в этом оркестре: “Станиславский стар и не может вести твердой линии. Вокруг интриганство, зависть, мелкие счеты, разгул аппетитов и страстей”.
Вчера подробно и картинно рассказала Аллочка о том, как в батайские дни Ростова с Алешей во чреве за два месяца до родов вывезла в Крым еще не оправившегося от тифа мужа. Сколько моментов безнадежности, безвыходности, какое громадное напряжение душевных и нервных сил. Моталась между домом, где больной лежал в полубессознательном состоянии, и вокзалом, где на поезда никого уже не принимали, пролезала под вагонами, останавливала за уздцы лошадь извозчика, который не хотел везти их. В дороге – ожидание, что вот-вот нападут банды Зелененького, Махно и т. д. Спанье вповалку на нарах, насекомые.
16 тетрадь 27.9-24.11.1934
1 октября и 2-е. Добровский дом
Глубокая ночь. Приютили добрые Добровы беспризорного Мировича. И он успокоился. До этого нервы разыгрались от пестроты и нескладности дней и ночей, нарушилось внутреннее равновесие. От сознания же, что есть впереди пять-шесть определенных суток, восстановился ритм внутреннего движения. Замогильный поклон добрым Добровым, всему дому их до самой земли.
Дебатировались сегодня у Аллы две тезы: “богатство импонирует” (афоризм Аллиного мужа, Сюпика)[288] и “бедность и болезнь отталкивают” (афоризм его же).
С.: “Я утверждаю: нет человека, которому бы богатство не импонировало”.
Леонилла (теща): “А вот перед вами как раз два человека, которым богатство никогда не импонировало. Мы с Вавой (это со мной) выросли в презрении к обывательщине, к мещанству”.
С.: “А я уверен, что ходили к Балаховским, к миллионерам, потому что импонировало богатство”.
С тревогой спрашиваю себя, ходила ли бы я в семью Балаховских, потянуло, притянуло ли бы меня к ним, если бы они не были миллионерами. Нет речи о том, что, если бы они обеднели, когда у меня с ними сложились дружественные отношения, не только не ослабилась бы, но окрепла бы душевная связь с некоторыми членами их семьи. Должна сознаться, что кроме их личных свойств, кроме их активного желания близости влияло на рост отношений в начале их – и то эстетическое и артистическое, чем “импонировал” их быт, литературные и музыкальные вечера, меценатство, интерес к искусству, к философии, к человеку внеклассовых рамок. Но ведь и вообще дружественность между людьми слагается не по одному “сродству душ”, а по комплексу разных внутренних и внешних условий. И такова бывает сила этого комплекса, что люди срастаются и житейски, и душевно без всякого “сродства душ”.
С. в защиту своего афоризма произнес, сделав проникновенное лицо: “Неужели каждый из вас, войдя в комнату и увидев прекрасно одетого американца, а рядом с ним какого-нибудь нашего советского обтрепанного интеллигента, не почувствует, что к одному его влечет, а от другого отталкивает”.
Тут поднялся шум негодующих возражений, но он заранее вооружился против них подозрением, что все неискренны до конца, не хотят сознаться в том, что чувствуют одинаково с ним и только прикрываются “сантиментами”. После этого возражать было нечего, но ужаснуло убожество моральных фондов, породивших такое подозрение и такой афоризм. Впрочем, дело может быть и не в фондах, а в непривычке мыслить, в поверхностности слоя, откуда берется материал мысли, и в безответственности за выводы из нее, за точки приложения ее к людям и к жизни. И в отсутствии внутренней культуры и достаточного умственного развития.
11 октября. Ночь
Судили и осудили: и я в числе судивших и осудивших. Говоришь сначала объективно, исходя из психологического, философического или просто человеческого интереса к человеку. И не заметишь, как соскользнешь в судейскую или педагогическую оценку: ставишь отметки, произносишь приговоры. Отсюда вывод – поступать, как советовал в своих письмах к одной монахине, кажется, Феофан: видишь, что прошла по двору Еликонида. Ну и пусть себе прошла. Только это и подумай. И ничего не прибавляй к тому, что прошла по двору Еликонида.
Могильцевский переулок, Мертвый переулок[289], Успенье на Могильцах – вот это бы переменить. Зачем помнить, что тут от чумы вымер некогда целый квартал? И приятно ли человеку сознание, что он живет в Мертвом переулке? Или уж ничего не менять, беречь каждую крупицу истории, чтить неприкосновенно данные предками имена в их городе – ведь это же и их, не только наш город; и давать новые названия, в сущности, следовало бы лишь новым улицам, новым городам. Иначе получается несуразность: были Пречистенские ворота (были в действительности). И вдруг на трамвае выкрикивают анахронизм – никогда не бывшие на свете Кропоткинские ворота.
Мещанство? Мещанское счастье? О, да – не орлиное, не геройское, не мученическое, не творческого порядка счастье. Но, увы! Несомненное. Переполнила душу сейчас благодарность Водителю моих путей и людям, к порогу которых подведена жизнь моя в этом ее моменте. Радость и благодарность за то, что уютна и полна благородными флюидами книг и Данииловой жизни эта комната. Что милые, добрые, старинные друзья за стеной. Что уже постлана моя постель – и как только отложу эту ручку, перетащу лампу с Индией на абажуре поближе к дивану; что в момент, когда забирает озноб гриппа, есть эта гостеприимная постель и три укрывания: ночь холодна, и писать холодно. Но через четверть часа уже не будет холодно… Да-а… А вот позвольте узнать, где ночует сейчас этот беспризорник с мертвенно-желтым лицом, которого уже не первый раз ты видишь у Никитских ворот на остановке трамвая? Откуда мне знать, Господи! (“Разве я сторож брату моему”.) Вот возьму “Жизнь Болотова”[290] и разгоню гонящие сон мысли о беспризорниках…
12 октября. 12-й час ночи. Даниилова комната
Биша утверждал, что пейзаж какого угодно великого художника дает меньше, чем тот же кусок живой природы, с какого писалась картина. И даже меньше, чем “какая-нибудь кочка с торчащим на ней живым растением”. Филипп Александрович с горячностью возражал, что картина не есть мертвый кусок природы, противопоставляемый живому куску, а синтез души художника и природы. Я думаю, что Биша вообще глуховат к человеческой душе, и до того, что в ней делается в области синтезов (особенно, если это душа художника), ему нет дела. Он слишком сосредоточен на себе, слишком любит себя и alter ego свое – Шуру, и это мешает ему тратить силы, нужные на внимание к чужому творчеству и на понимание его. Мешает этому также интенсивность собственного творческого процесса. Мне, между прочим, сродни его точка зрения на искусство. Природа – но у меня еще и человек, всякий, попавший в круг моего душевного зрения, – дает мне неизмеримо больше, чем произведения искусства. Исключение составляет только музыка, которая говорит мне то несказанное, что я не всегда могу читать непосредственно в явлениях природы и человеческой жизни.
13 октября
Утро. Пробивается обетование солнца – мягкая желтизна сквозь аспидную мглу. Волнующий разговор с Бишей. Люблю полетность его мысли и те глубокие слои, где ее корни. Когда сознаешь эти его крылья и его корни, легко простить его трудные для общения свойства – высокомерие, глуховатость, грубоватость, холод (он способен и на другое, но колеснице его обихода удобнее ездить на этих четырех колесах).
“Если бы нам разрешено было хоть на один день принять участие в миротворении, поверьте, мы отказались бы от всякого искусства”.
Да ведь это же моя мысль – одна из моих, самых исконных, самых действенных, хотя и приведших к пассивности мысль. Это именно то, что помешало мне специализироваться в слове, в рисовании, в скульптуре. (В Киеве, в скульптурном классе, когда я вылепила голову Христа и один портрет, сказали: “У нас вам нечему учиться. Мы не умеем лепить человеческих голов”.) Это та мысль, которая в восьмилетнем возрасте заставляла меня верить, что я могу воскресить умершую тетку, в двадцать – жертвенным путем революции преобразить мир (правом личности на революционное вмешательство в историю в нашей “партии” было отречение от личной жизни и готовность к Шлиссельбургу и к виселице). Позже – интерес к оккультизму – к жалкой пародии на богосыновнее участие в преображении мира и человека. И все время – тоска о царстве не от мира сего и неумение найти к нему дороги.
Это – седьмой день творения – у Заратустры и у Шестова. Это у бедного Андрея Белого: “Как будто кто-то всю жизнь желал невозможного (паскалевский амулет) и, успокоенный, плакал в последний раз”[291].
У кокетливой Гиппиус (Бог ее знает, насколько это искренно, если учесть ее вечную позу, ту, что на серовском портрете[292] в бархатных панталонах): “Я хочу того, чего не бывает”[293].
Сологубовская звезда Маир, земля Ойле, и отсюда: “Отчего нельзя все время чары деять, тихо ворожить”.
Блоковская Прекрасная Дама, соловьевские “Три встречи”[294] – и у ранних предшественников (говорю ему, потому что имею в виду здесь не только “имена”, но и “малых сих”), у Достоевского: “все, что живет, живо таинственным прикосновением к мирам иным”, – путь к которым через экстаз и жертвенность любви (Алеша Карамазов, Соня Мармеладова) и всех видов страдание.
Напряжение данной действительности у Лермонтова и, как звездное небо на ней, некоторые таинственные строки (в “Демоне”, в “Ангеле”, “Молитве”, “Есть речи” и т. д.). Первее же всего – заповеди блаженства, путь, указанный личности для сотворчества с Творцом: нищета духовная как отказ от “разума” с малой буквы во имя иного способа познания, путь страдания, путь любви, блаженно милостивой кротости (ступень достигнутого мира душевного), активного сеяния мира (миротворцы, “опыт деятельной любви” у Зосимы и, наконец, изжитие – из быта, с привычных укатанных дорог, философия трагедии ли, шестовское <…> “творчество из ничего”).
День. Книги Чуковского плохо пахнут. Остро, остроумно, бойко, оригинально… но плохо пахнет. Запах Дорошевича, Амфитеатрова, Буренина. Отсутствие культуры духа, благородства, погоня за фразой, фельетонность.
“Жрецы минутного, поклонники успеха”[295] и сами для себя больше всего на свете рыночный успех ценящие.
14 октября
В молодости было верное чутье: всякий труд, внесенный в семью человечества, должен быть даром, а не предметом купли-продажи. Так странно и неловко было получать деньги за урок, потом за стихи и прозу. Жизнь приучила к корысти, к симонии. Но в старости опять возникла эта потребность: посильный труд вносить как дар. И так понятно, что Толстому претили его гонорары и хотелось хоть печку сложить какой-нибудь вдове безвозмездно. Пусть это детски-наивно – как наивна, пожалуй, и моя потребность “дарить”, разбивающаяся о действительность, в которой, наоборот, мне “дарят”. Тем ценнее редкая роскошь бескорыстной траты сил, времени, педагогического опыта. Таков мой последний урок. Если бы мне заплатили за него, я, конечно, взяла бы эти рубли, чтобы пойти к гомеопату, купить нужные притепления для зимы и т. д. Но мне в высшей степени приятно было и не говорить, и не думать о зарплате.
Думала сегодня о Льве Исааковиче. Хотелось какой-нибудь весточки о нем, и неожиданно нашла среди книжной свалки листки из его журнальной статьи и в заголовке листа слова: “Все оставил Ибсен земле и людям: искусство, пророчество, исторический подвиг, даже веру. С собой берет он только свою Ирену-Валькирию”[296]. Так же говорил он мне однажды, уже под старость, об Эвридике. Это был час редкой у него бесперегородочной открытости тайников души.
16 октября. Утро
Достоевски-диккенсовская погода. Гниль, холод, сырость, желто-серый сумрак вместо дневного света.
…Елизавета Михайловна вздохнула, как будто выстрелила из мортиры, на всю комнату, и сама испугалась своего вздоха. “Пора на покой, на Ваганьково”, – сказала сегодня, подогревая серию кофеев для всех членов семьи. Разный кофе в разное время. Сестра ее (таких же лет, старая) с бледным, изможденным лицом, шатаясь от склерозного головокружения, собирается на рынок. Зять, поэт, он же инструктор игрушечного дела, зеленовато-восковой, с флюсом, ест яйца (дополнительное питание) и философствует с тестем-доктором об идеализме и материализме. Через четверть часа ему тоже предстоит погрузиться в гриппозную гниль и грязь развороченных Метростроем улиц. Доктор доволен, что у него 37,8 и он может себе позволить редкую роскошь понежиться дома в ободранном кресле над переводом Горация или с какой-нибудь философской книжкой в руках. Домашний костюм его состоит из оперно-живописных лохмотьев. (Ширпотребов у докторов нет, денег на мосторги никогда не хватает.) Тут же Мирович, под которым уже провалилась почва (метро разрушило дом, а нового жилища пока не предоставлено). Мирович держится в сторонке, чтобы не примелькаться, не надоесть, хотя с ним радушны и дружественны безупречно все члены семьи. Но у Мировича не зажила еще травма прошлой зимы, когда в такой же дружественной семье хозяйке дома, сердечно с ним связанной, он надоел до психоза.
17 октября
В разоренной ремонтом квартире Аллы Тарасовой. 4-й час дня.
Передо мной ученическая тетрадь, на обложке которой напечатано, чтоб не сидели в комнате в верхней одежде, не плевали на пол, потому что это “вредно и грязно”, входя в школу, очищали обувь от уличной пыли и грязи. Чему приходится учить нашу передовую страну! И какая нищета сквозит в этих регламентах. Понадобилось ли бы очищать обувь от грязи, если бы у каждого ученика были калоши! Сидел ли бы кто в комнате в верхней одежде, если бы она была хорошо отоплена! Холодная, голодная, проплеванная жизнь. И там, где это не до конца так, отсутствие культурных навыков, о каких заботился еще “Домострой”, а позднее Петр Великий (кстати сказать, сам их не имевший).
Актеры Художественного театра до открытия занавеса пожирают бутерброды, которые нужно есть на сцене. Биша, поэт и человек из хорошей семьи, кидается на еду, как только поставят ее на стол, не дожидаясь введенной в обиход раздачи. Никому ничего не передает за столом, садится спиной к соседу. Профессор В. начинает без всякого предупреждения переобуваться при гостье, старой даме. Сбрасывает сюртук в гостях у молодых дам, не спросив позволения. В этой же семье три дня умываются без мыла (“нет денег” и “забыли купить”). Почтенный доктор Добров, если он не в духе, оглушительно рычит в ответ на самый невинный вопрос, даже заданный чужим человеком. Мирович не моет шеи по три, по четыре дня под предлогом, что он простужен. Не замечает, как накапливается пыль на его письменном столе. Не чистит ботинок и верхнего платья и т. д. и т. д.
Жаль. Всех жаль. Всех так жаль, как нищую крестьянку, в темноте Кисловского переулка на сыром тротуаре уложившую на ночлег своих детей. Ее глазами, обреченными, недоумелыми, может взглянуть каждая жизнь в свой черед в лицо недугу, смерти, одиночеству, неуемной боли, обиде, измене, если не просто голоду и гибели. Но что же делать с этой жалостью, с ее тревогой, с ее криком об ответственности…
21 октября
Пришел к Алле Папазян репетировать сцены из “Отелло”. Он без грима мог бы играть венецианского мавра. Очень смуглое, очень темпераментное лицо, с хорошими и даже чуть застенчивыми, человечными глазами. Манеры и костюм европейца.
Алла огорчена и даже ошеломлена самодурной выходкой Станиславского, после одной интриганской критической заметки пригрозившего не в шутку снять со сцены “Таланты и поклонники” и вообще проявившего к актерам грубое, жестокое по отсутствию чуткости отношение.
23 <октября>. Утро. Квартира Аллы
Алла блистательно выступила на защиту актерской личности перед Станиславским. Попросила разрешения (у Прудкина) изобразить, как перепугался Прудкин, увидав со сцены в бенуарной ложе физиономию Станиславского. Актеры хохотали, аплодировали, и Станиславский милостиво улыбался, впервые, может быть, в задубелом своем по отношению к человеческой личности приемнике осознав степень террора, в котором держит свою труппу. Он, как римский папа, привык к целованию туфли. И труппа для него не живые люди, у которых есть сердце, нервы, чувство личности, те или другие судьбы, а сценический материал. И при этом – купецкое, самодурное пристрастие к случайным фаворитам и способность подпадать под случайные влияния критических выпадов далеко не авторитетных писак. Горький сказал про него на каком-то юбилее: “Красавец вы – человек!” И есть в творческих замыслах Станиславского и в его горении и, вероятно, в частичных проявлениях богато одаренного его существа то, что вызвало у Горького такое восклицание. Но если предъявить к его образу моральные требования высшего порядка (выше простой порядочности) – это будет фигура среднего роста, и “мало в ней истинно прекрасного”.
24–25 октября. Утро. Аллин дом
…У Людмилы и Веры, у Анны Ильинишны трещат всю ночь балки над головой, сыплется штукатурка. Людмила заболела – грипп. Квартира нетоплена – взята подписка – не топить[297].
…Как я пойду в Кремль? Так не хочется быть просителем. Но надо. И пойду.
26 октября. Ночь, 1-й час. Гостиная Аллы
На заре сознания (раннее, самое раннее детство). 1½-2 года. Мне год и пять месяцев. Мое место на материнских руках заняла только что родившаяся сестра Нисочка. Я, конечно, не понимаю, что это сестра. Для меня она – соперница, враг. Сильное, мучительное чувство ревности и вражды. Когда мать кормит ее грудью, я реву от чувства отверженности и прошу дать мне (вместо груди) “хоть коленочку”. Мать надаивает молока в белую с голубыми цветками чашечку из моего игрушечного сервиза и дает мне выпить. Не знаю, один раз так было или несколько. Но ее коленка, спеленутая кукла у ее груди, чашка с сладковатым молоком, голубые на ней цветочки ярко встают из густого тумана забвения, поглотившего все остальное, кроме еще некоторых участков. Дедушка – пастила в его комоде, скрип выдвигаемого ящика, розовые и белые палочки. Бабушка – большой сундук, черный; она мелом нарисовала мне курицу, а я кормлю ее зернами, стучу мелом под ее клювом, и меня восхищают крупные белые на черном пятнышки в результате этого стука. И еще помню занавески у бабушкиной постели – желтые с коричневыми пальмами и верблюдами. Аня – мамина подруга, мягкие белые руки, мягкий уют – сидеть у нее на коленях, прижиматься к ней, засыпать у нее на руках. Тетя Дуня. Эта била меня по рукам, когда я намылила их и старалась намыленной рукой достать до лица сестры, лежавшей на материной кровати. Первое грехопадение, ощущение преступности. Нисочка умерла пяти месяцев. Помню зеленый ломберный стол и на нем завернутый в белое мой бедный враг, теперь уже не возбуждающий ревности, хотя и не понимаю, что с ним. В головах у нее горит в маленьком подсвечнике восковая свечка. Потом ее кладут в розовый ящик и уносят. Смутное чувство вины (“это от меня ее уносят, оттого что я такая”). Через год, проезжая с отцом мимо дома, окна которого горели на солнце, спрашиваю его: это Жмеринка? Жмеринка была станция, куда отец часто уезжал, – таинственное для меня и чем-то влекущее место. “Жмеринка”, – отвечал отец с улыбкой. “И Нисочка там?” И на это он отвечал утвердительно. В саду – он казался громадным, как целый мир, я боюсь заблудиться. И в то же время сознаю, что бояться вообще стыдно. Вызываюсь пойти одна (это было, верно, уж по 3-му году) за нитками Ане из беседки в комнату. Мимо пролетает шмель. Я кричу: волк! Волка я знала из сказок, но на картинке не видела (тогда детские книги были редкость). На обратном пути я заблудилась и попала в другую, в зеленую беседку. И там почему-то на столе лежала голова одной из моих кукол. Мысль: вот где она живет (я ее перед этим искала)! Что голова живет отдельно, не было странно.
27 октября. 5-й час дня. Аллина хворь. Алешина комната
Прибило меня к тарасовскому берегу. Так тому и быть. Буду на какой-то срок жить (вдруг показалось ужасно странным это слово – “жить”), буду проживать здесь и на диване В. Е. Беклемишевой[298]. Как ни трудно для старости и вообще для нервов человека, нуждающегося в известном ритме и, тишине, – приемлю без возражений. Это – сужденное, неотвратимое и, значит, нужное. И уже две нужных стороны моих скитаний и приживаний выяснились. Ближе мне – в этот период понятнее до полного слияния и отождествления – все, кто бездомен, беспризорен, кто не имеет где “главу подклонить”. И потому что я социально и по чувству жизни среди тех, у кого нет крова, но тем не менее у меня есть ряд углов и диванов в дружественных домах, куда меня зовут ночевать, обедать и т. д. – потому еще ярче выступает значение в мире таких зовов, цена человеческого внимания и тепла. И еще ярче выступают – и уже не тепло, а до озноба душевного – те ведомые и неведомые мне жребии, когда нет крова и никуда не зовут. И никуда не пускают.
Еще из раннего детства (около з-х лет).
Бочонок, полный пьяных вишен. Наливку выцедили и разлили по графинам накануне свадьбы Лизы, двоюродной сестры. В хозяйственных приготовлениях к пиршеству обо мне, вероятно, забыли на время – и вот я у бочонка в каком-то коридорчике, поглощаю вишню за вишней. Знаю, что этого нельзя и что это наслаждение ежеминутно могут прервать, но от этого только с большей жадностью и поспешностью глотаю запретные плоды. Первое сознательное чревоугодие и гортанобесие. Впрочем, еще раньше – тяга к дедушкиной пастиле и, когда он умер, т. е. его унесли, забота – кто же теперь будет давать пастилу – и радость наследства: сказали, что дедушка весь запас пастилы оставил мне. Сколько низменных чувств уже в таком крохотном возрасте!
28 октября. Вечер. 9-й час. Даниилова комната
Мои стихи, на которые я сама оглядываюсь с пренебрежением, с досадой на их недоделанность, недорослость до настоящей поэзии, несут в себе лишь то оправдание, что были не раз жизненно нужны кому-то из близких (покойная Зина Денисьевская, А. С. Залесская, Зеленина, покойная Надежда Сергеевна Бутова, Лида Арьякас, Людмила). В последнем письме Людмила пишет – после брюшного тифа: “…В бредовые ночи я часто повторяла ваше стихотворение “Ландо” и разные отрывки других ваших стихов. Ваш образ радовал меня. Много есть у меня любимых людей, но с каждым связано что-нибудь тяжелое, а образ ваш, мой дорогой друг, сияет всегда теплым светом”. Выписываю эти последние слова, как чудесное утешение, вовремя пришедшее. Так мучило по ночам последнее время сознание своей малоценности, клинические Umver Tigkeit[299]. Нежная, горячая внимательность Аллы, в чьем доме много проживаю теперь, временами казалась только актом сострадания к бездомной старости. Хотелось чем-то расплатиться внутренне (и попутно доказать, что есть чем расплачиваться, когда на самом деле нечем). И хотелось порой уйти далеко в ненарушимое одиночество.
Приехал <Даниил > (это значительное и радостное в моих днях). Стал совсем бронзовый. И совсем взрослый. Через пять дней ему 28 лет. Привез стихи Волошина из “Дома поэта”. А также и свои, написанные у моря. Выписываю те, которые мне больше всех понравились:
Часы, часы ласкать глазами Один и тот же скудный холм, Внимать наитьям и сказаньям В приливе дней, в прибое волн. И говорить с людьми о том лишь, Что в море – шторм, что в мире – штиль, О тех закатах, что запомнишь Навек как сказочную быль. Ведь все равно в час тени смертной Ты пожалеешь только их — Вот эти камни, эти ветры, И волн нерукотворный стих, И медленный залив, что дремлет В предгорий золотом ковше, Всю бедную родную землю, Чужбину, милую душе[300].“Бедная, родная земля, милая чужбина души” – как это просто и прекрасно выражено. Если бы я была помоложе, поталантливее и жила бы в Коктебеле, я бы это стихотворение непременно написала. Да и без этого оно – мое.
30 октября. Вечер. 10-й час
Гостеприимный кров В. Е. Беклемишевой над разверстой утробой Остоженки. Из этой утробы неслось однажды холодной, непогожей ночью бойкое пиликанье гармоники с залихватскими припевами частушек о “барыне”. Из-под каких-то подмостков выползла ярко освещенная снизу в чудовищных ватных штанах молодая девушка в красном платке, и с соседних мостков ее окликнул заигрывающий голос рабочего, катившего тачку с песком. Он предложил ей папиросу, она кокетливо поправила платок на завитой у парикмахера стрижке и зашагала к нему через балки, переставляя отяжеленные широченными штанами ноги, как мешки с песком. Он хлопнул ее по плечу, она его по спине, остановилась тачка, запыхали папиросы – и минут пять продолжался оживленный флирт под заунывный скрежет какого-то сверла и несмолкаемый лязг железа в земной утробе. Поистине “жизнь везде”.
Гитлер воскресил, оказывается (я мало читаю газеты, пишу со слов), средневековое cujus regio ejus religio[301]. Какая бессмыслица! Чего можно добиться такими декретами в вопросах веры? Только лицемерия или усиления веры до желания мученичества.
3 ноября. У Аллы в доме
…И вдруг погас свет. Раздались восклицания, жалобные, негодующие, смешливые. Что делать без света? Домохозяйка (Леонилла) сейчас же пошла искать свечу. Домработница, с которой я занималась в этот миг арифметикой в кухне, опрокинулась на свое ложе и моментально заснула. Алла удалилась в свою комнату и начала вслух повторять свою роль из чеховского “Предложения”. Оттуда раздавалось “Воловьи лужки? Воловьи лужки – наши”. Муж Аллы сел в кресло и начал лениво бранить МОГЭС. Мирович занялся всплесками красного и зеленого света на мокром черном асфальте мостовой. Так прошло полчаса. И вдруг – fiat lux![302] Вспыхнула хрустальная люстра – серединное солнце и четыре канделябра. Свет! Свет! А для чего? Леонилла стала накрывать чайный стол. Домраба стала, проснувшись, складывать 2+3+4. Алла вышла из своего творческого уединения, жмурясь на свет, и начались очередные несогласные, взаимно раздражающие разговоры с мужем о паркете, о занавесках. Мирович проверил арифметику на кухне и ушел в темноту, в комнату с погашенной лампой. Феномен света, счастье света поразило его. Но поразило и то, что такой громадный феномен имеет такое слабое преломление, применение, вообще – следствие в человеческом мире.
4 ноября. Комната Даниила
Он с ангиной лежит на кушетке и весь ушел в творческий процесс. Я сижу у стола. Мы предварительно простились с ним, как это я делала в молодости, когда приходилось писать стихи или прозу одновременно с сестрой, жившей со мной в одной комнате. Мы не мешаем одиночеству друг друга – это такая редкость.
Сложное, странное и трагическое явление русской современности – Даниил. Отцовская наследственность – зачарованность неразрешимыми загадками бытия, влечение к недостижимому, пафос ибсеновского одиночества (бессознательного, может быть). “Во мне – сила, я хочу быть один”. Это одна сторона его существа. Другая – смиренность, склонность к самобичеванию. Свободолюбие. Жажда подвига. Культ героя. И тут же детскость. И оранжерейность. И нет женщины рядом. “Душой дитя (как большинство поэтов), судьбой – монах”.
Лирика Даниила искренна, возвышенна, грустна. Родственность с Максом Волошиным. Недаром его так тянуло в Коктебель, и недаром он приехал оттуда, переполненный встречей с М. Волошиным – с умершим как с живым.
Рассказывал о Египте, об Аравии – в коктебельских пейзажах. Спрашивают: “Где же там пальмы?”
Даниил: “Сколько угодно. Там есть такие деревца, что издали как пальмы”.
5 ноября. Ночь – 3 часа. Гостиная Аллы
Сколько суеты вольной и невольной в актерской жизни. Алла, от природы совершенно лишенная позы и тщеславия, думает с отчаянием, что для появления в Кремле (прислали оттуда приглашение на банкет 7-го) нужно бы платье в 700 рублей, которого нет. И звонит в 12 часов ночи о какой-то черно-бурой лисице.
Противоестественно в корне своем актерское творчество: противоестественно, нецеломудренно (и жертвенно!) превращать свои мускулы, нервы, самую психику свою в аппарат для осуществления творческих задач.
Когда перевоплощаются в животных, в разбойников, в путешественников дети, это естественно, потому что это делается без расчета на зрителей, без эстрады. Это расширение граней возможностей своей судьбы. И всегда перевоплощается в играх своих ребенок в то существо, каким ему хочется побыть. Актер же должен играть всякую роль. Умирая, Самарова[303] (актриса Художественного театра) говорила мне: “На что ушла жизнь? Страшно подумать. Попугайничала из года в год”. – “Но ведь вы перевоплощались, создавали роль”. – “А зачем мне-то, душе моей нужно было каждый вечер сидеть напоказ барыней из «Живого трупа» или какой-нибудь бабушкой-нянюшкой”.
7 ноября. 12-й час вечера. Гостиный холодильник милой Веры Евгеньевны
Если быть христианином и прислушаться к центральным в учении Христа словам: “Царство мое не от мира сего” – нельзя вмешиваться ни в политику, ни в экономические задачи в государственном масштабе. Отсюда естественно вытекает “кесарево – кесарю, божье – Богови”. И тут все равно, какой кесарь – Нерон, Марк Аврелий или какой-нибудь коллектив. Нерон даже лучше, так как дает возможность христианину увенчать свою веру мученическим венцом. Хозяйственного типа святители противоречили завету Христа: “Не пецытеся на утрей – довлеет дневи злоба его”[304]. И с богатством, и с властью несовместимо христианство. На какой-то ступени проникновения его духом явится необходимость “раздать имение нищим”. А про власть сказано: кто хочет быть первым, пусть будет последним и всем слугой. Так ясно, что все это не для народов, не для масс, не для царств мира сего, а для очень “малого стада” (“много званных, мало избранных”). А мир сей как до христианства, так и до скончания века (?! Мало обоснования и умозаключения – приписка 1948 года) будет устраиваться по законам исторической эволюции и революции, по стимулам голода, по лозунгам “хлеба и зрелищ” – если не для себя, так для будущих поколений, как у энтузиастов революции, где стимул уже не эгоистический, жажда справедливого распределения хлебов и зрелищ.
8 ноября. Раннее утро в Верином холодильнике
О Вере. Бывшая жена бывшего “Шиповника”. Один из лучших цветов цвета русской интеллигенции. Ведь кроме “гнилой”, кутящей, болтающей, декадентствующей и мещанской интеллигенции был и этот слой, в который входила Вера и из которого принесла в зачатки социалистического строя нравственную бодрость, деловитость, честность мысли, высокоразвитое чувство товарищества, веру в будущее и неутомимую энергию. Ей около 50-ти лет, но она еще красива. И воображаю, как была хороша она в молодости с этими блистающими оживленной мыслью и жизнерадостностью глазами, бронзово-зелеными с золотыми искрами, с соболиными бровями, с черными курчавыми волосами, с цветущим худощавым лицом, с током молодой энергии (и в старости он ощутителен) в каждом движении, вращалась среди революционеров (сочувствовала или активно в их работе участвовала – не знаю). Вернулась в Россию революционно настроенной. Встреча с “Шиповником” – это эстетический mesalliance – замужество с ним. Вращалась во всех литературных салонах Петербурга. Стойко перенесла разорение и дальнейшие трудности Октября. Занялась писанием романа – кроме труда для заработков. Всегда в работе. Всегда оживлена. Всегда внимательна к людям и к их нуждам. Здесь – низкий поклон ей за участие к судьбам бездомного Мировича.
3 часа дня. Солнце. Гостиная Аллы
10 заповедей приживания
(Наставление особам, долговременно или кратковременно в чужих домах – и даже дружественных – приживать обреченным.)
Правило первое – не привозить с собой громоздкого багажа.
Второе – не звать к себе никого, по телефону звонить как можно реже.
Третье – не критиковать порядков и обычаев дома.
Четвертое – не давать советов и вообще молчать как можно больше.
Пятое – возможно реже попадаться на глаза наиболее нервным членам семьи.
Шестое – дурное настроение прятать под личиной бодрости.
Седьмое – быть безупречно опрятным, тщательно за собой убирать, вещей своих не разбрасывать.
Восьмое – не говорить о своих болезнях и нуждах.
Девятое – всеми доступными способами возмещать хозяевам протори и убытки, нанесенные материальной стороной приживания.
Десятое – стараться как можно скорее из оного, приживательского, положения выскочить.
АМИНЬ.
Вечер. 11-й час. Комната Леониллы
Вчера Алла была в Кремле на банкете. Видела послов и посланниц всех государств. Познакомили ее с Калининым и Литвиновым. Немножко закружилась у нее голова. Немножко – но закружилась. Я знаю, что головокружение это пройдет, а может быть, уже и прошло. Что главная причина его – надежда на какую-то поддержку извне против интриг и притеснений в ее сторону внутри театра (Алла не умеет бороться за свою карьеру и презирает в этой области борьбу). Но – я так люблю кристальность внутреннего облика Аллы, что не хотела бы ни одного затуманивающего штриха на прозрачной ясности ее души.
…И как откровенна низость ее гонителя-мучителя, режиссера Судакова[305]: увидав ее в обществе Калинина, Литвинова и его жены, оживленно с Аллой беседующими, и справедливо догадавшись, что беседа не обошлась без темы о “Грозе” и о том, почему не ей дана в театре роль Катерины, – сей гоголевский герой через час уже говорил с Аллой новым почтительным и предупредительным тоном.
9 ноября
Как я рада, что Алла откажется от роли в “Грозе”. Из Кремля позвонили: Вы будете играть Катерину. И она была рада. Но это был бы не товарищеский акт. (А кроме того, думается – ей бы товарищи сумели поставить здесь новый капкан.) И она отказалась. И головокружение прошло. Вместо него грусть и надежда, что меньше будут “травить и зажимать”.
10 ноября. Красные ворота
“Осенние розы – прелестные розы.”[306] Милое, помолодевшее (42 года) лицо Л. В. Крестовой. Человек, который вошел в ее жизнь для своего и ее “счастья” (не умею писать это слово не в кавычках). И под сводами полуразрушенной квартиры – в холоде, в сырости, между бревнами, подпирающими потолок, над угарной керосинкой, где жарилась и в свою очередь угарила своим салом колбаса, расцвело бедное, ущербное, но хорошее – человеческое счастье.
С. Н. Смидович, к которой я обратилась с письмом о катастрофе с нашей квартирой, заболела – приступ грудной жабы, и она в больнице. Нам с Людмилой Васильевной не везет. В какие двери ни сунемся, там уже готов рожон судьбы. Но в данном случае не от этого сжалось сердце: вспомнились милые глаза, детски-кристальный, немножко картавый голос, правдивая и героическая душа, отражающаяся во всем существе – и так жаль всего этого. И так хотелось бы помочь, облегчить, хотя бы безмолвно побыть рядом, подержать руку.
12 ноября. В Аллином будуаре
Под ногами белый медведь, а кругом все розовое. 11-й час.
Здесь мы сегодня собрались трое во имя Пушкина, и Пушкин был среди нас. Так однажды было в моей аудитории, когда я читала о Достоевском. И сегодня Пушкин ощутился как реальнейшее, как живейшее присутствие. Бледная, как привидение, сидела Галиночка. Унеслись в какую-то глетчерную, нагорную высь крылатые глаза Аллы. Прочли “Подражание Корану”, “Когда для смертного умолкнет шумный день”, “Под небом голубым” и др. А перед этим я попыталась набросать внутренний портрет Пушкина исходя из его расы, наследственности, воспитания, среды, эпохи, интимных сторон жизни и особенностей его гения. Я знаю, что все это – дилетантски. И знают это и мои слушательницы. Но тем не менее – был с нами сегодня Пушкин. Пришел и слушал себя через наши открывшиеся ему души. И слушал нас. А к Грузинскому[307], к Цявловскому, к Веселовскому[308], к Когану[309] – не приходил.
14–17 ноября. 10 часов утра
Беспросветно-мутное, сырое холодное утро. В Аллиной гостиной полутемнота. В соседнем доме в некоторых окнах лампы. За эти три дня – что было? Два праздника души – встреча в той близости и радости, как 12 лет тому назад – с Л. В. (Крестовой), и письмо Ольги, из которого вижу, что несправедливо обвиняла ее (внутренно и в разговорах с близкими) в “неведении, забвении и окамененном нечувствии” в мою сторону. Письмо просто по неточности адреса блуждало три недели, пока дошло ко мне.
Было чтение пьесы в Аллочкином салоне. Пьеса растрепанная, тенденциозная, но горячая – пафосом феминизма, оскорбленностью женщины за властелинское и часто нечеловеческое отношение мужчины и за остатки рабства, дремлющие в женской душе. Автор – милый, еще молодой – женщина, еврейка, около 40 лет, черноволосая с светлыми, победно умными, но женственными, щедро сеющими улыбку глазами. С нею пришел Коробов, секретарь Бубнова, – лицо более или менее “высокопоставленное”. Средних лет. Умница. Джентльмен. Особая, ни на секунду не изменяющая сдержанность, какая бывает у хороших психиатров, у судебных следователей и дипломатов (знаю одного дипломата – бывшего, дядю Ириса Б. В. Миллера)[310].
Ночь, напролет посвященная семейному обсуждению Аллочкиных театральных судеб. Аллу заклевывают, затаптывают, “зажимают”, всячески стараются пригасить, на каждом шагу расставляют капканы. Знакомая история в дни общей жизни с покойной Н. С. Бутовой. Но поскольку Алла красивее, талантливее и к тому же “героиня” по своему амплуа, а не “характерная”, как была Надежда Сергеевна, и к тому же “Грозой” прославилась на весь мир – и борьба с ней ожесточеннее, планомернее и хитрее.
15–19 ноября. 2 часа дня. Алешина комната
Сырь, грязь, дождевая мгла, отвратительное, грязно-желто-бурое освещение. Скорей бы вечер. Тогда асфальт улицы отразит красные и зеленые огни светофоров, и побегут по улицам золотые четырехугольники трамвайных окон и лучи автомобильных фонарей. И я увижу это сквозь кисею окна Аллиной гостиной. А потом настанет ночь, и я буду в этой гостиной совсем одна. И я позову “Царю небесный, утешителю, Душе истины” и тяжко вдавлюсь в диван, в ночь, в сны. Полегче надо. Полегче вдавливаться в покой. И потруднее – не бояться трудного, как не боится Леонилла беготни по рынкам и кооперативам и тысячи своих хозяйственных хлопот.
4 часа. Психопатическая боязнь учреждений делает понятными для меня все фобии, все человеческие “не могу”. Вот я превозмогла свое “не могу” и съездила в какое-то Мосжил (конца слова не помню) заявлять 0 том, что со мной неправильно поступили, оставив без площади на время ремонта. И надо превозмогать, и я рада, что превозмогла. Но я знаю, чего это стоило, чего стоят такие превозможения таким людям, как я. Тут начинается с того, что самая жизнь, где надо толпиться в учреждениях, наталкиваться на грубость, безразличие, невнимание, несправедливость – такая жизнь вдруг теряет цену (как в еврейском погребальном песнопении “И жизнь не стоит испытаний этих”). И превозможение начинается с того, чтобы восстановить в своих глазах эту цену. Затем надо отбросить усилием воли жестокое представление, что ты в государственной машине даже не гвоздь, а какая-то атомная частица гвоздя (так мальтретирует[311] обывателя, а особенно старика, почти всякое учреждение). И надо противопоставить внутренно свою расценку человеческой личности (в то время как на тебя будут рычать или замахиваться копытом или, как наша домоуправительница Дуняша, отсылать к ч…й м…и).
На генеральной репетиции “Пиквикского клуба”[312] публика бешено аплодировала прежде всего легкому, сытному, удобному и красивому быту и веселому, глубоко человечному юмору Диккенса. Контрастность трудной, тесной, недостающей, со всех сторон ущемленной неблагообразной жизни с просторным, беспечным, благообразным обиходом обывателя– англичанина диккенсовских времен – повышала восхищение и любопытство зрителей. Аплодисментами встречали не только красочные, со вкусом сделанные декорации, но и бутафорию – новогодний стол, заставленный картонными яствами, и другие аксессуары комфортного привольного житья. Мещанство никогда не будет вытравлено из человека. Какие бы <ни были> грандиозные планы будущего благополучия (и с прекраснейшими лозунгами о справедливости, о братстве народов), он все равно будет тянуться к ветчине, даже в бутафорском ее состоянии.
22–23 ноября. Ночь. 2-й час
Ужасно, когда водевиль превращается в трагедию, но может быть еще ужаснее, когда трагедия превращается в водевиль.
Позвонила в Кремль узнать о здоровье Софьи Николаевны (Смидович), и показалось, что это ее голос (милый, грудной, один из прекрасно-женских голосов) с непонятной резкостью предложил спрашивать о ее здоровье в каком-то обществе, кажется, “старых большевиков”. После того, что нас связывало в молодости, в Ницце, в дни болезни ее первого мужа, и рядом с тем чувством, какое и теперь будит во мне ее голос, ее образ – эта отрывистая, грубоватая отповедь показалась мне такой на облик Софьи Николаевны непохожей, что я решила расследовать дело и написала ей об этом. Если не придет никакого ответа и не будет телефонного звонка, тогда придется сказать себе, как сказал некогда трехлетний Сережа: “Кока (товарищ), верно, мне не рад: он два раза ударил меня и сказал – пошел вон”. И тогда это уже не будет обидно, потому что таким образом наступающий становится на один уровень с безответственным Кокой – не ведает, что творит.
24 ноября
Самое трагическое – когда трагедия протекает не по линии взлета и срыва – и катарсиса, за этим следующего, а тянется неизбывно, изо дня в день. Когда ее едят с маслом, пьют, как молоко, переносят, как приступы зубной боли переносят люди, не имеющие мужества вырвать зуб, который уже нельзя вылечить.
“Гроза” провалилась (на сцене Художественного театра). Впрочем, какое мне до этого дело? Разве – постольку, поскольку это моральная компенсация Алле, которую театр незаслуженно оскорбил, не давши ей Катерины после ее мирового триумфа в кино.
Ну и образина – В. О. Массалитинова[313]. Могла бы без грима играть Кабаниху. Темперамент, от которого трещат столы и звенят стекла. Я думала, что при ее корпуленции вот-вот случится с ней удар, когда она негодовала на порядки в Художественном театре. Не крик, а рев стоял в комнате, а глаза у нее налились кровью.
17 тетрадь 29.11.1934-17.3.1935
2 декабря
Убит Киров[314]. Как невыразимо ужасен акт убийства. За всю долгую жизнь не могу (да и не хочу) привыкнуть, что он вошел в обиход человечества.
4–5 декабря. В царстве Берендеев
Милые Берендеи, Ефимовы, создали мне в дни кочеванья такой сказочный, братски-теплый, детски уютный этап.
За него – из загробного царства, откуда пишу и где нередко живу – шлю им низкий поклон, как сделала это вчера Оля. Она – за другое. И на это способны только сказочные персонажи. Кроме Ольги – Инна Вторая[315], Катенька Эйгес[316], Даниил (он, впрочем, слишком замкнут для откровенной лирики, его сказочность скорее в поступках, в планах, в жизненных ситуациях). Ольга, насмотревшись фотографий ефимовской скульптуры, при мне, среди белого дня, в кухне поклонилась Ефимову, коснувшись пальцем пола, и сказала сияющим, торжественным голосом: “Кланяюсь до земли и горжусь, что Вы у меня были в числе великих возлюбленных”.
8 декабря. Добровский дом
Постель Филиппа Александровича, на которой буду сегодня ночевать (он сегодня дежурный).
10 часов вечера. Лель (муж Ириса) очаровал всех в доме Тарасовых, где был первый раз. Он очаровывает детской чистотой и серьезностью мысли, какую излучают его глаза и высокий прекрасный лоб мыслителя.
Говорила я сегодня о важном, о в высшей степени серьезном и трагическом. И услаждала утробу пирожками, тортами и конфетами (“черствые именины”).
И как-то все это нехорошо перемешалось – важность и великость тем и низменность чувственной услады. Принять Мировичу к сведению.
9 декабря
Влюбиться – значит подпасть под чье-то обаяние, сотворить из внутренних и внешних черт какого-то лица образ красоты и жить в восхищении этой красотой. В молодости к этому за редкими исключениями присоединяется жизнь пола, чувственность. У старости, у детей – за редкими исключениями – это восхищение (и подпадание под власть того, кем восхищаемся) от жизни пола независимо.
Старухи бывают влюблены в своих внучат – и в чужих детей, даже младенческого возраста. Юноши и девушки влюбляются в талант, в гений. Если он не одного с ними пола, у них легко переходит это в страстное обожание (Беттина Арним и Гёте). Мирович всегда влюблен, и без этого ему недостает отвода каким-то перенаполняющимся эмоциям (как сейчас, когда он ни в кого не влюблен). 10 лет тому назад покойная мать с грустью сказала однажды: “Влюбилась в Сережу (двухлетнего) и все на свете забыла”. (В частности, ее забывала.) Тем-то и плоха влюбленность!
11 декабря. Берендейское царство
Отвратительное сознание, что заболеваешь при бездомности и, значит, при бесправности болеть. Как будто нахально превышаешь этим норму гостеприимства.
12 декабря
Две ночи и три дня неразрывно с Пушкиным. Так как при этом была повышена температура, он стал ощущаться реальнее, чем Ефимовы, чем Поля[317], угощавшая “горяченьким” молоком. И Москва за стенами ощущалась прежняя: на Басманной Чаадаев, на Арбате Пушкин. И на Тверском бульваре не памятник – а сам, живой, Александр Сергеевич в потертом бешмете с оторванной пуговичкой. – Его смех, его глаза, его судьба. Когда так вживаешься в судьбу умерших, не оживают ли они временно для какой-то слиянной с нами жизни…
12–14 <декабря>. Берендеи и Алла
У Аллы в будуаре. 12 часов дня. Час уединения. Вне этого часа – невообразимая и многообразная сутолока: Торгсин, патефон, скорняк, портные, портнихи, массажистки Аллы, телефоны, жирным розовым пончиком, очень шумным, катается Нина, фокстротной куколкой скользит тростиночка Галина, гаркает “чого?” домраба (украинка) Тося, собирается в Хабаровск Нинин спутник, камчадал Алик – упаковывает чемоданы, курит, сдержанно нервничает; ходит с какими-то проволоками длинный Алеша и ссорится с бабушкой, перебрасываются раздраженными фразами муж и жена. И тут же толстый старый Мирович роется в своем рюкзаке под телефоном (его вещи разбросаны в четырех домах), ищет свою сумку, свои очки, свою тетрадь, запирается в ванной, чтоб побыть вне человеческих флюидов – и туда к нему через каждые 5 минут ломятся. И тут же – Пушкин – то, что снилось ему и что наяву звучало ночью после вчерашнего его доклада:
Восстань, восстань, пророк России, Позорной ризой облекись, Восстань и с вервием на вые К царю бестрепетно явись…И точно я ехала с ним, когда он мчался в возке из Михайловского в Петербург по приказу Николая, и слагал по дороге “Пророка”, и готовился к “вервию на вые” – к участи своих товарищей декабристов, и точно это я вместе с ним потом полузабыла “пророческое” призвание свое, изнемогла, пошла по нарезкам винта жизни, а не по великому внутреннему призванию.
Миги, брызги, искры, клочки, тени.
…Не каждый ли пир – “Пир во время чумы” в каком-то смысле (в смысле тут же, за стеной, голодающих, умирающих)? Шекспировское “Оленя ранили стрелой, а лань здоровая смеется”[318].
…Наташа Сац рассказывала, что кто-то там, 65 лет дива, “великолепно танцует”, только ногу уже не может поднять в один прием, поднимает с расстановкой. Как страшно. Вспоминается жена Немировича Катерина Николаевна —80 лет в кудерьках, с румянами, с бантами, на каблучках. Как страшно.
…В Галиночке прелесть чистоты с возможностью порочности. Холода с возможностью темпераментных взрывов. Немножко косит, как жена Пушкина, и это придает загадочность взгляду. Говоря, устремляется взглядом куда-то вверх, как бы фиксируя мечтательно какой-то образ, как будто порываясь куда-то лететь.
…У Берендеев я зажилась. Надо было меньше “гостить”.
…Рядом кокетливо жалобные, разнеженно страстные и нагло-чувственные фокстроты патефона. Сколько пошлости перетащил он из-за границы в СССР. Насколько чище наши самые грубые частушки. Ну как же не сказать: “гнилой Запад”.
Из всего, что вчера и сегодня играл патефон, – хороша только итальянская ария Карузо: “Tu ca nun”[319]. В ней такая раненость сердца, и такая искренность жалобы, и такая сила и широта лиризма, какая бывает только у итальянских певцов.
…Подарили Мировичу одеколон за 32 рубля. Он подумал: “Лучше бы бумазейные штаны”. Одеколон, кроме того, тошно-гвоздичный.
…А вообще, скорее бы свой угол. Без подарков. Без приживательского привкуса.
…Но представить себе, как Нина Яковлевна (Ефимова) в 58 лет, умная, грустная, танцует в клубе с Петрушкой, сработанным ее руками, танцует – фокстрот, – как хотите, грустно. Плод общей искривленной линии городской культуры.
…Раз мать, уже совсем в старости, надела, когда у нее озябла голова, голубую вязаную косыночку. Я запротестовала – такой был контраст старческого желтого, в морщинах лица и ярко-голубого цвета косынки.
А вот сейчас накинула розовую Аллину шаль на плечи (дует от окна), и лишь когда мелькнуло в памяти что-то голубое, подумала: это косынка матери. И: как неуместна эта розовая шаль на Мировиче. Но как, – увы! – деликатнее, чем я была к матери, – никто ничего не сказал мне про розовую шаль.
Грустно приходить к друзьям с определенно корыстной целью – ночлега, еды. Но надо смириться, нельзя ведь обойтись без ночлега, без еды, пока жив.
Когда-то Танечка Лурье, в то время 18-19-летняя, сказала: “Ничем, мне кажется, нельзя выразить друзьям свое доверие, свою полноту дружественности, как тем, что просто свободно принимаешь от них все дары, все услуги”. И потом прибавила: “Отчего же такая большая радость – дарить? И так грустно и обидно, когда не принимают или возвращают подарок”.
16 декабря
А. Герцык. Писательница из Северного Закавказья[320]. Глухая – отсюда трудность общения. Несколько рассказиков – при жизни ее как-то не чувствовалась во всей полноте их художественная прелесть и внутренняя значительность. Маленькая книжечка стихов. Помню конец одного стихотворения:
Блаженна страна, на смерть венчанная, Покорное сердце дрожит, как нить. Бездонная высь и даль туманная… Как сладко не знать. Как легко не жить[321].И как загадочны эти четыре строчки, так же значительна и моя посмертная встреча с ней – случайно попавшая в руки пачка вырезанных из журнала рассказиков. Вспомнился вечер у нее и у сестры ее Евгении Казимировны[322]. Статуарно неподвижная и какая-то скованная поза Аделаиды Казимировны. Тяжелая, как из мрамора, бледнолицая голова с тяжелыми крупными завитками вокруг лба. Какое-то сходство с Врубелем. Бледно-голубые глаза с выражением терпеливым и обреченным. Я прошла мимо. Может быть, глухота Аделаиды Казимировны помешала. А сейчас в рассказах ее почувствовала такую созвучность с главными струнами своей души. И то, что ценю в людях больше всего: способность видеть, слышать и понимать. Огромное и до тонкости изощренное внимание. Огромная и непрестанная внутренняя работа. И неотрывный взгляд в сторону смерти – с любовным к ней отношением (“Блаженна страна, на смерть венчанная”). Аделаида Казимировна вышла замуж за совершенно неподходящего, чтобы не сказать чуждого ей человека[323]. Не расходились, но жили как-то врозь, хоть и под одним кровом. Этому и глухота способствовала.
Родились двое детей – мальчики. Про одного из них два чудесных рассказа[324], где поражает редкая интуиция в детскую психологию и тончайшая обработка материала. И правда двойная – художественная и жизненная. Очевидно – быль. А я прошла мимо. Ах, не надо, никогда не надо проходить мимо.
20 декабря. 3 часа дня. Комната Ириса
“Она ищет опоры, ей трудно без опоры”, – сказал один врач о моей покойной сестре (Анастасии Мирович) незадолго до ее окончательного психического заболевания. Если бы она нашла нужную ей опору, кто знает, заболела ли бы она 27-ми лет неизлечимо. И знаю о себе наверное, что если бы не было у меня опоры на житейском плане (почти всегда) и внутренно несколько раз в жизни (в самые острые ее моменты) – постигла бы и меня участь сестры (18 лет в психиатрической лечебнице, где она и умерла).
Кто не вырабатывает энергии, достаточной для приспособления к жизни, и не имеет возможности заимствовать ее у других, тот нередко спасается или самоубийством, или психическим заболеванием от непосильной трудности жить вечным банкротом или опускаться до босячества.
21 декабря. 3 часа дня. В квартире Тарасовых
Алешина комната. Две белых постели – его и отца. На стенах: Джоконда, старинные крашеные гравюры – пейзаж ночной и река в облачный день, портреты матери (Офелия и роль в кино), два фрегата на фарфоре. Парта, стол, на столе бегония, книжный шкаф, два кресла, у стены велосипед. Итальянское окно в раме холщовой занавески с темно-золотистой каймой. В окно – огромный портрет Сталина на фоне красного знамени, тонкая шея и маленький купол какой-то полуразрушенной церквушки, жемчужные закатные дымы.
Впитываю все это глазами Алеши, что умею делать с тех пор, как полюбила его и этим ввела в круг своего зрения. Сталин – он же Ленин: то новое и непогрешимое, что противопоставляет школьник старому – бабушкам, дедушкам – и в чем формируется его сознание. И старее и антагонистичнее всего – эта маленькая обезглавленная церквушка. Глядя на нее, думает: “Религия – опиум народов”. Бегонию любит, потому что эстет. И потому, что это подарок матери. Гордится матерью, ее красотой, ее известностью и любит младенчески эгоистично, но уже с зачатками рыцарственности. Потом это, может быть, станет культом, как у Даниила Жуковского, сына покойной Аделаиды Герцык, и у другого Даниила (Андреева). От матери унаследовал интерес к Толстому (мать читает отрывок из “Анны Карениной” на эстраде). Оба фрегата на фарфоре дороги ему, потому что говорят об адмиралах, о морской службе – мечта Алеши в последние годы. Отец – крепкая связь. Но видит его слабые стороны и иногда критически, свысока эгоистичен и эгоцентричен, но понемножку выбирается из петли эгоизма, чему помогает доброта. И отчасти суровые обличения бабушки. Бабушку не сумел оценить – ее честности, ее мысли, активности, прямоты и человечности. Видит в ней только те маленькие нелепости, какие во всякой старости неизбежны (ущербная ориентации, забывчивость, норой медленный процесс припоминания и т. д.).
22 декабря. 1-й час ночи
Все уехали к Юре (Тарасову) в Преображенку, где он заведует психиатрическим отделением. Празднуют день его рождения. Он появился на свет 35 лет тому назад в стенах военного госпиталя в Киеве. Он так сильно кричал – так громко и так неумолчно, что я сбежала от Тарасовых в один раззолоченный еврейский палаццо, где перед этим давала урок. Это были безумные дни – ранена была душа жестокой болью, но обратила боль в какое-то вихревое движение. Вечеринки, фестивали, катание на тройках. Даже цыганские романсы пела. Даже в маскараде однажды была.
23 декабря. Квартира Аллы
Одним росчерком пера зачеркнута сегодня для меня возможность жить под своим кровом и вообще жить в сколько-нибудь подходящих для старости, немощи и творческой работы условиях. Будет еще борьба. Мобилизуется даже, как самая мощная армада – Аллочка (“заслуженная артистка, депутат райсовета” и т. п.). В таких моментах “борьбы” для меня самым трагическим является не факт поражения и вытекающих из него последствий – но самый факт борьбы и необеспеченность для каждого “рожденного женой” на этом свете хотя бы минимальнейшего минимума благ: защиты от холода, права не умереть от голода.
Молодой рабочий, выброшенный в числе 9 человек из разрушенного Метростроем дома, молил, чтобы его допустили в кабинет к тому, кто росчерком пера может спасти его семью и товарищей от ночлега где-то в “колидоре” – “ведь в колидоре, ведь на каменном полу… нетоплено… дети…”. К барышне, принимающей заявления, ловя ее взгляд: “передайте, посочувствуйте”. Барышня, добродушная и терпеливая, – три часа в ожидании росчерка пера я ее наблюдала – вдруг окрысилась: “Никому не могу радеть, никому не могу сочувствовать. Если бы я сочувствовала, я бы давно от чахотки умерла. Вас тысячи. Я бумаги принимаю. Объясню, что нужно. А больше я ничего не могу”.
Бумаги. Вот в этом и секрет железности (и соответствующей прочности) всех государственных аппаратов, что бумаги заслоняют голодные рты, умоляющие глаза, умирающих детей.
24 декабря. 11 часов вечера. Комната Леониллы
Миги, брызг, клочки, вздохи, искры.
…Бросилась под поезд старая женщина от неимения жилплощади. У нее трое взрослых детей, но жили тесно. Тяготились матерью. Долго ходила у рельс. Подошел сторож, спросил, почему она все топчется на одном месте, она сказала:
– Я тебе мешаю? – Он отошел. Она быстро легла на рельсы, заметив на повороте глаза паровоза. Через секунду ей уже было не нужно на этом свете жилплощади.
…Я говорила Людмиле Васильевне[325], что старухам трудно за себя хлопотать, что для молодых все везде делают охотнее. Присутствовал молодой красноармеец из войск ГПУ с хорошим украинским лицом, немного курносый, смуглый, румяный, кареглазый, с черными кудрявыми бровями. Слушал сочувственно. Вышли вместе. На лестнице стал убеждать: “Чего-то вы, мамаша, боитесь? Мой совет: идите сами, смело. Они ж таки сразу, как посмотрят, увидят, что вы не можете одна жить. И прямо такочки и говорите: не могу одна жить”.
…Есть люди без “нутра” – нет потайного у них сокровища, основного фонда жизни. Этот фонд может быть мал: одна горсточка медяков или немножко серебра, – но все-таки это фонд, валюта. Но бывает – с виду человек не богат фондом, поверхностен. И вдруг откроется словами, поступками, жизнью, что у него в распоряжении ларец с золотом 96-й пробы. И это редко – целые золотые прииски.
27 декабря. 9 часов вечера. У Степунов[326]
(Ушли в гости и предоставили свою комнату бродяге Мировичу). Встретили меня утонченным угощением – кофе мокко, соленые печенья, духи “Красная Москва”. Скрябин и Шуберт (играла Екатерина Васильевна[327] – и в 66 лет какая тонкость игры и какая сила удара). Но самым ценным в празднично дружественном приеме было то, что хозяева подарили мне два часа уединения в их прекрасной комнате, т. е. на моем языке – подарили мне эту комнату на целых два часа.
С абажура смотрят на меня силуэты лебедя, пальмы и пирамиды, стрекозы над камышами и “белеет парус одинокий в тумане моря голубом” – первая красота звука и образа, подаренная мне Лермонтовым в какой-то старой хрестоматии в семилетнем возрасте. Среди всяких старинных вещей, ваз, картин и фотографий таинственно волнуют меня и тоже перебрасывают в детство два перламутровых (из темного перламутра), два ночных городских вида. Намек? Обещание иных форм жизни? Или воспоминание. “я там жила”. Или это “Городок в табакерке” Одоевского – любимейшая сказка в школьные годы. Еще звучат во мне мелодии Скрябина. От печки широко идет тепло (намерзлась я в сегодняшних скитаниях по морозу без калош.). И пусть будут благословенны такие странноприимные пункты в “хладном мире”, пусть не оскудеет ими жизнь во веки веков.
В мире относительностей, где мы живем, американский миллиардер, попавший в одну из своих роскошнейших вилл, вряд ли чувствует такую живую, такую свежую, детскую радость (и благодарность, целую ораторию благодарности), какую испытала я, узнав сейчас по телефону, что готов для меня приют на три дня (целых три дня и три ночи) с отдельной комнатой, такой, вдобавок, где мне будут рады, куда зовут, не исходя из моей беспризорности, а для того, чтобы побыть со мной в общении.
28 декабря. Сивцев Вражек
(моя сентябрьская Ломбардия и Мюнхен)
В соседней комнате щебечут четыре четырехлетки – детская группа. “А у меня есть Вова (новорожденный брат), а у тебя нету”. – “А у меня красный бант”. – “А у моей куклы есть кроватка”. – “А у нас есть кошечка”. Откуда у трехлетнего человека это предчувствие рыночной оценки людей – не по тому, что они сами, а по тому, что у них есть.
За эти 4 месяца у меня было по крайней мере семь жилищ. И я улавливаю нужность этого опыта. Полное зачеркивание завтрашнего дня – и уже ненужность его.
31 декабря. Раннее утро. Замоскворечье
(Разбудил соседний будильник.) Сегодня день кончины матери. “Блаженни мертвии, умирающии о Господе”.
Говорят, Андрей Белый перед последними минутами говорил жене “воскресаю” вместо “умираю”.
Прочла вчера воспоминания Гинсбурга[328], как бабушка в детстве водила его на кладбище и, наклоняясь над могилой мужа, говорила: “Гирш, вот я привела к тебе твоего внука Элиаса. Это я, жена твоя Ривка”. И рассказывала ему всякие домашние дела. Потом прибавляла: “Соседи, если Гирш куда-нибудь отлучился (!), если он меня не слыхал, передайте ему, что была его жена, Ривка, и внук Элиас”. Что это? Просто ритуал, вроде наших старинных причитаний, или вера в то, что есть особая, замогильная, но в высшей степени похожая на нашу, жизнь. Во всяком случае, здесь большое зерно веры в личное бессмертие.
1 января 1935 года. 2 часа ночи. Добровский дом. Даниилова комната
Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе, Спасе Моем.
Не хотелось гадать, не хотелось праздновать. Нездоровилось. Как огорчились Шура и Елизавета Михайловна, что я задумала не встречать с ними Новый год. Хорошо, что я все-таки пришла. Встретили меня горячей радостью. Заставили написать гадание. Филиппу Александровичу вышло: щит и меч для победы над Роком. Он сказал: “Это над изжогой”. Вчера у него сильно заболел пищевод в гостях, во время игры в четыре руки. Он пришел мрачный, с мыслями о канцере. Сегодня – в особом (таком знакомом для меня) дионисьевском преодолении. Extension[329] за пределами личного бытия. Звонила Ольга – точно из Новосибирска, а не из Новогиреево – так это отрезано, забаррикадировано, заметено вьюгами. С Новым годом, с новым счастьем, Лисик.
11-й час вечера. Гостиная Аллы. Все в театре на “Евгении Онегине”.
Я отказалась идти. Наслаждаюсь уединением. Тишина. Только с верхнего этажа глухо доносятся звуки рояля.
В трамвае[330]
Теснились усталые люди в трамвае, Плечом и коленом сверлили свой путь, Локтем упирались и в спину, и в грудь, Вопили: “Кто там напирает?” – “Потише!”…“Полегче!” “Что стал как чурбан?” – “Тебя не спросили – известно!” – “Куда потесниться? И так уже тесно”. – “А ты поскромнее держи чемодан”. И ненависть жалом осиным язвила Сердца удрученных людей. В углу инвалидном прижавшись, следила Старуха за битвой страстей И думала: “Этот вот парень не знает, Не помнит, не верит, что завтра умрет, Что годы, как миги, летят, пролетают, Давно ли пошел мне осьмнадцатый год”. У этой бедняжки сидит бородавка На самом носу. Эх, беда! Хоть выйдет сегодня живою из давки, Никто не полюбит ее. Никогда. А вон старичок. Добредет ли до двери? Винтом завертели, беднягу, всего, Шпыняют и тычут. Не люди, а звери, Никто нипочем не щадит никого. Локтями работает ловко мальчонка, Да хлипкий, да синий какой. Мороз. А на нем решето – одежонка, Должно быть, сиротка и ходит с рукой. Глядела, жалела, вздыхала старуха, Забыв остановки считать. Вошел контролер и промолвил ей сухо: – Плати-ка три рублика, мать.Не знаю, для чего захотелось записать в стихах эту быль. Тянет порой к стиху, как алкоголика к спиртным напиткам.
Шаги на лестнице. Пришли театралы. Прощай, тишина. Впрочем, я им рада, их лицам, голосам, – вот теперь, когда отдохнула от шума.
5 января. 2 часа. Гостиная Аллы
Холод. Замерзают руки и мысли (на улице 32 градуса).
Вчера Алла и Людмила Васильевна добились свидания с распределяющим московские жилплощади Андреевым. Он повелел закрепить за мной комнату в квартире Людмилы Васильевны. Рядом с благодарностью – не ему, а в морозное утро ради меня к нему прибежавшим Алле и Людмиле Васильевне, а через них властителю всех мировых пространств и моей в них точки – рядом с благодарностью к воле властителя моей жизни – грусть и смущение. Сумею ли жить там, как надо тому, кто не только у порога – но уже одной ногой на пороге миров иных…
“И враги человеку домашние его”. Как ждала бедненькая Нина Всеволодовна своего Игоря (брат Ириса) и как мучается, дождавшись, его грубостью, обломовщиной, неряшеством. Как ждала Леонилла Нину (дочь) с Камчатки. И сколько болезненных душевных конфликтов и всяких нервных стычек у них каждый день. Так было и у меня всю жизнь с моей старицей. Всем сердцем я рвалась к ней в Воронеж, а на третий день начинались размолвки, недоразумения, нервные выпады. “И враги человеку домашние его”.
6 января. Утро. Гостиная Аллы (а мой будуар)
Шура (Коваленская) вчера говорила со слезами в голосе и на глазах – о ненужности конфессий, догматов, о религии гольда Дерсу Узала (в книге Арсеньева “Уссурийский край”), о том, как его слушался тигр, как он разговаривал с умершей женой, какой одушевленной и связанной с собой чувствовал всю природу и как любил ближнего как самого себя. Согласна, что Дерсу Узала – явление глубоко религиозного порядка, что от него легко перебросить мост к Евангелию и к 13-й главе послания апостола Павла к коринфянам (“любовь долготерпит… всему верит… всего надеется… не ищет своего.”). Согласна, что, не слышав ни разу о Христе, он исполнил Его заповеди неизмеримо лучше, чем самый “верующий” христианин, сосредоточенный на своих эгоистических интересах. Согласна, но не знаю, как соединить это с историческим значением христианства, а для себя с таинством причащения.
Вечер. Добровский дом. “Слава в вышних Богу и на земле мир в человецех благоволение”. Пропел ли это ангельский хор на Вифлеемских полях, моей вере это не открыто. Но верно знаю, что слышали это в своих сердцах миллионы людей. Помню, как пел это с вдохновленным лицом больной отец наш, сидя у топящейся вечером печки (по болезни не пошел к рождественской всенощной). Помню, что с этими словами пришел Пушкин к Плетневу за три дня до последней дуэли. Помню, как мы сидели, обнявшись, с Наташей вот в этой же полуосвещенной комнате в сочельник, когда на острие ножа столкнулись наши судьбы и – пусть омраченный потом разными моментами – сошел на нас тогда мир, донеслось с Вифлеемских полей ангельское пение: “Слава в вышних Богу”. И сейчас сквозь неправедность, суету и запыленность моих дней слышу отголосок тех звуков, которых “заменить не могли все скучные песни земли”.
7 января. 4 часа дня. Комната Ириса
Ирис в кооперативе за подарками матери и кормилице. Ее Лель тоже вне дома. Я одна и, как всегда, благодарна Судьбе за одиночество.
(Головокружительный темп скитаний. 3-й дом сегодня, 1-й час ночи – у Лиды Случевской.)
Филипп Александрович, выйдя в переднюю (в 11 часов вечера гости только что начали собираться), увидел, что я одеваюсь. “Вы куда же?” – спросил испуганно. “К Случевским, у вас сегодня негде ночевать”. У него глаза заволоклись туманом, похожим на слезу, и на лице появилось выражение болезненной жалости.
– Не смотрите на меня, милый, с таким состраданием, – сказала я. – Мне приятно будет там ночевать. Меня там очень приглашали и будут рады моему приходу.
– Но ведь поздно.
– Ничего. Там богема и фантастика. Им даже понравится, что я приду в полночь.
На самом деле я шла с некоторым смущением. Но обе подруги – пожилая и молодая – обрадовались и ничуть не удивились моему ночному приходу. И было тепло. И был чай. И за чаем придумали определять героев Тургенева, а потом общих знакомых тремя образами. У всех были разные, но все подходили к данным лицам. И у Марии Александровны[331], и у Лиды фантазия творческого порядка.
9 января. 2 часа дня. На полпути от Аллы к Добровым
Сергеюшка уже в Москве. Слышала утром по телефону его нежный равнодушный голосок. Пойдет с Машей на “Ревизора”, со мной на “Сверчок на печи” и в ТЮЗ.
“Неблагословенный дом”, – говорит Леонилла про семью дочери. Неблагословенный с начала своего. Бывают неблагополучия временные, и, если они даже трагичны по существу, в них освежительная гроза. И они тоже преходящи. Неблагополучие, основное в браке – неудачный выбор спутника (если даже по страсти и по любви этот выбор). Корень неудачи – в тех свойствах одного из супругов, какие мельчат, сжижают другого, не дают звучать его лучшим струнам, вносят в его жизнь дисгармонию, двойственность, вольную или невольную ложь. И выбраться из такого рода неблагополучия можно лишь через одну дверь – расторжение брака. <…>
1 час ночи. Под кровом М. А. Рыбниковой. Профессор великолепного сложения. Гориллина челюсть и новорожденная леность, свежесть и невинность пожилого лица. Глубочайшая небрежность к себе, к своему виду, к своему комфорту. Все внимание эстетическое и сердечное отдано Лиде Случевской, подруге, заменившей дочь и вообще семью. У рыженькой нежной Лиды огромное обаяние женственности, чуткости, талантливости и тонкого, острого ума. Вокруг нее все вопросы искусства и жизни принимают особый волнующий, будящий творческую мысль колорит и приобретают динамику стратосферных полетов.
10 января. Рыбниковский кров
Интересная мысль у Лиды Случевской сделать выставку чеховских героев, разделив их на категории: 1 – нытиков и мечтателей – интеллигентов, 2 – больных людей (тоже из интеллигентов) и 3 – душевно здоровых – из простонародья, главным образом – нянь, 4 – детей. Две последние категории должны оттенять степень душевного распада интеллигентов.
Лидочка сама живет у грани распада, и, может быть, только в последний год нашла ось, вокруг которой начала сознательно собирать и укреплять себя. Разрушительные движения духа у нее, к счастью, находят выход в творчестве – в рисунке, в скульптуре. Она потом не может смотреть на некоторые из своих произведений, но говорит, что с их помощью “отделалась от того, что ее мучило”.
Преходящее, проходящее… Вечное откладываю до комнаты. А если не будет ее – до того порога, за которым померкнет преходящее. Откладываю, хотя и знаю, какой грех – отлагательство. Но жизнь моя на житейском плане вся в клочках, в чужих руслах, в чужих колоритах, в чужих интересах. Свое где-то глубоко внутри – а то, что проявляю, лишь отзвуки чужого и ответы на “чужое”.
12 января. Тарасовская квартира
“Страсти” Баха. Трогательное выступление детей (Ленинградская капелла). Мощные мужские хоры. Жалостные, нередко рыдающие, женские голоса. Страшное по звуку утверждения, по огромности этого звука – “Варавву” – в ответ на вопрос Пилата – кого отпустить – Иисуса, называемого Христом, или Варавву. Местами “тонкий хлад” мистериального постижения. Местами протестантская трезвость. Странно было до жути услышать в концертном зале (хотя и в прекрасном, сдержанно-углубленном исполнении артиста) “Элои, Элои! Ламма савахфани!”. Дамы, стриженые, с накрашенными хной волосами и кровавыми губами. В антракте хохот, флирт, конфеты, пирожное. Двойственное впечатление от оратории. Надо – нельзя лишать толпу такой музыки. С другой стороны – как будто бы нельзя слушать “Боже мой, зачем Ты оставил меня” в концертном зале.
13 января. Рыбниковский кров (Староконюшенный переулок)
Возвращение с Днепростроя Веры (Кузьминой)[332]. Сильное искреннее движение мое навстречу.
Эти нежные розовые руки касались металлов и камня в “котловане” (хорошо не знаю, что это такое). В фарфоровой белокурой головке складывались длиннейшие, ответственнейшие вычисления об оседании почвы и пылал энтузиазм социалистического строительства. И так много еще, в 25 лет, в этом ученом строителе детства, что на именинах Вадима[333], когда ставили шарады, он прополз торжественно на четвереньках, покрытый попоной, изображая коня, на котором ехал Ворошилов (Вадим). Дети очень веселились – были и Сергей, и Маша в числе гостей. Одиннадцатый юбилей Вадима вышел очень праздничным.
14 января. Рыбниковская пристань
“Сверчок на печи”. Спасибо Диккенсу за эту детски свежую волну простых, но высоких движений человечности, какими так богато его творчество. Я чувствовала в некоторых сценах, что и у меня, как у Сережи с Машей, глаза и щеки мокры от слез. Во вступительном слове предупредили публику насчет буржуазного недостатка Диккенса – его сентиментальности. Но то, что здесь называли сентиментальностью, – тоже “слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение” – в узко бытовом претворении и в англосаксонском колорите. Кто знает? Может быть, благодаря “сверчку” мне было так легко откликнуться на приглашение Сережиной бабушки Гизеллы Яковлевны – зайти из театра к ним на обед, что еще недавно показалось бы мне ужасно трудным и даже нелепым. А может быть, и без сверчка вселяется понемногу мир в сердце Мировича.
21 января. 3 часа ночи. Салон Аллы Тарасовой
Что делает старость комичной?
(Над стариками и старухами нередко ведь посмеиваются даже благожелательные к старости люди.) Комична претензия на мудрость – страстишка советовать, изрекать моральные сентенции и житейские афоризмы. Комично форсирование темпов и напряжений с целью показать, что бежишь еще вровень с другими на арене житейской скачки. Комично требование на уважение – без особых данных для этого. Водевильно комичная забывчивость, растерянность, пугливость, отсутствие правильной ориентации. И еще – детски-эгоистичное, наивное отношение к своим вкусам и потребам (начиная с рассказывания о них как о чем-то общеинтересном). Короче говоря – “недостатки детского возраста без его обаятельности” (Достоевский в характеристике старика Верховенского в “Бесах”).
Салон. Утро, 11-й час. “Мне отмщение, и Аз воздам”. Расшифровывали с Аллой и Алешей эпиграф к Анне Карениной. По-моему, это отнюдь не ветхозаветное обещание кары за то, что Анна полюбила Вронского и ушла к нему, оставив нелюбимого мужа. Ветхозаветный Иегова допускал разводное письмо и не требовал единобрачия. Отмщение, постигшее Анну, – вызывается не тем, что она полюбила (“я – любовница, страстно любящая только его ласки”). Бог, живущий в сердце человека, его высшее начало, живущее в нем, – та “свеча”, которая пронзительно ярко озарила Анну в день самоубийства, книгу “обманов и зла” – жизнь, какой жила Анна, этот Бог, а не ветхозаветный – привел ее к разрушительному концу за сужение и снижение задачи жизни. Рядом с этим необходимо помнить взгляд Толстого на смерть как на переход в иные условия существования. Приговор эпиграфа не раздавливает Анну, а только уводит ее из условий, какими худо воспользовалась ее богато одаренная душа. Уводит через катарсис трагической смерти – очищенной и переплавленной. Об этом намекает таинственный образ вещего сна Анны и появление в момент смерти того же мужчины возле рельс, который во сне приговаривал il faut le battre le fer, le broyer, le petrir[334] (идея Ибсена в “Пер Гюнте”, в образе пуговичника, пришедшего переплавлять Пера в конце нелепо прожитой жизни). Если бы Анна, разведясь с Карениным, вошла в жизнь Вронского как жена и мать, а не как любовница, требующая невозможной и ненужной свежести чувственно-страстного отношения и влюбленности первых месяцев их связи, Толстому не пришло бы в голову бросить ее под поезд за так называемую измену вяленому судаку в лице Алексея Каренина. Враг всякой лжи и даже тени ее в человеческих душах, в человеческих отношениях, он не мог желать, чтобы Анна, разлюбив мужа, продолжала делить с ним ложе – когда и уши, и пальцы, и голос его были ей невыносимы и вся душа и плоть рвались навстречу другому. Ось драмы Анны Карениной не в измене жены мужу (все вокруг Анны – и Бетси, и Стива Облонский – безнаказанно изменяли), а в ослеплении и требовательности страсти, в безумии ревности, когда любовь к Вронскому стала уже браком, в том, что Толстой называл “сумасшествием эгоизма”. Самый жуткий момент в драме Анны – это ложь, какой она окутывает поневоле свою связь с Вронским. Толстой, тайновидец человеческого сердца, отражающего свои тайны в снах, дает нам высокохудожественное изображение тяжело раненной совести и женского достоинства Анны в том сне, когда она видит себя в постели с двумя мужьями (да еще оба Алексеи). И оба ласкают ее, и оба говорят о том, как им “хорошо”. Этот сон – стрела совести, заострившаяся для Анны в героически тяжелое, но морально правдивое решение порвать с мужем, с сыном, раз муж не давал ей вырваться из сети лжи и уйти к человеку, которого она любила. И не было бы драмы совести, хоть и осталась бы боль разлуки с сыном – не было бы “отмщения”, если бы она, совершив этот шаг, вошла бы в жизнь Вронского не с культом своей страсти к нему, не с эгоизмом влюбленной “любовницы, страстно любящей только его ласки”, а как жена в высоком смысле этого слова, христианская жена – сестра, друг, помощница, мать его детей и как человек, имеющий, по выражению Толстого, “учение о жизни”, т. е определенные моральные к себе запросы, голос “Разумного начала”, который вел бы ее помимо голоса страсти. И этот же голос не дал бы ей броситься под колеса Судьбы.
25 января. 9 часов утра. (Вокруг сон)
Диван Аллиного салона, он же – моя постель.
Вчерашнее (о чем с утра вспомнилось).
Ольгин Борис (брат)[335] – интересная помесь Хлестакова со Штольцем (обломовским) + народившийся в революции советский энтузиаст. Хлестаковская, сильно видоизмененная, впрочем, фантастика в прошлом, настоящем, будущем – и о себе. Разбег энергии, позволяющий половину фантастики воплотить в жизнь неожиданным, иногда почти чудесным образом. Искренний “энтузиазм строительства”. Красиво на румяном, чуть начинающем блекнуть лице, под молодецкими, чуть начинающими редеть кудрями, выражение глаз: в них, как у покойной матери его, в мягкой темноте зрачка – горячая, скорбная внимательность. Развернул перед нами феерическую картину своих прожектов, часть которых осуществлена. Вовлек в них утопающую ладью бедненького Сюпика, который слушал его как райскую птицу.
26 января. 12-й час ночи. Сивцев Вражек
У Мережковского (“Не мир, но меч”), как у Блока (“Двенадцать”) – “легкой поступью надвьюжной, нежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз (!) – впереди Иисус Христос”. Впереди революции! Я не понимаю, зачем нужно это объединение. Христос – царство не от мира сего. Революция – немезида мира сего – и неизбежный этап истории в направлении справедливого устроения хозяйства и распределения благ мира сего.
…Но революционер может быть “свят”, когда кладет душу свою “за други своя”.
Вчера умер Куйбышев[336]. Портрет в газете. В гробу. Хорошее лицо. Светло удовлетворенное. И тень какой-то загадочной полуулыбки.
Расскажешь разве, что сказали мне на углу Сивцева Вражка две трепетные изумрудные звезды. Напомнили, укорили, пообещали. Что напомнили? За что укорили? Что пообещали?
27 января. 1-й час ночи. В недрах Дивана Аллиной гостиной
Головокружительные мои скитания последних четырех – теперь уже пяти месяцев, даны мне как мерило моей внутренней свободы. Я устаю. Ежечасно приспособляюсь (внешне) к чужому быту. Но внутренно я свободна как никогда.
28 января. 11 часов вечера. Комната Ириса (Ирис с Лелем в Медыни)
“Ай-ай, как ты поседела, как ты ужасно поседела!” (Галочка, – с ужасом, – и стала обнимать меня и целовать мои седины, как целуют приговоренных к смертной казни.) Процесс разрушения явно ускоряет темпы. У моих однолеток тоже оплывы, впадины, складки, сборки, морщины, синева, желтизна, кое у кого усы, зачатки лысины. Нередко мы встречаемся с особой грустной радостью, что – вот еще пока живы. Нередко обмениваемся прощальными взглядами. У некоторых, как у меня, есть чувство запоздания, как это бывало на экзаменах, когда спутают алфавитный порядок и долго не вызывают.
Вот вызвали Куйбышева – 44-летнего. Хотел жить, умел работать, был весь от мира сего – и вот уже по ту сторону экзамена. Задумываешься порой и смотришь на эту загадку неотрывно, как баран на новые ворота, как баран, ничего в ней не понимая.
Милый Филипп Александрович так смиренно, с детскими интонациями попросил Елизавету Михайловну (жену):
– Можно мне 31-го дать на дежурство штук 6 баранок?
Перманентный финансовый кризис – больных на приеме не видно. Может быть, оттого, что лекарств нет. Может быть, гомеопаты перетянули к себе страдающих. Домашний пиджачок у Филиппа Александровича в клочьях, которые уже невозможно объединить. И есть у него с тех пор, как заболел пищевод, новый, пристальный взгляд, о котором говорит Уайльд в “Балладе Редингской тюрьмы” – взгляд осужденного на казнь. Пристальный, напряженно-пытливый, и в то же время кроткий, обреченный. Но не отгороженный от людей – а “за всех и за вся” дума: – “Und dann müsst da Erde werden”[337]. А когда сядет импровизировать за рояль, до чего легким и молодым и в какие-то надзвездные края унесенным становится его старческое рубенсовское лицо.
30 января. Алешина комната
Вчера Леониллины именины. Пышное пиршество, на котором мне совсем не следовало быть (по внутренней линии движения). Но… соблазнилась малым соблазном – навага, мандарины, зрелищное и психологическое любопытство – кто, что и как на вечере будет.
Было: неописуемая кутерьма приготовлений. Гладильная доска, Галина с утюгом. Хрусталь и сервизы, вытащенные из буфета. Галина на столе под люстрой, сметающая с подвесок пыль. Гора мяса и оснеженных наваг на кухне. Их пронзительный запах по всем комнатам. Нина в дезабилье над винегретом. “Хозяин” дома на коленях на полу над окоренком со льдом, устанавливающий крюшоны. Домраба с выкатившимися от напряжения и усталости глазами. В 9 часов первый гость – торжественная и бледная от переутомления Елизавета Михайловна в белой кружевной шапке – скрыть излишнюю редкость шевелюры. Вслед за ней Филипп Александрович и Людмила Васильевна. Принужденный разговор о картине “Гроза” Дубовского[338], висящей на стене, и по поводу ее о картинах и о грозах вообще. С видом орлицы или соколицы в парадном наряде и тоже в чем-то кружевном старая М. В. Янушевская и с ней сын[339], в такой же степени носатый, добродушный и уже по дороге на каком-то празднестве выпивший. Инженер-киевлянин, друг детства сестер Тарасовых. Борис Б.[340] – молодой, малиново-румяный, вкрадчиво-простодушный, с наследственной от матери полученной обаятельностью взгляда и голоса. Хирург М[341]., с умными и трагическими глазами, слегка облысевший поклонник Аллы, обрадовавшийся случаю проводить ее в концерт. Алла, загримированная Грушенькой, в черной шелковой шали и с коралловыми серьгами, волнующе-красивая и ничего вокруг не видящая. Впрочем, к д-ру М. дружественно и с маленьким оттенком кокетства благосклонная.
Шипящий и гудящий что-то патефон, возле него милый, долговязый, в коричневом вельвете Алеша, по временам обменивающийся со мной товарищеским взглядом, когда что-нибудь смешное или нелепое происходит. Полиандрическое семейство врачей – жена некрасивая до того, что странно представить возле нее заинтересованного ею мужчину. Мужья – дружные между собой, крупной породы – один толстый, другой худощавый. Menage en trois[342]. Впрочем, это все, может быть, и сплетни. Нехорошо только, что дама эта полвечера несгибаемо, подобно кочерге, с длиннейшей жилистой шеей и маленькой стриженой головой вращалась перед нами в голубом полуоткрытом платье под звуки фокстрота и танго. И как хорошо вращалась Галочка. Предвесенняя юность излучалась от ее тоненькой гибкой фигурки и радостное сознание своей женской власти. И неопытный еще чистый, но уже волнующийся и волнующий всех, с кем танцевала, темперамент. Огромное и опасное обаяние в этом хищном цветочке. Актер К. не отходил от нее во вторую часть вечера, отуманенный и до растерянности наэлектризованный. И у нее моментами был роковой вид ангелочка, недалекого от падения. Только моментами. Чистота и гордость сейчас же являлись на выручку, и отуманенные звезды глазок смотрели гордо и уничтожающе строго.
Жена этого актера Т. – свежая, русая, тонкобровая и какая-то вся плоскостная (плоское лицо, руки, плоский стан, довольно стройный, плоские ноги). Она не ревновала мужа к обольстительной девочке, потому что верность их брака уже была ею разрушена. Юрий[343] в галифе и в форме ГПУ – присоединившийся с товарищами к графинам “белой очищенной” и опрокидывающий в себя рюмки, ничуть не пьянея. Его черноволосая, чернобровая, статная, но лишенная грации жена с резким, нервным смехом и без всякого повода, и с застенчивой мягкой улыбкой в красивых карих глазах. За их столом – украинские песни, впрочем, обрывающиеся на полдороге.
За другим длинным столом – Алла, вернувшаяся с концерта, нервно оживленная, – гаданья (вытащила мои старинные гадальные четверостишия). Громкий смех и что-то минутами карменское, что заставило Филиппа Александровича задумчиво сказать: “Много еще в ней неизжитых сил”. Попытки петь цыганские песни с каким-то отчаянным видом – вот-вот схватится за голову и зарыдает. Два лица без речей. Впрочем, еще третье без речей – Мирович. А в центре всего – “Феденька”[344]и его гитара (театральный администратор). Пел с цыганским размахом, всем существом – то “жестокие романсы”, то частушки с добавлением комических и едких импровизаций по адресу кого-нибудь из окружающих. С вдохновением дурачился, острил и попутно сильно приударял за Галочкой. Весь вечер не выпускал гитару из рук и даже пританцовывал, как это делают цыганские дирижеры. Пение подымалось, крепло и вдруг замирало или обрывалось сразу. Одновременно вертелись в фокстроте на легких стройных ножках тростиночка Галина в земляничном платье, карикатурная докторица и стройная, зеленая, в зеленом суконном платье, расплюснутая, модно остриженная Маша Т. И какие-то надрывающее-грустные ноты вырывались из щеголеватых тактов патефонного фокстрота. Этот ритм безнадежно-нерешительного, презирающего утоления, не верящего в него Эроса прерывался порой раскатистым, на всю комнату, хохотом бабушки Леониллы, чувствующей себя в многолюдном обществе гостей как рыба в воде (всегда так было).
Потом сидели и полулежали на ковре в Аллином будуаре, пели, пили шампанское и кофе. Потом разошлись – после 4-х часов. Остался ждать первого трамвая доктор М. с трагическими глазами и, кажется, с такою же судьбой, если даже не считать трагедией власть над ним Аллиной красоты. Алла, извинившись, ушла в спальню, – ей предстояло раннее вставание. За ней бестактно шагнул и крепко притворил дверь супруг. М. поджидал трамвая на угольном диванчике между бабушкой и Галиной, не сводя глаз с закрытой для него навсегда двери. Я подошла к окну. Пока тут ели, пили и распевали цыганские песни, улица оделась в белоснежные ризы. И крыши, и тротуары были незапятнанно чисты. И так тихо, что, казалось, слышен там полет снежинок. Они кружились в своем воздушном танце, сталкивались, разлетались и медленно, точно нехотя, опускались долу. Некоторые, кружась, долго не падали на землю и как бы страшились взлететь еще и еще раз, как можно выше… И вдруг, вспыхнул красный фонарь перекрестного светофора и пронесся сияющий и весь пустой трамвай – вестник утра.
Перечла написанное и вижу, что необходимо к этому прибавить то, что было в Художественном театре в “Жизни человека”[345]: вместо стен – черная, зияющая пустота и в углу “Некто в сером”, и в руках у него горящая свеча (“ибо тает воск…ибо тает воск”). Чувствовалось ничтожество того, чем заполнена жизнь, и грозная тайна ее и того, что за ее стенами – Смерть. И чувствовалось, как “тает воск” (у меня это – снежинки), как мало отмерено времени в этом отрезке бытия самым молодым. Мелькнуло, когда сидела в кресле у двери комнаты, где все лежали на ковре, представление, что все мы мчимся на пароме близко уже к Ниагаре (и Галочка не дальше, чем другие). Но вертящийся с гитарой Федя, но шампанское, наваги, ревность, любовные ощущения, фокстрот, встречи, прощания, службы, работа и увлечение ролями не дают помнить об этом.
4–5 февраля
Пафос работы (перевод Дидро). Жадная радость, когда пришла книга из Academia. Вспомнилось: так радовалась слепая мать, когда однажды ее позвали у Добровых чистить морковь (стосковалась, лежа целыми днями в одиночестве без всякого рукоделия). Потом рассказывала: “Столько-то морковок очистила”. И “четырнадцать ступень вниз на кухню”. Это были уже впечатления, события. Моя душа была тогда в скотоподобном состоянии, в сумасшествии эгоизма.
6 февраля. Ночь. Рыбниковский кров
– С Вами хочет познакомиться Шохор-Троцкий[346].
– Со мной? Зачем?
– Говорит, что ваши воспоминания о Толстом[347] – лучшее, что он читал в этой области.
Знаю, что не лучшее и что говорится это только “так”, но какое-то горько приятное чувство – мелкого порядка – всколыхнулось в душе. Так давно я отторжена от литературного русла, от возможности печататься, что этот Шохор-Троцкий точно перенес меня в прошлое, когда я была литератором. И не была старухой. Знакомиться не хотелось, но было бы неучтиво не войти. Вошла. Гном лет пятидесяти, с густыми, еще не поседевшими черными волосами (эластичным стоят копром на голове над умным лбом). Горящие, в свое время что-то выстрадавшие глаза, пристальный взгляд. Говорил не просто любезные, а искренно звучащие живым интересом фразы. Много рассказывал о дневниках Толстого и Софьи Андреевны, над изданием которых работает. О Толстом: “Я сказал однажды толстовцам: «Вы стоите у сапог вашего учителя, видите даже не целый сапог, а подошву, вы и не подозреваете о его настоящем росте»”. О Софье Андреевне (с ужасом): “Есть в ее дневниках такие вещи, какие я бы не решился рассказать ни товарищу, ни жене”.
Вдруг поняла в Bijoux indiscret[348] – на 30-й странице перевода – весь непристойный их эротизм. Стало тошно над ним работать. Тошно и обидно. Могла бы на что-нибудь другое пригодиться – моя любовь к слову, к стилю, к чужому творчеству. И так томительно захотелось своего творчества, не случайного ночлега, а отстоявшегося воздуха своих мыслей, своей рабочей колеи. Вряд ли это будет. Вернее, что я тогда получу комнату, когда, как Ипполиту Иванову, его давно жданная и желанная квартира окажется ненужной. Кончится плен. Вчера вдруг упала t до 35,4. И в этой полуобморочной слабости было что-то обнадеживающее, что-то морально подбодряющее.
12 февраля. 1-й час. Гостиная Аллы
Из-за Алеши, из-за стремления проникнуть в его жизнь я очутилась в отроческом возрасте (на некоторые часы дня). Даже чистка велосипеда меня однажды заинтересовала. Системы коньков, ученические проделки в школе, танки, противогазы, парашюты – вошли в круг моих впечатлений так же, как по вечерам, когда мы оба устанем, час карточной игры с призом грошовой конфеты. Все это не оттого, что я впала в детство. И смолоду это был мой – и не книжный, а интуитивный подход к детям от 2-х до 16 лет. Только “обратившись и сделавшись как дети” на время общения с ними (не теряя вовсе своего багажа морального и даже философского – и вообще не приспособляясь) – можно установить настоящую творческую близость.
Когда мне было 30 лет, сестра Настя однажды сказала мне (слегка презирая меня): в тот день, когда я увижу, что тебе не хочется сиреневых конвертов, вуали с мушками и духов, я поверю, что это уже началась “метанойя” (новое рождение).
Это не значит, что если человек отделается от мелких привычек, от житейских удобств, от вкусовых пристрастий – настанет для него метанойя. Это значит, что при некоторых изнеженных привычках и пристрастиях к чему-нибудь внешнему загроможден путь духовного роста. Так мешают зерну прорасти какие-нибудь камушки и щепки между ним и тем воздушным пространством, где оно уже будет не зерном, а растением.
…Отчего так сильно бьется сердце при этой аналогии зерна и ростка, отчего она так нужна нашему сознанию, что и у Христа, и в эллинских мистериях, везде – пшеничное зерно.
17 февраля. 1 час ночи. Гостиная Аллы
Алла бывает ослепительно и трагически красива. Эстрадный костюм и прическа сразу делают ее красавицей. Домраба, украинка Дося, про нее сказала: “Ой, яка Алла Константиновна красива, як горгония (горгона). Аж страшно”. И Филипп Александрович сказал с какой-то нежной печалью: ничуть не удивляюсь, что М.[349] (60 лет) полюбил ее. В ней такое богатство неизжитых сил. И вообще.
24 февраля. 9 часов утра. Зубовская кухня
Недавно Биша сказал: старость лучше молодости тем, что меньше нужно затратить энергии на борьбу с Майей[350] (меньше приманок). Потом поправился: “А может быть, это и наоборот. Чем больше затраты энергии на борьбу с приманками, тем ценнее результаты”. Если бы он знал, какая нужна затрата энергии в старости, чтобы просто жить. И как грозят ей такие приманки Майи, как покой, уют, охрана создавшихся привычек, борьба с разрушением плоти, недуги.
26 февраля. Утро, 9-й час. У круглого стола М. А. Рыбниковой
В высшей степени интересно ее (М. А. Рыбниковой) творчество[351]: тонкая, изящная графика, соединенная с силой экспрессии и оригинальнейшей композицией. Ритм рисунка и передача движения воспринимается как музыка. В высшей степени так же интересно (и противно) пренебрежительное равнодушие, с каким относятся власть имущие имена к ее – и вообще к чужому – творчеству. Здесь я натолкнулась на лично меня огорчившую стену: с апостольской бородой и с человеческими глазами (и с чертами душевной красоты в прошлом) Фаворский проявил (в двух уже случаях!) ту же профессиональную черствость и “сумасшествие эгоизма”. “Да ведают потомки православных”, как нельзя, стыдно и грешно поступать по отношению к собратьям в искусстве и во всякой другой профессии.
28 февраля. 2-й час ночи. Рыбниковская пристань
“Ладья любви разбилась о скалу быта”[352], – написал Маяковский перед тем, как застрелиться. Быт – мощная своей тысячелетней косностью сила. Недаром я так страстно ненавидела его в ранней молодости. Недаром в 17 лет, по житейской и духовной неопытности, не зная, как преодолеть мглу быта, собиралась убежать от него через ворота смерти.
Маленький Николушка (3 % лет) очень рвался “в Москву”, а когда приехал к дедушке с бабушкой на Арбат, заявил, что это “не та Москва”, запросился домой и без колебания уехал с отцом. Не то ли мы видим в той части человечества, которая пошла за позитивизмом. Долго рвалось человечество “в Москву”, и на какой-то исторической ступени часть его, заглянув в те философии, которые уводили из “тесного и душного умопостигаемого мира”, объявило, что это “не та Москва” и что лучше ехать назад, к зоологической правде трех институтов – голод, любовь, страх. Николенька в этом новом мире хоть на троллейбусе покатался, а позитивист троллейбус отрицает (уехал, не видав его), как некогда отрицал всякую красоту и значение Петербурга и Москвы один сельский учитель, говоривший: “У нас в Шаповаловке лучше, спокойнее”.
2 марта. 2-й час ночи. Гостиная Аллы
Так вот отчего у Бориса (Ольгин брат) такая залежь скорби и оттенок безумия в улыбающихся глазах. Он порассказал сегодня о походе от Воронежа до Пензы, когда за красными гнался Мамантов[353]. Ему было тогда 18–19 лет, но он был уже комиссаром и стоял почти ежедневно лицом к лицу со смертью и со всеми ужасами гражданской войны. Рассказывал о взрыве мостов, о прокладке каких-то воздушных сооружений на месте их, по которым по одному прогоняли вагоны. О том, как стонали, бредили и выли на дороге умирающие сыпнотифозные (“на них наступали…”). О том, как он случайно наткнулся на близкого знакомого среди таких полутрупов и тащил его на себе до станции. Об ужасном рве в Белгороде, полном расстрелянными заложниками и пленными. О том, как такими заложниками был наполнен целый товарный поезд, потом облит керосином и подожжен (кажется, это сделал генерал Маевский). И когда повышена температура, вспоминается все это, но прежде всего – убитая молодая женщина – ветер откинул в сторону волосы и платье. На груди одно небольшое пятнышко – след пули. А когда после всей этой фантасмагории приехал домой в надежде отдохнуть в семье (крепко сплоченной, с очень любимой матерью в центре), – в квартире его встретили вопросом: вам кого? И рассказали, что тут живут уже другие, что мать умерла, братья и сестра неизвестно где. Потом встретил брата и едва узнал его – так опух и пожелтел от голода. Так было. И когда рассказывал о возвращении домой, о смерти матери, засмеялся странным смущенным смехом, а в глазах сияли скорбь и слезы.
6 марта. 11 часов вечера
Закоулочек Филиппа Александровича (он дежурит). Промелькнувшее:
Нина (мне): Я никак не думала, что ты в старости будешь увлекаться вот такими рисуночками (я разрисовала тетрадь для дневника Сережи, прикрывая виньетками английские надписи наверху страниц).
Я: А ты думала, что я буду только вязать чулки?
Нина: Тебе шло бы писать, как нашему папе.
Я: Весь день? И ночь?
Нина: Да, это больше подходило бы для старости.
Нина права. Это моя инфантильность (как и то, что играю с Алешей, с семилетней Лёсей в карты и блошки). И это, как сказала бы психофизиология, мозг (или нервы) из чувства самосохранения прибегают к интервалам игры – отдыха. Обломовщина – но с некоторой возможностью преодоления ее.
Шизофрения. Мода на шизофреников. Недавно один молодой ученый (филолог) так и отрекомендовался: перед вами шизофреник.
Был на днях Лундберг. Не забилось на этот раз сердце к нему навстречу. Он все сделал, чтобы выкорчевать живые корни многолетней дружбы. Она болела, увядала, оживала и опять увядала, но я все берегла ее там, где у меня воля к верности. Смотрела с грустным равнодушием на его непомерно большую голову и водяные глаза. “Не та Москва…” А впрочем, это, может быть, какая-то стадия отношений. Нина, когда Лундберг ушел, сказала: в Злодиевке Герман (так зовут его у Тарасовых) любил употреблять слово “разопсел” про некоторых людей. А теперь мне кажется – он “разопсел”.
От П. А. Ж. письмо – дружеское, смиренно-просительное – “протянуть веточку многоветвистой и торжественной (?) души” – моей к нему навстречу. Опасность конца прошла близко от него и погрозила ему пальцем. В чувстве возможной близости конца, в повышенном чувстве смертности своей (и человеческой вообще) он ощутил нашу встречу как реальность, с которой спешит войти в общение.
10 марта
Блины в добром добровском доме. Щедрые, с икрой и сметаной. И до отвала. Говорили о культе солнца, о Даждьбоге и ели, ели с энтузиазмом. Особенно Даниил весь сиял застенчивой чувственной радостью. Мирович поймал себя на сладострастном восприятии икры и решил “удержаться”. Удалось. Потом тоже сиял от этого и, кажется, немного гордился.
10 часов вечера
…Очень редко философствующая тетя Катя[354] (сестра Елизаветы Михайловны Добровой) сегодня, перемалывая кофе, в ответ на чье-то замечание о том, что “надоедает забота о пище”, безапелляционно сказала: “А если бы не было, ничего бы, поверьте, не было”.
– И Пушкина бы не было? – возмутилась сестра.
– Не было бы.
– Но почему?
– Нечего было бы делать никому. Начали бы куролесить. И как-то не было бы порядку. Ну, словом, по-моему, ничего не было бы.
– А те алтари, что у дикарей? А рисунок в пещере мамонта?
– Рисовали. Но, может быть, только потому, что этого мамонта убили и съели. Я не умею объяснить, но только знаю, что привыкли бы ничего не делать и не взялись бы серьезно ни за рисование, ни за литературу. Ну, как, например, и теперь под тропиками – сами в рот плоды валятся, и дикари так и остаются дикарями.
В трамвае я думала о том времени, когда всё будут делать машины. Был серый предвесенне влажный день с тонким слоем позолоты на подкладке туч. Они просвечивали местами, как несмелый намек на иное, далекое от серости, от будней и забот “о хлебе животнем”, существование. И встало передо мной волнующее видение. – Пречистенка и бульвары стали другими (от другого воздуха жизни). Другие люди свободной, легкой и смелой поступью шли по тротуарам. Вот некоторые из них столпились у афиши. И я увидела, что на ней написано, что один из граждан тех миров, которые только в три раза медленнее света вращаются вокруг своего солнца, нашел способ, изменив структуру своей плоти, вступить в общение с жителями Земли и открыть им те тайны духа и материи, какие будут им доступны.
По дороге мы встретили нагруженные телеги – их торжественно везли люди: это был мрамор, порфир, малахит и хрусталь для постройки храма.
В многоколонном здании Академии изучали язык птиц, животных, души цветов и минералов.
Мелькнул там, где кокетливое арбатское метро, храм “Посвящения” в отрочество, в юность, в зрелость и в старость. Жизнь стала мистериальной. И не было ни одного человека, который бы не знал музыки, и уже многие имели возможность слушать музыку сфер.
– Куда вы прете? – Вы сами прете. – Идиотка. – От такой слышу. Ой, ногу отдавили. – Вот невидаль – нога. – Грудную клетку сдавили! – В крематорий пора, а она с клеткой. Тоже барыня. Куда с мешком? А ты куда с керосином?…
Да, это – наша эпоха. Трамвай, Москва. Вот на этом углу выходить. За что же тем, дальним, мистерия? А этим “грудную клетку сдавили” и ругань. И пошлость кино. И в столовых – крыса (“на тарелке у одного из обедающих” – из газет).
13–16 марта. 1-й час ночи. Гостиная Аллы
О равнении по высшей и по низшей линии человеческой личности. Низшая линия вся в зоологической почве – инстинкты, страсти, тут же и внешне рафинированный эгоизм. Высшая линия – к образу совершенства, какой мы носим в себе. Здесь и двигатель и выравнивающая рука – совесть. И еще вкус к благообразию. У кого слабо развито то и другое, неизбежно будет вести себя, куда влечет линия низшего “я”: животные потребы, хотя бы и в очеловеченном и замаскированном виде. В каждом акте нашей воли мы проводим эти – или понижающие, или повышающие нас линии. Если мы не святы и не совсем звери – мы в середине между двух этих линий – и то подтягиваемся, то спускаемся. Духовный рост происходит лишь при сознательной и энергичной работе подтягивания к высшему “я” и к борьбе с притязаниями низшего.
18 тетрадь 19.3-25.5.1935
20 марта. Ночь. Комната Даниила
Даниил весь заставлен, засыпан бумагами, картинами, банками, жестянками: всюду краски, кисти, плакаты, диаграммы. “В поте лица есть хлеб свой”. А мечтаю – об Индии и о “непостижимом уму”.
24 марта. 8 часов утра. Гостиная Аллы
Алла (проходя мимо, приостанавливается): Что ты на меня так смотришь?
Я: Как?
Алла: Слишком сурово и неодобрительно.
Я: Это я не на тебя, милый Ай, а на свою жизнь. Я тебя даже не видела в эту минуту.
Алла (с детской своей розовой улыбкой): А я подумала, что на меня.
Я: Знай, моя душенька, что, каковы бы ни были мои недоумения, что бы ни произошло в твоей жизни, не может измениться то, что у меня навеки есть для тебя: нежность, вера, доверие к тому, что ты ищешь свою правду. И благодарность за то, чем ты стала в моей жизни.
В разговоре, за этим последовавшем, мои “недоумения” рассеялись, и я с огромной радостью узнала, что все, что в трагедии этой детски-чистой души казалось непонятным и даже подчас водевильным, вытекало только из рыцарственного благородства ее натуры и материнской нежности к слабому, растерянному, дошедшему до отчаяния спутнику.
Для чего это я сейчас записала “чужое” и такое интимное (что уже не раз в таких тетрадях делала). Не подумайте, дети мои, что это старческая болтливость и неряшливое отношение к друзьям. Дело в том, что для меня нет “чужого” там, где человеческая душа страдает, радуется, заблуждается, ищет правды, падает и поднимается. И каждый раз, когда мы входим в чужую боль и радость, как в свою, происходит в мире нечто, ведущее его на новую высшую ступень. Обывательское любопытство, сплетня – злая пародия на то, о чем я сейчас говорю. Как мусульмане снимают обувь, входя в мечеть, для того чтобы не вносить дорожный прах в храм, – так в храмину души человеческой надо входить, стряхнув пыль нечистых помыслов и мелких чувств. Довольно того, что в толкотне обыденности то и дело вздымается между людьми этот прах. И недаром во всех религиозных дисциплинах для очищения души предписывается одиночество.
27 марта
Была сегодня Ольга. Очень посвежела: загородный воздух, и нервы окрепли в спокойном негородском ритме. Привезла материалы для нашего романа-хроники. Удастся ли он – трудно решить. Нетрудно, впрочем, взвесив все трудности этой работы, отрицательно покачать головой.
Но не хочется. Есть такое чувство, что не должен пропадать труд полужизни, сюда Ольгой вложенный. И другое чувство – что это нужно чем-то современникам и потомкам.
28 марта. Тарасовская гостиная
9 часов утра. Туманно-голубой солнечный свет.
В моей полукочевой жизни от самой ранней молодости я знала, когда заканчивается какой-то особо окрашенный, по-особому нужный душе период; и тогда меня начинало тянуть неодолимо к перемене места. Так вот и сейчас. Этот салон, столько раз гостеприимно превращавшийся в мою спальню, смотрит на меня, а я на него – уже отчужденно.
К людям это не относится. С людьми у меня прочные отношения. И от пространственной и временной разлуки они не меняются. Но наступает и по отношению к людям такой срок, когда надо разредить общение, перенести его временно на другой план. Может быть, потому, что пришло время приблизиться в днях к другим друзьям.
Ночь. Первый час. Диван тарасовской гостиной.
Шестьдесят шесть лет тому назад – это была первая ночь моя на этом свете. Беспомощность, грязные пеленки, требовательный крик о пище, – где же тогда была душа моя? И почему я ничего о ней, о той душе, не знаю? И где будет теперешняя моя душа через шесть дней или месяцев, – не хочу думать, что лет? И хотелось бы думать, что тогда, за рубежом смерти, она будет настолько же сознательнее сегодняшней моей души, насколько эта – души новорожденного.
Борис (Ольгин брат), которого за последнее время здесь очень полюбили, два месяца тому назад женился на милой и хорошей девушке, пожил с ней неделю, оставил ее доигрывать свой контракт в Свердловске (она актриса), сам приехал в Москву по неотложным делам и “устраивать квартиру”. А три дня тому назад жена, только что приехавшая, сказала, что “это ошибка”, что она любит, продолжает любить художника, с которым здесь случайно встретилась.
Благородно, правдиво и на высоком уровне, далеко от мещанства, происходит разрыв. Жалеют друг друга, относятся с нежной заботливостью к судьбам другого человека. Ни укоров, ни тени ревности или недоверия. Приятие до конца трагического момента жизни – и отсюда сразу же – катарсис. Свойственное Борису мягко-скорбное выражение глаз стало напряженнее. И тоньше, одухотвореннее черты лица.
Как в театре сложные и сильно драматические роли даются только актерам первого ранга, так и в жизни трагическое посылается избранникам для испытания сил человека, для роста его личности. И если он не справляется с ролью, его переводят на амплуа статистов жизненной сцены, – его духовный рост задерживается, а иногда и совсем прекращается.
31 марта. Раннее утро. На ложе Филиппа Александровича
Не встаю, чтобы не разбудить соседей. Здесь, разделенные шкафами и занавесками, в одной комнате ночуют четверо человек (доктор, его жена, сестра жены и домработница). Дом, где все утеснены пространственно, перегружены работой (кроме экзотической Шуры), все более или менее больны чем– нибудь и все сохранили нравственную энергию и образ и подобие Божие.
У многих очень хороших людей, живущих самоотверженно, не только Божий, но и человеческий образ нередко и особенно по утрам подменяется образом собачьим, наскакивают друг на друга, сталкиваются, грызутся, огрызаются, лают, повизгивают от обиды. Здесь этого нет.
Через полчаса встанут сестры – Елизавета и Екатерина. Будут ходить в мягких туфлях, чтобы не разбудить молодежь. Екатерина в старинной медной мельнице будет молоть кофе (настоящий; предел роскоши, заработанной ночными дежурствами). Елизавета, прежде чем унестись в четыре разных конца за покупками, будет медленно и мирно завтракать. Разговоры сестер (будем пить кофе втроем) будут старчески благообразны, дружественны, и то и дело будут врываться в них воспоминания молодости и детства. Вот уже звякнула чайная посуда на столе, зашуршали туфли Елизаветы, послышался долгий покорный полувздох-полузевок Екатерины и шорох одежд ее за разделяющей нас занавеской. С добрым утром, добрые, многотерпеливые, мужественные подруги бродячего Мировича.
10 апреля
Потеряла бумажник – 120 рублей. И постыдно захолонуло сердце. Точно от потери чего-то живого или от горестного события в нравственной области. Вот он где выдал себя – жалкий мещанишка, “тварь дрожащая”. Послышался истошный голос в своем нутре, голос, каким кричат “воры!” или “грабят”.
Вспомнился рассказ бабушки (потом вспомнился): “Притворила это я сундук – не помню, какую провизию, – сарацинское пшено, кажется, доставала и вижу: полсундука пустые. А лежало там 10 фунтов чаю – в подарок из Кяхты Федору Аф-чу (мужу) нам кум привез, и лянсина, и цветочный, и зеленый. Все сорта – первосортные. А перед тем прислуга от нас отошла и совсем из Москвы уехала. Ну, я в ту же минуту догадалась, кто взял. Ахнула, да так и бухнулась без памяти в сундук, а он – крышкой меня по голове. Как только до смерти не убил, не понимаю”.
13 апреля. Диван Аллы
8 утра. Мысль (болезненная).
Мы, я и сверстники мои, интеллигенты, – дети предрассветной, переходной, нет, не переходной, а переломной и при этом костоломной эпохи. И перелом этот, сокрушающий кости, может быть, отменяющий их во имя нового органического строения души, прошел через так называемых декадентов – Брюсова, Сологуба, Гиппиус, Добролюбова, Белого и др. Кто не был, как я, настоящим декадентом, все равно переламывал свои кости на “переоценке ценностей” Ницше[355] и глотал змею “вечного возвращения”, т. е. бессмыслицы бытия и гордыни кирилловского человекобога[356]. Мы были не только раздвоены и обескрылены, как Ставрогин “Бесов”, мы были растроены, расчетверены, раздесятеряны. Нам надо было соощутить в себе множество различных ликов и не сойти от этого с ума. Из них надо было создать себе свое новое “я”. Спасаясь от хаоса и в жажде самосозидания, люди бросались в “неохристианство” – Гиппиус, Мережковский, Эрн, Свенцицкий и т. д.; в теософию и антропософию, как Белый; в сектантство, как Добролюбов; в “творчество из ничего”, как Шестов, путь которого роковой и страшный, но единственный реальный путь, – к нему взывал самый жребий раздробления, сокрушения костей (ведь сокрушались кости не только своего “я”, но и всего мироздания). Никакая философия, никакая доныне установленная догма для видевших крушение “тысячелетних ценностей” не может быть спасительной до конца. Может та или другая дисциплина – только помочь временно в процессе самособирания и сотворения нового внутреннего мира.
Тут должна пройти ось через личное творчество и через акт свободной сыновности Отцу. Где есть этот акт, хотя бы в его предначертании и в готовности на него – зарождается новая тварь, начинается новая жизнь. Богосыновство (“…сыны свободны”).
15 апреля
Утро. 9 часов. Алешина комната. (Вместе с ним болеем гриппом, для Алеши, которому будет через 8 или 10 лет приятно целиком оживить в памяти некоторые дни на рубеже отрочества и юности его.)
Третьего дня случайно нашла в письменном столе Юрия (Алешин дядя, психиатр) интересный протокол тех происшествий, какие обсуждались всеми обывателями Киева на Демиевке, когда я была там, лет 7 тому назад. О них и в газетах писали. Протокол в неуклюжей и местами комичной форме добросовестно зарегистрировал, как “летали поленья, мыльницы, кружки” и другие предметы с печи одного дома, чему свидетелями является множество лиц, в том числе и три милиционера. Явление будоражило умы, настраивая их на антиматериалистический лад. Вследствие этого женщины, в квартире которых полеты вещей происходили, временно были даже арестованы. Потом было поручено Психоневрологическому институту расследовать этот феномен. Но это удалось лишь отчасти, потому что одна из женщин, напуганная небезопасным для жизни перелетом поленьев и грозившим ей арестом, выехала из Киева. Между тем полеты вещей совершались только тогда, когда в квартире присутствовали обе женщины.
Опытной наукой такие факты, по словам Юрия, установлены, но объяснения их остаются в категории гипотез. И от этого самые факты кажутся однозначными для материализма, волнуя тайной (“мистикой”) и намекая на существование “миров иных”. И от этого киевскому институту “досталось” за самое расследование явлений. “Надо было просто заявить через прессу: они там все помалахолились, и кое-кого арестовать за возбуждение суеверных настроений и ложных слухов”.
Но, как ни замалчивай такие вещи, они время от времени вопиют о себе (странно только, что это редко) и не могут не волновать умы тайной, хотя, по существу, в них может быть совсем и нет ничего специфически таинственного, то есть потустороннего.
В молодости моей, когда мы жили с сестрой, именно тогда, когда мы бывали вместе, время от времени происходили такого порядка явления. Слышались стуки. Ощущалось то, что Джемс называет “присутствием” (последнее я, впрочем, и в одиночку до сих пор иногда ощущаю, всегда соединяя это с представлением об умерших, о сестре, матери или о ком– нибудь из друзей).
И от других людей я не раз слышала о таких явлениях с ними и с их близкими.
Не дальше как вчера Филипп Александрович (врач и ничуть не мистически настроенный человек) рассказал три случая из жизни его родных. Отец его, тоже врач, и ультрапозитивного умонастроения, рассказывал, как, остановившись вместе с денщиком (в бытность военным врачом) в одном доме по дороге к месту своей командировки, слышал в соседней комнате всю ночь страшную возню, передвижение и падение мебели. Когда зажигал свет, оказывалось, что комната, как и раньше, пуста и мебель на своем месте.
Второй случай: старушка, знакомая его семьи, объявила однажды, что она “сегодня умрет”, потому что видела свою смерть: “худая, высокая женщина вошла во двор и в окно ручкой ее поманила”. Она попросила позвать священника. Переоделась во все чистое, легла на кровать, сложила на груди руки и умерла через 6 часов после того, как смерть ее “ручкой поманила”.
Третий случай: мать Филиппа Александровича, женщина очень нервная, увидела однажды во сне свою сестру, которая была в это время со своим мужем где-то за 1000 верст в дороге. В сонном видении она вошла к матери Филиппа Александровича с жаровней, на которой были уголья – половина красных, горящих, и половина черных, потухших. Войдя, она сказала сестре: “Маша, я сейчас умерла. Не оставь моих детей до совершеннолетия”. И, приблизившись к спящей, она хотела опрокинуть на нее жаровню с угольями. Мать Филиппа Александровича в ужасе вскрикнула, проснулась и рассказала сон мужу. Он запомнил число и час. Оказалось потом, что сестра умерла в дороге.
16 апреля. Гостиная Аллы. 1-й час дня
Серый, ветреный, холодный день. Сегодня хоронят мать Коваленского[357]. Ее смерти – то прикровенно, то открыто – уже давно желали, не могли не желать окружающие. Горестный случай, где человек к старости разрушается душевно раньше, чем наступает физический конец. Есть в святоотеческой литературе странная фраза от лица Бога к умирающему человеку: “На чем застану (в смертный миг) – на том сужу”. Педагогия, запугивание: “Веди себя хорошо, ибо каждую минуту может войти учитель с наградой или с наказанием”.
Очень хорошую, самоотверженной жизни старушку смерть застала, когда она капризно требовала кофе и не хотела и боялась принять священника с отходной молитвой. Что же? Выходит, что это кофе перетянет на весах Божественного правосудия все остальное, чем была ее жизнь?
17 апреля. У Добровых. 9 часов утра
Сновидение – самый факт его и сущность, разнообразие содержания, эмоциональные оттенки, влияние на жизнь психики, отношение к действительности (куда входят и вещие сновидения, известные мне по своему и чужому опыту) – с детства представляет для меня волнующий, неисчерпаемый интерес. Я много читала по вопросу о сне и сновидениях. Но все это “около тайны”. Дюпрель[358] ближе к ней, чем другие. Фрейд выхватил из этого таинственного царства только эротические и “завистливые” сны, пытаясь все свести к Эросу и к возмещению во сне недостающих в действительности вещей. Куда отнес бы он мои сны, где главную роль играли пейзажи (символические чаще всего), вокзалы, опоздания на поезд, встречи с умершими близкими, полеты, и сны уничижительного характера и многие другие, к которым никак не прицепишь ярлычок эротизма или зависти.
Сегодня мне хочется отметить несомненную для меня символичность и расширение сознания в некоторых снах. Так, например: “Снится мне под утро что-то довольно сложное и значительное. Проснувшись, но не до конца – я фиксирую это очень ясно и понимаю значение того, что во сне пережито вполне четко. Но на другой, дневной, а по отношению к сну – третьей ступени сознания, вся эта картина и ее внутренний смысл уже неясен и трудноуловим, – хоть и сохраняется память, что все было ясно и понятно”. Уцелевают, как вот сейчас, какие-то цветовые, и эмоциональные клочки: куб, цвета увядшей розы, ступеньки какой-то черной лестницы, – а может быть, это чертеж, мраморные бюсты (но совсем не в том значении, в каком был бы воспринят бюст наяву). И самое главное, что эти образы появились уже на второй ступени сознания, когда захотелось удержать то, что снилось в еще более глубоком сне.
Гостиная Тарасовых. Половина 8-го вечера.
Закатное небо уже весеннего вида – мягкое, влажно-розового цвета. Возвращение Алексея – ездил с Москвиным и с матерью по метро, – не находил слов для описания своих впечатлений. Горел энтузиазмом социалистического строительства.
Читали с ним Демьяна Бедного (задали в школе) “Улица” – сухонько, безвкусно, способно расхолодить какого угодно энтузиаста революции. Попутно – Маяковский. Груб так же. Но это – сила. И талант. А Демьян – виршеплет, Тредьяковский от революции.
Читали пьески Лундберга. Неудачные. Умные мысли, оригинальность в речи, а в писательстве почти сплошь неудача. (Лучше других книга о Мережковском.)[359]
18 апреля
Известие о смерти Смидовича Петра Гермогеновича. И опять чувство личной утраты, как осенью от смерти его жены, хотя последние годы прожиты без встреч. А сейчас жаль, что не было встреч. И он, и она – Баярды идеи, которой прослужили всю жизнь. Оба рыцари sans peur ni reproche[360]. У него это светилось в глазах, синих, безумных.
Мы познакомились в Париже, когда мне было 27 лет. Однажды ездили вдвоем в Версаль, провели там полдня. На возвратном пути у вагонного окна, глядя на потухающую зарю, он заговорил с досадой о “власти женщины”. Я спросила: “Разве в этой власти нет чего-то, по существу мужскому сердцу нужного?” Он засмеялся (хороший был смех, искренний, чуть грустный). Сказал опять, отвернувшись и глядя на зарю: “А все– таки рабство”. И сердито прибавил: “Ведь я же знаю, что это ни к чему, но знаю, что буду о вас думать, помнить и завтра прибегу”. “Ни к чему”, вероятно, относилось к замеченному им зарождению сильного взволнованного интереса между мной и его товарищем.
Второй раз мы встретились через много лет. Он был женат уже на заграничной приятельнице моей Софье Николаевне Луначарской, которая за несколько лет перед этим овдовела. Они жили на даче при Петровском заводе, а я с Ильинскими в имении Бера[361]. Было несколько общих прогулок. И был опять какой-то час “власти женщины”. Я сидела в сумерках у окна в низеньком флигельке, где они жили. Он подошел к окну из сада, стал перед ним на колени и, взявшись за открытые рамы, молча вперил в меня синие свои, безумные глаза. Я спросила: “Что вы?” Он сказал: “Ничего”. (Я была смущена и пробормотала что-то вроде “странно” или “зачем?”.) Он сказал: “Так – мечта”. Поднялся, крепко сжал мою руку, повернулся и пропал за деревьями сада. Потом, когда мы встретились, нас что-то связывало, какая-то невысказанная близость, какая-то попутная мечта (и у него, и у меня было то уже реальное, что уже из мечты превратилось в жизнь).
Третий период был в 1920-м году. Я заезжала к ним на Смоленский рынок. Меня одаривали там, впрочем в скромном количестве, пшеном, постным маслом (мы с матерью порядком голодали в Посаде). Однажды Петр Гермогенович выхлопотал мне колониальный паек – целую телячью ногу, муку, рис, всего, помню, 18 кило. Тащила их на Ярославский вокзал восемь верст на спине, – трамваев тогда в помине не было. В одно из утр на их квартире мы долго разговаривали с ним наедине о революции, “о цене человеческой крови”. Я говорила, что не могу возвести в закон (нравственный, исторический – другое дело) убийство во имя самых высоких целей. Он задумчиво сказал: “И я не кровожаден. Не люблю крови. Хотел бы, чтоб было без крови. Но лес рубят, щепки летят. А впереди еще сколько щепок – то есть крови…” И тут он что-то стал говорить невнятное, как бы забыв обо мне. Я узнала потом, что у него недавно был обморок от переутомления и что ему запрещено работать.
И еще раз за общим столом в Кремле, на блинах у них, я виделась с ним. И так же мне нравились уже на сильно постаревшем лице синие, безумные глаза. Завтра их уже тронет огонь крематория, и станут они пеплом. Ну что же? Закон. Предел. Тайна. И так близка она от всех стариков и старух, что грустить об ушедших не приходится. Мир его правдивой, мятежной душе, верной себе и своему пути. The rest is silence[362].
18 апреля. 12 часов ночи
Алла уже летит на “Стреле” в Ленинград. Нина зубрит остеологию. Леонилла над гладильной доской с утюгом. Алексей спит. Галина где-то танцует. Александр Петрович (Алешин отец) ходит по комнате с каким-то опаленным лицом и с глазами маньяка. А я одна, одна – и это великая милость судьбы.
Леонилла извлекла из каких-то сундучков оттиски двух статей Льва Исааковича (Шестова). Перечитываю “Potestas Clavium. (Власть ключей)”[363]. Как глубоко взволновали меня, какое сильное движение порождали во мне мысли этих статей.
“…Может быть, наступила для нас пора проснуться от здравого смысла”. “…Чтобы иметь право сидеть сложа руки, мы охотно принимаем за победу даже несомненное поражение”.
“…Есть все основания думать, что естественные объяснения удаляют нас от истины”.
Острота таких шестовских мыслей, скальпель его беспощадного, горестного, хоть с виду нередко спокойного и насмешливого анализа, разрушение старых правд, вытекающее из мучительной жажды найти новую и уже истинную правду, – все это питало меня некогда, как токи живой воды. Теперь его мысли, как и всех на свете мыслителей, мне нужны лишь как пейзажи, как музыка, как братское общение. Я живу не мыслями. А чем? Странно сказать: тем же, чем “праведники” – хоть и безмерно далека от праведности – верой, надеждой, любовью. О, конечно, в очень малой степени эти великие силы живут во мне. Их не хватает для творчества жизни. Они не порождают нужной активности, не меняют облик моего житья. Но и в малой их степени они властны питать мою жизнь, быть ее осью и не давать в моей душе места страху перед жизнью и перед смертью.
20 апреля
Утрамбовывается часть Театральной площади. По-видимому, разбивается сквер. Грустное, не окрашенное в цвет весеннего неба чувство сжало сердце. Сначала не поняла, откуда оно. И вдруг поймала причину: озеленение. Им занимался тот энтузиаст с синими глазами, которого третьего дня сожгли в крематории. Будет зеленеть сквер, а синие старческие глаза уже не увидят его.
19 мая. 6 часов вечера. Алешина комната
Вчера погибло от катастрофы на большом пассажирском самолете (“Максим Горький”) 6о человек[364]. Мужчины и женщины, большинство молодые, были с ними и дети. Налетел маленький аэроплан на большой. Говорят, неудачная мертвая петля. В трамвае один пожилой военный сердито комментировал: “А все ухарство”. Проползало боязливое словечко “вредительство”. Чем, почему и кому мог помешать этот грузный прогулочный воздушный рыдван и те авиаторы и их жены и дети, которые на нем катались? Аэроплан и еще лучший построят в недолгий срок. Об это уже говорило радио сегодня от лица ударников разных заводов. И будут новые кадры авиаторов. Но остается горестная загадка: зачем, за что такая ужасная смерть досталась именно этим, а не каким-нибудь другим Иванам и Марьям. И детям их. Какое было лицо у какого-нибудь двенадцатилетнего Сережи, или десятилетней Маши, или семилетнего Димы, когда они услышали страшный треск, и стала опрокидываться кабина, и они поняли, что погибли. Было ли у них сознание, когда они летели эти 700 метров перед тем, как разметать свои раздробленные члены. Было ли сознание, что вот дробятся кости, всё крепко сплоченное – уже разлетается в прах. Был ли ужас? Была ли боль? И где та женщина, у которой погиб муж и сын и она на месте катастрофы грызла дерево?
20 мая. Таганка
Утро. Солнце. Полоска туманно-голубого неба над острожным частоколом у окна. Из-за частокола черные, чуть позеленевшие мелкой листвой высокие деревья и радостное чириканье воробьев.
Два вчерашних суетных и смешных момента: старый писатель, с которым изредка встречаюсь, полушутя-полусерьезно стал развивать мысль, что мы с ним “будем еще в Пантеоне”. Я даже не подумала, что у меня нет ничего, кроме груды лирики сомнительной художественной ценности и обрывков моих впечатлений и мыслей, громко озаглавленных “О преходящем и вечном”, и на минуту ощутила себя писателем (и где-то около Пантеона!). Почти в ту же минуту уловила в себе внутреннюю улыбку и начала вслух высмеивать Мировича. И вот что опять было вечером того же дня.
Пришлось долго ждать трамвая на Таганку. Рядом стояла пожилая дама с хорошим, тонким, английского типа, интеллигентным лицом. Она заговорила со мной о том, как редко и неправильно ходят 41-й и 15-й номера, потом еще о чем-то трамвайном, помогла мне пробраться в давке, когда садились в вагон, нашла место. Потом стала говорить о моем лице такие лестные и неправдоподобные вещи (о красоте! и не только о “следах прошлой”, но и теперь и т. д.), что я в испуге и в смущении воззрилась на нее, не зная, как прервать это, впрочем, в очень деликатной и тонкой форме, излияние. Но в то же время и тогда, когда сошла с трамвая, какой-то сладкий елей, какая-то смазка тщеславия отрадно ощутилась в груди. Может быть, потому, что за час до этого, случайно поместившись у Крестовых перед зеркалом, я несколько раз подумала, встречаясь с собой взглядом: “Какое изношенное, жалкое, полуразрушенное лицо. И в соответствии с костюмом. Неужели же это я?”
Может быть. Но и тщеславие, тщеславное удовольствие, увы, не чуждо старому Мировичу. Как толстовский мерин Холстомер “любит”, чтобы его кто-то похлопал по спине, почесал за ухом. Правда, смущается при этом, но и “любит”.
Эх, Мирович! Сознайся, что и в том, что ты занес в эту тетрадь две вчерашние встречи, есть привкус суетного посмертного удовольствия: “Смотрите, мол, потомки, это не какая-то старая козявка писала, а писатель, «настоящий» и притом лицо было даже в 66 лет (с одним торчащим изо рта зубом) красивое и примечательное. Читайте и мысленно любуйтесь. А потом и за то похвалите, что дает себе отчет в некрасоте тщеславия и на глазах у вас с ним борется…”
Совсем светло. Попробую заснуть на часок. Завтра, то есть сегодня после урока с Алексеем, пробуду часть дня с Ирисом. Ирис редактирует “Фауста” – перевод Холодковского для “Academia”[365]. Работает чрезмерно, неусыпно-прилежно, с немецкой добросовестностью (кровь Миллеров) и со своей, ирисовской, умной и острой талантливостью. С Ирисом связана душа крепко, на веки веков.
25 мая. У Тарасовых. Ночь. 2-й час
…Что-то в одеколоне напоминает запах мыльников и “ночной красоты” – цветов моего детства на клумбах маленького садика в Киеве на Большой Шияновской улице. Как часто и как быстро, со всем колоритом и со всем ароматом своим залетает теперь детство и первая юность в память души. Не значит ли это, что кольцо жизни вот-вот должно сомкнуться – начало уже смыкаться.
Про каждую из этих 18 тетрадей, каждый раз начиная ее, думалось мне: “эта уже последняя”. И когда она кончалась, такая отсрочка представлялась странной. Есть ощущение затянувшегося эпилога. По моей вине. Если бы я сделала в нем то, что нужно, он бы так не затянулся. Эта отсрочка – сразу и наказание, и милосердие, выжидающее, чтобы человек получше собрался в “великую дорогу”, как говорят на Украине.
Проезжала трамваем мимо какого-то большого сада, в котором была груша, вся белая от цветов. И какие большие, почти летние уже листья на липах.
В ранней весне есть особая невыразимая, неповторимая прелесть. Целомудренная робость выявления рядом с мощью спрятанных под землею сил и с огромностью надежд (часть их мимо возможности осуществления; отсюда такая томительность весенних ночей, особенно белых).
19 тетрадь 26.5-29.8.1935
1 июня. Гостиная Аллы. Ночь
Приехала Алла из Таганрога, вся взволнованная пережитым ею (и всем их театром) триумфом. Фанфары, банкеты, овации, речи и цветы… Привезла целый сноп роз.
А если бы встал из гроба Чехов, как бы он по-иному описал эти чеховские торжества. И старую ожиревшую свою Ольгу Леонардовну, которая стоя, как “Агамемнон на колеснице”, ехала на автомобиле, вкушая славу приветствий по дороге с вокзала. И Тарханову, тоже довольно старую, повалившуюся на пол в каком-то пируэте фокстрота – и Аллин колит, не давший ей вкусить от постных яств на банкетах; и консервы, и булочки, какие актеры привезли с собой (им дали провиант на дорогу). И как потом отразились эти банкеты на бюджете городишка. И как Вишневский, плененный асфальтом, конкой и вазами с цветами на перекрестках, воскликнул: “Это же не город, это Париж!” И как Москвин признался, что если он был не вполне большевик, теперь он – вполне.
4 июня. Комната Биши. Пасмурный бурый вечер
Вбежал Даниил. “Можно полежать здесь?” При его потребности к уединению, к созерцанию и к поэтическому творчеству какая тяжкая ему досталась доля! С утра до поздней ночи вместе с товарищами-художниками раскрашивают, чертят, рисуют какие-то диаграммы и плакаты. Всегда он на людях. А к ночи устает так, что не в силах “для души” работать. Похудел, пожелтел, от лица один нос остался, как у Гоголя. Никакой “личной” жизни – “вдали от солнца (которое так нужно его индусской плоти и душе) – и природы, вдали от жизни и свободы, вдали от счастья и искусства…”[366].
Разрывается от жалости бабушкино (он зовет меня “баб Вав”) сердце – “видеть, как тратятся силы, лучшие Божьи дары…”[367].
У него, как у многих богато одаренных натур, есть потребность сделать из своей жизни единое, по плану зодчего выстроенное здание, – а жизнь его ставит в такое положение, когда можно лишь пестро и лихорадочно складывать какую-то мозаику в надежде, что она станет некогда фундаментом для такого здания. А годы не ждут (29-й год).
5 июня. Гостиная Аллы. 2-й час ночи
Тяжба с врагами моими Липатовыми из-за комнаты внутренно разрешилась для меня тем, что я стала на их сторону. Им “обидно” получить в форме обмена (причем они имеют законное право не обмениваться) площадь только на три метра больше комнатушки, в которой они уже обжились, в то время как внизу уже распределяют по 15 метров на душу. У них же и по 4 не придется на каждого. А сейчас и всего по 3. Они и так чувствуют себя обделенными, а тут еще старуха Мирович с ножом к горлу пристала (и через начальника Мосжилотдела, и через прокурора): меняйтесь во что бы то ни стало. Отныне, если и буду длить “тяжбу”, это будет лишь ходом, подсказанным Филиппом Александровичем (д-р Добров). Этот справедливый и с ясной головой человек при всей своей ко мне дружественности воскликнул сегодня утром: “И совершенно прав ваш Липатов, к тому же коммунист и красноармеец, что хочет устроиться по-человечески. И вы должны похлопотать за него перед Андреевым, чтобы дали ему хоть по 7–8 метров на человека, а не по 3–4”.
6 июня. Тарасовская квартира. 10-й час утра
Узнала по телефону, что внук моей приятельницы, сын Майи и пасынок Ромена Роллана, женился. Ему едва минуло 18 лет, жене 24. Балерина. Бабушка умеет (и даже с какой-то веселой искренностью) faire bonne mine au mauvais jeu[368]. В таком духе она и мне сделала это сообщение. В 20-х числах июня приезжает в Москву Ромен Роллан с Майей[369].
9 июня
Хроника
Метро. Первый раз. У почтамта, где один из самых длинных эскалаторов. Закружилась голова при виде сбегающих и возносящихся рядом вверх, точно одушевленных, ступеней. Напрасно Вадим и Елена уговаривали и тащили меня – напал на меня тот жуткий нервный страх, какой охватывал некогда нашего сеттера Лорда перед узким мостом над железнодорожной линией. Лорда можно было полчаса уговаривать, бить, тащить за ошейник – он с жалобным визгом, но так энергично упирался, что его наконец оставляли в покое. Так и меня оставили в покое дети и сторожа, которые долго усовещивали и даже предлагали проводить “гражданочку”, “мамашу”, “бабушку”. Я внезапно решилась и, осилив тошнотное головокружение, переступила заветную грань. И тут уже стало ничуть не страшно.
Подземные мраморы, кафели и обилие электричества не очаровали меня настолько, как многих из моих знакомых, которые не находили слов для выражений восхищения своего. Может быть, потому, что, наслушавшись восклицательных предложений о сказочной роскоши метро, я заранее представила себе такие колоннады, такое великолепие, что по сравнению с ним действительность оказалась скромной. Как достижение техники это замечательно. Но ведь мы знаем о тоннелях Сен– Готарда, о подземной железной дороге под Темзой и т. д. “Воля и труд человека дивные дива творят”. И уж так создано мое воображение: сквозь эти мраморы я видела, ощущала, как ледяное дуновение, чего это стоило здоровью и жизни живых людей.
– Как и все, что построено на этом свете, начиная хотя бы с египетских пирамид, – скажут мне на это. Да, знаю. От этого и считаю, что дорого стоит – и душевно, и телесно дорого стоит человечеству его цивилизация.
14 июня
Генеральная репетиция горьковских “Врагов” в 1-м МХАТе (в чеховском МХАТе, с чеховской чайкой на занавесе. Но тем не менее названном театром имени Горького). Пьеса слабая, какая-то вся недопроявленная, недоговоренная, – но режиссеры и актеры подняли ее на известную художественную высоту, где она смотрится с интересом. У Аллы эпизодическая, бледная, бездвижная роль. Она насытила ее внешней красотой и местами внутренней значительностью, о которой, может быть, Горький и не подозревал. Великолепен Качалов в роли добродушного либерала, говорящего о “добре” и бессильного как-нибудь провести его в жизнь. Было приятно увидеть, что алкоголь не разрушил в нем способности к ювелирно-тонкой отделке образа… (Это заговорил во мне старый рецензент, и перо само после генеральной репетиции побежало по бумаге, не знаю зачем.)
Ночь.
Обуяла тоска по деревьям, по травам, по вечернему летнему небу, и без всякого сознательного решения я увидела себя в трамвае № 4, домчавшем меня до Сокольников. Там в сумраке и в сырости под соснами и березами среди бумаг и битого стекла собрала букет из белой будры, курослепов и тимофеевки (она уже колосится!). И все-таки была встреча с Матерью сырой землей. Сквозь тусклое, загрязненное полуразбитое стекло – но все же увидела я родной, изначальный материнский лик – о, как я о нем стосковалась за эти 10 месяцев скитаний по Москве. Сидя у окна трамвая на возвратном пути, видела величавую со всеми своими кратерами и долинами луну (и о ней стосковалась). Она бежала среди легких отрывков облаков вровень с трамваем и все время переглядывалась со мной.
Опять взрыв в сторону Галины, и на этот раз по пустякам. Накопилось неприятие ее стиля – <и> польской провинциальной кокетливости, и ее поведения в сторону матери. А какое тебе дело, Мирович, смотри на бревна в своем глазу.
19 июня. Комната Даниила. Ночь
Уехала сегодня в Арктику Нина, замороженная ультраполярным холодом отношения обожаемой дочери и оскорбленная неисчислимыми пинками и моральными пощечинами с ее стороны за эти полгода. Уехала мужественно, любя и прощая свою “цуречку”. Ледяная сосулечка дочерней души в часы прощания также обтаяла некоторым количеством слез. Это было приятно видеть. Эгоизм этого юного, внешне такого миловидного, эфирного существа уже начинал пугать, как рогатое, косматое, многокопытное чудовище.
20 июня. Комната Даниила. Утро
Туда-то ехать, то-то предпринимать, так устраиваться… Какой показалось это ненужностью при взгляде на плакат, висящий над Данииловым диваном, с урной пепла и надписью: “Количество сожжений в 1-м Московском крематории”. Вот это именно и нужно мне: увеличить количество пепла. А “дух уйдет к тому, кто дал тебе дыханье”.
21–22 июня. Сивцев Вражек
Уехал Алексей с матерью в Ленинград (там до 1-го будут идти “Дни Турбиных” с Аллой в роли Леночки). Не нравится мне, что приятель мой помнит и предвосхищает то, что они остановятся в лучшей из гостиниц – “Астории”. Предлагая ему очеркистские упражнения, я нарочно миновала “Асторию”. Дала: “Петропавловскую крепость”, “Острова”, “Эрмитаж”, “Петергофские фонтаны” и “Неву”. Через 7–8 лет, если дойдет до него эта тетрадь, – интересно, будет ли иметь для него “Астория”, “Форос” значение серьезных ценностей. Пока он может еще в понятие “мы хорошо живем” вкладывать паркет, люстру, возможность дорогого питания, сидеть в первых рядах театра.
Побывав у д-ра Доброва, он с оттенком жалости и брезгливости воскликнул: “Ой, как Филипп Александрович плохо живет!” – и очень удивился, когда я сказала: “Напротив, очень хорошо. Кроме своей практики и больничного дела читает философские книги, переводит Горация, импровизирует на рояле”. – “А вы не видели разве, какой у него потолок, какие все старые вещи и одежда?” – И ужасно удивился, но, кажется, задумался, когда я сказала: “Ему это все равно. Потолка он, верно, давно не замечает. Он всегда занят, поглощен даже, интересами, далекими от мещанского благополучия”.
5 июля
К Машеньке (Кристенсен) приехал сын Яльмар, шестнадцать лет. Два года прожил в Норвегии. (Отец его – норвежец, и Машенька норвежская подданная.) Не похож на наших детей его возраста. Ритмичен, сдержан, спокоен, вежлив. И не мешало бы прибавить к этому лицу комсомольской удали, какая брызжет из всего существа младшего брата его, Алеши. Как не мешало бы и нашему комсомолу поскорей дорасти до европейского культурного уровня в житейском обиходе.
7 июля
Смиренные профессии.
Сколько их в Малоярославце! (Думаю, что и в других уездных городишках не меньше.) Тонконогий, средних лет водонос несколько юродивого вида (Юра усмотрел в нем шизофреника). Он сам построил себе избушку из каких-то чурбаков, дранок, ржавых кусков железа, из глины и земли. Одинок. Питается исключительно хлебом (кстати, хороший тут полубелый хлеб, прекрасно выпеченный, легкий и всего на гривенник дороже черного), философски спокойный вид, тихая улыбка. Зарабатывает рублей 30–40 (когда приезжают дачники – до 60-70-ти). (“Мне довольно! Зачем больше? На хлеб хватает, и ладно”.)
Бывшая помещица – под 50 лет, с французским языком, с “благородными манерами”. Профессия – комиссионерство: что-нибудь кому– нибудь продать по чьему-нибудь поручению за 10, за 5 рублей и получить за это “куртажный” рубль.
Кроме этого, штопает, чинит и “помогает” в каких-нибудь делах хозяину дома, где занимает уголок именно по договору “помогать”. За это получает временами суп, спитой чай, стакан молока. Штопает сегодня чулок в кухне на табуретке с видом полной независимости, достоинства и светской приветливости. Тщательно причесана, с гребешками. Непонятно, каким образом ухитряется иметь опрятный вид. Одинока. Есть сестра – совсем старая – тоже где-то у “благодетелей” в углу. Живет тем, что читает по покойникам.
В этом же доме, некогда очень состоятельном, Ольга Николаевна, Сережина учительница английского языка. Уроки скудно оплачиваемые, племянники дают рублей 50. Торгсин: продает звено за звеном золотую цепочку – последнее, что осталось от прежних благ. Придумала недавно профессию – делать цветы, розы, из папиросной бумаги. За розу дают 25 копеек. Бумаги идет на нее копеек на 5. Подагрические руки плохо справляются с розовыми лепестками (“Два часа с лишком делала две розы, и разболелись руки, больше работать уже не могла”). Силится уверить себя, что и подагра, и безработица – благо. Это удается вперемежку с моментами уныния, во время которого прибегает к автоматическому письму. И “духи” неизменно утешают и подбадривают ее.
Домохозяйка Юры М. В. Женко. Попутно с домашним хозяйством – громоздким, где и сад, и огородик, и больной муж, и четыре котенка, и наседка, и кролики, и внучка гостит – с ранней молодости артистическая деятельность. Роли старух (и смолоду – старух) в местном театре. Говорят, очень талантлива. Лицом, спокойно-улыбчивым и умным, похожа на Садовскую – из Малого театра. Седьмой десяток. Находит энергию ездить играть по окрестным станциям, в клубах. На фабриках и заводах. Получает от 15 до 40 за спектакль. Муж – бухгалтер, больной, “сокращенный” недавно.
Портниха Александра Васильевна – многосемейная. “Шьют по нонешним временам мало”, поэтому берется за все, и хлеб испечь, и в очереди постоять, и в Москву съездить, и комнату оклеить. Бьется как рыба об лед. Выбивает на черный хлеб. Муж больной, алкоголик, опустившийся; дети захудалые. Периодически обедают у Натальи Дмитриевны (Сережиной матери). Между прочим, у Натальи Дмитриевны обедают теперь пять человек, кроме своей обширной семьи. Она принимает это с огромным терпением и радушием. Как не вспомнить: “Хороши жены христианские”.
17 июля. Чуриково (наконец!). 11 часов ночи
Далекая, ясная, догорающая золотом и зеленью полоска зари. Совсем близко от дома, через дорогу – сосны, дубы, липа, березы, маслята, только что прорезавшие зеленую кору, доспевающая земляника. Лес. “Как быстро приходит счастье” (Гуро). Вчера еще была такая отрезанность от природы, такая припаянность к быту, к детям, чуждым по духу, трудным по необузданности. Там было свое нужное – сознание, что я им и милому мне Юрию нужна; но не было “счастья”, вот этого благословения – природе, тишине, ночи, доброте Нины Владимировны, без которой мне бы здесь не быть сейчас. Не было внутренней тишины, собранности. Не было красоты – преддверия райских радостей, перед которыми “жизнь – только сон”.
Проводила меня сюда (4 версты) Дионисия. Радовалась не меньше меня по дороге каждому кусту, каждой ромашке. Условились, что будет проводить у меня выходные дни.
23 июля
Жалоба хозяйки на сельсовет: “Зачем дали им такую власть? Они этого не стоют: охальники, мучители. В Москве «правда», говорят, есть, у нас она не ночевала. На кого взъестся председатель, тому не жить”.
Трагическая история, как “задушили налогами” одного бывшего матроса за то, что другим прошло даром (возил картошку в Одессу во время НЭПа). “Терпел год, выплачивал все налоги, вдвойне. Нечем стало платить, пришли корову забрать. Был выпивши, встал в дверях хлева с топором. Созвали свидетелей, милицию, связали. Закатали на три года. Жена – Лина, латышка– молчаливая, терпеливая, гордая. Ни слезы, ни словечка. Только, как это с мужем случилось, прежде времени родила, и горячка у нее открылась – тут и отдала Богу душу. Четверо детей осталось. Побирались. Потом в колонию отдали. Мужу срок сократили, он там ударником был, на принудиловке.
Пришел – ни жены, ни детей, и домишко отобрали. Сколько мы, бабы, слез пролили над этим семейством”.
Закончила рассказ: “Это надо только подумать, что у этой Лины было на сердце, когда повезли ее родить, и трое детей, старшему 7 лет, – одни остались, и без коровы, и из дому уже тогда же их выгнали, в чужой развалюшке жили… Душегубы! (по адресу сельсовета)”.
26 июля
Из-под угла занавески – серый сердитый рассвет. Небо в слоистых тучах. На востоке чуть желтеют прорези тусклой зари. Ветер качает во все стороны желтые лилии, мокрые кусты малин и высокий бурьян перед моим окном.
Рассветы, бабочки, романтические эпизоды прошлого столетия – зачем нам все это? Мирович захватил своей старостью великую эпоху социалистического строительства, знаменитых пятилеток, эпоху индустриализации, коллективизации, Беломорского канала, Днепростроя, завоевания Арктики, первого в мире метро и прочее – где же отклики на все это в 19-ти его тетрадях? Почему их нет? Не скажет ли так кто– нибудь из перевернувших эти страницы – тот же Сережа, – воспитанных на интересе только к социальным явлениям и к достижениям науки и техники. Им я скажу: – Другая культура. Другое направление интересов. И прибавлю: Индивидуальное ближе к категории Вечного. Социальное ближе к категории преходящего, оно – надстройка над жизнью индивидуумов, в нем – неизбежность исторической логики, текучесть, диалектика. Рассветы же, закаты, бабочки, любовь, ревность, боль, тоска земного бытия – то, что вливается в сосуды социальности, экономики, политики. То, отчего застрелился Маяковский, повесился Есенин. Дуэль Пушкина. Наполеон на о-ве св. Елены.
Не сумела сказать то, что хотела об индивидуальном и социальном. Вышло темно.
27 июля. 8-й час вечера
Холодный день. Сильный ветер. Часто накрапывал дождь. Гроза. Калоши. Бумазейное платье. Ощущение третьей и последней, 75-летней старости.
Кусочек письма Наташи (Сережиной матери) от 16 сентября 1934 г.: “Вот о чем никогда не жалею – о своей молодости. Хорошая старость кажется мне настолько лучше прекрасной молодости, насколько ведение выше гадания и действительность выше мечты”.
Верная мысль. Важная мысль. Беда только, что для некоторых людей (для меня, например) так же трудно сделать старость “хорошей”, как это было трудно и по отношению к молодости.
4 августа. Пасмурное утро
Сильный ветер. Дурная погода. Есть три к ней отношения: не замечать ее и продолжать обиход жизни как ни в чем не бывало (подвергаясь, конечно, всем неудобствам сырости, грязи и дождя). Замечать ее поминутно, роптать, негодовать, ныть, не выходить из дурного настроения. Отмежеваться от внешнего мира, уйти целиком во внутренний (книга, писанье, рисованье, рукоделие с мечтой пополам, беседа, если есть собеседники).
Очень дурную погоду моя Ольга встречала повышенной праздничностью – белая скатерть, парадное чаепитие.
Эти же три типа можно наблюдать и в отношении к жизненным непогодам: стоицизм, слезы и жалобы и уход в творчество, в религиозную сосредоточенность или просто в мечту.
Звездное небо. Нравственный закон, совесть. Догматы – чужое откровение (или чужая мифология). Расширяющееся сознание, воспитанное в догматах той или другой религии, обречено выйти из-под их власти. Оно может вернуться к ним, но лишь в том случае, если собственный внутренний путь приведет его сюда как к необходимой символике, в которую вместится исповедание веры, обретенной ими как личное откровение или как результат внутренних усилий души, как расширенное сознание.
20 тетрадь 31.8-10.11.1935
4 сентября
Есть ходячее выражение “настоящий человек” и дополнительно к нему – это “ненастоящий человек”.
Пробую подвести под эти определения тех людей, какие сейчас вспомнились. Выяснилось, что под “настоящестью” подразумевают три качества: правдивость, нравственное мужество и человечность (ту или другую степень внимательности и отзывчивости к окружающим людям). В правдивость входит и отсутствие позы, хвастовства, тщеславия.
Бесспорная и в высшей степени “настоящесть” у Наташи (Сережиной матери). У покойного Константина Прокофьевича (Аллочкиного отца). И у ряда других лиц, которых близко знаю. Но прежде всего и ярче всего вспомнились эти двое.
Удобнее проследить это понятие по лицам писателей. В величайшей степени подходит это определение Достоевскому и Толстому (независимо от размеров таланта). Гораздо меньше Тургеневу (не хватает нравственного мужества и человечности в некоторых характеристиках героев; то же и в биографии). Не хватает нравственного мужества у Некрасова. У Тютчева. Не хватает правдивости (жизненной) и человечности у Лермонтова. Не приложишь этого эпитета к Горькому. В высшей степени приложишь к Чехову.
Не повернется язык сказать “настоящий человек” о Пришвине (сейчас читаю его “Журавлиную родину”, где он изо всех сил старается быть правдивым и немало говорит о своем нравственном мужестве и человечности).
Пришвин – конгломерат из Кнута Гамсуна, Ремизова и фельетонного борзописца “Известий”.
И все-таки очень интересно, что Пришвин пишет в “Журавлиной родине” о своем творчестве и о своих похождениях на Дубне – охотничьих и в защиту кладофоры. Я видела этот реликт ледникового периода в руках у Сережиной тетки (она, как и Пришвин, естественница). Водоросль без корней, ярко-зеленый, суконный на ощупь, довольно твердый шар, величиной с детскую голову.
Отметилось раздражение, с каким пишу здесь о Пришвине. Поняла, что источник его – мистификация в давно прошедшие времена, одна из проказ Ремизова, который уверил Пришвина, что я в него влюблена, а меня – что “Пришвин только о Варваре Григорьевне и говорит, как из Москвы приедет”. Я не очень верила, но Пришвин, кажется, поверил. После этого в наших встречах появилась неловкость. Особенно в Крыму, где Пришвин держал себя так, как будто его приход осчастливил меня, и в то же время торопился уйти от неловкости и, вероятно, чтобы “не подавать надежды”…
Тонкость иногда странно сочетается с грубостью, сложность с элементарностью (в отдельных случаях). Так у Пришвина и еще у одного человека, который был мне брачно близок 4 года и который, кстати сказать, был поразительно похож по внешности на Пришвина (умерший в начале революции доктор Лавров).
Как хорошо молчат во время своей гибели рыбы, насекомые. А еще лучше деревья.
В горе ли, в счастье – одинаково хороша целомудренная сдержанность выражения. В музыке – это Григ и другие северные композиторы – Вагнер, Бетховен. Противоположность им – украинские народные песни и итальянские композиторы.
Чувствуется у Пришвина рыцарская влюбленность в эту редкостную кладофору, которую грозит погубить осушка озера. Влюбленность в лес, в рассвет, в собаку Нерль. И это у него свое, пришвинское, только иногда вливающееся в стиль К. Гамсуна. Как жанр его вливается порой в ремизовский стиль. Не мое у него – публицистика. Здесь мажорный культ – просветительный тон – результат приспособленчества, желания быть изданным в полном собрании сочинений.
5 сентября. Малоярославец. 4-й час дня
Усталость от нудного и неудачного похода в город (нет в магазинах ни чернил, ни перьев, ни мочалки, ни штопальной бумаги). Интересны комментарии в писчебумажном магазине: “Нет перьев, нет чернил. Ясное дело: надо писать карандашом”. – “А как же быть детям в школе, где карандашом писать не позволяют?” – “Не позволяют? Тогда, мамаша, придется вам в Москву прокатиться”.
В галантерейном магазине: “Почему непременно занадобилась вам мочалка? Помойтесь старым чулком”. “Штопка? Хотите, вот шелк есть”. – “Грошовые чулки шелком чинить!” – “А грошовые, так выбросите и новые купите, – вот за 2 рубля до копеек телесного цвета”.
…О Наташином (Натальи Дмитриевны Шаховской) лице второй раз слышу: “Какая-то она точно прозрачная (никакой бледности, даже розовость)”. Такое же лицо у Анички Полиевктовой (Бруни). Благодаря этому свойству их здесь принимают за сестер. А свойство это – прозрачность – заключается в чистоте их душ, сквозь которые светится потустороннее. О “чистых сердцах” можно сказать не только то, что они “Бога узрят”, но еще то, что другие сквозь них “Бога узрят”.
24 сентября. Комната Даниила. 8 часов вечера
Даниил в Белопесоцком[370]. Завтра вернется вместе с Бишами. Как по-новому мил, интересен и чем-то важен мне Биша. Так сделалось мне от снов. Два раза я видела его во сне не в том освещении, в каком до сих пор – наяву. Особенно памятен один сон: где-то на вокзале, а может быть, где-то в общей казарменного вида комнате я сплю на полу. Кругом люди – тоже все спят на полу. Я тяжело больна (во сне), смертельно устала и не могу прервать дрему, хотя знаю, что по каким-то важным причинам необходимо совсем проснуться, встать, куда-то идти, что-то делать. Сквозь дремоту чувствую, что кто-то на меня смотрит. И, повернувшись в сторону этого взгляда, вижу, что смотрит Биша, приподнявшись на локте. Взгляд его пристален необычно, сияюще-нежен, глубок и озарен самой нужной мне мыслью и сыновне-дружеской любовью. И так же смотрит из-за его плеча на меня Шура (его жена). Потом Биша что-то говорит – чрезвычайно важное.
Но, проснувшись, я слов его вспомнить не могла.
1-й час ночи
Сидели за столом четверо старых: три старухи и один старик. Однолетки между 65–68 годами. И потому, что с ними не было никого из молодых, они разговаривали так, как будто сами были молодыми – мечтательно и без страха, что посмеются над поэтичностью их восприятия. Говорили о красоте леса, о том, какие любят цветы, о звездном крымском небе и о прелести одиноких прогулок. Старик подошел к роялю и стал импровизировать что-то весенне-тревожное, как звездный свет, отраженный в только что разлившейся реке. И старухи слушали, как будто те звезды счастья и воздух радости, каким дышала их грудь в молодости, не ушли в невозвратность, а существуют где-то в стороне, как музыка, готовая зазвучать всегда, как только забудется бремя лет и горькие заботы старости. Торжественны и светлы были их лица в морщинах и оплывах, беззубые, в седых прическах.
1 октября
Добровский дом – более родной, более “мой”, чем розовое мое логово. Может быть, потому, что сильно нездоровится – так холодно в логове и так тепло в щедром излучении добрых чувств всех членов добровского дома. Так тепло, что в одну минуту могли уговорить остаться ночевать.
Необходимо и неотложимо нужна работа. Колея каждодневной работы и заработок. И раз это нужно, это будет (так всегда бывало в моей жизни). А если не это – будет другое, – отворятся двери туда, где не нужно заработков.
…Прекращена выдача пайков в связи в общим снижением цен (однако не таким, чтобы можно было прожить на 6о рублей в месяц).
2 октября
Елизавета Михайловна сказала сегодня с той дружеской спасающей решимостью, с какой говорят друзья нам важные и тяжкие вещи: “О Сереже тебе надо перестать думать. И обо всех этих детях. У них там своя установка, и тебе нет там места. Ты будешь только мешать. Надо это принять, что жизнь развела тебя с Сережей”.
Как зрелый плод упала эта мысль в сознание сердца. Может быть, у меня самой не хватило бы мужества так четко ее сложить. Но хватает мужества принять ее. Перестать любить своего ребенка, своего единственного сына, нельзя. Но если его увезли за океан и там ему вдобавок хорошо и он перестал в тебе нуждаться (7 лет уже не нуждается) с тех пор, как жизнь развела нас, – нелепо томиться о свиданиях, о влиянии, о душевной близости, о параллельности жизни. Надо поставить на стол его фотографию, лучше всего в трех-четырехлетнем возрасте. И если кто-нибудь спросит, кто это, отвечать: “Мой сын, которого я потеряла, когда ему было 6 лет”. Можно и фотографии не ставить. Зачем бередить ту затянувшуюся рану сердца, от которой я физически умирала в сергиевские дни, когда увезли от меня Сергея.
11 октября. У Тарасовых. Алешина комната
Всегда, с тех пор, как стою на своих ногах, с семнадцатилетнего возраста, в моменты житейского распутья и надвигающейся нужды я знала, что мне нужно только довериться Руке, меня ведущей, и вижу, выход придет сам собою. Конечно, он приходит через людей, через перемену обстоятельств, но приходит всегда, без единого исключения. Распутья и нужда затягивались лишь там, где я пробовала быть активной и сбивалась с обычного ритма дней и теряла внутреннее спокойствие.
На этот раз, лишившись пайка и в нем главной опоры моих дряхлых дней, я ничуть не огорчилась и не озаботилась внутренне тем, как же существовать дальше на 74 рубля в месяц. Я знала, что выход будет мне указан. Сначала об этом позаботился Степан Борисович (Ольгин муж) и подвел меня к Детгизу, куда мне давно не было ходу. Вчера Алла и Настя Зуева (также актриса) предложили мне два урока в пятидневку по литературе. Предвидится и третий такой же урок.
29 октября. У Аллы
До двух часов ночи я, Леонилла и Аллочка вспоминали общее прошлое, начиная с Аллиного рождения.
Военный госпиталь (в Киеве). Огромное здание крепостного характера, стены толщиной в человеческий рост[371]. На подоконнике в амбразуре окна летом свободно можно было спать головой к сиреневому садику.
“Госпиталь”, т. е. обитавшая в нем семья смотрителя психиатрического отделения Тарасова, был в то время одним из культурных центров Киева. Помимо постоянных приходов и уходов гостей и подруг (из них некоторые, как, например я, Полина Урвачева и другие, жили месяцами) в некоторые торжественные дни, чьи-нибудь именины, Рождество, Пасха, Масленица, – собиралось до 20 человек гостей из профессоров медицинского и литературного круга. Блистала и привлекала к себе своей редкой красотой на этих вечерах сводная сестра Леониллы, Таля (Наталья Николаевна Кульженко). Побывали в госпитале и Минский, и Волынский, когда приезжали в Киев выступать на вечерах. Нередко подлетали рысаки, привозившие кого-нибудь из семьи миллионеров– сахарозаводчиков Балаховских. Для встречи со мною нередко заходил Шестов (тогда еще не писатель, а заведующий мануфактурным делом отца Леля Шварцман – “богоискатель” не расставался с карманным Евангелием). “Высоконравственный человек, Христос”, – сказал о нем однажды старый Герц Балаховский – свекор его сестры, равно далекий и от Христа, и от каких бы то ни было норм нравственности.
Сестра Шестова, также одна из самых красивых женщин Киева, Софья Исааковна (у которой я одно время была чем-то вроде гувернантки, для того чтобы съездить за границу) любила “госпиталь”, атмосферу тарасовского дома, в частности, отца семьи, который охотно дружил с ней и даже вопреки своим обычаям сам приходил к ней слушать фисгармонию. Софья Исааковна была очень музыкальна и великолепно исполняла Баха, Цезаря Франка и других классиков. Помню ее высокую фигуру царственной стройности, с прекрасными “загадочными” глазами, чудную линию бровей над ними, короткий, немного нубийский профиль. Массу черных без блеска волос, греческим узлом тяготивших затылок ее маленькой головы. Очаровательную, неожиданно доверчивую, застенчиво-манящую улыбку на неприступно-надменном лице. Ее тихий, однотонный, чуть глухой голос. Ее почти постоянную печальность (“Незачем жить”, “Для чего все”). И временами пансионерскую смешливость и даже шаловливость.
Кроме этой публики, бывали явные и тайные революционеры, украинофилы, остатки народников, террористов (некогда наша партия). Художники, пианисты, певцы.
Средства у Тарасовых были более чем ограниченные. Но никто из гостей не интересовался здесь пищей и питием. Фунт страсбургской колбасы, две французские булки, лимон, оставшиеся от обеда котлеты – казались изысканным и обильным угощением.
Иногда часов в 9 вечера я заходила за Костей (Константин Прокофьевич Тарасов) в приемную зубного врача Шмигельского, где он практиковался, задумав переквалифицироваться на зубоврачебство.
По дороге мы заходили в колбасную Аристархова, запасались колбасой за 20 копеек, нанимали дрожки или сани и ехали вместе в Госпиталь. Костя, простояв без отдыха и пищи у зубоврачебного кресла часов пять-шесть, порой был так голоден, что отрезал кусок колбасы и съедал его, пока лошадь плелась вверх по Госпитальной. Немного отдохнув дома в сводчатой гостиной-столовой, он оживлялся, и каких только тем не затрагивали мы с ним. Между нами была довольно редкая в молодости мужчин и женщин дружба, в которой за все время, при самой прочной и празднично живой привязанности и доверии друг к другу, ни разу не промелькнуло то, что так часто и почти неизбежно мелькало у других мужчин, подходивших ко мне в те времена. И я глубоко ценила это. И не менее ценила все, что составляло личность этого кристально чистого, сильного духом и по-своему ко всему относящегося человека. Он был из числа уединенных по своей натуре людей, но у него было всегда наготове братское отношение ко всякому человеку и огромный интерес к вопросам общественного характера. Он крепко любил жену, верной, прочной, душевно сердечной любовью. Но всю сумму хозяйственно-воспитательных семейных забот он без колебания переложил на нее. Для интересов этого порядка у него не было ни времени, ни вкусов. Даже в год женитьбы он больше времени проводил “с психопатами, чем с женой”, в чем обвиняли его местные кумушки. За что бы он ни брался, он уходил в дело с головой, с самозабвением. Семья была – фон, и только некоторые точки ее бытия, и то не всегда, входили в пафос его жизни. Как вдохновенно пел он года за два до смерти упавшим от tbc[372]голосом украинский Интернационал.
Чуеш – сурми заграли, Час розплати настав[373].И был он из тех редких людей, какие прошли через опыт космического сознания. От этого и умирать ему было так легко (не в физическом смысле; умирание от горлового tbc было трудное).
Когда некоторые из старых приятельниц религиозно-церковного толка заговаривали с ним перед его концом о “христианском приготовлении к кончине”, он с улыбкой сказал жене: “Не посыпай мне миссионеров”. И серьезно прибавил: “Каждый верит, как он может”.
Жизнь такого человека в окружающие жизни входит как частица той драгоценной закваски, которая нужна в мире, чтобы взошли и в свое время, и стали пищей хлебы новой жизни под новым небом, на новой земле.
6 ноября. В Кондитерской
Мне пришлось довольно долго простоять в очереди за покупками в одной из больших кондитерских Москвы. Мое внимание привлекла худая женщина средних лет в грубошерстном пальто и в вязаном колпачке. В общем, она была одета не хуже меня. Сначала она ютилась у кассы, почему-то пристально глядя под ноги. Потом отошла в сторону и стала бродить между снующими покупательницами, все наклоняясь и поглядывая на пол. Одна растерявшаяся старуха уронила из мешочка, доставая платок, пачку денег. Тогда моя незнакомка подошла к ней, подняла деньги и с приветливой улыбкой подала их. Через минуту она подняла какую-то бумажку и, развернув, разочарованно бросила. Когда освободилось место у столика, возле которого едят пирожное, она села на один из стульев и стала облизывать бумажки, к которым пристали маслянистые крошки пирожных. Тогда по ее блестящим жадным глазам, по торопливости жестов я поняла, что она голодна. Вероятно, несколько психопатична в то же время. Тоже, может быть, от безысходного голода. Лицо у нее было неглупое, скромное и скорее приятное. Как решаются купальщики броситься в холодную воду в неизвестном месте реки, с таким чувством я направилась к ней. Мало ли форм, в каких она могла рассердиться или обидеться на меня. Но, раз решившись, я вдруг почувствовала всю необходимость и всю простоту этого шага.
– Что вам лучше взять – пирожное или булочку? – спросила я так, как если бы с этим вопросом обратилась к Сереже. Она подняла на меня тихие черные с голодным блеском глаза и с детской доверчивостью во взгляде и в голосе с полуулыбкой сказала: “Булочку”.
И это все. Где она теперь и что ест, и не легла ли от голода под поезд, я не имела сил и мужества проследить. В сущности, прошла мимо, так как, уж конечно, булочка не в счет.
22 тетрадь 15.2-19.5.1936
15 февраля. 3 часа дня. Гостиная Аллы
Нежно-золотое солнце, матовое, до того смягченное снеговым облаком, что можно смотреть прямо на его розоватый диск.
Сцены повседневности.
…Старая Мирович, бывший театральный критик, пишет письмо Хмелеву о его слабых и сильных сторонах в “Царе Федоре”[374]. После театра у нее всегда просыпается критический зуд. Заканчивая письмо, вдруг сознает, что ей нужно было, т. е. потайным образом хотелось, написать не ему, а Болдуману, который завораживал ее, как в молодости, каким-то сильным выкристаллизированным током душевного темперамента.
Чуть вложит внук радийный штепсель и раздадутся дрыгающие звуки фокстрота, бабушка Леонилла начинает подпевать тенорком и выделывать антраша подагрическими в теплых туфлях ногами по дороге из кухни в столовую, с подносом в руках. При этом на душе у нее, как и всегда, по всему комплексу домашних обстоятельств “кошки скребут”. И лицо озабочено и печально сквозь добродушный старушкин смешок.
20 февраля. 3 часа дня
Четыре раза я усомнилась до потрясения всего существа в Божьем милосердии, в Божьей мудрости. (Может быть, и большее число раз, но сейчас помню только четыре.)
В первый раз, когда мне было 16 лет и я молилась так, как умела молиться только в детстве и в ранней юности, молилась о том, чтобы не умер отец (у него была “желтая лихорадка” – тропическая малярия). И моя молитва не помогла, и он умер.
Второй раз – когда ослепла мать. Третий – когда Константин Прокофьевич (Аллин отец) рассказывал о челюстных ранениях (он ездил на поле битвы под Луцком с изобретенным им хирургическим приспособлением[375] для первой помощи челюстным раненым. Рассказывал: “Все поле стонет”.).
И четвертый раз, когда двухлетний мальчик (в Сергиеве) провалился в смрадную яму уборной и там захлебнулся.
В каждый из этих разов ко мне возвращалось сыновнее доверие к Отчей воле. И потом жизнь давала ответ о благости и мудрости ее. Отец мой был избавлен смертью от тяжких конфликтов со мной, с моим нигилизмом того времени. При его повышенной религиозности для него была бы огромной тяжестью моя революционность и мой скепсис. И был он избавлен смертью в 56-летнем возрасте от скорбных ступеней глубокой старости – ее болезней, ее бесправности, ее беспомощности.
Ослепшая мать на 9-й или 10-й год слепоты в Сергиеве на предложение операции без всяких кавычек ответила, что для нее “так лучше”. И потом не раз на сочувственные причитания соседок отвечала: “Я не ропщу. Благодарение Богу. Так гораздо меньше греха”.
И в ответ на мое замечание, что челюстным легче было бы умереть на поле битвы, чем подвергаться долгому мучительному лечению и в результате его все-таки неизбежному уродству, Константин Прокофьевич с живостью воскликнул: “Ничего подобного! Ты бы видела, как они радуются, когда могут жевать, когда кончатся все мучительные процедуры, когда им кажется, что они похожи на людей, хотя для окружающих они «мордиты» (их так прозвали сестры милосердия)”.
Одно осталось, и нет-нет всплывет мучительным протестом искушение: страдания детей, их гибель. Вот этот с золотыми локонами Вова (одни только локоны и синий воротник матроски торчали из смрадной ямы). Малыш, которого у Достоевского генерал затравил борзыми. Четырехлетний кудрявый Женя, товарищ Сережи в Посаде, когда он стоял у окна в ожидании извозчика, а дифтерит душил его, а извозчика все не было. И он повторял: “Господи, Господи, я не успею в больницу”. И не успел, умер по дороге. И моя сестра Маруся, в 7 лет погибшая от менингита. Ее вопли: “Мама, мамочка, мать моя родная, да помоги же, помоги”. И глаза, выступившие из орбит от головной боли. И тысячи, и миллионы других, умерших от голоду, сгоревших в пожаре, потерявших родителей – в годы беженства и ставших с пяти лет беспризорниками.
24 февраля. 11-й час. Угол стола в Аллиной столовой
1-й день Великого поста. Детство и годы, когда жила на церковном корабле среди “оглашенных”, – и смешивала себя, и смешивали меня с “верными”. “Оглашенные”. “Верные”[376]. Все это ступени одной лестницы для движущегося духа, формы его движения. И тоже меняющиеся, потому что движущиеся, потому что растет содержание движущейся формы. Потому что бывают и возвраты, и остановки. Лишь бы не было омертвения. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Традиция поста как перемещение оси самочувствия от плоти в духовную сторону, как борьба с чревоугодием мне дорога. Я охотно постилась бы со всей строгостью, как это было в Сергиеве в течение восьми лет – весь пост.
И жаль мне великопостных колокольных звонов. Я не хотела бы вернуть их. Я слишком чувствую закономерность того, что они умолкли. Что это уже прошлое моего народа. И мое. Но я не порываю с прошлым. Я слишком знаю, что “ничто не проходит. Все с нами незримо, но властно живет. Сплетается с нашими днями и ткани грядущего ткет”[377].
25 февраля
Алла рассказывает: “Москвин, вернувшись домой, после спектакля и за чаем и за обедом был похож на царя Федора. Совсем не его обычный, а как будто пронизанный Федором взгляд, и точно похудел, и все лицо другое”. Прибавила: “Вот как надо играть”. <…>
Вокруг говор по поводу 2-го МХАТа. Он раскассирован, разрушен до основания, сметен дотла, как древле Ерусалим Титом. Общественное мнение было терроризировано, говорили шепотком, не знали, что думать. Не верилось, что причиной тут Наталья Сац с ее детским театром, которому далось “просторное помещение”. Не верилось и тому, что в одно прекрасное утро хороший театр, 2-й МХАТ, оказался, как значилось в “Известиях”, и плохим театром, и совсем не МХАТом.
Мало-помалу выяснилось, что причина катастрофы кроется в ослушничестве, действительно необъяснимом, и в нетактичности некоторых из столпов театра, с какой они воспротивились предложению переехать (на 5 или даже на з года) в Киев по запросу Постышева 0 хорошем театре из Москвы. Им предлагалась и квартира, и двойные оклады, и даже автомобили. И при этом Киев, культурный центр, столица Украины, с его чудесным климатом, а не какая-нибудь Чухлома или Тмутаракань. А отнеслись они к предложению так, точно это действительно была ссылка, – негодовали, искали, где только могли, заступничества. Вот уже где поистине прав гоголевский городничий, что “если захочет Бог наказать кого, так прежде всего отнимет разум”.
Теперь, если бы они и захотели в Киев, пути им туда заказаны. Вместо этого Куйбышев (Самара), Саратов, кажется, еще Пенза.
8 марта. 10 часов вечера. Аллин будуар
Издохнуть. Окочуриться. Скапуститься. Умереть. Уснуть. Преставиться. 2 часа ночи. Столовый стол. Леонилла за штопкой. В окно удивленное лицо луны.
Пушкинский вечер в Сережиной семье. Дедушка[378], пушкинист, прочел вступительное слово, непонятное детям. Но все слушали, даже Ника (четырех лет).
Сережа с подвязанной белой бородой в монашеском наряде перед лампадой прочел: “Еще одно последнее сказанье”. Дима (8 лет) отлично, говорят, не только прочел, но сыграл Гришку: “Все тот же сон…”
Маша (11 лет) в украинском костюме прочла “Тиха украинская ночь”. Лиза в цыганском – “Цыгане шумною толпой”.
Сережа вышел в задумчивой позе, наряженным князем из “Русалки” с монологом “Невольно к этим грустным берегам…”. Мельником был его школьный товарищ Леня Смородина. Девочки стояли в ночных рубашках и в венках, изображая русалок. Ника (5-й год) тоже был русалочкой. Инсценировали “Бесов” под “Мчатся тучи, вьются тучи…”.
Все это, увы, с чужих слов пишу. Мирович отсутствовал на этом торжестве. Мирович отсутствует в их жизни. И не умеет, не умеет до конца с этим примириться.
Что тебе пушкинский вечер, Мирович? Ты слышал сегодня о событиях поважнее. Заняли немцы Рейнскую зону. Возможно, что это начало ужасов всемирной бойни.
И кто-то во мне, ветхий день ли, кто присутствовал при сотворении мира, говорит: – проходит образ мира сего. Придут и пройдут, как приходили и прошли тысячи войн от сотворения мира. И все дело здесь не в преходящих тенях, которые воюют, а в сущности их, которая непреходяща.
12 марта. 3-й час. Будуар Аллы
Миги прохождения по “зеленой звезде, называемой Землею"
Аллин миг: Ленинград, съемка в кино, парик и костюм Екатерины 1-й[379], огромная усталость. “Стисну зубы на 3 дня, каждый день по 3 съемки. Из-за 30 тысяч. Иной раз кажется, что не стоит”.
Миг Александра. Возвращение из Крыма на пепелище своего брака, которое (он не перестает надеяться) должно расцвести вновь и превратиться в Эдем (очень относительный, как был и до сожжения).
Миг бабушки Леониллы. Варит шоколад баловню-внуку, укрощаемому ею с баснословной энергией и всепрощением за его дерзости.
Миг Алексея. Зубрит химию, горя желанием помчаться в кино.
Миг Галочки. Вернисаж. Темно-зеленое крылатое платьице. Золотой обручик. Золотые локоны. Переполненность успехом вчерашнего доклада на студийном праздновании Женского дня.
Миг Дуси. Спешка покончить с жарким и броситься на трамвае в Измайлово, к сестре. Там выспаться, а вечером – кино.
Миг Мировича. Лень идти на почту для отправки нужного письма. Звонок Шуры Добровой об Ольге: безденежье, почти голод. У Ани свинка (величайшая незадачливость в этом году).
Отсутствие благостности, духа кротости, терпения, смирения, любви. Геенна не огненная, а пыльно-чадно-угарная…
13 марта. 12 часов ночи. У Аллы
Семнадцать лет тому назад, в страстную седмицу моей жизни, в Киеве, Людмила была моим Другом, в том высоком, редком на этом свете смысле, когда о друге можно сказать, что он “кров крепкий, вертоград огражденный”. Этот кров, эта ограда сестринской любви, бодрствующей днем и ночью над моей душой (в то время жестоко раненной) и над житейской жизнью моей.
В год разрухи, голода, гражданской войны она сумела создать мне не только надежный приют, но даже уют в крохотной своей комнатке. Всю ее занимала огромная, очень удобная пружинная кровать. Был еще маленький столик, больше ничего. На этой кровати Людмила баюкала меня своей неусыпной, заботливой, нежнейшей любовью, как мать тяжко больного ребенка. Сама она поместилась в проходном закоулке на узкой складнушке. И ничто и никто в мире не заставил бы ее хоть бы по временам меняться со мной ложами.
Два сына ее, беспрерывно мобилизуемые или бегущие от наступающих петлюр, гетманцев и т. д., отсутствовали. Им шли какие-то пайки, Людмила щедро раздавала их, не думая о запасах ни для них, ни для себя. О себе и вообще не думала. С распухшими ногами, без теплых одежд, в мучительной обуви отмеривала версты, чтобы принести кому– нибудь какой-то снеди, лекарств или нужную весть.
12 часов ночи
Диккенс. “Николас Никльби”. Читаю вслух Алеше и моей тезке и сопереживаю вместе с ними далекое школьное восприятие всего глубоко человечного и наивно-трогательного, чем полна каждая страница этого адвоката человечества. И бабушка Леонилла с пасьянсом или с штопкой присоединяется к нам и нередко смахивает слезинки в чувствительных местах. И сами мы тогда – наш кружок под высокой лампой, – две старухи и дети с рисованием или с чертежами, похожи на старую диккенсовскую Англию.
Низость актеров Тарханова (1-й МХАТ) и Захавы (Вахтанговский театр). Первый публично лягал товарищей из разгромленного 2-го МХАТа. Второй – покойного Вахтангова, своего учителя (за формализм).
18 марта. Ночь. Добровский дом
Ходит слух, будто бы Бирман (актриса 2-го Художественного театра) была на приеме у вождя, чтобы спросить его, “как, по его мнению, отнесутся за границей к раскассированию 2-го МХАТа”. И на вопрос ее вождь сказал: “Прием окончен”. Биша, выслушав этот инцидент (анекдот или быль, кто знает), от восхищения подпрыгнул с дивана, где лежал в весенней прострации, переутомленный деловой беготней. “Если это правда, – воскликнул он, – ответ гениален. Подумать только: мир на вулкане, с одной стороны – японцы, с другой – Гитлер, над всей планетой висит катастрофа, возможность неслыханных бедствий, у вождей голова идет кругом, как выйти из всей этой заварухи, и вдруг – перед Сталиным вырастает в виде Бирман муравей из своего разогнанного муравейника, да еще с каким вопросом: как отнесутся за границей к такому событию мировой важности. Не объявят ли из-за этого завтра же войны!”
Тема Достоевского (из “Подполья”): миру ли погибнуть, или мне чай пить – в разрезе богемной дерзости и куриности бабье-актерского кругозора[380].
Возила Дионисию на метро. На эскалаторе – вверх и вниз. Детски восхищалась и все твердила: премудрость, премудрость. Подземное царство. И лестница-самокатка, и двери сами открываются-закрываются. Публика в вагоне посмеивалась над ней, нескрываемо любовалась ее восприятием.
Надо приниматься за пробную главу биографии Щепкина. Если удастся, будет заказ от Госиздата. В удачу не верится, но – начну.
1 апреля. 5 часов дня. За письменным столом Аллы
Предвесенний, липкий, томительный, предзакатный час.
Сейчас Дуся, молодая домработница, говорит мне осудительно:
– Вы сейчас совсем-совсем на себя не похожи. Узнать никак-никак нельзя. Я вчера у Леониллы Николаевны Вашу карточку видала: ух! какие вы были красавицы! А сейчас совсем не похожи.
– А ты бы хотела, чтобы человек в 25 лет был такой же, как в 70?
– Я знаю, что нельзя. Только ой! Как страшно состариться! Ужасти, ужасти.
– Ничего нет ужасного. Это если бы ты проснулась завтра с седыми волосами, с морщинками, без зубов, – были бы ужасти. А когда теряешь молодость постепенно, привыкаешь к потере ее. Это – раз. Второе – у старости другое на уме, чем у молодости, и то, что для тебя, молодой, ужасти, для стариков – естественно.
Посмотрела непонимающими глазами.
2 апреля. 12 часов ночи. Кировская
Распутье: менять комнату или не менять? Ехать в Севастополь или на эту сумму прожить часть лета где-то под Москвой? Обыкновенно в таких случаях я прислушиваюсь к тому, что называла с детства “голосом”. На этот раз он безмолвствует. Море меня продолжает завлекать, но с ним связано пребывание в близости с людьми не моих интересов и утрата возможностей дальнейшего летнего общения.
Подумалось: кто-то прочтет эту страничку, когда след мой растает на этом свете, и невольно подумает: как она ни меняла места, куда бы ни ездила, все дороги привели ее в крематорий… Преходящая тень! Этой мыслью сжалось однажды мое сердце от одного взволнованного письма Натальи Герцен. Там были и чужие житейские мелочи. И я тогда подумала: преходящая тень!
10 апреля
Пасхальная ночь.
Куличи, пасха, крашеные яйца – детская символика несказанно великого Чуда Воскресения. Милые символы эти выключены – и их не жаль: в конечном счете это гортанобесие. Не жаль даже и этого чудесного звона сорока сороков московских церквей, и когда перекликался точно из глубины веков могучий древний голос Ивана Великого с женственно-серебряным и тоже могучим колоколом храма Христа. Все это унесло колесо истории, не только в ее внешнем, но и во внутреннем становлении. (И нужно другое – то, что “не на горе Горизим, а в духе и истине”.) Но жаль, пока не раскрылось это другое, жаль этой – по всей стране – волны ликования – “с радостью друг друга обымем”, этой огромной русской агапы[381], этого Элевзиса[382] нашего, когда все становились мистами[383] и в праздник воскресения Бога-человека ощущали и свое бессмертие, и любовь Божью к себе, и любовь друг к другу и к страдавшему погребенному и воскресшему Богу.
20 апреля. 12-й час ночи. У Тарасовых
– Накануне каких событий мы? – спросила я за чаем внезапно и даже не вполне осознавая, что это сказала вслух.
Целый день подкрадывалось такое чувство, что должно, и очень скоро, произойти нечто значительное не то в своей жизни, не то в жизни близких, не то в историческом масштабе.
– Представь себе, и у меня такое же предчувствие, – отозвалась Леонилла.
– Вот вы сказали – и у меня даже какая-то дрожь, я понял, что и я это ощущаю. Может быть, это будет война или с нами с кем-нибудь что-то случится, – побледнев, сказал Алеша.
Однажды, в сергиевские годы, когда и я, и мать были на одре болезни, причем моя болезнь считалась неизлечимой, а жизнь матери чуть-чуть тлеющим огоньком мигала, Анна сказала с просветленно-задумчивым лицом: “Как чувствуется, что здесь между нами все время ходит смерть”. И я подумала тогда: “Моя. За мной”. Но она приходила не за мной, а за матерью. Так и теперь я думаю о шагах ее, слышимых для слуха души: не за мной? И хочу, чтобы это было за мной.
22–23 апреля
Комната Леониллы. В окне сверху крохотный кусочек синего солнечного неба с дымно-белыми облаками среди многоглазых неуклюжих домов на грязном дворе “Сверчка” (дом театральных работников).
Что волнует и пленяет меня в Юдиной? Есть какая-то загадочность и многосложная цельность в ее существе. Что-то трагическое. Принадлежность к тем, кто совершает свой путь по касательной к земному шару и над его историей. И с трудом, с титаническими усилиями укрощенная буря и неукротимая тоска “земного жития”. Я обрадовалась ее звонку как событию (полтора-два года не видались). На хромой ноге, безотложно, пошла по всем лестницам, чтобы ее увидеть и уладить нужные для ее сестры переводческие дела. Но, когда она у сестры не появилась (сегодня звонила, почему не может), я нисколько об этом не пожалела. Видеть ее оказалось не нужно. Надо было только возобновить в душе ее музыку, ее образ, ее значение в сокровищах души. С сестрой ее также нужная встреча (для нее, отраженно и для меня). Она на трудном распутье – упадок сил, упадок воли к жизни. Милая, ультраженственная внешность. Темные глаза с разным выражением, покатые плечи, нежные руки.
Еще раз позвала меня жизнь для сдвига человеческой души с мертвой точки. Это то немногое, что мне удавалось во многих случаях. И никогда не удавалось по отношению к себе без вмешательства людей или чуда. (И… не мертвая ли точка у тебя сейчас, Мирович?)
30 апреля. Кировская
7 часов вечера, тихого и ясного на небе, невыразимо шумного – на земле: ревет громкоговоритель какой-то романс над самым окном. Начинается майское торжество.
Конечно, 1 мая большой праздник, особенно в социалистической республике. Конечно, нужны (вижу, что нужны) народу народные торжества – на улице, на площадях. Но если бы без шума, без сутолоки! Или с музыкальным, гармоническим стройным оформлением. Тут же смеюсь над этим комнатным романтическим вздохом. “Все существующее разумно” – прав Гегель[384]. Если даже оно кажется кому-нибудь неразумным, нелепым – оно все-таки разумно, т. е. для данного момента неизбежно. Конечно, не возбраняется желать для будущего иных форм празднеств, как и всего быта, и мечтать, и писать утопии не возбраняется.
Горе человеку, если он не тренирован к работе, как не тренирован смолоду и с детства Мирович.
Теперь, когда так заметно падают силы, я осознаю этот недостаток тренировки как уродство, как дополнительную ко всем недугам болезнь. И – уже поздно. Не только мускулы, нервы непослушны и неприлично скоро утомляемы, – выяснилось над биографией Щепкина, что таков же и мозг. То немногое, что я писала в годы молодости и зрелости, давалось мне легко, потому что никогда не было работой в строгом смысле – кроме длительного перевода Джемса. Какие-то фельетоны и статейки я писала в один присест, и мне это было легко, но ответственной каждодневной работы я бежала (уроки с милыми мне детьми не в счет) и теперь не могу сдвинуть с места заржавленную машину.
23 тетрадь 27.5-19.7.1936
27 мая
Был однажды спор между Зинаидой Гиппиус и Пришвиным. Гиппиус доказывала, что “довольно одного деревца, чахлой травки, захудалого цветка, чтобы почувствовать природу и соединиться с ней”. Пришвин сердился и утверждал, что нужны дебри, неисследованные болота, степи, пустыни, горы и долины и неустанное передвижение по лицу земли, чтобы войти в жизнь природы.
Мировичу хотелось бы пожить хоть какой-нибудь годик как Пришвин (он и женьшень выкапывал, и у поморов, и на озере Китеже, и в Калмыцких степях побывал). Впрочем, это желание больше относится к вкусам прошлого, чем настоящего. Мирович недавно, как Гиппиус, испытал полноту общения с природой, глядя из окна, как ветер ласкает на Пречистенке листву серебристого тополя и как она то темнеет, то отливает серебром.
– Выйди в переднюю, – там Дионисия стоит как куколка, тебя спрашивает, – говорит Леонилла, улыбаясь так, как улыбаются, когда видят пушистых миловидных зверьков. Выхожу: в пушистой серой кофте, несмотря на жару, в белом платочке и ярко-синей юбке – Дионисия и правда стоит как куколка, маленькая, румяно-загорелая, в белом платочке, с лилово-голубыми детскими своими глазами, сияющими навстречу мне радостной любовью. И в руках пучок ландышей – “Сама поутру нарвала. Пораньше встала. А в лесу-то что делается! Птитвы, птитвы – не учесть. И щебечут, и чирикают, и присвистывают. Намедни соловьев слушать ходила, – так и заливаются. А как на сеновале спала (в Малоярославце), кукушка меня будила…”
На другой день повела ее в зоопарк. Давно ей хотелось повидать, с какими зверями Адам в раю жил.
Благостно радовалась и дивилась фазанам, павлинам, золотым рыбкам. К медведям отнеслась запросто – свои, северяне, – к их домику близко один такой подходил. Но омрачен был для нас рай невыносимой тоской в звериных глазах (как и мне всегда в зоопарке).
30 мая
Зеленый-зеленый, совсем изумрудный Тверской бульвар. Посредине – продолговатое здание. В нем ореховое мороженое. Косые вечерние лучи по боковой аллее. Власть воспоминаний: примкнул прибой прошлого к точкам изумрудной листвы, бульвара, мороженого. Такая была листва, когда в мае, 35 лет тому назад я впервые поехала с “марсианином” за город, в Петровский парк. Мы говорили только для того, чтобы словами прикрыть рвавшуюся наружу силу устремления друг к другу. Остановились в тени высокого дерева. На него и на нас издали падал белый свет фонаря. Я обняла молодой ствол душистого тополя и пригнула к лицу свежую ароматную ветку. Сквозь ее листву я видела в рыжих кудрях пристально, с каким-то священным испугом глядящее на меня лицо человека, во власть которого душа неудержимо хотела и безумно боялась отдаться. И раздались (не тогда, а сейчас) строки, посвященные мне сестрой:
Я хочу непременно узнать, Как ты его полюбила, И как научилась страдать, И зачем это было…И сквозь эти прозрачные в белом фонарном свете листья со скамьи Страстного бульвара я смотрела через три года на освещенные окна квартиры этого человека, такого далекого, как если бы он жил на Марсе, и только раскаленной проволокой соединенного с сердцем, с самым живым местом его, где билась жажда родить его ребенка.
И было ореховое мороженое – еще раньше. Одиночество сердца, занятого мороженым. Окруженность мужчинами, которые не будили в нем ответ. Один из них – в Киеве – упросил зайти с ним к Жоржу (кондитерская). Маленький, коренастый, с умными глазами. Смуглый лоб в четырехугольной рамке очень черных волос. А имя и фамилию забыла (редко виделись). Все сорта мороженого заказал он для меня, и ни один сорт мне не понравился (ничто не нравилось в тот день: сильна была тоска о д-ре Петровском).
– Ну, вот остались еще frutti-frutti, – сказал он огорченно. И это я не стала есть.
– Какого же вы хотите?
– Орехового, – сказала я, думая, что такого не бывает. Но его принесли. Я съела две-три ложечки и отодвинула блюдечко, а этот, чье имя я забыла, придвинул к себе блюдечко, взял мою ложку и ел, глядя на меня умным, собачьим взглядом с укором, с мольбой “все о том же”, что в годы девичества внушало мне только ужас и отвращение.
2–3 июня
На стене у Анны висит в золоченой овальной раме портрет покойной невестки ее Веры Айдаровой. Досекин писал его, когда Вере было 20 лет. Прелестное девичье лицо на стройной длинной шее, как лица портретов Рейнолдса, алый, цветущий рот, изящно очерченные темные брови. И несмотря на то, что в жизни лицо это всегда было горделиво-беспечно или полно вакхической веселости (я знала его в те далекие годы), художник вложил в гордые прозрачные глаза взгляд затаенной скорби, тайного сознания обреченности на мученический конец, какой и настиг ее четыре года тому назад в 50-летнем возрасте. И кажется, что этот девичий взор смотрит пророчески на больничную койку, где будет покоиться это юное, цветочное тело, постаревшее, съеденное канцером в часы предсмертного томления.
Заместила Веру Айдарову, когда она ушла от мужа, длинная, говорливая, элегантная женщина, наполовину полька, Анастасия[385]. Муж был уже почти старик, она – молода. К замужеству влекло честолюбие (быть женой режиссера), расчет – иметь мужчину, который будет оплачивать тряпки. Славилась пустотой интересов, легкомыслием, флиртами. Но когда умерла Вера – зимней ночью до рассвета, в 6 часов, – поехала в морг при больнице. Дорогой твердила: “Скорее, скорее надо взять ее оттуда. Как она там одна в морге!” Долго искала ее (с Анной) между обнаженными трупами. Одевала, плакала, горячо молилась на панихиде.
14 июня. Ночь
В поисках контакта, без которого бессмысленно было бы мое здесь пребывание для меня и оскорбительно для А. Р., мы бессознательно поднимаем то и дело слой за слоем далекие общие воспоминания.
Сейчас перетряхнули гимназические годы. Мы были в разных классах. А. Р. – классом ниже, хотя на два года старше меня.
Прошла галерея красавиц из Анютиного и моего класса. Марр[386] (пивной завод) белокурая с личиком точно из слоновой кости, с зелеными глазами под арками черных великолепных бровей – надменная, неподвижная, а внутренне горячая, “романистка”. Она полюбила степную хуторянку, полудикарку – Анюту и приблизила ее к себе. Хорошенькая воздушная Верле (магазин часов)[387]. Сестры Гинтер – Ванда и Матильда (или Мальвина?) с алыми, точно накрашенными губами, горделивые, изящные, темноглазые, светловолосые польки. В нашем классе Надеждина, пышная, с русой пушистой косой, с лилейно-розовым лицом голубоглазая красавица. Струнина Леонилла[388] – облако легких золотых кудрей, вдохновенные светло-голубые глаза. Золотая медаль и прекрасный декламатор. Наша пылкая, сентиментальная дружба в старших классах.
Все – беззубые, дряхлые старухи. Или исчезнувшие, как пролетевший звук, как сон, за гранью могилы.
Я вышла сейчас на крыльцо освежиться от нашей вечерней духоты (ставни закрыты, как только стемнеет). Все 14 тополей, как в генуэзском Campo Santo кипарисы, застыли в мрачном и величавом сознании сторожевой миссии – хранить усыпальницу наших теней прошлого. На небе неслись разорванные тучи. Из какой-то части города ложился на облака и на край нашей усадьбы слабый розоватый отблеск. Цветы жасмина белели в темноте, как в саду Гретхен, в опере, когда Мефистофель заклинает их. Молодость. Ее аромат, ее розоватый отблеск, отрава ее страстей, истомная жажда счастья, ее иллюзии, ее великодушные мечты, ее преходящая, навек улетевшая красота. Куда? Зачем? Что и для чего это было – красота, жажда, иллюзии…
16 июня. Раннее утро
Освобождаю вас, тополя, от Золотоноши[389], от сторожевого поста над моими воспоминаниями.
Вы – готика Вселенной. А ваша листва с ее плещущим речным шумом, с серебряным отражением солнца на струях листьев – напоминание о великих водах планеты, о “зеленой звезде, называемой Землею”.
Освобождаю вас, росы, от гусиной травы, на которой вы блещете, которую топчет боров в канатной упряжи и разгребает “квочка”. Освобождаю вас от Золотоноши.
Вы – летучие алмазы утра, вы – радужная улыбка Дождь Бога. Освобождаю тебя, ель, от места под этим окном, где я в томлении духа три раза в день поедаю Анютин хлеб.
Ты – угрюмая, царственная, многодумная красота сумрачных скал Финляндии и волшебных берегов норвежского фиорда. Освобождаю тебя от Золотоноши.
Освобождаю тебя, белая коза с дурацким именем Марты и с цепью на шее, освобождаю тебя от Золотоноши. Отныне пасись на горном плато Швейцарии и снежной белизной своей говори о Монблане, о Юнгфрау, о Финстерархорне[390].
Освобождаю вас, иволга и кукушка, чьи голоса братски приветствуют меня в открытое окно, освобождаю вас от приземистых садков, куда вы залетели. Вы – дети воздуха и лесов нашей планеты, вы – певцы и напоминание человеку о крыльях. Освобождаю вас от Золотоноши.
21 июня
Два крупных события в общественной жизни за последние месяцы: Конституция и смерть Горького (18 июня).
Конституция – насколько Мирович мог это осмыслить, составлена умно, широко, многообещающе. Но в газетных лепетах вокруг нее – незрелость, несамостоятельность, рабий тон. Привыкли к диктатуре, и в крови еще продолжает гудеть “благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего” земной поклон и колокольные трезвоны в сторону власти, кем бы она ни олицетворялась. Таковы интонации большинства попавших в “Правду” обсуждающих конституцию голосов.
Траурный номер ее от 18-го принес весть, что легкие и сердце Алексея Пешкова в этот день отказались служить ему и он ушел в неведомое. То, что он написал о босяках, о мещанах, о рабочих, было ко времени и могло быть написано только им, человеком с его физиономией и с его биографией. За это страна (в газетах) возносит его превыше пирамид и прощает ему, что он во вторую половину жизни – социалист так сильно увлекся “зажиточностью”, так ультрабуржуазно раскомфортил и расцветил свой быт. Я бы хотела в день вести о его кончине не помнить о том, как в жестоко трудное для государства время ему высылали золотом по 1000 рублей в день из ГИЗа (в общем, что-то около миллиона) за полное собрание сочинений. Велик соблазн славы и денег. И за этот соблазн жаль его. И жаль, что это сейчас помнится. “Мир ему во тьме Эреба” (и может быть, и в свете, не нам судить). Был в нем и другой. Тот, который написал “Челкаша”, “На дне”, “Детство”, у кого были силы столько вынести в молодости, не загубив своего дара; у кого была искренняя преданность делу рабочего класса…
22 июня. Ночь
Трогает за сердце, ходит вокруг, стучится в сознание Безымянное, Неизглаголанное.
23 июня. Утро
Сон. Лежу на снегу посреди двора, полуодетая, уткнувшись лицом в землю. В душе отчаяние от безвыходного, духовно-безысходного тупика. М.[391] – близкий друг прошлого – подымает меня, легко, как ребенка, вносит в какую-то полуосвещенную кухню и сажает на скамью.
– Почему бы тебе не идти путем Франциска Ассизского? – говорит он. Я ничего ему не отвечаю, но бьюсь головой об стол и рыдаю от сознания скудости моей любви к людям, моей моральной несостоятельности и физической невыносливости. Но это не только сон. Это – явь, о которой напомнила душа во сне. С таким багажом Мирович застрянет в тупике, не найдет сил из него выбраться.
…Дух смиренномудрия, терпения, любви даруй мне, Господи, рабу твоему…
24 тетрадь 23.7-16.10.1936
23 июля
День. Зной. Но после 50-ти Золотоноши здешние 33 кажутся просто летним теплом.
Чтобы жить на подмосковных дачах без тоски и порывов вдаль, нужно две вещи помнить и две вещи забыть.
Нужно помнить летнюю Москву и концентрационные лагеря. И нужно забыть, что есть леса, моря, горы и что есть культурного типа санатории, где для каждого есть отдельная комната без перегородок, а с глухими стенами, и для всех – тенистый парк, где нет на дорожках битых стекол, бумаг, окурков и дурно пахнущих отбросов. Где нет мусорной свалки близ так называемого пляжа. Где пыль от автомобилей пышным облаком не влетает в чахлые садишки, в тарелки и чашки дачника и в его открытый сонный рот, когда он спит в утренний час на складнушке под пропыленным деревом у самой дороги. И вокруг него на гамаках, на тюфяках и кошмах в разнообразных позах не храпят его соседи по даче разных полов и возрастов.
И еще нужно уметь расколдовывать каждый замусоленный, на дачный манер заштампованный кусочек природы, чтобы вернуть дереву и цветку, траве их космическое и символическое значение.
И еще нужно как можно чаще уходить от всего этого в свой внутренний мир, в труд или в заботу о тех, кого любишь.
24 июля
Внезапная, после долгой засухи гроза, щедрый ливень с градом. По дорожкам поплыли и пытались нырять хозяйские утята.
Была и уехала Анна. Опять заблестело для меня, как в далекие дни, золото ее души, которое так любила покойная сестра моя Настя (“Сердцевина души у Анны круглая, золотая, 96-й пробы”). Ум, простота, жажда совершенства, неусыпная над собой работа, и все золотое, настоящее, 96-й пробы.
Как аромат цветов вливается в открытые окна, так флюиды окружающих жизней, как бы мы от нее ни отмежевывались, если душа наша открыта жизни, вливаются в нее, становятся частью ее атмосферы.
И бедная Марья Моревна уже стала задыхаться от сытого, торжествующего, лоснящегося мещанства обитателей дачи, с которыми надо проводить большую часть дня на общей террасе.
У Марьи Моревны чудесный сын. Отрок Самуил с картины Рейнолдса, три года. Задумчиво-восторженное отношение к жизни. Иногда смеется без видимой причины, захлебываясь от какой-то бьющей через край внутренней радости. Иногда притихает надолго, не спуская глаз с одной точки, с выражением глубокой сосредоточенности. Нередко разглядывает какой-нибудь упавший лист, или больного утенка, или просто муху, с пытливым изумлением в течение нескольких минут. Такие выражения лица были у Юлиана Скрябина (сына композитора) в десятилетнем возрасте. И внешне, цветом и формой глаз, общим освещением лица и цветочной нежностью кожи Лёка[392] похож на этого, рано погибшего гениального ребенка[393].
3 августа
Остоженка. По-южному теплая, почти жаркая ночь.
Судьба загнала Мировича, погнавшегося за полтинником, в “Пионерскую правду” – на метро, трамвае, автобусе, на поезде через Клязьму, под ливнем и ураганом. (На Клязьму ездила инструктироваться у товарища по работе, как за нее взяться.) Вдохновлял на эти напряжения не один полтинник, обеспечивающий независимость хотя бы убогого существования с осени. Показалось предстоящее дело живым и не лишенным интереса. Переписка с авторами относительно их рукописей. Но каково же было мое удивление, когда я узнала, что переписываться надо с детьми (!).
Еврейский юноша, чем-то похожий на Блока, пространно, высокомерно и в высшей степени туманно выяснял, что это и для чего. Читая принесенные мной письма, подымал дуги великолепных бровей до середины лба с таким выражением, как будто большей чепухи он даже в данном случае не ожидал. Я хотела уйти, не взяв работы, сказала, что предвижу: ему при его предвзятости к “представителям отжившей интеллигенции” все выходящее из-под моего пера будет казаться не таким, как нужно. Он несколько смутился. Под конец аудиенции договорились до возможности сызнова попробовать “войти в русло письмописания двенадцатилетним поэтам” с целью “не дать заглохнуть возможному Пушкину (!)”. Остался отвратительный осадок от этих трех путешествий в “Правду”.
14–15 августа. Москва. Тарасовская квартира. И Остоженка
Много дружеских писем на тарасовском пианино. Как всегда, они вполне заменяют реальное общение на какие-то сроки, иногда на очень продолжительные.
Халтурин (в Детгизе[394]) отклоняет моего “Щепкина”. Отклоняет без мотивировки – у тех, кто с ним вместо меня разговаривал, такое впечатление, что он, может быть, и не читал рукописи. У меня достаточно объективности в сторону Мировича, и я знаю, что одна из пробных глав ничуть не ниже и даже несколько ярче и живее того, что у них печатается. Другую можно было бы почистить, переделать, даже вместо нее предпослать другое предисловие. Вести об этом просительного тона переговоры не хочется. Да и бесполезно. До некоторой степени так было и раньше почти во всех издательствах и редакциях (Мирович на посту приемщика рукописей этим не грешил).
Работу дают или крупным, т. е. более или менее ходовым именам, или “своим”, сумевшим теми или другими способами пробиться поближе к раздавателям работы. Тут помогает и просто неутомимый напор просительной (или требовательной) энергии, как в притче о бедной вдове и неправедном судье. И связи. По одной записке Луначарского у меня в ГИЗе в 1920-м году взяли, не читая, рукопись детской пьесы и выдали аванс. Помогает “добрая минута” – хорошее настроение редактора (и Боже сохрани, если у него болят зубы!). Наконец, личное обаяние автора, молодость, красота; в современной редакции – партийный стаж, комсомольство. О, конечно, исключения бывают. Но как долго, например, не давали ходу Ирису в переводческой области – именно за талантливость. Нужна была вся его неусыпная, непреклонная энергия, чтобы стать “квалифицированным” переводчиком.
25 августа. 3 часа дня. Остоженка
Москва в кровавом тумане. Зиновьевско-каменевский процесс[395]. С одной стороны замыслы целого ряда убийств из-за угла. С другой – 16 казней. Газетчики, кто искренно, кто за построчную плату и для выслуги перед начальством, вопят: крови, крови! Истощили лексикон допустимых цензурой ругательств.
К нам, под никольские дубы, эта красная волна не доплывала, т. к. Ирису не удалось выписать газету. Вот преимущество безгазетного захолустья – можно не дышать зловонием убийств, проклятий, ненависти и попутно – лжи и тысячи низостей, какие вскрылись в этом процессе.
“Заутри покидая свет”[396], старику хочется чистого воздуха, того, каким дышат деревья, птицы, собаки. И тишины. Молчания как “таинства будущего века”.
2 сентября
Почему-то завелся в газете – в официозе (“Известия”) – инфантильный угол, где какой-нибудь Сергей Михалков занимает земной шар по утрам такими стихотворными сообщениями:
Мы с приятелем вдвоем[397] Очень весело живем. Мы имеем (!) по карманам: Две резинки; два крючка, Две больших стеклянных пробки, Двух жуков в одной коробке…Да и более серьезные сообщения делаются – уже в прозе – с оттенком мальчишеского хвастовства.
9 сентября. 1-й час ночи. Кировская
День возвращения Аллы и Москвина из заграницы. У Аллы посвежевший, помолодевший, оживленный вид. Прежнее лицо – “первоначальных чистых дней” вместо загрубевшего и опустошенного, которым так огорчились мы (я и Леонилла).
Ярко рассказывала о тысяче удобств и внешней красивости и о жестоких социальных контрастах. Привезла на свои 800 рублей и теплые одежды, и платья. Помнила, как мало меня тряпки интересуют, и мне их не показывала. Платье, надетое на молодую красивую мещанку, идущее к ней, меня еще может занять на минуту. Но я никогда не понимала женских восхищенных восклицаний по поводу какого бы то ни было наряда, когда он отдельно от человека. Может понравиться оттенок материи, какая-нибудь вышивка, но: “Чудное, чудное платье” – с умиленным и иногда и завистливым лицом. Это то, чего я лишена.
11 сентября. Кировская. 1-й час ночи
По дороге от Тарасовых к себе три часа тому назад мысли:
…И вот опять осень. Опять Кировская, вечерние огни, “Гастроном”, сумма знакомых болевых ощущений. И будет лестница на 3-й этаж, повернется под неловкими пальцами ключ, и пахнет застоявшимся пыльным воздухом никогда не проветриваемого коридора. Повернется другой ключ, и я увижу себя все в тех же четырех стенах. (“В стенах, в стенах, а за стенами – крылатых духов голоса, и то, что здесь зовется снами, и чудеса…” – это из Мировича киевского периода.) “Так в высшем суждено совете”. Покорствую, но как верилось весной, что осени уже для Мировича не будет.
Как у покойной матери, так и у меня после 60-ти лет перед сменой сезонов появлялась мысль и даже почти уверенность, что следующего времени года не будет. Поэтому даже в сравнительно молодые годы казалось диким заранее покупать что-нибудь из сезонных одеяний. И всегда тупо и печально удивлялась наступающему годовому кругу. И не была я никогда готова к нему материально.
14–15 <сентября>. Ночь. Икша. Канал Москва – Волга[398]
Чрево земли взрытое, вздыбленное, растерзанное, и на фоне его, там, где понадобилось это человеческой воле и в лице ее очередному этапу в истории страны – геометрия – прямые линии, тупые и острые углы. И там, где была узкая реченька, – обширное синее озеро. И там, где был лес, – пашни, по которым ползает трактор. И бараки, бараки, бараки с десятками тысяч жизней, загнанных сюда проступками и преступлениями, ошибками и не соответствующей историческому моменту идеологией. Больше же всего – жаждой легкой и привольной жизни, без труда, без узды. Такие, говорят, в трудовом ритме, в рамке дисциплины перевоспитываются.
…Бараки, бараки, бараки. Час тому назад я вырвалась из совхозного клуба, с горы среди роскошных огромных цветников совхоза. С горы разбросанные за озером бараки и все вокруг их нагромождения казались небывало ярко освещенным городом, празднующим какое-то необычайное торжество. В клубе же была поставлена нищенски убогая пьеска, все “идеи” которой сводились к тому, что нельзя выбрасывать мусор в уборную, нельзя спать не раздеваясь, комнату надо проветривать и т. д. Как мало в этой педагогии веры в то, что человеку нужно проветривать не только жилье, но и душу его ветром с горных вершин человеческого творчества.
Лица публики, наполнявшие зал клуба, хочется разделить на четыре категории: шпана, о которой читали мы и у Достоевского, и у Мельшина, “чернь непросвещенна” – Пушкина, живущая одними инстинктами, где еще “дух божий не летал над бездной”.
Потом (среди них вырожденцы) неустойчивые, неработоспособные особи, соблазненные легкой наживой. Вольница, ушкуйники, интеллектуально неплохо одаренные, не укладывающиеся в рамки, намеченные общим укладом жизни.
Наконец, случайно сюда попавшие благодаря сцеплению роковых обстоятельств или благодаря своим каким-то ошибкам[399]. Эта категория численно невелика, но принадлежащие к ней лица выделяются на общем фоне выражением мысли, печали и одиночества.
Говорят (в семье, куда мы с Леониллой приехали), что в совхозе настолько хорошо “заключенным” (они, между прочим, пользуются большой свободой), что они горюют, когда их куда-нибудь переводят в другие отрасли хозяйства. Есть случаи, когда отбывавшие наказание остаются здесь же вольнонаемными.
И я верю, что – “хорошо”. Я сама раньше думала, что в таких учреждениях все гораздо мрачнее, скареднее, жестче. И кино, духовая музыка. Арбузов сегодня привезли. Новорожденные получают полный детский паек, родильница избавлена два месяца от работы и т. д. Но что же меня так ранит в сегодняшнем дне, в таком золотом, чудесном дне, куда вошел и лес, и дальние горизонты, и озеро, и милые, на редкость хорошие люди. (В. Н. Степанов, агроном, и его жена.) Поняла сейчас. Всего этого, как и самого канала, не может во мне принять душа безоблачным обычным для меня “да”. Причина – несколько пар человеческих глаз, несколько взглядов и общая сумма человеческого несчастия в бараках.
20 сентября. 3-й час дня. Кировская
Чарли Чаплин – комический актер! Давно я не видела актера более трагического. В каком-то фельетоне писали о нем, что публика хохочет до слез при каждом повороте его головы, при каждом движении. Публика правда хохочет. Над цирковыми трюками (нарочито неудачными), над смешным гримом. Я, между прочим, никогда не понимала, как можно смеяться над неудачными прыжками, над комическими позами, в каких человек оказывается в драке или при падении оземь. И клоунада, всякая, с детских лет была для меня чем-то тягостным и жалким.
Когда (в “Огнях большого города”) Чарли тонет два раза подряд с камнем на шее, какое б у него ни было выражение лица, я прежде всего вижу, что он и тот, кого он спасает, тонут.
Так же и в первой сцене, когда он, сжавшись в крохотный комочек, спит на коленях огромной фигуры монумента, не только это не смешно, это – страшно, потому что сразу, потрясающим контрастом вводит вас в судьбу героя пьесы. День открытия памятника – леди и джентльмены изысканно-нарядные, фасады роскошных зданий, и эта маленькая фигурка бездомного, обтрепанного человека с кротким детским лицом, не понимающего, за что его травят, и только снимающего шляпу в ответ на грубые окрики. Чаплин взял для пьесы оболочку любезной американцами клоунады для образа в высшей степени трагического. Это горьковский босяк, выросший на нью-йоркской почве, при этом с душой юродивого, с душой князя Мышкина (“Идиот” Достоевского). Он незлобив, доверчив как дитя, не верит, что в мире существует зло, хоть на каждом шагу на него натыкается, не помнит обид, не думает о завтрашнем дне (о своем, о любимой слепой девушке, о ее глазах заботится, рискуя жизнью). Его не назовешь ни жалким, ни даже несчастным. Он так младенчески жизнерадостен, что все оплеухи, какими встречают и провожают его и люди, и судьба, его не могут омрачить. Они только пугают его на какую-нибудь минуту. И снова он счастлив тем, что живет на свете, тем, что сердце его полно любовью к людям вообще и романтической любовью к прекрасной слепой девушке. Во всей пьесе он несчастен только один раз – в конце, когда слепая прозрела (слепота оказалась излечимой, и Чарли достал денег для лечения). Она узнает в голодном оборванце, только что из тюрьмы выпущенном, того, кого во все время слепоты успела полюбить за его романтичное, рыцарское к ней отношение. На лице ее боль разочарования, когда она говорит: “Так это вы?” И Чарли отвечает ей долгим безмолвным взглядом, где обожание и острая печаль безнадежности и насмешки над собой, над своим нищенским видом, и глубокая возвышенная грусть, какую знают души, живущие вдали от мира, каким он создан, каков он есть.
29 сентября. 11 часов вечера. Кировская
Гриппозная сырь на улице. Гриппозная ломь в костях.
“…Сопрягать надо” – слова во сне Пьера Безухова.
Томительное чувство безотложной необходимости разобраться в своих хранилищах и попутно отсутствие сил для этого.
Когда мне исполнилось десять лет, мать уделила мне один из ящиков старинного пузатого комода. Не для белья, а для интимного моего имущества. Тут лежали “косоплетки” – ленты для моей тугой, только что начинавшей отрастать косы. Письма отца (он не жил с нами), тоже перевязанные лентой. Лошадиная голова – картинка, подарок моего рыцаря Вани Аверина. Сухие пахучие листья моего грецкого ореха (у каждого из детей был свой орех). Когда он терял осенью листья, я воспринимала это событие в те годы как трагедию увядания вообще (“как смеет это быть!”). Какие-то коробочки. Карандаш в бисерном чехле. Позже в этом комоде хранились духи (за 50 копеек, пахнущая свиным салом фиалка). Тетрадь со стихами (своего сочинения), библиотечная книжка. Темно-красные граненые кораллы (подарок матери). Брошка золотая с розовым эмалевым яблоком посредине. Веер резной, слоновой кости и такой же браслет, монета польская с надписью. В этом комоде был идеальный порядок. Я и сейчас помню, в каком месте в нем все эти вещи лежали. Потому был порядок, что каждая вещь казалась значительной, была дорога и нужна не как просто собственность и не просто предмет для пользования, а и сама по себе – как сувенир или символ.
Позже, в юности, и потом на всю жизнь явилось презрение к вещам. Ощущение их со стороны их преходящести и досада на их материальность. Отсюда беспорядок на моих столах, в чемоданах, в комнате вообще. Я пыталась нередко сделать какой-то уют, нечто хоть сколько– нибудь отвечающее моему чувству красоты. Но очень быстро оно приобретало вид бивуака.
Несомненно, в этом отражается бивуачность внутренней жизни. Скитания. Бездомность. Отсутствие завтрашнего дня.
Вот и 3-й час. И нет сна. Не знаю, почему вспомнилось вдруг:
…Она стояла, упруго выпрямившись перед раскрытой постелью с целой пачкой шпилек в сверкающих белых зубах: и продолжала вкалывать новые и новые шпильки в туго закрученные в сложный шиньон толстые каштановые косы с бронзовым отливом. У нее было ярко-розовое лицо и ярко-синие глаза с выражением беспокойной мысли и экстатической силы жизни. У нее было стройное, крепкое тело с юношески развитой мускулатурой. Ей было 23 года. Ее звали Елена.
На другой кровати сидела в ночной рубашке маленькая, гладко причесанная темноволосая девушка, с кротким и строгим материнским лицом дюреровских мадонн. Ее имя было – Юлия. Ей было 24 года. И среди них была я. И мне был 21 год.
Говорили о возрастах. Елена воскликнула с патетическим выражением брезгливого ужаса (шпильки посыпались у нее изо рта, и она, гибко согнувшись, подбирала их): “Законы природы. Хороши эти законы природы! Что может быть страшнее старости. Вы, конечно, видали в бане старух, – ведь это же сплошной ужас!”
Юлия застенчиво сказала:
– Зачем же на них смотреть? – И прибавила задумчиво: – А ведь правда – они точно какая-то другая порода, чем мы.
Для меня же и тогда не существовало возрастов. И точно старость и моя в то время цветущая плоть были одно, я так сказала:
– А, по-моему, это одно целое – юность, зрелость, старость.
Юлия недоверчиво улыбнулась:
– Это философия, – сказала она. – А если бы в жизни нужно было завтра проснуться старой, как бы вы ужаснулись!
“Завтра” это пришло. И никто из нас троих не ужаснулся.
25 тетрадь 18.10.1936 – 17.2.1937
17–18 октября. Новогиреево
Под вешними лучами Ольгиной любви – вместо санатория. Усталость от хаоса предремонтной возни с вещами и сборов в дорогу. Усталость – хотя я только смотрела, лежа на кровати, как с наполеоновской энергией, с видом испытанного боями полководца боролась с хаосом Леонилла и под ее началом Ольга и “Денисьевна”. Взрыв нежности у суровой, ничуть не сентиментальной Леониллы. Обнимались у подъезда, как Давид с Иоанафаном[400] (тут же вспомнилась любимая в детстве картинка из “Священной истории” – горячо обнимаются два воина и подпись: “…и крепко обнялись враги, и плача говорил Давид: «Иоанафан, брат мой, брат мой Иоанафан»”).
19 октября
День рождения Олиной Ани. 6 лет, как она в чине Ольгиной дочери. Знакомимся же с ней по-настоящему только со вчерашнего дня (“всему указан путь, всему предел и время”). В ее натуре есть чуждые мне веселовские углы и пружины. Но улавливаю – в чем-то она все же Ольгина дочь. А главное – долой евгенику! Это просто человечек, шагнувший в мою орбиту. С детскими (лазурными) глазами, с протянутой слабенькой и цепкой ручкой, с правами самого дорогого Ольге существа.
Была Елизавета Михайловна (Доброва). Перечитывали втроем – я, она и Лис – письма покойной Н. С. Бутовой. В одном из них загробное мне строжение за некоторые стороны моего существа – гордыню, эгоцентризм, леность. Приняла к сведению и поклонилась в даль времен, по направлению к той комнате, где милая рука писала обо мне эти неумытно-суровые строки.
Может быть, благодаря им сегодня проснулась с решимостью, одолев слабость и лень, приступить к бодрствованию и к работе. Может быть, благодаря им, приняла еще одно решение, где понадобилось немалое “смиренномудрие”. И благодаря им передвинула центр внимания с Мировича на Ольгу и ее дочь. Стало заметно неинтересно все, что касается меня. И повышенно интересно все, что касается этих двух жизней. И непонятно до жути, как я могла прожить ряд лет, не вникая, как сейчас, в распорядки и непорядки Ольгиного домостроительства, во все пути и перепутья ее жизни в прошедшем, настоящем и возможном будущем. Правда, между нами и тогда, когда стали рассеиваться мороки, разделившие нас в первые годы ее замужества, вставали преграды обстоятельств и пространство, и время. Но смеют ли эти преграды разделять людей…
31 октября
Пафос революции.
Революция – не политическая платформа, не миросозерцание. (“Я – революционер, а ты – контрреволюционер”.) Революция – живейшая реальность, органический момент становления в ходе истории. Когда подготовительные к революции политико-экономические события накаляют котел истории до точки кипения – все частицы воды, в нем кипящей, приходят в движение и – хотят или нет этого (действием или противодействием), принимают участие в революции. Пафос же ее – в жертвенности и в сознательном “ура” кипению, созидающему формы жизни. Тем, чье царство (искренно) не от мира сего, было бы странно кричать “ура” революции. Но им следовало бы вникнуть в то, что иным путем в мировых размерах человечеству не удастся распределить блага мира сего по трудовым заслугам, а в будущем – по потребностям.
2 ноября. Кировская
День рождения старшего моего зам. сына Даниила. 30 лет. Встречает этот рубеж внешне радостно – та же младенчески-упоительная улыбка, какая причаровала меня 26 лет тому назад. Отцовское, леонид-андреевское воображение нашептывает ему всякие ужасы о мировых катастрофах и гибели культуры. Предвидя в близком будущем совершенно новые формы искусства, считает, что по-старому писать не для чего, не для кого. Но писать, конечно, будет – ибо он писатель по самой интимной сущности своего существа.
16–18 ноября. Полночь. Кировская
Как понятно мне, что покойный отец мой в 1877 году, бросив дела и семью (уже было трое детей), устремился на Балканский полуостров защищать славян от турецких зверств. И понятно, как Ольга кинулась в холерные бараки (сиделкой) в 1920-м, кажется, году, в Воронеже. И как Даниила тянуло на абиссинский фронт. Так в юные свои года Мирович ринулся в партию, где требовали жизнь – всю, целиком, без остатка. И так понятно мне, что, не найдя с тех пор такого русла, которое схватило бы его и увлекло стремглав, без оглядки в какую-нибудь Ниагару, Мирович должен по временам испытывать глубокую тоску от недопроявленности такой важной черты своего лика. Должен тосковать от ничтожества своих дней и ночей. От отсутствия в них единой линии и объединяющего центра и того, что теперь называют целеустремлением.
4 декабря. 4 часа дня. Комната Леониллы
Попался недавно на глаза рассказишко под заглавием “Геройская смерть”. Умирает старый партиец от канцера желудка. Дочь у его постели размышляет о том, как обиден для героя труда, каким был ее отец, и при этом для крупного коммуниста, такой финал. Отец бредит. Что-то о бетоне (он инженер). Дочь прислушивается. Оказалось, это не бред, а проект улучшений в выделке бетона. Умирающий просит дочь взять карандаш и записать вычисления, какие ему пришли в голову перед смертью. Дочь записывает. Отец перестал диктовать и затих. Дочь думает, что он уснул. Но это была уже смерть. Геройская. И правда – незаурядное мужество. Стоицизм. Но как жутко представить себе, что этот мужественный человек перешагнул порог смерти с бетоном в голове. И что бетон отнял у него религиозную важность перехода через таинственный мост, называемый смертью.
5–6 декабря. 2-й час ночи. Остоженка
Всезатопляющий желто-серый туман. Только на самом ближнем плане смягченные контуры нагих деревьев и неуклюжих домов.
Дни Конституции. Школьники будут учить: “5 декабря оглашена первая социалистическая конституция”. По Остоженке валом валят промокшие серые толпы демонстрантов с обвисшими от сырости красными знаменами. Когда же заменят их другим цветом? Не хочется ничего, напоминающего кровь. Я рисую себе наш государственный флаг послереволюционного периода зелено-голубым.
Если бы какой-нибудь прорицатель нагадал нам в нашей юности, что мы доживем до такой конституции, что будем жить в правовом социалистическом государстве, какой бы пламенной радостью забилось сердце. Сейчас умом понимаешь, какой это важный момент в истории нашей страны и даже в истории всего человечества. Поскольку еще внедрен в интересы “мира сего”, приветствуешь трудовой принцип распределения, свободы 124-й и 125-й статьи, равенство людей вне вопроса о нации, возрасте, поле. Приветствуешь бесклассовое общество. Но почему же эта грусть – и даже до слез. Так силен эгоизм, так явен уклон к мещанству, так слабо чувство личности и гражданского долга в среднем русском обывателе (и в рабочем так же, как в служилом сословии), что невольно боишься представления о том, в какие “перегибы” и “недогибы”, в какое “головотяпство” и “вредительство” будут вовлечены эти статьи, какими заполнен сегодняшний № “Известий”. Конституция написана ясным, строгим, волевым языком. Но какие уже заклубились вокруг нее риторически напыщенные и рептильные строки газетчиков. Во вчерашнем номере передовая статья кончалась: “Торжествуй, советский гражданин, и будь горд (!)”. До чего последние два словечка отразили мертвенность, деланость пафоса, какого требовала тема.
10 декабря. Ночь. Тарасовская гостиная
После фокстротов, джазов, цыган и томных французских романсов поставили гречаниновское “Верую”[401]. И с какими предосторожностями! Затворили дверь в переднюю, затворили дверь в кухню, прислушивались, волновались, глядели то на потолок, то на пол, стараясь вообразить, слышно ли “Верую” вверху и внизу.
Напрасно Алеша твердил: “Ведь конституция же не запрещает веровать! Ведь пластинку же пропустили на границе!”
У обывателя заячья настороженность: а вдруг подумают вверху, и внизу, и на кухне, что он не просто интересуется музыкой, а и впрямь “верует”.
А музыка делала свое – разлив высоконапряженного чувства уносил душу куда-то, за пределы видимого и ведомого. И не потому, что неприятным сдавленным голосом выговорил член за членом символ веры речитатив кананарха – он только мешал. А потому, что такова власть настоящей музыки – уносить за грани видимого и ведомого мира.
12 декабря. Утро. Алешина комната
В Третьяковке, в одном из углов одной из зал приютился очень живо сделанный бюст Ремизова. Деревянная скульптура[402]. Оборотень. Ведун. И допетровских времен приказная строка, с пером за ухом, натерпевшаяся свыше меры всяческих лишений и унижений, вплоть до побоев. И от этого, может быть, согбенная до того, что кажется Ремизов горбуном. Говорю здесь не столько о бюсте, сколько вспоминаю личные впечатления своего “петербургского периода”. Маленький, загадочно маленького и необыкновенно значительного вида человек; волосы на темени дыбом, вихрами. Блестят глаза, блестят очки. Кутается в коричневую старую шаль своей жены. Она перед ним кажется великаншей. Крупитчатая, синеглазая, круглолицая, с детским горделивым, обиженным лицом, нередко, впрочем, расцветающим ясной, младенческой улыбкой[403].
С мужем держит себя как божество, позволяющее деятельно обожать себя пылко верующему и фанатически преданному жрецу.
Избалована им анекдотически. Говорит сама: “Алексей Михайлович боится, чтоб пушинка на меня села”. Тысячи причуд. В ванне надо всю воду прокипятить, иначе “могу ж глотнуть какой-нибудь невской гадости”. Нельзя брать извозчика с белой лошадью. Нельзя отзываться при ней одобрительно о женщинах-писательницах. (“Это ж бестактно. Я не пишу. И как будто их он надо мной выше ставит тем, что они что-то пишут. А что пишут? И я б могла как Гиппиус писать. Но не хочу марать себя”.)
Она сидела целыми часами неподвижно на диване, пышная, белорумяная, с огромными белокурыми косами на круглой голове. (Ремизов причесывал ее.) Сидела молча, ни о чем не думая или изредка роняя какие-нибудь словечки скользящему мимо нее на цыпочках мужу. “Зин. Ам. была в голубой кофточке. В светло-голубой (мечтательно). Я б хотела такую”. (При всей своей пышности одевалась в светлые цвета.) Или: “Приснится ж такое!” Муж, затаив дыхание, приостанавливается:
– А что именно, Серафима Павловна?
– Ландыш. Большой, как фикус. А на нем чертик. Как на вербах.
Муж разливает чай, намазывает бутерброды. Она ест с аппетитом и немало, но очень разборчиво. Обижается, когда он забудет о каких– нибудь ее вкусовых оттенках.
– Я ж шпрота только из консерва ем. А из бумаги, вы забыли, даже видеть не могу. – Муж нарочно делает жалкое, растерянное лицо и этим умилостивляет ее.
Когда она, катаясь на гигантских шагах, сломала руку, он с искренним сокрушением говорил: “И отчего это не со мной приключилось!
Я бы претерпел. А Серафима Павловна нежная. Каково ей терпеть!” Она совершенно серьезно говорила про его произведения: “Когда мы писали «Пруд»…” “Наш Лимонарь не все понимают. Не доросли”[404].
И – кто знает? – возможно, что эта свежая и яркая груда женских форм и сквозь них просвечивающей ультраженственной души была по-настоящему ремизовской музой. Он был связан с ней неразлучно; был всегда рыцарски, влюбленно почтителен. На парадных обедах сидел рядом; выискивал глазами ее любимые закуски и передавал с видом пажа, робко услуживающего любимой королеве.
Без нее он был другой: пристальный колдующий взгляд не по-человечески умных глаз, проказливая, умная улыбка, неожиданные обороты мысли и речи. Иногда – светящееся мудрой старческой (хотя было ему тогда не больше сорока лет) жалостливостью и скорбью лицо. И было в нем, как и в его подруге, что-то навеки детское. Такую же они подобрали себе кухарку – Аввакумовну. Она почему-то любила ходить совсем голая (старуха). И в этом виде однажды отворила дверь одному писателю, который позвонил, когда хозяев не было дома. Раз под Рождество они надели на нее венок из огромных бумажных цветов: красных, желтых, ярко-синих.
В знаменитом ремизовском уголке, где вся стена и полки были увешаны и заставлены игрушками, Ремизов был более всего у места. На всем земном шаре не нашлось бы для него более подходящего окружения. Разве – если бы из человеческого существа обернулся он каким– нибудь лесным чудищем и притаился бы под корягой с добродушно насмешливым озорством, блестя острым, зорким взглядом.
Однажды моя мать пришла с базара, поставила корзинку на стол, сама опустилась на скамью и, закрыв лицо руками, горько заплакала. Мы обступили ее.
– Что случилось? Потеряла портмоне?
– Женщина ослепла. На моих глазах ослепла. Покупаю у нее творог. Отвешивает мне и вдруг – все у нее из рук валится, побледнела как смерть. А потом как закричит: “Не вижу я, ничего не вижу. Ослепла. Рятуйтэ мэнэ. Боже мой, милостивенький, что мне делать.”
Через четверть часа за самоваром мать с опухшими от слез глазами, где застыло выражение мучительного сострадания, прихлебывая чай, говорила:
– И правда, как подумаешь, что ей, несчастной, делать? Деревенская женщина, семейная, трое маленьких детей у нее, корова. Тут работать надо день и ночь… А что – слепая? Ни тебе пошить, ни тебе помыть; еще надо, чтоб за тобой ухаживали. И подумать только: ни солнца, ни звезды, ни родных детей никогда не увидишь. – Снова заплакала. Потом перекрестилась и сказала: – Хуже этого несчастия нет на свете. Все – только не слепота.
Через десять лет мать ослепла. И жила в слепоте 16 лет.
Эничка[405]. Тонкая, сложная, чистая и глубоко несчастная девушка. Беленькое, фарфоровое лицо детских очертаний. Темные глаза, таинственные, потому что разного выражения, один – вставной (вышибла глаз сестра, играя в мяч). Длинные шелковистые косы, тоже темные. Голос всегда трепетно-страстный – при младенческой улыбке милого, нежного рта. Черные или белые костюмы с маленьким букетом фиалок на груди. Шляпа всегда с длинной черной вуалью, полузавешивающей лицо (хотелось скрыть искусственный глаз). Неизбывно тяжелые отношения с матерью, тупой, грубо чувственной женщиной. Это была гипертрофированная плоть колоссальной толщины. Женская, рубенсовская плоть, которая говорила жирными румяными губами в лицо испуганной и негодующей 24-летней дочери: “Ты пропустила ни за что ни про что восемь лет. Хочешь, чтобы и я пропустила мои последние 8?” (ей было лет 45–46, и всегда был при ней какой-нибудь юноша). Мужа она потеряла рано. Когда очередной юноша покидал ее, она со слезами умоляла дочь “поговорить с ним как-нибудь по-литературному, по-умному”, чтобы тот вернулся.
У Энички оказался крупный музыкальный талант. Пятнадцати лет, вскоре после потери глаза, она поступила в консерваторию, и ей пророчили европейскую известность. За роялем она забывала альфонсовские романы матери, злую декадентку сестру, стеклянный глаз и сложную мучительную любовь к извращенному, почти душевнобольному человеку, который, по-своему любя ее, изменял ей делом, словом и помышлением на каждом шагу и всю атмосферу вокруг себя пропитал невылазной, искусно сплетенной, удушливой ложью.
Может быть, от миазмов этой лжи Эничка и погибла. Она заболела какой-то мудреной нервной болезнью, которая закончилась тем, что пальцы рук перестали слушаться пианистки, уже готовой выступить в концерте. Следующим ударом были раскрывшиеся побочные романы жениха и чудовищная ложь его. Чтобы отрезать себе возврат к нему, Эничка вышла замуж за давно влюбленного в нее студента. Он был маленький, серый, взъерошенно-самолюбивый, с жадным выражением глаз и губ человечек. Почувствовав себя беременной, Эничка пришла в ужас от перспективы дать жизнь еще одному такому же существу, как ее муж. (От него она вскоре уехала.) Сделала аборт. Неудачный – проболела какой-то срок и была выпущена da questo oscu.ro et pauroso baratro[406]куда нежной трепетной росинкой ниспала ее душа для трагического жребия потерять “самое нужное, самое дорогое”.
В. П. уже была немолода и давно смиренно примирилась со своим “стародевичеством”, когда судьба нежданно озарила ее путь “ослепительной надеждой”. Она была четыре года гувернанткой в семье профессора Т. и все четыре года любила его целомудренной, безнадежной любовью. Ради того чтобы видеть его, слышать его голос, по временам оказывать разные хозяйственные услуги вместо жены, легкомысленной, вульгарной и почти открыто изменявшей ему бабенки, она сносила капризы профессорши и ее балованной дочери. Маленькая оперная певичка, профессорша почти не жила дома. Под прикрытием театральных выступлений и репетиций вечно где-то витала, но муж любил ее, хоть и несколько разочарованной любовью (он худо переносил все вульгарное), был ей верен. И совершенно растерялся, когда однажды без всяких оговорок жена ему объявила, что уходит от него к оперному тенору и девочку (восьми лет) берет с собой.
– И В. П-у? – с отчаянием спросил он. В этот момент он вдруг осознал, каким теплом окружала его заботливость милой, невзрачной гувернантки с тихим голосом, с чистыми кроткими глазами. Жена презрительно засмеялась:
– Конечно, – сказала она. – Не может же Люся оставаться без гувернантки.
И тут-то самоотверженная решимость победила в тихой девушке ее застенчивую робость.
– Если Н. С. хочет, чтобы я осталась у него хозяйничать, я останусь, – проговорила она своим мягким голосом, но с очень твердыми интонациями.
Жена саркастически засмеялась:
– Ну что ж? Я этого почти ожидала. Я видела, что вы влюблены в него, как кошка, несмотря на ваши годы. – Профессор заволновался.
– Позвольте, – сказал он, – годы В. П-ны ни при чем. И они не так уж велики. Простите, сколько вам лет? – обратился он к ярко зарумянившейся девушке.
– Тридцать пять, – прошептала она.
– Ну, вот видите! Какие же это годы. Мне 47. Оставить вас хозяйкой, экономкой, значит компрометировать вас. Я этого не хочу. Но если вы согласитесь быть моей женой, когда уедет Л. Н., я буду счастлив.
Жена не ожидала такого оборота дела и втайне была раздосадована. Но и ей было в общем кругу знакомых выгоднее такое освещение событий, где все, казалось, произошло по какому-то мирному согласию.
Скоро после этого В. П. из “старой девы”, гувернантки превратилась в профессоршу, в любимую жену (профессор, женившись на ней, понял, что если бы это произошло восемь лет тому назад, он прожил бы счастливо все эти годы, что это и была та жена, которая нужна ему в жизни сердца и на жизненном плане).
Оба они мечтали о ребенке.
– Я хочу, – говорил он, – чтобы у нас была девочка, такая женственная, такая кроткая, как ты, и с такими же, как у тебя, прекрасными глазами. – Дочь от первой жены, эгоистичную, буйную и вульгарную, как мать, он так и не полюбил, в чем сознался себе только теперь.
И через положенный природой срок у них родилась девочка с прекрасными, как у матери, глазами, но с тонкими, бессильными, висящими как плети ручками и такими же ногами. В них вместо костей были мягкие хрящи, и кроме того, их почти непрерывно подергивали судороги. Они не росли, когда росло туловище и головка с мягкими кудрями и тонкое, изящное личико с огромными страдальческими глазами. Друзья этой семьи откровенно желали ребенку смерти. Мать огорчалась этим невыразимо:
– Что им помешал этот несчастный цветок? – говорила она. – Почему можно жить котятам, собакам, даже таракану, а у Лили даже такую убогонькую ее жизнь хотели бы отнять.
Девочка жила лет до семи. Она не говорила, но узнавала мать, встречая ее болезненной улыбкой на странно-одухотворенном лице. Когда она умерла, профессора тоже не было уже в живых. Его унес сыпняк. В. П. работает в какой-то детской группе дошкольной воспитательницей; вечером занята в библиотеке. Во всей ее небольшой фигуре, в скромном, увядшем лице – выражение боязливой покорности и такого напряжения, как будто она терпит какую-то разрывающую ее внутренности боль, которую необходимо скрыть от всех. Она живет совсем одиноко. На стене у стола портрет мыслителя с добрыми глазами, ее мужа, с которым она прожила в браке только три года. А над изголовьем постели – головка замученного ангела, ее обожаемого, уродливого безмолвного цветка, Лили. Я видела В. П. на концерте Баха. Она вся унеслась в музыку. Возможно, что это был способ преодоления разлуки с любимыми душами. Вернее – преодоление своего жребия Transcensus[407] в иные планы.
25 декабря
Между прочим, у молодых девушек (у юношей реже) в мое время встречалась нередко тяга к самоубийству. Все, в ком брезжили запросы высшего порядка, были в большей или меньшей степени Гамлетами. Некоторые недолго, до счастливого романа или до замужества, до рождения ребенка. Мужчины – до делового, самостоятельного вступления в жизнь из юношеской поры и “обывательского” примирения, которое мы, девушки, в них презирали. Но были и такие, которые пронесли свое “быть или не быть” через долгие годы. И такие, которые рано разрешили гамлетовское томление в сторону небытия, как Леонилла.
Но многим-многим юношам и девушкам из интеллигентной среды между 17–22—23 годами казалось невыносимым, немыслимым жить, не имея высшей цели в жизни. Об этом писал Толстой, говоря об “унизительном положении человека, не имеющего учения о жизни”. Об этом говорила со мной в Кларане Вера Фигнер[408], не допускавшая мысли, что “интеллигентный человек может быть вне партии” (для нее смысл жизни определялся участием в революционной работе).
28–29 декабря. Комната Алексея
…В комнату Биши, где я что-то писала, быстро вошел Даниил.
– Можно вас поцеловать?
– Нельзя, Данилушка, целовать старых, таких уже дряхлых лиц. – Быстро поцеловал в висок и исчез.
И произошел тот духовно-душевный контакт, который обоим был нужен. Я оставила писанье и вошла в его комнату, где он читал, полулежа под лампой.
Растроганный Мирович не мог не прийти к тебе. Он поднял от книги родные свои глаза, полные глубокого, нежного, не имеющего на этом свете названия, “шестого” чувства. Отложил книгу. И о чем только мы не говорили в последующий час! Так умею говорить только с ним – о расах, о судьбах народов, о человеке и человечестве, о трагическом лике мира и о предустановленной гармонии. И чудные, чудесные прочел стихи.
1 января 1937 года
С Новым годом, братья и сестры – всех племен и рас, на одной планете со мной живущие. Вам, как и себе, желаю сохранить (или обрести, если ее нет) веру в высший смысл жизни, терпение и мужество для всего, что суждено будет вынести, творческие силы для линии восхождения, и (может быть, это прежде всего) – Любовь; и поскольку она есть хотя бы в виде малой искры, в виде слабого чадного горения, да обратится она в великое пламя, в пожар, где до конца сгорят зубы и когти, рога и копыта животного наследия нашего.
Добровский дом.
Были тосты: за “высокую нашу дружбу”, за то, чтобы миновала чаша войны страну нашу (Саша Добров с неожиданной воинственной энергией прибавил: “И чтобы, если война уж суждена, суметь достойно встретить врага, не побояться никаких жертв, никаких лишений”). Были тосты за искусство, за независимость мысли, за здоровье и нужные для жизни силы. И скромный тост, имеющий в виду нас, стариков: чтобы еще раз встретить Новый год в том же составе.
10 января
Забываю записать здесь курьезы в связи с переписью.
Обыватель из явных или тайных “верующих” перепугался до растерянности перед графой о вере. Один предполагал целый день, назначенный для переписи, кататься на метро. Другой решает сказать, что он “штунда”, мотивируя: “Если и сошлют, так не с ханжами; штундистов я давно уважаю” (не хватило догадки сказать: верующий вне церковности). Третий (вернее, третья) с ужасом и с героической решимостью заявила: “Не поднялась рука отречься от Христа. Пусть ведут на казнь”.
Мать и бабка в одной семье, соблюдающие некоторые обряды (крестятся и в церкви бывают), с особой торжественностью заявили всенародно, в кухне, что они неверующие. И про взрослую отсутствующую дочь: “За нее ручаюсь. Она с детства атеистка”.
10 января. 1-й час дня. «Мороз и солнце; день чудесный»
(В связи с переписью.)
Мирович не попал в перепись в Москве и решил зайти здесь на переписной пункт. Графа “верующий”, “неверующий” особенно обязывала к регистрированию.
Захожу в горсовет. За столом переписи сидит юноша с хорошими глазами. Посмотрел на мои годы – 68 лет, – на мою какую-то полубоярскую, полумонашескую сильно потертую шапку и мягко спросил: “Конечно, верующая?” Я ответила: “Да”. На вопрос о православии сказала: “Вне церковности”. Все обернулись. Довольно свирепого вида пожилая службистка спросила: “Как это?” Я сказала: “Очень просто. Верую в Бога, в бессмертие души, в высший смысл жизни, обряды же для меня не имеют такого значения, как у православных”. На вопрос об адресе дала московский. И, когда вышла, вспомнила, что фамилию сказала не двойную, а только “Мирович”. Подумалось: “Нет ли тут подсознательной мыслишки: «А вдруг лишат пенсии»”. И вдруг стало весело и твердо на душе: “Пусть лишат”. Вернулась, разъяснила, что фамилия двойная. А переписчик с хорошими глазами говорит интимно-успокоительно: “Нам все равно. Могли и не свою фамилию проставить. Мы, может быть, и посылать в Москву этой бумаги не будем. Нам нужны графы. Большое спасибо за сведения, что потрудились прийти”. И с другого стола кто-то одобрил: “Сейчас видать – сознательная гражданка”.
14 января. 11 часов (здесь это уже ночь). Малоярославец
В редких домах мигают огоньки – не то ночников, не то лампад; реже – ламп. Засугробился, запушился инеем городишко и ушел в свой ранний, в свой долгий сон. Многие обыватели укладываются спать между 8-ю и 9-ю часами. Экономия керосина. Да и что делать длинным зимним вечером! Шить не из чего. Мануфактура редко кому по карману. Неимоверно долго носят платья, пальто. Вязать тоже не из чего: ниток, шерсти на вес золота не достанешь. Книги не в ходу. Разве школьники раскроют на полчаса хрестоматию с заданным отрывком из Пушкина или Демьяна Бедного. Аристократия – сидит в кино (кто помоложе). Рядовому обывателю кино доступно лишь изредка. Да и прижимист рядовой обыватель насчет всяких культтрат, крепко бережет деньгу, любит копить и тоскует оттого, что копить не из чего. Большинству хватает их заработков лишь на дневное (очень суровое) пропитание. Пустые щи из серой капусты, черный, грубейшего сорта хлеб, картофель с крохотным количеством жиров – основная база питания. Даже в семье, где я сейчас, где проживают 1000 рублей (семья из семи человек), “белая” капуста, масло без маргарина, белый хлеб считается роскошью.
С 20 на 21 января
Пробило з часа ночи. Сплю одна в комнате и потому могу зажечь лампу и скоротать часы бессонницы писаньем. Кроватку Димика, соседа моего, вынесли от меня по случаю моего гриппа.
Думаю о неземной кротости Наташи. Глухота сделала ее совсем ангельским существом. Так и всякое другое несчастие для духовно пробужденного человека, если только он не озлобится, “не похулит его даров”, становится лестницей восхождения на высшую ступень.
Думаю о другом кротком существе, о моей “Денисьевне”. Вчера вечером, желая, вероятно, меня развлечь в моем гриппозном одиночестве, вдумчиво, незлобиво и без всякой критики рассказала о некоторых ужасах мариинской своей эпопеи. С этапа привезли однажды вместо людей “одни ледышки”. Одежонка была такая, что на морозе все Богу душу отдали. В одном бараке плеснули в печь для растопки вместо керосина бензину, пламя выбросилось из печки, и все, кто был в бараке, сгорели. При уборке ячменя голодные ссыльные наедались зерен в такой мере, что один за другим умирали от заворота кишок.
Сколько раз вставала передо мной в бессонные ночи эта жгучая загадка страдания и смерти. И вдобавок неравномерного распределения их. Одним почти непрерывные лишения, нравственные и физические муки, в жестоком образе смерть. Другим – легкая (сравнительно) жизнь и легкая (сравнительно) смерть. Не может душа моя примириться с неравенством наших человеческих жребиев. Не может примириться вот с такими формами страдания, о которых рассказывала Дионисьевна, где люди гибнут от чудовищного неравенства условий их жизни, с теми, в каких живу я. И все время, как закрою глаза (в сегодняшнем гриппе, должно быть, в жару), вижу почему-то бушующее ночное море. И шум, и белые гривы пены на волнах, и их направление, столкновение, вздыбливание до реальности ясно. Фосфоресцирует планктон, чья участь быть живым кормом. Какие-то неописуемо уродливые огромные рыбы, и скаты, и осьминоги в этом фосфорическом свете из прозрачной зеленой толщи волн высовывают свои пасти и щупальца. И я знаю, что здесь от них совсем близко потерпевший крушение человек, он плывет на каком-то обломке. До самого горизонта не видно никакого судна, никого и ничего. Вижу его только я. И он знает, что я со своей постели его вижу. И ужас его только увеличивается от того, что я его вижу и слышу, но остаюсь в постели и укутываюсь поплотнее в одеяло, т. к. в комнате холодно…
21 января
Ночь. Православным, читавшим и размышлявшим о православии, нередко свойственна та кичливость, какая бывает у богатых по отношению к беднякам. Они богаты истиной. Они устроены в великолепном, прочном жилище с гарантией, если будут хорошо вести себя, остаться в нем на веки веков. Остальные – за дверями, нищие или безумцы, вообразившие, что они тоже в истине. Мне скажут: “Не свойственна ли такая кичливость и нетерпимость каждой религии – иудейской, магометанской и т. д., и также (больше всего) всем сектам”. Я отвечу: но там ведь нет того, что сказано устами воплотившегося логоса: ни эллин, ни иудей, ни раб, ни свободный – но все (исполняющие заповедь любви к Богу и ближним) – и во всех Христос. Между прочим, исполнение второй заповеди в практике православия чаще всего (в быту) играет самую последнюю роль среди постов, куличей, водосвятия и других обрядов.
23 января. 1-й час ночи. Малоярославец
Взглянула вечером в лунное морозное окно, сквозь которое дробился на тысячи искр месяц и огромная алмазная звезда. За ними покой голубых снегов – на улице, на крышах. Недвижные черные узоры обнаженных яблонь. Вспомнился тот сад, где жила Леонилла с матерью до своего замужества. Одинокие зимние вечера этой матери – Леонилла часто отсутствовала, а под конец и совсем не жила дома, была в распоряжении наших партийных квартирмейстеров, которые группировали новичков и проверенных адептов по своему усмотрению. Мать Леониллы из разночинского, но по-польски окультуренного слоя, внутренне изящная натура, гордо и безропотно приняла жребий разлучения с единственной опорой дряхлых дней. Более опрятной и даже поражающей своей чистотой бедности я не встречала. Белые воротнички и манжеты, безупречная чистота постели и скатерти и всего, что стояло в единственной комнате, тщательно причесанные седые волосы под кружевной наколкой. Питались они с дочерью колбасой и кофеем. Иногда им доставались откуда-то “дешевые обеды” – по 8-ми копеек за оба обеда.
И вспомнился один из таких голубых лунных вечеров, когда я зашла к Чеботаревым. Было мне тогда 15–16 лет. Леониллы дома не оказалось. Ее мать, Елизавета Яковлевна, сидела без огня перед окном и смотрела в пустынный, снежный сад. Хибарка их стояла в самом конце сада. В сентиментально-поэтической настроенности моей было нечто общее с восприятием Леониллиной матери. Обе увлекались Лермонтовым, у обеих было повышенное чувство природы и красоты (чего не было в Леонилле). Когда я вошла в ее крохотную комнатку, Елизавета Яковлевна пригласила меня посидеть не зажигая огня. “Брандмауэр безмолвный, снег нерушимый” – с горькой мечтательностью ответила она, когда я спросила ее, как она себя чувствует (у нее болели ноги, она почти не могла ходить), – и прибавила: “Ночь немая голубая, неба северного дочь”[409], вот сижу и любуюсь, Нилы нет. Я теперь часто одна.
25 января. Малоярославец
Ночь. Крещенский мороз. Тишина. Благословенное одиночество. Хозяева уехали. Дети спят.
От Аллы письмо о последних показах “Анны Карениной”. Успех, превысивший ее надежды. Овация со стороны товарищей. Сравнивали с Ермоловой.
Испытываю смешное чувство, называемое материнской гордостью. И наряду с ним помню тщету славы. Тщету и самой “Анны Карениной”. Не дивлюсь тому, что Толстой от нее отрекался, и верю, что он искренно говорил, что “забыл, что там писал в ней”. Эта двупланность мироощущения всю жизнь свойственна мне. И два ли только плана у человека! В оккультных доктринах их насчитывают семь. У себя насчитала восемь. Но помню непрестанно, что важнее всех тот план, где трагедия страсти, и фимиамы славы, и интерес к ним – пройденная ступень.
30–31 января. Тарасовская гостиная
Все с какой-то торопливой жадностью хотят знать мнение своих знакомых о процессе (изменников, троцкистов). Тут есть доля обывательского садизма – желание поволноваться безвредно и безнаказанно в камере смертников. Помимо этого, все ведь ясно, и разных мнений быть не может. И казалось бы, чем дальше от грязи и крови, тем лучше, тем благородней для души. Это не индифферентизм. Когда страна идет через смертные казни – пусть врагов своих, пройти сквозь ужас этого явления, ужас возможности его в человеческом обществе неизбежно. Но переживать его лучше наедине с собой, если понял историческую его неизбежность и полную для себя невозможность – особенно в рамках данного момента – что-либо изменить в судопроизводстве.
Толстой писал “Не могу молчать!”[410], потому что считал свой голос слышимым во все концы света. Гаршин в священном безумии ночью прибежал к Лорис-Меликову молить об отмене приговора над… забыла фамилию этого террориста[411]. И в том и в другом случае – это был глас вопиющих в пустыне.
Значит ли, что нужно вообще молчать о своих взглядах, о своей боли, о своей совести, о своем ужасе? Нет. Об этом можно писать, можно дискуссировать – если бы представился случай к такой дискуссии. Но этому не место в разговорах за чайным столом. И потому, что интимна слишком тема пережитого ужаса, тема боли своей совести, огромно значительна тема казни как социального явления – и не прикусывая бутерброд ее решать.
И еще потому что, каковы бы ни были “гады”, “иуды”, “выродки”, – это все же люди. И пока здесь у нас чай и бутерброды, в их душах смертная тоска. И когда назавтра у нас будет чай и бутерброды и все, чем еще живет и дорожит обыватель, они будут идти по коридорам Лубянки на свою бесславную Голгофу.
Лион Фейхтвангер в маленькой заметке пишет, что для иностранного писателя трудно разобраться в психологии этих людей[412]. Я думаю, что и нам это нелегко. И даже невозможно (так много лжи в их существе, что они сами навряд ли в ней разбираются). Поэтому, как советовал Данте, “взгляни на них и пройди мимо”. Особенно, если тебе самому “заутра казнь” по составу преступления: 1) что жил слишком долго, 2) что нажил склероз и, может быть, и канцер и 3) не умеешь жить, напрасно бременишь землю.
Ночь. Ненавижу глагол “доживать”. И когда Филипп Александрович применил его к себе, я возмутилась. Он, в ком энергия внутреннего движения, поиски мысли, горячесть духовных и умственных интересов пульсируют с юношеской силой. Он, у кого из глаз вырываются снопы света, когда он защищает что-нибудь ему идейно дорогое. Он – доживает! Стал разъяснять:
– Вы правы, я не ощущаю признаков маразма. Меня все интересует, как и раньше. Но с какого-то времени я перестал чувствовать себя на жизненной сцене. Я смотрю на нее из партера. Потому, верно, что сижу так близко к выходу. О нем все время помню. И от этой близости к выходу иная оценка вещей, чем была раньше. Так сказать, sub specie aeternitatis[413].
– Но почему это считать доживанием, а не началом иной формы жизни, вернее перехода к той форме, которая ждет нас по смерти?
– Я допускаю это, но такой незыблемой веры, такой убежденности, как у вас, у меня нет. И если бы даже была, я все равно почувствовал бы разницу между моим настоящим и прежним отношением к жизни. Там – я играл какую-то роль. Здесь – я зритель, рецензент. Вы этого не ощущаете, потому что вы и смолоду сидели в партере.
Я подумала после его ухода, что он прав. Но тоже с дополнениями и разъяснениями с моей стороны. Начну с пилатовского вопроса: что есть жизнь? Неужели только исполнение той или другой роли на социальной арене?
В трех областях я могла бы проявить то, что мне дано: могла бы быть лектором, педагогом (дошкольным) и в какой-то мере писателем. И во всех этих трех областях я не сделала ничего заметного, не сыграла никакой роли, о которой стоило бы говорить. Тут не только паралич воли. Тут недостаток привязанности к той или другой профессии, сознание, что она не в силах наполнить жизнь нужным содержанием, и страх быть зарегистрированной в ней, прикованной к ней до конца жизни. Так я бежала из Петербурга, где была возможность сотрудничать в некоторых журналах. Помню, как испугал совет Зинаиды Венгеровой “переехать в Петербург и сделаться настоящим литератором”. Не менее испугало в Киеве предложение Макса Бродского стать во главе детского журнала. Этот предлагал вдобавок какие-то тысячи. Помню, с какой поспешностью собралась я тогда в Воронеж (к матери), чтобы прекратить все разговоры по этому поводу. (Может быть, в нищете своей испугалась и соблазна тысяч.)
В результате – припомнив притчу о десяти талантах, соглашаюсь, что мои “таланты” зарыты. Но были они так микроскопичны, что жалеть о них не приходится. Знаю, что если бы прибавить к ним то честолюбие, какое помогло некоторым из моих современников выдвинуться на педагогическом и на литературном поприще, была бы у меня более комфортная, более независимая старость. Но честолюбие было изжито до конца в очень ранней юности, в гимназические годы. Дальше, как и теперь, было “все равно” – в области признания и широких арен. Я люблю лекторскую работу. Но читать ли нескольким сотням, как было в Ростове, в Киеве, 3–4 десяткам, как в Сергиеве, или моему Телемаху[414] и 3–4 лицам в тарасовской гостиной, для меня безразлично.
9 февраля. Кировская
Однажды, не помню в каком году это было, никогда не помню годов, но в относительной молодости, я получила телеграмму из Воронежа от тетки Леокадии о том, что мать серьезно больна. В тот же день я выехала из Москвы. Со мной и брат Николай (он тогда был в университете).
Мы застали мать в полном отказе от жизни. Это с ней случилось после того, как уехал брат в Москву и не о ком стало ей заботиться и не для чего жить. Она совсем перестала есть, ослабела так, что не покидала постели, и впала в глубоко оцепенелое (хоть и без потери памяти) состояние. Когда мы приехали с ласковыми словами, с горячим желанием поднять ее на ноги и Николай вложил ей в руку свой любимый талисман – маленького фарфорового слоника, она сразу стала поправляться. В тот же день могла съесть бутерброд с икрой, яичный желток, стала говорить (без нас все молчала) и даже улыбнулась, ощупывая слоника. Потом она до конца горестной своей слепой жизни дорожила им как реликвией. Все это я вспомнила сегодня, когда приехал мой Ирис ко мне. От ее присутствия (как это было бы и от Ольгиного, и от Сережиного) что-то поникшее во мне, как стебель растения без воды, выпрямилось, как от дождя. Затаенная воля к болезни и к концу заменилась волей ждать 12-го числа, когда Ирис приедет, и читать с ней “Генриха IV”. Присутствие ли молодости оздоровляет, или просто ток дочернего тепла, иллюзия ли своей кому-то нужности действует на озябшую душу, как кальцекс на простуженное тело, не знаю. Но знаю, что я здоровее, чем была три часа тому назад.
15–16 февраля
Достал Даниил из архива тетрадь, где, только окончив гимназию, написал кинопьесу. Потом он с товарищами и товарками по школе разыграли ее в добровском зале (тогда это была очень большая комната, переделенная аркой).
В тетради наклеены портреты участников пьесы. В числе их его “голубая звезда” Галя Р.[415], не отвечавшая ни да, ни нет на романтическое чувство Даниила. Правильное, маловыразительное, банально-женственное личико. И все лица по сравнению с лицом Даниила в нелепом цилиндре, с инфернальными гримасами (играл злодея) плоски и бледны. Его ужимки, позы – шарж и мелодрама, и все-таки при первом взгляде на фотографию, где он среди других фигур, невольно остановишься на нем, как на чем-то значительном и тревожном, мимо чего нельзя пройти без вопроса: кто это? Что это?
26 тетрадь 22.2–4.4.1937
11–12 марта. 1-й час ночи. Будуар Аллы
(Алла уже здорова, снимается в Ленинграде, я в ее комнате живу третий день, т. к. моя опять, – в который раз уже! – покрылась пятнами сырости.)
Весна света, весна воды, весна земли. Есть у Пришвина такое счастливое определение для трех фаз весны.
Вчера за городом была весна света и чуть-чуть – воды. По бокам улиц под деревьями рощицы, на снежных пустырях все по-зимнему бело. Но на солнечной стороне по шоссе полурастаявшие лужи. И снег уже не зимний, и в запахе его уже есть оттенок талой земли, подснежника.
Мы с подружкой моей Леониллой так насытились этой острой снеговой и солнечной свежестью, что вернулись из Никольского помолодевшие, с той счастливой опьяняющей усталостью, какой заканчивались предвесенние путешествия по киевским горам и оврагам в детстве.
Детство. Восемь лет. Дорога в городское приходское училище. Ручьи. Кое-где ледок. Голубой сахаристый снег. Талая земля. Коричневые проталины под акациями у “Делового двора”. Голубые лужи, и в них плывут пушистые облака. Я иду в школу не одна. Со мной всегда на длинной бечевке солдатская пуговица. Каких только приключений не испытаем мы с ней, пока дойдем – с опозданием – до школы! Она делает перевалы через горные вершины (сугробы полурастаявшего снега). Тонет при опасных переправах через глубокие лужи, но я вовремя выхватываю ее. Ей нипочем грязь – ее так легко выкупать в очередной луже и вытереть клочком вырванного из тетради листка. В школе ее богатая и веселая жизнь прекращается. Она отдыхает от похода в темном углу парты, где я устраиваю ее как можно комфортабельнее – иногда для этого беру даже какой-нибудь лоскут или вату. Дома она путешествует со мной по саду. Мы вместе ищем под сгнившими листьями уцелевшие от осени грецкие орехи. Они в черной кожуре, но необычайно белы и сладки. И торчит из расщелины скорлупы крохотный росток.
16 марта. 7-й час вечера. Кировская
Нужно ли рыться в старых письмах, стихах, дневниках? Ленау[416] отвечает: “Не подымай руки на тот святой приют, где сердца прах лежит…” Но “сердца прах” – только фигуральное выражение. Что бы с ним ни было, оно живет. И для того, чтобы выпрямить его жизнь, и надо иногда воссоединить его с прошлым, заставить по-иному пережить то, что его “разбило”, воочию убедить его, что оно цело.
11 часов вечера. Аллина спальня
“Лозунги разрушения никогда не совпадают с волей к творчеству. В грохоте перестроек смолкнут одинокие голоса созерцателей и духовидцев. Каждый политический взрыв несет в себе угрозу накопленным ценностям творческой культуры и на время парализует источники ее дальнейшего роста”.
И подумать только, что осмелился это сказать. Леонид Гроссман[417]. Правда, в 1926 году.
С революцией баррикад и всяких других форм кровопролития не надо бы смешивать ее реконструктивного периода. Почему “грохот перестройки”? Здесь есть уже место, хоть и не почетное, тишине. Что касается оттока сил творческих в сторону перестройки, не надо забывать, что эти силы иных категорий. Ни Моцарт, ни Пушкин, ни Рафаэль ни в какую эпоху все равно не занялись бы инженерным делом или освоением Арктики. И даже Безыменский сидит с пером в руках где-нибудь в московской квартире, а не едет раскапывать апатиты или коксовать уголь. И вот вопрос: почему среди безыменских за 20 лет не появилось Пушкина? Не появилось даже Блока, которым зацвело темное “безвременье” перед 1917-м годом.
21 марта. Ночь. 12 часов
Открыла Евангелие: исцеление хромого. Открыла другой раз: исцеление слепого. Третий раз: исцеление сухорукого. Это я – хромой тихоход, слепец, не видящий солнца истины, сухорукий там, где нужно творить добро. Верую, Господи! Помоги моему неверию. Коснись меня краем риз твоих, и прозрю, и встану, и возьму одр мой и пойду, куда повелишь. Transcende te ipsum[418].
Как мучительно чувствуется необходимость преодолеть в себе все четвероногое и все насекомое, как тоскует душа о белых одеждах, о“ чертоге украшенном”, в который не войти без них.
Просвети одеяние души моея, Светодавче.
27 тетрадь 17.4-11.7.1937
20 апреля
Алла говорит, что Москвин, когда читал о дуэли Пушкина, плакал. Плакал он и на генеральной репетиции “Анны Карениной” – отцовски радуясь успеху Аллы. Дружески – постигая в силе ее изображения, что пережила она сама за последние годы, когда разрывалась между ним и сыном и не умела провести рубеж, отрезывающий прошлое от будущего.
Москвин – большой артист, богатая, яркая индивидуальность, сильный и ответственный за свои чувства и поступки человек. И все же я, вспоминая свое молодое отношение к Эросу, не могу понять, как можно любить – брачным тяготением, страстью – старика или старуху (Нежданова и Голованов[419], Книппер и Волков[420], А. П. Керн и ее Марков– Виноградский)[421].
Выражение страсти на старческом лице, где уже и морщины, и оплывы, и беззубость или вставная челюсть, во мне будит жалость, смешанную с мистическим ужасом и с отвращением.
“Опавшие листья” (посвящается Розанову)
“Цинизм – это страдания,
А вы этого и не знали” (Розанов)[422].
Розанов, которого знаю только по его портрету на одной из выставок, чем-то очень напоминает отца Леониллы, которого я знала в детстве. По рассказам о том и другом, есть между ними и внутреннее сходство. И в целомудреннейшем существе Леониллы есть какой-то смешок в сторону пола. Этот смешок бывает у Карамазовых от укуса “сладострастного насекомого”. У Леониллы без всякого укуса, с северным холодком и, пожалуй, с отвращением ко всему сексуальному в человеке. Но – смешок. Не результат ли он наследственного знания – некоторых карамазовских тайн (бессознательного знания).
Розанов смертельно обиделся бы на меня, узнав, что я сопоставила его отношение к Эросу с карамазовским. Не он ли вознес вопрос пола на религиозную высоту? Да – вопрос. И какой-то частью своего существа вполне искренно. Но осталась карамазовская усмешка (“Грушеньке, ангелу моему. И цыпленочку, если захочет придти” – надпись Федора Карамазова на конверте с 3 тысячами, приготовленными для Грушеньки).
Отличие “мистических” (их как-то бы надо иначе окрестить) восприятий, “мистических” постижений от эмпирических и рассудочных в том, что они не находят места в кругу дневного сознания. Они как бы забываются, лишь изредка, от особого толчка (любовь, смерть, какой– нибудь сон, встреча с человеком, у которого есть созвучные с нашим внутренним миром струны) они овладевают эмоциональной областью души, глубоко и невыразимо волнуют ее и откладываются в тайниках опыта, который понадобится нам уже не на этом свете.
23 апреля. Утро
Будуар А. Тарасовой, превращенный в цветочный магазин после первого представления “Карениной”.
Вокруг “Анны Карениной”.
Наконец в жизнь Аллы после двенадцати лет “зажима” и “прижима” вошли розы и лавры. Двенадцать лет большой актрисе давали маленькие, случайные роли, да и те давали редко. После триумфа Карениной особенно ясно, что делалось это из опасения триумфов, которые затмили бы режиссерских жен и директорских (Немировича) фавориток. Немирович дряхл, и, говоря о его фаворитках, надо иметь в виду просто соперничество его со Станиславским: Алла – ученица Константина Сергеевича. Много тут и обычного в театрах невнимания к человеку, к его правам и возможностям. Покойная Н. С. Бутова недаром говорила: “Мы – гладиаторы, театр – Цезарь. Ему ничего не стоит убивать нас”. В лице Немировича Цезарь убил в Алле Катюшу (“Воскресение”), Катерину (“Гроза”), Донну Анну (“Каменный гость”), “Бесприданницу”, которых собирались-собирались поставить, да так и не поставили. Я не говорю уж о таких преходящих, но для современности ярких, показных ролях, как Любовь Яровая. Все это прошло мимо Аллы. По приезде из заграницы, откуда Немирович ее вызвал телеграммой в сто слов с обещанием “богатства и славы”, ее тут же посадили на “Дно” (Настя “На дне”), потом в треневскую насквозь фальшивую “Пугачевщину”. А затем что же? “Горячее сердце”, Сусанна в “Свадьбе Фигаро” – никак не выявляющее основных сильных сторон Аллы, папиросно-бумажная Леночка в “Днях Турбиных” (притом без репетиций, дублирование, потому что заболела Соколова). И как нежданная уже, царская милость – “Таланты и поклонники” (милая, но, по-моему, устаревшая и не лишенная у Островского фальши и слащавости Сашенька). И это все – за двенадцать лет рвущейся к творчеству, зенитной молодости актрисы, которую сейчас ставят рядом с Ермоловой. Между прочим, это сравнение с Ермоловой, по-моему, неуместно. Услышав его в первый раз (после первой генеральной репетиции), я тогда же сказала Аллочке: “Когда тебя будут сравнивать с Ермоловой, говори: «Я божьей милостью – Тарасова». Не потому, что я ставлю Аллу выше Ермоловой, а потому же, почему вчера Немирович по телефону долго выяснял Алле ее некоторые преимущества перед Ермоловой при отсутствии, вероятно, некоторых качеств ее. “У Ермоловой, – говорил он, – героический темперамент, и все чувства она давала в героическом разрезе; у вас – вся гамма женских чувств, и женское обаяние, и красота (у Ермоловой последних двух свойств не хватало)”. Так сладко запел теперь по телефону дряхлый соловей после того, как восторженный, единогласный прием актеров, прессы, зрительного зала и правительства (не отсюда ли главная сладость напева дряхлого соловья, что видел сам, как рукоплескали власти?) подняли Тарасову на высоту, недостижимую для Еланской (доселе протежируемой Немировичем), Соколовой и других.
Вспомнилась мне бабушка при благоговейном выражении лиц и голосов, с каким читают и обсуждают отношение вождей: аплодировали, хвалили. Кто-то из них сказал на вопрос Немировича, не показалось ли им скучно: “Нам только тогда казалось скучно, когда наступала темнота”. И одобрили, поставили пять с плюсом.
Вожди – вожди. Они на месте там, где ведут корабль государства. И уместен энтузиазм к ним в случаях удачного курса, тех или иных достижений, тех или иных избежаний опасности в ходе корабля. Но почему считать их судьями там, где во много раз авторитетнее Немирович и даже Корнейчук. Корнейчук все-таки написал “Платона Кречета”, грамотную и сценичную пьесу. А из вождей никто не драматург, не критик, не режиссер. И так досадна эта тысячелетняя рептильная умиленность перед начальством за то лишь, что оно начальство (“И жить, и мыслить позволяют…”, “Ведь я – червяк в сравненьи с ним / В сравненьи с ним, с лицом таким – / С его сиятельством самим.”)[423].
Вчера по радио какой-то голос втолковывал стране, как ей понимать Анну Каренину и ее мужа. И о муже говорил, что это тип “бездушного бюрократа” и чуть ли не изверг. И что такова трактовка его и у Толстого, и у артиста Хмелева, играющего эту роль. Между тем главная заслуга Хмелева в том, что он дает почувствовать (в сцене примирения) живую и притом рыцарственную душу под черствой коркой душевной кожи. В сцене “примирения”, где он рыдает, припав к ногам умирающей Анны, мы верим, что он простил жену не только под условием ее смерти, но что у него хватит прощения и на жизнь (что и оказалось, когда Анна выздоровела). Когда он хрипло и деревянно (внешне деревянно) кричит: “Я люблю ее!” – особенный трагизм его воплю передает это несоответствие между смыслом слов (искренность их несомненна) и жестокой оболочкой их.
Алла говорила по телефону с Хмелевым, и мне захотелось сказать ему несколько слов. И вот это я и сказала – что велика его заслуга дать почувствовать в сухаре-сановнике, в “злой машине” человеческую душу, способную и на истинную любовь, и на величайшие страдания. И еще прибавила, что одна молодая женщина (это моя Ольга) сказала: – Я бы на месте Анны ни за что не изменила бы такому обаятельному Каренину с таким ничтожным Вронским (у Прудкина он вышел каким-то манекеном в мундире). И тут к телефонной трубке ринулся из другой комнаты муж Аллин, Кузьмин, и развязно начал поздравлять Хмелева с успехом в роли, которую сам играл в жизни Аллы последние три года. Леонилла, да и многие другие (Книппер, например) не отрицают успеха Кузьмина в этой роли, так как, не будь его или держи он себя иначе, не было бы тех сложных, мучительных перипетий, какие подобно мужичку из сна Анны перетрясли, перемололи, перековали и переплавили душу Аллы, что в творческом процессе породило такой образ, какова ее Каренина.
Цветы, цветы – и сирень, и розы, и громадные, с человеческую голову гардении и гортензии – белые, голубые, зеленые, зарёво-розовые. От Корнейчука – чудовищной величины корзина. Такая же, говорят, от театра. Алла отправила ее на свою другую квартиру, где Москвин. Настя Зуева, театральная приятельница Аллы, нелицемерная, может быть, оттого, что, хоть и молода, играет старух, считала корзины и с восхищением доложила: “Их четырнадцать!” А букетов уж никто не считал. Москвин подарил кольцо с бриллиантом и жемчужиной, две картины Левитана и одну Куинджи.
28–29 апреля. 11 часов вечера. Кировская
Слава подхватила Аллочку как шторм и понесла из затона, куда загнал ее тот же Немирович, который теперь делает вид, что он кормщик ее корабля, что это он вывел ее из затона. Телеграммы, телефоны, хвалебные письма, хвалебные статьи в газетах и цветы, цветы, цветы. Звание народной артистки СССР. Орден Трудового Красного Знамени. Слышу, как Алла говорит газетчикам по телефону: “Пишите, что я взволнована, подавлена, нет! – потрясена. Что я не ожидала ничего подобного. И что это огромная ответственность – такие награды. Я сознаю это. И слишком большая честь. Но я постараюсь заслужить. Пишите: отдам все силы. И очень благодарна правительству, как-нибудь сложите поскладнее”.
А мне сказала: “Знаешь, Вавик (так она меня зовет с детства), тебе, может быть, покажется странно, но внутри у меня такое спокойствие, как будто ничего не случилось. И даже больше, чем обыкновенно”.
Мне это не показалось странным. Я не знала славы, но знала так называемое счастье. И когда мне казалось, что оно огромно (и это было неожиданно), я ощутила такое же спокойствие, в каком душа, как будто поднявшись над собой, смотрит на то, через что она идет – на “счастье”, славу, победу, с такой высоты, откуда ей видно, что это не то, где она хочет жить, что это лишь слабое отражение и путь, один из этапов пути. И в общем (как и Алла повторяет это) и самая жизнь в такие моменты похожа на сон.
Мысли и образы прожитого дня.
Сегодня у Аллы банкет орденоносцев (она, Хмелев, Добронравов, получившие орден Трудового Красного Знамени).
И как это ни странно, я до самого сегодняшнего утра воображала, что мне нужно на нем присутствовать. И вывело меня из этого заблуждения солнце, хлынувшее в щель между стеной и занавеской. Такая была в нем сила убедительности в том, что нужно только то, что нужно душе для ее дыхания, роста и движения, что сразу стало смешно при мысли о моем присутствии на банкете. Начать с того, что мое присутствие ничуть не украсило бы его и в этом смысле не могло быть полезным Алле. Главное же – день страстной пятницы с детства отмечен для меня мистерией страстей Христовых. Что-то извечно родное из колыбели духовных прозрений человечества звучит для меня в древнелидийских напевах про Иосифа благообразного. Так же отпевали Адониса, Озириса, Там– муза, когда “в пустыне жены скорбные рыдали”. И соучастия в этом таинственном тысячелетнем празднике погребения мог бы лишить меня банкет. То есть лицезрение актеров, о которых заранее известно, что будут “глушить” водку (после шампанского), хвалебных речей и тостов, сардинок и апельсинов (больше ничего я все равно бы не ела).
Один из орденоносцев – Добронравов на вопрос, как он переживает титул народного артиста и орден, ответил: “Тошнит. И даже рвота была. Не выдержал организм: что-то мозговое начинается”.
4–5 мая. 11 часов. Тарасовская столовая
То, что снилось, говорилось… (Tempi passati.)[424]Рельсы, бегущие от воронежского вокзала мимо нашего домишки, мимо “ботаники” (ботанический сад), мимо архиерейского сада в завешенную тучами даль. Теплый поздний летний вечер. Рельсы отсвечивают зловещим серым блеском. Так же светятся дальние излучины реки Вороны. Мне 23 года. Сестре Насте 18. Мы идем с ней боковой тропинкой туда же, куда ведут рельсы, в сумрачную предгрозовую даль, где вспыхивают лиловые зарницы. Порой ветер доносит к нам тоскливые вздохи духового оркестра – “На сопках Маньчжурии”[425]. Как эта надвигающаяся необъятная тьма грозовой ночи, нас томит огромная неразрешимая загадка жизни, и этот узкий сжатый рельсами путь (железная необходимость), и собственная молодость, и мучительная “Жажда счастья – и рядом с ним – величественных дел” (Надсон!)[426].
…И до чего же включены в жизнь эти две девичьи фигуры. До чего тропинка их мечты ведет их мимо – мимо жизни, в непонятную для них самих даль. И мать, которую они любят так болезненно и так неумело, и дети, каких требует материнская природы их душ, какие могли бы у них родиться, и те поприща, на каких они бы отдали людям свои силы и дарования, – все осталось в стороне. Они идут в каком-то сомнамбулическом всезабвении, не думая о том, что на этом пустынном месте между двух рощ могут встретиться пьяные парни. Мечты, сны, жизнь (т. е. ее красота, тайна и страдание) переполняют их так, что им некогда подумать об ужине, о завтрашнем дне, о неотложных задачах быта. С любовным (друг к другу) волнением, с творческим подъемом, они делятся затопляющим их потоком, смысл и цель которого они напрасно силятся угадать.
Перелить этот поток в общее русло (с этого началась и очень неудачно заря их юности) они не умеют. Они смутно чуют, что высший, все– объединяющий смысл жизни в Любви. Но молодость, жажда встречи с Лоэнгрином и страстных объятий подменяет в них ту Любовь, которая стремится “положить душу свою за други своя”, пламенем Тристана и Изольды. И больше всего в этот сумрачный, полный грозовым электричеством вечер они говорят о любви. О тех ранах, какие она уже успела нанести старшей сестре, о тех предчувствиях ее разрушительной бури, какие несет в себе обреченная на гибель душа младшей.
7 мая. Ночь. Спальня Аллы
Несколько часов тому назад Алла приехала из “Метрополя”. Там был банкет для всех орденоносцев (кажется, их 43). Она явилась туда из Кремля, где Калинин раздал им ордена. Радуюсь за Аллу, после этого никакие Судаковы (такой у них есть режиссер, низкий человек) не посмеют ее прятать под спуд, как было до “Анны Карениной”. Радуюсь, но к радости приливает острая грусть и больше, чем грусть, – “тоска земного бытия”. Столько вокруг этого алчности, корысти, тщеславия, зависти, низкопоклонства. В Аллиной душе нет места низким чувствам. Но есть опасность для нее гордости. Есть опасность (да минует она ее душу!) стать богатым Лазарем, обрасти косматой шерстью нечувствия к тому, что кругом. И есть соблазн богатства, вкус к расширению потребностей. Уже была особая (правда, в ребяческих тонах) радость, что дали автомобиль (один на троих орденоносцев, через театр). У Аллы это, впрочем, все пена на поверхности ее существа. Живет она все же творческим процессом – уже теперь живет той будущей ролью, какую получит с осени. И это не для славы, а потому что она – божьей милостью артистка, божьей милостью Тарасова, дочь своего отца.
Но страшно за Алешу. Ему поистине и в высшей степени опасна роскошь и опорный пункт в положении матери. Ордена, автомобили… В высшей степени ему была бы полезна бедность, суровость обстановки, надежда только на свои силы, необходимость искать (как Сереже моему в 15 лет) чертежной работы.
И самое водевильное, и в то же время трагическое – ликование ее мужа по поводу всех этих благ. Его нескрываемая линия к участию в них, когда ему следовало бы, и давно, отрясти прах ног своих от этого дома, где его положение так унизительно. Сюда же в русло моей “тоски земного бытия” входит и то, что Книппер была в бешенстве, а Шевченко “ревела” от зависти, когда Алла получила орден, что Судаков, лишенный театром награды, сумел в полтора дня с заднего крыльца где-то добыть ее для себя. Но на банкете произошло два маленьких, зазвучавших живыми человеческими струнами события: Аллина соперница, до сих пор Аллу бойкотировавшая, Еланская, подошла к ней с поздравлениями и сказала: “Конечно, я тебе завидовала.” И другое: Алла предложила тост за большую, талантливую и т. д. со всякими лестными словами, – тост за свою закоренелую другую врагиню, Шевченко, которая вредила ей, как только могла. Вообще, на этом банкете (так говорит Алла) явилось впервые за эти годы у нее чувство, что они наконец – театр, как было в чеховские времена, а не отдельные, грызущиеся как псы, играющие в чехарду актеры и небрежные, нечестные, своекорыстные режиссеры (последнее относится только к Судакову, а небрежность к человеку, упрямство, мелкое честолюбие – и к Немировичу).
Опять Алла услышала о себе, что она первая в стране после Ермоловой трагическая актриса. И сказал (Немирович), наконец-то спохватился (!): – Вы должны беречь себя. – Это когда довели сердце до того, что оно никуда не годится (так сказали в Мариенбаде).
10 мая
В газетах – о гибели “Гинденбурга”[427] – громадного дирижабля, в котором сгорело 70 человек. Хорошо бы, если бы на всей планете в один миг по мановению какого-нибудь волшебника сгорели все дирижабли, аэропланы, дредноуты и навеки исчезли лиддиты и иприты и т. д. Если уж неизбежно народам драться, пусть выходили бы зачинщики драк на единоборство, как Голиаф с Давидом.
Рвутся театралы, как голодные к хлебному складу, на “Анну Каренину”. Звонят и к Мировичу, надеясь на близость его к Тарасовой. Платят по 100 и более рублей за билет, за место в очереди. Стоят в очередях целые ночи, чтобы в 9 часов получить билет. Массовый психоз.
Читала вслух Аллочке серию писем, пришедших со всех концов нашей страны.
Трогательны наивной формой, детской искренностью письма малограмотных людей: какого-то шахтера из Донбасса, рабочего, захолустной служащей, которые видели Аллу только в кино, в “Грозе” и теперь восторженно радуются, что ее наконец признали как “первую”, “единственную”, “несравненную” артистку. Пестрят слова “радуюсь”, “горжусь”.
До слез теплы умиленные старческие письма тех, кто видел ее в “Зеленом кольце”.
Выписываю лучшее из них, письмо старого пианиста Гольденвейзера[428], игру которого так любил Л. Толстой.
“Глубокоуважаемая Алла Константиновна, много лет тому назад я пошел однажды со своей покойной женой на спектакль второй студии МХАТ в Милютинский переулок.
Давали довольно слабую пьесу Зинаиды Гиппиус “Зеленое кольцо”. В спектакле этом чудесно играл старый Алексей Александрович Стахович. И рядом с ним, стариком, играли Вы, тогда совсем юная, почти девочка. Я никогда во всю жизнь не забуду того благоухания, той непосредственной свежести, молодости и яркого дарования, которые я почувствовал в Вашей игре. Это было одно из тех ярких художественных впечатлений, которые остаются на всю жизнь и ради которых стоит жить на свете…
После этого до меня дошли слухи, что Вы заболели и уехали на юг. Я, помню, очень опечалился этим известием. К счастью, или слухи были преувеличены, или Вам удалось поправиться, словом, Вы опять появились в Москве и стали играть в Художественном театре.
Я много раз видел Вас с тех пор на сцене и всегда высоко ценил Вашу игру. Но не скрою, образ той девушки, полураспустившегося бутона чайной розы, остался непревзойденным, остался поэтической мечтой.
В глубине души я все-таки ждал, – мне хотелось верить, что мечта осуществится, что я увижу тот расцвет Вашего чудесного дарования, возможность которого я почувствовал тогда, давно.
Вчера я был на спектакле “Анны Карениной”. Чудо совершилось. Та сила внутренней правды и искренности, которая так пленила меня в Вас, юной девушке, проявилась со всей яркостью в женщине, познавшей жизнь с ее трагической горечью, но сохранившей в неприкосновенности данный ей счастливый дар.
Я уже много жил на свете. Я успел потерять все, что мне было в жизни дорого. В личной жизни мне осталось одно – доживание. Но, слава Богу, я не утратил способности чувствовать прекрасное в жизни и в искусстве. Оно волнует меня с не меньшей, а может быть и с большей силой, чем в былые годы.
Мне хочется поблагодарить Вас за минуты, которые я вчера пережил как художник и как человек.
Простите это слишком субъективное высказывание, которое может показаться Вам неуместным. 7.5.1937. Москва. А. Гольденвейзер”.
25 мая. Ночь. Кировская
От Сережи письмецо: “В огороде все посажено и посеяно. Осталось только «досадить» тыквы и помидоры”. Милый, ни слова о том, что теперь все это труды его рук. И что при этом экзамены держит на “отлично”.
26 мая. Кировская. Ночь
Странное бывает порой отдаление, внутреннее разъединение между очень близкими друзьями. Это всегда почти совпадает с полосой усталости, депрессии. Но в эту же самую полосу душа не теряет живой связи со всеми окружающими, а с кем-то одним из них. Может быть, тут чувство самосохранения: этот человек, от которого мы отдалились временно, может быть, требовал от нас наибольшей затраты сил. Но это лишь одна из возможных причин. Чем объяснить чувство громадного пространства, которое вдруг легло несколько дней тому назад между мной и Даниилом, которого так живо и нежно люблю от самого раннего его детства. Мне трудно было взглянуть на него, как будто это был не он, а его двойник или какой-то оборотень, принявший его вид. Голос его ранил душу недоумением: откуда он (“что за наваждение!”). Сегодня в первый раз за две недели, встретив его взгляд за обедом – мрачногорделивый и обиженный, как во все эти дни, вдруг почувствовала, что он вернулся. Я улыбнулась ему, и он ответил долгой, детской своей чудесной улыбкой.
Потом я ему сказала: “Я не видела тебя две с половиной тысячи лет”. – “Я это очень отметил, – сказал он, – вы не смотрели на меня, а если смотрели, все равно не видели”. – “С этим ничего не поделаешь”. – “Да, это иррационально”, – задумчиво прошептал он, глядя куда-то вдаль.
31 мая
На днях, вернувшись со спектакля с расстроенным, оскорбленным видом, Алла рассказывала: “…Гоготали в самых трагических местах, там, где Анна говорит, что она беременна, там, где Вронский и Каренин плачут” (сцена примирения у постели умирающей Анны). Единственное место, где были посерьезнее: “Конец, где я бросаюсь под поезд”.
Настя Зуева (с сочувственным негодованием):
– И этому еще нужно удивляться! Такой публике надо, чтобы на ее глазах настоящий поезд раздавил актрису или чтобы на них со сцены вылетел поезд, в зрительный зал. Только тогда они почувствуют!
Педагогическая ошибка сзывать специально на “Анну Каренину” такую публику, которой и Островский еще не совсем по плечу (был закрытый спектакль). А если уж сзывать, необходимо было предпослать соответствующее объяснение – кто такой Толстой, что такое Анна и почему нельзя смеяться над ее двумя мужьями, плачущими у ее смертного одра.
Алеше 17 лет. Милый Телемах мой, к моей радости, порадовался таким подаркам матери, как Пушкин (в великолепном академическом издании). То, что он заинтересовался и даже полюбил Пушкина, – плод моего трехлетнего “менторства”. Еще в прошлом году я едва могла уговорить его прочесть со мной “Бориса Годунова”.
8 июня. Ул. Огарева[429]. Позднее утро
Много солнца. Вот уже третий день, как этот дом стал моим официальным кровом, и эта семья стала моей. В день обмена, когда я вошла сюда с серой бумажкой из бюро, утверждавшей мои права на это, ко мне навстречу выбежала златокудрая, голубая (в чем-то бледно-голубом), с лучезарными аквамаринами на шее Алла и крепко обняла с восклицанием: “Принимаю тебя в свое лоно!” Не менее торжественно и дружественно встретили мое переселение и остальные члены (моей отныне) семьи. И никогда я не чувствовала себя более бездомной в мире, чем теперь, когда мой двойник прикреплен к одной точке планеты до дня, когда его испепелят в крематории. Мой дом, Отчий дом, бесконечно далеко, за гранями мироздания. Освободившись от забот о хлебе и жилье (с кировской комнатой были неизбывные заботы), о завтрашнем дне, я чувствую, как тоска о “Доме” приливает все более и более требовательными волнами к душе. И в этом и есть смысл и благо моего сюда переселения.
28 тетрадь 12.7-26.9.1937
15 июля
Как истаяла за эти четыре месяца горя и забот Наташа (Сережина мать). Поседела. На 10 лет постарела. И как все же прекрасно ее лицо выражением светлого ума и душевной чистоты.
…Быстро смыкается вода над утонувшим в пучине Смерти. Вода забвения. Лета. Как редко вспоминаем Надежду Сергеевну (Бутову) мы, друзья ее. Нет двух месяцев, как умерла Катюша – учительница в доме Наташи. Дети ходят мимо рощи, где ее могила, весело, как и раньше, и никогда не говорят о ней.
20 июля
Все это мне захотелось перечислить для того, чтобы лучше оттенить те страхи с особенностями их, о каких буду писать каждый день в течение семи дней.
В Черниговской губернии.
Старинный дом в имении крупных украинско-литовских помещиков. Комнат неисчислимое множество. Часть их совсем закрыта и окна заколочены. Другие комнаты расположены жуткой анфиладой, всегда полутемной, с боковушками, где, казалось, кто-то поджидает тебя, когда ты идешь мимо. (Поджидает для того, чтобы напасть сзади.) В одной из таких комнат стоял бюст французской императрицы Евгении, как мне сказали. Фарфоровый, раскрашенный, в натуральную величину, с ярко-синими, странно живыми глазами. Попала я в этот дом по распоряжению партии на летний отдых к владелице имения, тоже члену нашей партии. Звали ее Елена Алекс<…>. Ей было 23, мне 21 год. Кроме нас двоих, в эту часть лета никого здесь не было. Родители Елены Алекс<…> умерли, именье принадлежало ей и еще двум сестрам – Наталье и Екатерине.
Когда мы приехали, сторож в тот же день рассказал нам о каких-то грабежах и убийствах по соседству. Елена Алекс<…>[430] спросила: “Вы как предпочитаете ночевать – одна или со мной в комнате?” Чтобы скрыть от нее странный, раньше незнакомый страх, какой внушал мне этот дом, я ответила, что хочу быть одна. Она зажгла свечку и проводила меня комнаты за четыре от своей спальни. И, проходя мимо комнаты с бюстом императрицы Евгении, осветила его и сказала: “Не правда ли, какие неприятно живые глаза”. И с этой ночи начались страхи, какие я испытывала в течение месяца каждую ночь. Они были связаны с пустотой комнат и в то же время с несомненным присутствием в них населявших их некогда людей. А главное – императрица Евгения. Ее синий, широко и напряженно открытый взгляд глядел на меня до рассвета через три или четыре стены, которые нас разделяли. Вдобавок в первую же ночь, укладываясь в постель и уже погасивши свечу, я услышала долгий, отчаянный, душу раздирающий крик. Зашевелились корни волос, и с убедительнейшей яркостью представилось, что в доме спрятался какой-то убийца. И конечно, он зарезал Елену, и это был ее предсмертный вопль. Но, может быть, она еще жива? Может быть, можно ее как-нибудь спасти. Как нарочно, спички упали с геридона[431]. И так, что при его мраморной тяжести нет сил отодвинуть его и достать их. Уже в настоящей лихорадке ужаса иду наугад по темной анфиладе к спальне Елены. И вдруг навстречу мне опять такой же протяжный вопль и луч света откуда-то, и через мгновение передо мной Елена со свечой в руках.
– Что с вами? – спрашивает она с тревогой. – На вас лица нет.
И в эту секунду я уже поняла, что таким невероятным звуком скрипели двери в ванную, откуда Елена вышла. Я призналась ей, что была напугана этим дверным воплем, потому что приняла его за ее крик о помощи.
– Ах, я и забыла вас предупредить, что у нас, как у Гоголя в “Старосветских помещиках”, поющие двери, – сказала она весело. Моего настроения ни в эту ночь, ни впоследствии она не понимала. Сама она была по-настоящему бесстрашна.
Но в конце лета довелось и ей испытать нечто похожее на страх.
Мы ходили купаться (тогда уже втроем – приехала еще Улита К. того же возраста) на пустынный берег реки, довольно далеко от дома. И шли обычно дальней дорогой, чтобы миновать старые ветлы, в дуплах которых, по словам пастухов, гнездились “волчьи шершни”. По местной легенде, достаточно было 12 их укусов, чтобы умереть в больших мучениях. Прибавлялось, что один пастушонок был уже так закусан. Забыла сказать, что не только волчьих шершней, но и таких насекомых, как пауки, кузнечики, черные тараканы, майские жуки, я боялась особым чувством отвращения, непонимания, кто они и зачем, и подозрения какой-то в них инфернальности. И на этот раз мы пришли на берег окольным путем, захватив зонтики, так как надвигалась туча. Когда мы были уже в воде, из соседнего леска вышло два парня, один с гармоникой и оба нетрезвые. Они подбежали к нашему платью, схватили все в охапку и со смехом стали удаляться, несмотря на наши гневные протесты. Тогда Елена (она была великолепна в эту минуту) кинулась к ним с угрозами стереть их за хулиганство с лица земли и, прежде чем они успели опомниться, толканула одного, который нес нашу одежду, так, что он упал, выхватила у него из рук всю охапку и с такой же быстротой очутилась на берегу, откуда, прикрывшись рубашкой, продолжала угрожать им всеми карами, какие только ей пришли в голову. Очевидно, ее сила, бесстрашие и угрозы подействовали на парней отрезвляюще. Может быть, к тому же они узнали в ней соседнюю богатую помещицу, но они ушли даже без руготни и не оглядываясь.
Пока мы одевались, туча заволокла все небо, по ней зазмеились молнии, загрохотал далекий, но все приближающийся с каждым раскатом гром.
Было решено ввиду грозы идти домой короткой дорогой, мимо волчьих шершней. “Начинается дождь, – сказала Елена, – под дождем они на нас не нападут”. Но дождь только накрапывал, когда мы поравнялись с ивами, и целая стая шершней бешено кинулась к нам. Мы оборонялись, вертя во все стороны открытыми зонтиками, но, если бы не вмешался в нашу судьбу внезапный ливень, они бы, конечно, нас искусали.
Когда же мы приближались в дому, грянул страшный громовой удар, и на наших глазах вспыхнул неподалеку, на краю деревни, овин и раскололось дерево. Тут я увидала побледневшее лицо Елены и была горда тем, что на этот раз она больше меня испугалась. Дома, при одной свече переодеваясь в сухое платье, мы вдруг услыхали сквозь раскаты грома и шум ливня страшные стуки в дверь, как будто кто-то в нее ломился. Я уже была одета в сухое платье, а Елена и Улита стояли в одних мокрых рубашках. Ясно, что я должна была отворить. Мне кричали обе девушки: “Не отворяйте, спросите – кто”. И вдруг я почувствовала, что не боюсь – после “волчьих шершней” – ничего человеческого. Без страха подошла я к двери и спросила: “Кто?” – “Да поштарь же”. Оказалось, это был весь промокший почтальон с письмами и газетами.
2 часа ночи. Нет сна. Попробую сверхурочно отбыть свое задание – описать второй “страх”.
Оспедалетти. Станция и небольшой курорт на Ривьере. Туда я попала, когда мне было 26 лет. Я только что пережила большое потрясение – несчастливую любовь, то есть окончательное крушение надежд, что она в какой-то мере, хотя бы и платонически, разделена. Мне хотелось уехать как можно дальше от всего, что ее напоминало, и, когда мне предложили стать воспитательницей двух детей 4 и 6 лет в одной миллионерской семье[432], я согласилась. С единственной целью – попасть за границу. К младшему ребенку, Жоржику[433], я не замедлила привязаться со всей затаенной жаждой материнства. Девочка, Женя[434], была мне менее близка, но и ею я занялась в такой же мере. Мать их, ожидавшая третьего младенца[435], пребывала в недомоганиях, в меланхолии и детей передала на мое попечение всецело.
В Оспедалетти отроги приморских Альп кое-где спускаются к морю отдельными узкими гребнями. По одному из таких отрогов по просьбе детей и по собственному безрассудному авантюризму я отправилась в одно лазурное утро на прогулку – Жорж впереди, Женя за мной. Незаметно тропинка перешла в узенькую полоску между двумя крытыми обрывами высотой в 6-7-этажный дом. Местами в ней стали появляться выбоины, через которые Жоржа надо было переносить. Нашу сумасшедшую экскурсию увидал знакомый английский пастор, снизу он стал кричать нам, чтобы мы вернулись, что впереди еще опаснее. Но он не понял, что я не могла пустить Женю вперед, не могла Жоржа, четырехлетнего, оставить назади, не могла его также взять на руки, да и все мы просто не могли повернуться на этом гребне, чтобы идти назад. Оставалось только с уступа на уступ, иногда по камням не шире ладони, продвигаться вперед вниз, к руслу высохшего потока. Я шла как сомнамбула, но сердце у меня было сжато тем неописуемым страхом, какой испытываешь иногда в снах-кошмарах. Дошли мы благополучно под градом пасторских восклицаний. Но с этим страхом не сравнится даже страх с “волчьими шершнями”.
Ах, я знаю, что не дает мне спать. Загнанная глубоко, бесправная, неожиданная, грызет душу тоска о судьбе одного человека[436]. Вернее сказать – передается каким-то подземным током огромная тоска, какую он теперь испытывает. Я думала, что переживаю его судьбу только отраженно через горе его семьи. Но вижу теперь, что все время доходит нечто и по прямому проводу. До настоящего часа оно, это нечто, не смело проникнуть в круг сознания.
21 июля. Утро. Карижа
Голубым сияющим утром Над игрою радужных рос Хорошо идти по дороге Ночных непросохших слез. И следить, как на каждой былинке, Загораясь, ликует свет. И ночные тяжелые мысли Обретают нежданный ответ… Солнце, солнце! Великое пламя, Изначальный огонь бытия, Торжествующей правды знамя, Да святится воля твоя.3-й урок. В Париже
Из Оспедалетти принципалы мои переехали к весне в Ниццу. Там Софья Исааковна Балаховская (мать Жени и Жоржика) понемногу усвоила себе раздраженно-барский тон по отношению ко мне. (Началось у нас с симпатии и прошло почти через дружбу.) Причины для раздражения, конечно, были – помимо тяжелой беременности и нараставшего разлада с мужем, во мне она обрела далеко не идеальную гувернантку. Я любила детей, умела их занять, но целодневное с ними общение стало для меня утомительным и тягостным soins corporals (физический уход). Я справлялась с ними неумело, неловко. И мне было странно, что при ее огромных средствах Софья Исааковна не догадывается возложить часть ухода за детьми на горничную отеля за какую-то приплату, о чем та сама намекала, но встретила отказ. Когда отношения окончательно расхолодились, Софья Николаевна Луначарская (потом Смидович), с которой мы очень сблизились, стала звать меня перейти к ним. У нее тяжело заболел муж (туберкулез мозга), и ей важно было иметь близкое лицо у себя в доме. И даже не это было главным мотивом, а приязнь, участие в моей судьбе и желание общей жизни. Мы в ту пору нежной заботливой любовью окружали друг друга, и за этот кусок жизни я храню нерушимую благодарную память милой женской душе, в то время так горячо несчастной и такой жизненно-доброй и чуждой всякого мещанства.
Когда родственница Балаховской, Соня (я так звала ее), молодая парижанка (и училась в Париже, и замуж вышла за именитого француза), очень дружественно ко мне относившаяся, узнала, что я ушла от Софьи Исааковны, она прислала мне приглашение пожить в их квартире – она знала, что мне хотелось побывать в Париже. Сама она и ее муж проводили лето в Биаррице и еще где-то, и в мое распоряжение была отдана художественно обставленная квартира на бульваре St. Michel с полным пансионом. В квартире оставался только преданный им слуга, Арман, домоправитель и великолепный повар (в торжественные дни его звали готовить к министру Делькассе – родственнику Сониного мужа). Арману было лет за 40. Это был краснощекий, сухощавый овернец (вместо звука “с” произносил “ш”). Он кормил меня разными деликатесами и смущал тем, что во время обеда стоял в дверях, расспрашивая, какое блюдо и насколько мне нравится, и обсуждал меню завтрашнего дня. На столе каждый день появлялся букет свежих цветов. И вообще заботливость его была изумительна. Когда я выходила после него, он очень беспокоился, чтобы я по рассеянности не оставила дверь открытой. Однажды он, отправляясь к Делькассе с этим же приговором по поводу двери: Surtout n’oubliez pas la porte, madame[437]. И прибавил: тем более что вы будете ночевать одни, ужин поздний, меня задержат до 2–3 часов, и я переночую у моего кузена (кузен служил у Делькассе швейцаром).
Вскоре после его ухода вышла зачем-то и я и, завернув за угол бульвара, усомнилась, заперта ли выходная дверь. Вернулась. Дверь действительно оказалась не так заперта, как учил Арман, а так, что отмычкой или подобранным ключом ее легко было бы отпереть.
Вечером, когда я вернулась в квартиру одна, я вспомнила эту свою оплошность, и на меня напало состояние, которое можно назвать ощущением близкой опасности. Я отвлеклась от него чтением и разбором заметок, какие делала для себя в музеях. В мою большую старинную кровать с бронзовыми амурами я улеглась без всяких страхов. И уже стала засыпать, когда услышала, как в моей комнате кто-то стукнул стулом. Сон соскочил с меня мигом. Я приподнялась и стала прислушиваться.
Уже появился в мозгу образ апаша, который пробрался в квартиру в те 10 Вот это и был момент величайшего, захватывающего дух страха. И в следующее мгновение явилась необходимость подавить его во что бы то ни стало, чтобы спокойно (я помнила, насколько тут важно спокойствие) спросить: Qui est là?[438] – В ответ прононсу странный сдавленный голос: C'est moi[439]. Moi qui êtes vous donc?[440] Спрашиваю еще увереннее и суровее. И слышу: Armand. На секунду отлегло от сердца. Значит не апаш, не стилет, не шелковый шнурок вокруг шеи. Но тут же вспомнились длинные блестящие взгляды Армана во время обеда, его букеты, его вопрос, не жених ли мой Петр Гермогенович (Смидович), который часто заходил ко мне.
– Но что вам тут нужно, Арман? – спросила я (конечно, по-французски) уже с гневом. На это он ответил:
– Я ищу спички (электричества в квартире не было).
Тут я сделала неосторожность.
– Спички возле меня, на столе. Я могу вам их дать, – сказала я.
Он приблизился, и я услыхала, что он опустился на пол возле моей кровати.
– Мне не нужно спичек, – раздался его голос с полу. – Мне нужно быть с вами. Я люблю вас.
– Или вы уйдете сию минуту, или я брошусь с балкона, – сказала я с определенным решением сделать это. Он помолчал. Потом сказал: – Я не могу уйти. Для этого я слишком влюблен в вас. – И вдруг мне стало его жалко. Я протянула руку и коснулась его лба и почти нежно, от жалости и от прихлынувшего доверия к его порядочности, стала говорить о том, как я ему верила, как не запирала к нему дверь, боясь апашей (из балконной двери), как он не знает, какое ужасное оскорбление наносит мне, забравшись в мою спальню, и как я его прощаю и ничего не скажу об этом его поступке его хозяевам.
В конце моей речи он вскочил на ноги, постоял с минуту, тяжело дыша, и крикнул, выходя из комнаты: – Заприте дверь. И помните, что женщина всегда должна запирать дверь в своей спальне.
Я уверена, что меня спасла тогда от нападения Армана моя девическая неопытность, мое объяснение его поступка влюбленностью и моя жалость к его “несчастной влюбленности”.
22 июля. Ночь. Бессонница. На станции Графской
4-й урок (“О страхе")
Мы жили там (с сестрой Настей) на даче только вдвоем. Мне было 28, ей 23 года. Домишко, только что отстроенный, совсем пустой, стоял одиноко в большом сосновом лесу у большой дороги, по которой нередко сновали какие-то оборванные безработные люди подозрительного вида. Все дачные знакомые дивились, как это мы не боимся жить так. Но мы с самой первой ночи стали бояться и настолько вошли в состояние страха, что ложились спать только тогда, когда становилось совсем светло. Это было непрерывное настороженное ожидание, что кто-нибудь из лесу или с большой дороги может ворваться к нам. Особенно страшно было в дождь, когда нельзя было различить окрестных шорохов. Однажды это настроение довело нас до какого-то сумасшедшего напряжения, требующего немедленной разрядки. Если бы у нас были среди дачников близкие знакомые, мы в ту ночь пошли бы к ним с просьбой о ночлеге, но таких знакомых не было.
Пошел дождь. Со стороны дороги смутно донеслись мужские голоса. Они не прошли мимо, а замолчали, не доходя до нас. В звуке дождя стали чудиться какие-то шорохи, шепоты.
– Притворимся сумасшедшими, – прошептала Настя.
Помню ее бледное как полотно лицо и расширенные, с настороженным взглядом, почерневшие глаза. Я распустила волосы, – они у меня были пышные и ниже пояса. Сестра закуталась с головой в простыню. Мы взяли в руки по зажженной свечке и с пением “со святыми упокой” стали ходить вокруг комнаты. Окна были не занавешены; и возможно, если злоумышленники действительно таились в эту ночь где-нибудь вблизи, они не решились войти, увидев такую жуткую процессию. Мы вошли во вкус представления и так расхаживали с похоронным пением до самого рассвета.
Во время этого хождения мы уже не испытывали страха. Образ близкой опасности был вытеснен из воображения нашей затеей, скованность, страхом порождаемая, рассеялась в движении, в звуке голосов. И вдобавок у нас явилась уверенность, что мы сами в этом виде наводим страх и что никто не посмеет напасть на двух сумасшедших. (Сестра была даже уверена, так как мы были окутаны в длинные, волочащиеся простыни, что нас примут за привидения.)
Урок 5-й. В Киеве
Это было в 1918-м, а может быть, в лето 1919-го года[441]. Я шла через летний госпиталь. Его палатки разбивались в роще, по склону горы, спускающейся с Печерска на так называемое Новое строение, где жили тогда Тарасовы. Вдруг с правой стороны дороги, огибающей лагерь, до меня донеслись дикие крики и вопли. И одновременно снизу, куда поворачивала моя дорога, – ружейные залпы. На повороте дороги стоял пикет, и солдат молча прикладом загородил мне путь. Тут же в стороне стояло еще несколько остановленных им прохожих.
По склону рощи неслись вниз люди в больничном белье. Молодые и старые. Евреи. Лица их были искажены смертельным ужасом, рты раскрыты в пронзительном нечеловеческом крике. Сверху их гнали нагайками конные осетины с пьяно-озверелыми лицами. Солдаты внизу прикладом и штыком загоняли их в сарай, откуда непрерывно раздавались выстрелы. Потом я узнала, что начальник госпиталя из сострадания укрыл в лагере несколько евреев-коммунистов, которым грозил расстрел, как и всем коммунистам во время прихода белых. На него был донос, и в результате поручили осетинам (почему-то ненавидящим евреев), полудикарям кровожадного вида, расстрелять всех евреев, какие окажутся в летнем госпитале.
Я не знаю, сколько времени мы простояли в созерцании этого чудовищного зверства. Страх сковал меня, особый, доходящий до безумия страх перед тем, что в нашем человеческом мире возможно такое насилие, такое убийство, такой ужас, какой испытывали эти бегущие под нагайками люди к неизбежной, неотсрочной смерти. Когда прекратились выстрелы, нам разрешили идти вниз. У тарасовского дома[442] под акациями стоял верблюд и ощипывал листву с ее веток, вытянув змеиную голову. (Это был осетинский верблюд.) Если бы я увидела под этим дерево гориллу или дракона, я бы ничему не удивилась и все бы стало для меня в тот момент символом ужасного страха, что возможно на нашей земле невозможное, свидетелем чего я только что была.
23–25 июля
Урок 6-й (“О страхе")
Киев. 1919 год. Осень. Толки о том, что зимой не будет ни водопровода, ни топлива, не будет электричества. “Спасайся кто может”. Семьи, с которыми я была душевно и жизненно связана, покинули Киев: Тарасовы уехали в Крым (Алла ожидала ребенка), Скрябины – в Новочеркасск[443].
Группе знакомых и двух-трех незнакомых мне лиц удалось каким-то чудом раздобыть теплушку, которую прицепили к санитарному поезду, отправляемому на юг. Прицепили к этой группе и Мировича. Теплушку нашу правильней было бы назвать холодушкой. Была одна ночь, в которую на нашей половине пассажиры едва не замерзли. Тут была мать М. Слонимского – Фаина Афанасьевна[444], племянник писателя Шестова Жука Давыдов[445], юноша лет 23–24. Массажистка Ев. Ал. (еврейка, дальняя родственница киевского сахарозаводчика Балаховского) и никому из нас не ведомая полька с годовалым сыном Мечиком. С другой стороны, комфортно завешанной коврами, поместился писатель Шестов[446] с двумя дочерьми и женой, которую в Киеве в скрябинском кругу прозвали Элеазавром (она была Анна Елеазаровна). Было в броненосной толщине ее душевной кожи, в физической и духовной угловатости, в примитивности ума и какой-то костяной силе, разлитой во всем ее существе, напоминающее динозавров, ихтиозавров, плезиозавров. Неврастеничного, слабохарактерного философа Шестова она прикрепила к себе неразрывными узами, родив ему двух дочерей и создав очаг, где у него был кабинет, в котором никто не мешал ему размышлять и писать. В этом вагоне Элеазавр следил ревниво, чтобы обе половины вагона не смешивались в продуктовой области, так как семья была снабжена гораздо обильнее и питательнее, чем мы. Ревниво относилась она и к беседам со мной, для каких Лев Исаакович осмеливался перешагнуть запретную зону. И скоро эти беседы прекратились. В ночь, когда мы коченели от холода, Лев Исаакович, однако, решился приблизиться к нам, привлеченный плачем старухи Слонимской. Он посоветовал нам лечь в кружок, друг к другу ногами. Не помню, послушались ли мы его. Знаю только, что, несмотря на жуткие ощущения холода, никто из нас даже не простудился. На половине Льва Исааковича ехал студент Михаил Слонимский, который тогда считался женихом старшей дочери Шестова, Татьяны. Он знал наизусть всего “Евгения Онегина” и всю дорогу декламировал отрывки из него.
В эту поездку суждено мне было три раза испытать страх. Первый раз, когда младшая дочь Шестова, Наташа, пошла в лес за хворостом для нашей печурки (тогда уже она была у нас). Поезд должен был тронуться, а девочки (было ей тогда лет 16) еще не было видно на опушке. Если бы она не пришла вовремя, конечно, отец остался бы на этой станции. И страх за него был еще сильнее страха за Наташу. На станцию могли прийти “белобандиты” и растерзать его за его семитическую наружность.
И вообще, я тогда всю дорогу до Харькова с замиранием сердца прислушивалась на остановках, не раздается ли: “Бей жидов, спасай Россию”.
Второй страх был пережит в Харькове, когда оказалось, что поезда дальше не идут, что надо оставаться на вокзале и ждать неизвестно чего. Но не к этому относился страх. Я – фаталист и в таких трагических положениях, как было и в Киеве во время 11– ти его переходов из рук в руки, смотрю на себя точно со стороны и очень издалека, хотя не без любопытства к тому, что это такое и чем это кончится. И с особым подъемом, точно мне поднесли стакан крепкого вина. Но, когда я поняла, что Лев Исаакович с семьей остается в Харькове, где у них были какие-то магазины, где можно было приютиться, и поняла, что он прощается со мной, покидая меня на вокзале, где насекомые хрустели под ногой perdute gente[447] и где потом четыре ночи пришлось сидеть на корзине с вещами, не имея надежды уехать, – когда я все это поняла, я испытала жестокий, головокружительный страх перед тем, что это могло, что это смело так быть с ним и со мной, что так смеет быть с друзьями (в то время мы были больше, исключительно внутренне и без тени “романа”, связаны, чем просто друзья). Этот леденящий страх затмил в моем сознании внешний трагизм положения за эти четверо суток. Жука, его племянник, навещал меня и мою спутницу каждый день. Лев Исаакович не пришел ни разу: Элеазавр не пустил. Как были прожиты эти дни и ночи на харьковском вокзале, трудно рассказать. Как бы во сне, где уже все возможно и ничто не может поразить. И как бы вне времени. Правда, четыре раза сквозь громадные вокзальные окна начинал проливаться тусклый октябрьский свет и погасали внутри зала огни. За буфетом появлялся у гигантского куба с кипятком человек, раздающий какой-то напиток, где слышалась горечь цикория. Отраднее его после бессонной ночи ничего нельзя было представить, уже потому, что он был горячий. К нему двигалась с рублями в руках бесконечно длинная очередь. Такая же, другая, шла к умывальнику, в уборную. Таковы были внешние грани между глубокими и как бы уже вневременными пространствами, через которые шла душа, далеко не всё доводя до сознания из того, что видели ее глаза. Они видели тифозных больных, которые тут же на полу, укрывшись шинелями, метались в полубреду. Видели солдат, которые в двух шагах от нас флиртовали с пьяными женщинами. Видели, как через какие-то сроки распахивались двери вокзала и в них появлялась новая толпа пассажиров очередного поезда с бледными, измятыми лицами и безумными глазами. Они уже знали, что дальше их не повезут. Что это конец света. В этом странном спокойном сомнамбулизме была такая отрешенность от всего житейского, что, если бы объявили тогда: всех под расстрел немедленно, – это показалось бы только естественным.
Вместо этого однажды кинулась ко мне моя спутница (после долгих неудачных хлопот) с гневными укорами: “Я одна хлопочу, бегаю, мучаюсь, а вы тут сидите как ни в чем не бывало. Хоть бы раз к коменданту сходили!” – “Да ведь вы уже у него были”. – “Что ж с того? Он не захотел со мной разговаривать. Он догадался, что я еврейского происхождения. Он известный антисемит”.
Без всякой надежды на успех я пошла с ней вместе в комендатуру. Там стоял у телефона в высшей степени аристократичного вида средних лет человек с надменными синими глазами, с холеной белизной рук, с кольцом на мизинце, где синел сапфир, похожий на его глаза. На этот камень я и засмотрелась, пока он говорил по телефону, изредка кидая на нас беглый недовольный взгляд. На вопрос, что нам от него нужно, я ответила:
– Разрешение проехать с воинским поездом до Ростова.
Он спросил:
– Вы жены офицеров?
– Нет.
– Сестры милосердия?
– Нет.
– Так на каком же основании вы просите?
– Без всякого основания, – сказала я, – из простого животного чувства самосохранения. – Моя спутница вмешалась, начала рассказывать о том, что я “известная писательница” – имя.
Он посмотрел на нее с дерзким презрением. Потом спросил, обратясь ко мне: “Фамилия?” Я сказала свою и ее фамилию. “Я позвоню, – сказал он. – Если будет место, поезжайте. Зайдите в кассу в 9 часов. Поезд уйдет в 10”, – и величественным жестом закончил аудиенцию.
В 9 часов оказалось, когда мы были у кассы, что билет дан только мне, другой фамилии в разрешении не было. Но спутница моя обнаружила такую страстную энергию в требовании и для себя билета, так уверяла, указывая на какую-то чужую фамилию в списке, что это именно она: “Хоть инициалы другие, так что ж с того? Разве дело в инициалах, дело в разрешении… Сам комендант… Превышение власти… Наконец, я умоляю, и я должна ехать вместе с Мирович”, – и т. д., и т. п.
Кассир, оглушенный, уступил. Потом, когда на это место явился офицер (она уже успела лечь, место было наверху), с такой же всепобеждающей волей к жизни, она умолила и убедила его, что “женщину офицер не может обидеть, не может поступить грубо. Она же не двинется с места. И у нее уже нет сил после операции (операции не было). И надо быть офицеру благородным человеком”. Офицер ругнул ее неарийское происхождение и ушел в другой вагон.
Вечером на другой день мы были на ростовском вокзале. Там, как и в Харькове, хрустели под ногами сыпнотифозные паразиты, люди лежали на грудах вещей или метались с ошалелым видом, что-то разузнавая, куда-то устремляясь в надежде найти дверцу в ловушке судьбы. Я решила ехать к Скрябиным в Новочеркасск. Татьяна Федоровна звала меня к ним еще в Киеве. Адрес ее я знала. Но мне сказали в кассе, что поезд в Новочеркасск пойдет только завтра утром.
Перспектива провести на ростовском вокзале еще такую же ночь, какие были на харьковском, привела меня к решению какой бы то ни было ценой избегнуть ее. Переутомление от четырех бессонных ночей, жгучий зуд от насекомых во всем теле (белье не снималось больше недели) сказались неотступной, неотложимой потребностью вымыться и выспаться.
Уже в вагоне я слышала, что в ростовских гостиницах нет свободных номеров. Но, надеясь на какую-нибудь сверхъестественную удачу, пустилась на поиски, оставив вещи под надзором спутницы (она объяснила, что не сойдет с места, так как боится пропустить поезд на Симферополь). Старичок извозчик терпеливо возил меня от гостиницы к гостинице под дождем и ветром по темным улицам – фонари горели лишь на главном проспекте. Везде удивленно и сердито отвечали: “Ничего нет”. Услыхав это “ничего” уже, кажется, в шестой раз, я стояла в раздумье у подъезда какого-то захолустного вертепа с красными фонарями, с моим дырявым мешком, где были все деньги и документы. Извозчик уговаривал “покориться и ехать на ночлежку к вокзалу”. В это время из дождевой мглы выступила маленькая фигурка в высоком цилиндре, и вежливый голос сказал: “Я могу вас проводить к очень приличным дамам. Они возьмут за ночлег 200 рублей. Мне – сто за комиссию. А в гостиницах вы ничего не найдете”. “Хорошо”, – сказала я. “Ох, нехорошо, – сказал извозчик. – Куда лучше – на вокзал”. “Дайте ваш чемодан”, – сказал маленький человек. “Не давайте”, – сказал извозчик. Но я дала – он был довольно тяжелый. И кроме того, недоверием я боялась обидеть моего покровителя. И вдруг он с чемоданом помчался так быстро, что я мгновенно отстала от него, а он пропал за углом. Но это еще не был страх, а нарастание событий, как бывает в сложных тяжелых снах. Мелькнула мысль: “Как же теперь, без документов, без денег”, – но как-то издалека и точно не обо мне. Не прибавляя шагу, я дошла до поворота и увидела при свете, падающем из окон на темную улицу, как мой таинственный гид, перебегая с места на место, смотрит куда-то вверх. Потом он подскочил ко мне и сказал: “Этих особ нет дома. У них не видно огня. Придется подождать в молочной. Тут есть неподалеку хорошая, в ней можно иметь и яичницу”. Я тупо согласилась ждать в молочной. “Что вам заказать?” – спросил он. При лампе в молочной я увидала, что у него правильное и точно у деревянного манекена недвижное, какое-то отвлеченное, выдуманное, из сказки Гофмана лицо. Меня стала мучить мысль, что это фантом. Надо будет спросить, кто он, имя его. Да и есть ли он еще? Может быть, все это снится. “Так что же вы себе закажете?” – опять раздался его голос уже настойчивее. “Я ничего не хочу”, – ответила я, удивляясь, что можно говорить и думать о еде. У меня уже начался жар, который через сутки разразился сильным гриппом, а один из врачей уверял, что это была сокращенная и без сыпи форма сыпняка.
– Тогда закажите для меня, – сказал фантом. – Яичницу.
– Заказывайте что хотите.
Через пять минут он ел передо мной яичницу с нескрываемым наслаждением, от созерцания которого у меня подымалась тошнота. И мучила мысль, как же и зачем он ест яичницу, если он призрак.
Чтобы проверить, человек он или нет, я спросила (не знаю, почему именно это):
– Вы еврей?
Он так обиделся, что уронил вилку и поперхнулся яичницей.
Рыжеватые глаза его сверкнули.
– Почему вы это спрашиваете?
– А вы почему обиделись? Что же тут плохого – быть евреем? Важен человек, а не его национальность.
Он успокоился и сказал с достоинством, принимаясь за яичницу:
– Я – грек.
Когда он докончил свою порцию, он вскочил и сказал:
– Теперь я пойду узнать, не вернулись ли дамы. – И убежал. Через четверть часа ко мне подошла молодая прислужница в молочной и сказала с усмешкой:
– Вам придется уйти. Мы сейчас закрываем.
Я очутилась на перекрестке двух пустынных улиц. Шел дождь. Свирепый ростовский ветер с воем носился вокруг. Я решила уже просидеть ночь на этом крыльце, когда показался под фонарем мой грек.
– Дамы еще не пришли. Но тут близко есть еще одна молочная. Она закрывается в час ночи. – Там он заказал себе еще одну яичницу. И, покончив с ней, опять убежал. Заведующая молочной спросила меня:
– Вы знаете этого человека? (Сначала она спросила, не заболела ли я тифом.)
– Нет. А что?
– Он тут бывал. Он мне кажется подозрительным. Приводит приезжих. Они его кормят. Он, верно, обещал вас устроить на ночлег.
– Обещал.
– Ни за что не соглашайтесь. Это ведь Ростов. Может быть, он водит дам в притон. И там их грабят и убивают.
– Все равно, – ответила я, к ее удивлению.
– Вот охота пропадать! Лучше оставайтесь ночевать у нас в молочной. На прилавке. Мы вас запрем. А в 8 часов отопрем. Ваш поезд когда? – Я сказала, что в 10.
– Вот видите! Вы тысячу раз успеете на вокзал. И никто вас тут не убьет. Разве только крысы будут беспокоить.
Услыхав слово “крысы”, я поблагодарила и предпочла им притон. Через какой-то срок мой грек вернулся и шепнул мне с таинственным видом:
– Дамы пришли.
Он подхватил мой чемодан и рысью под дождем помчался по каким-то переулкам. Остановился у мрачного туннеля, который вел во двор между двумя четырехэтажными домами.
– Здесь не произносите ни слова, – сказал он. – Ни звука. Нас сейчас встретят.
Из туннельного мрака выросла гигантская фигура в остроконечном капюшоне и, молча схватив меня за руку, повела через туннель. Потом мимо каких-то дровяных штабелей и куч железного хлама, потом по внешней пожарного типа лестнице, ломаной линией бегущей вверх, мимо стены, на четвертый этаж. Грек шел сзади. У четвертого этажа он шепнул: “Мои сто рублей”. Они были заготовлены еще в молочной. Я отдала ему эту бумажку, и он быстро стал спускаться. Помню спокойное любопытство: как меня будут убивать. И готовность к концу. Никакого сожаления о жизни. Никакого протеста. Но и никакой торжественности смертного часа. Почти равнодушие, но совсем особого свойства – ледяного, неотвратимого. И может быть, от него шевелились корни волос и выступал холодный пот. Щелкнул ключ. Отворилась в стене узкая дверь. Рука гиганта капуцина перетащила меня через порог в ярко освещенную кухню. И, когда с гиганта упал плащ, я увидела, что это женщина неестественно громадного роста с добродушным, смеющимся немецким лицом. “Перепугались?” Я ответила: “Не знаю”. Тут уж все пошло в идиллических красках – горячая вода, кипяток для белья, унизанного мелким жемчугом сыпнотифозных насекомых, чай, постель с чистым свежим бельем. Гигант оказался учительницей немецкого языка, подрабатывающей тем, что пускала ночевать приезжих. Учитель греческого языка доставлял им клиенток. Спросят меня – где же тут о страхе? Отсылаю к началу и тем строкам, где друг и его семья оставили меня на харьковском вокзале.
4 августа. Ночь. Малоярославец
Ангел с мечом огненным, попаляющим все на пути своего полета, пролетает иногда над целой страной, иногда над одним городом, и всегда на земле над какой-нибудь группой лиц – над шахтой, над войском, над семьей и над отдельными, одиноко гибнущими людьми. Оттого молятся в ектенье “о еже избавитися нам от глада, мора, труса, огня, меча, нашествия иноплеменных” и “от болезни, печали, клеветы людской”…
Ангел с огненным мечом пролетает над дорогим мне домом…
И хоть верю, что он может погубить только внешнее благосостояние, только здоровье, только жизнь, не душу – шелест его крыльев пугает и томит сердце. Как в ночь, когда Сын Человеческий “плакал и тужил” в Гефсиманском саду, хочется молить: да мимо идет чаша сия! Мимо Сергея, мимо его отца, его матери, мимо моего сердца. И нет сил сказать из самой глубины по-настоящему: “Пусть будет не так, как я хочу, а как хочешь ты”.
Сережа ни с того ни с сего собрался в Боровск за 22 версты. Пешком. Один. Когда его отговаривали, у него появилось в лице выражение, которое напомнило глаза раненого молодого оленя на какой-то гравюре. Стало ясно, что ему нужно на какой-то срок спастись от тяжести, нависшей над их жизнью. В частности, от ухода за медленно умирающим дедушкой и от созерцания разрушения его сил и умственных способностей.
5 августа. Ночь. Малоярославец
Сережа вернулся из Боровска несколько освеженный, но с сильным тиком, какого давно у него не было.
У Наташи температура выше 38-ми. Плеврит. Мучительный кашель. Бабушка (мать Наташи)[448] сломала руку.
Я увела Нику в Карижу. Ходили с ним в лес за орехами. В лесной свежести, под ореховыми кустами, под радостные вскрики детей и я забыла на время ангела с огненным мечом. Так, говорят, на фронте играют в карты, читают романы, радуются папиросе или конфете, в то время как в полуверсте гремит все приближающаяся канонада. Что такое канонада? Нестерпимо громко выраженная все та же близость боли, увечья, смерти.
Лепет Ники (6 лет) по дороге в Карижу: “…я видел сейчас трех жучков. Трех сразу! Один большой, красный с черным узором. Два поменьше – должно быть, его дети. Или, может быть, он – предводитель жучий. Слышишь, как лес шумит – это его разговоры. Дерево – как человек ведь. Корни – его ноги. Ветки – его руки. Верхушка – голова. Я покажу тебе холм, где стоял Наполеон, когда его войска затопляла лужа. Он вон там стоял. А где он теперь?” – “Сто лет тому назад умер”. – “Ого– го-го, как давно! Значит, он больше сюда не придет”.
3 часа ночи. Бессонница
Наташин кашель вызывает видения холмика под березами ближнего кладбища. Воображение нелепо силится представить, что будет без нее с детьми. Боже, милостив будь к ним и к ней. А мне пошли сон “мирен и безмятежен”.
4 часа ночи. Нет сна и нет молитв. Слышу, как Наташа говорит сквозь кашель сестре, вставшей с предложением “теплого молочка”: “Дай мне поплакать”.
Она поглядела на меня сегодня долгим, из глубины глядящим взглядом, в котором я прочла, что она не надеется выздороветь.
Но так уже было с ней три года тому назад, когда и я была близка к исходу души из тела. Этот взгляд я помню у нее в те времена. И тогда ей было еще хуже – задето было горло. И совершилось ведь чудо. Надо верить в него и теперь. И не только верить, но и надеяться. (Надежда – вера в напряженном, в активном, в творческом ее состоянии.)
Всю тоску, какая томит Наташу ночью о спутнике ее, о судьбе его, я ощущаю, как волну, покрывающую меня с головой. И все ее переливы, все оттенки. И не умею выплыть из нее в открытое море, в беспредельность.
6 августа. Ночь. Малоярославец
Наташа сказала матери: “Я знаю, что я умру, лечите или не лечите меня – все равно”.
7 августа
День рождения Сережи (15 лет).
Чудесное утро, золотое, синее, прохладное. Наташе лучше. И верится всей душой, что будет чудо, что одолеет она болезнь.
Как вчера молились о ней дети! Я смотрела на них из темной террасы. Димок то закрывал руками опущенное на грудь лицо, то подымал его кверху, глядя куда-то ввысь. И все оно было залито слезами, и недетская скорбь светилась в больших умных глазах. Скорбно, трагически, но с горячей сосредоточенной верой глядели в невидимое, неведомое (ее душе ведомое) черные, пламенные глаза Елизаветы. Робкой надеждой и глубокой печалью было освещено повзрослевшее, утоньшившееся, нежное лицо Сергея. И все они одновременно падали ниц и долго оставались так в совершенной недвижности и безмолвии. Когда же они выпрямились, стоя на коленях, личики их светились, как алебастровые лампады, внутренним светом.
22–23 августа
Злобы дня.
Искала оправу для очков с переносицей 56, роговую. Ищу уже год. Начали болеть глаза от старых стекол в сломанной оправе. Сегодня решила (вернув в “Оптику” стандартную на штифтах оправу, от которой болит и нос, и глаза) во что бы то ни стало добыть очки. Исходила пол– Москвы. Везде только стандарт. Вернулась домой, ниткой и проволокой скрепила жалкие обломки очков. И хоть уже не по глазам они и то и дело нужно от них отдыхать, но все же это легче, чем мучительное давление штифтов на переносицу.
Встреча Громова, Юмашева, а третьего забыла[449]. Пролетели над Арктикой 10000 километров. Триумфальная встреча, приостановилось движение на улицах, где они ехали. Музыка, цветы. Я включила радио и позвала из кухни домработниц. Шура удивилась и покраснела от благодарности. Она знает, как мне трудно переносить радио. Я сочла, что им, именно им, пролетаркам, необходимо отойти от плиты и участвовать в этом ликовании, хотя бы через хриплые звуки радио. Кстати, рассказала им, что такое полюс (они не поняли, кажется, не поверили). А Леваневский вряд ли жив[450]. Или хуже – где-нибудь искалеченный, без помощи, на льдине. “Оленя ранили стрелой, а лань здоровая смеется”. И вот я хожу по улицам, смотрю на детей, читаю то, что мне интересно. Живу. И пока у меня (сегодня) ничего не болит, только голова опять дурманится. А Наташа в плеврите. И прибавилось воспаление легкого. И все время должны мучить ее мысли о судьбах самых дорогих ей существ. Особенно если она не верит в выздоровление. А она не верит. Боже, милостив будь к нам, грешным.
7 сентября
В самых несчастных обстоятельствах человек может оставаться честным (верным себе). Шекспир.
Москва. 2 часа ночи
Приехала Алла из Парижа – Ниццы – Монте-Карло. Гора парижских тряпок, бусинок, вуалеток. Внимательно заготовила всем домашним подарки и, сияя детской радостью, целый вечер раздавала и комментировала их.
Завели патефон, и понеслись из него французские фокстроты, потом голос Шаляпина: “В 12 часов по ночам” и “Во Франции два гренадера”. Выдвинули на середину комнаты стол, на нем Юрина жена, Татьяна, поставила великолепный букет из красных гвоздик. За ужином Алла без умолку рассказывала о выставке – о русском и немецком павильоне, о тысяче выдумок европейской цивилизации. Некоторые из них привезла домой. Хорошо описала самый Париж, его физиономию, его обаятельность. И очень хорошо сказала о Джоконде (несколько раз ходила в гости к ней и к Милосской Венере): “Я была раз в таком настроении, когда все раздражает, когда преувеличиваешь всякую неприятность. Подошла к Джоконде. Раньше я как-то не понимала ее. И теперь она мне не показалась красивой. Но глазами и улыбкой она до того ясно сказала мне, что я как будто услышала ее голос: «Все это такие пустяки. Надо быть выше этого». И такая у нее мудрость в глазах. Такое понимание жизни… Ушла от нее совсем в другом настроении, чем пришла”.
8–9 сентября. 10 часов вечера. Москва
Среди цветов, поднесенных Алле к ее первому спектаклю в сезоне.
Тропа цветов. Со стороны незаметно, сколько на этой тропе мелких и крупных колючек. Цветы, как и овации, и все эти парижские одежды и украшения, которые составляют теперь фон Аллиной жизни, не уменьшают, а может быть, еще ярче оттеняют теневые пятна ее.
Жоржетта (француженка, ходит на дом шить) просила Аллу привезти из Парижа горсточку земли, чтобы с ней опустили ее в могилу. Алла привезла ей вместо земли из Парижа чудесные и даже не совсем увядшие розы. Жоржетта, припав к ним головой по-французски театрально и в то же время искренно, плакала до тех пор, пока ей показали другие подарки, ей привезенные: наперсток, ошейник (под бирюзу), бисерный браслет из букв Paris и год выставки, журнал мод, какую-то розовую брошечку. Это ее в такой степени утешило и так подняло настроение, что она целый день чувствовала себя по-детски.
17 сентября. Ночь. Ул. Огарева
Гражданин, гражданин! Что вы делаете! Опомнитесь! Гражданин, как вы смеете бить женщину! Негодяй!
На эти крики Аллы я бросилась на балкон и увидела с балкона в большую открытую форточку нижней соседней квартиры, как худощавая рыжая немолодая женщина с растрепанной головой ползет на коленях к двери, а белокурый с манекенным лицом, причесанный у парикмахера мужчина, по виду моложе избитой женщины, пинками поощряет ее двигаться поскорее. Потом он распахивает дверь и выталкивает ее в коридор. Алла не перестает звать дворника. Всполошились еще какие-то вышедшие подышать ночным воздухом люди со двора. Мы увидели через несколько минут в эту же форточку, как в двери негодяя постучались и вошли какие-то мужчины с угрозой выселить его за ежедневные побои жены.
Но самое замечательное в этом отвратительном эпизоде было то спокойное, отчетливое охорашивание, с каким эта blonda bestia[451] поправляла перед зеркалом прическу, завязывала галстук и потом куда-то отправилась (в первом часу ночи). Наша кухня комментировала: “Так у них давно. Он ее еще в июне тузил. Кричала на весь двор”.
29 тетрадь 27.9–9.11.1937
27–29 сентября. Севастополь. Картинная галерея
“Моего возлюбленного звали – Море”. В. Мирович.
Самое важное из того, что может дать нам любовь в дни молодости, – Мост к миру и человеку через душу возлюбленного. Крылья. Ощущение бессмертия.
Всё это во всей полноте дала мне у самого конца жизни встреча с морем, которой я с такой тоской жаждала последние три года. Надежд на эту встречу при скудости моего бюджета было так мало, что скорее это были просто мечты и тоска, а не то, что называют надеждой.
Но всё по-настоящему нужное нашей душе всегда приходит в сужденный срок.
Два дня я у моря.
Не знаю, смею ли я делиться с людьми тем, что оно мне дает, и найду ли слова.
Впрочем, не общее ли достояние – всё по-настоящему важное, что происходит с одним человеком?
Только вот трудно найти слова. Попробую.
“В начале мира был Хаос. Земля была неустроенна и пуста. И дух Божий носился над бездною”. Образ этой бездны и духа, носящегося над ней, море удержало в своей стихии. И когда душе понадобились для обновления самые древние воспоминания, ее неудержимо потянуло к морю.
Глубинный восторг встречи и воспоминания, которые хлынули в душу сквозь сети повседневности, могла бы рассказать в какой-то мере только музыка. Она звучит во мне не переставая, но так как я в области музыки – неуч, невежда и нот даже не знаю, так это и останется нерассказанным. Но пусть знают, что нерассказанное, несказанное – было. И принесло ощущение бесконечности жизни, вечной молодости и конечного слияния всего сущего в едином Целом.
К тому, что я сейчас рассказала, тесно прилегает воспоминание похожего события на заре моей сознательной жизни, между 5–7 годами. Тоже в Крыму. В Балаклаве, а может быть, и в Ялте, куда отец привез нас с целью “осесть на землю”, разводить виноград и табак. Все это ему не удалось, но жили мы в Ялте среди неудач и бедности года два.
Однажды отец поехал со мной в кабриолете по каким-то своим делам. (Теперь припоминаю, что это было где-то в горах под Ялтой: в Балаклаве отец с нами не жил.) Мы возвращались домой перед вечером.
Отец остановил лошадь, привязал ее к дереву, а сам опустился со мной на траву на высокой крутизне над морем. Необъятность морских горизонтов, шум прибоя, дикий аромат сухих трав потрясли меня так, что я стала рыдать. И мне помнится, что отец понял, почему я плачу. У него было бледное, белое (обычно красноватого оттенка) лицо и глаза, полные слез и сияющие каким-то белым светом. Вероятно, мы пережили нечто одинаковое и для моей детской души настолько непонятное, что я разразилась плачем. Это было какое-то грозное, потрясающее счастье познания и соединения с Целым (с необъятным и непостижимым Целым). Может быть, это было космическое сознание, о котором пишет доктор Бэкки[452]. Оно пришло в таком раннем возрасте, что душа не сумела облечь его в жизненные рамки; не окреп мозговой аппарат, не было нужных накоплений ни в чувствах, ни в умственной области. И опыт громадной ценности как бы заглох в недрах души, вспыхивая изредка в кругу сознания с меньшей силой, чем в детстве. И только теперь, в старости (через 6о с лишком лет!), он повторился настолько же сильно, как тогда. И теперь я понимаю, что влекло меня к морю так неудержимо последние годы. Только море могло вызвать и закрепить в душе пережитое в младенческие годы расширение сознания.
30 сентября. 10 часов вечера. Картинная галерея
Я устала от счастья (другого слова не придумаю). Не могу вместить того, что во мне происходит. Рвутся какие-то путы. Сгорают остатки недогоревших душевных тканей, составлявших непрозрачную оболочку души. Может быть, это идет смерть. И пусть бы пришла. На этой точке, где я, нельзя оставаться долго. Надо или спуститься в долину – к обычным чувствам, к людям, к злобам дня. Или порвать со всем “обычным”. Смерть. Сумасшествие.
Всю жизнь боялась я сумасшествия. Особенно с той поры, когда психически заболела сестра. И в этой боязни отклонилась от сужденного мне пути. Этот путь мог и не привести к безумию, но он пролегал возле его грани. Малодушно было бояться этих граней и, сторонясь от них, спускаться в “долины”, в сутолоку быта, в затоны покоя. Пропущены – сейчас ясно чувствую это – такие возможности, каких в этой жизни уже не воротишь.
Научитесь узнавать лики событий. Крупные, яркие события, даже такие, как брак, иногда несут в себе меньше значения в истории души, чем какая-нибудь мимолетная, в глазах всех (кроме ваших) незначительная встреча, вовремя попавшаяся книга, вовремя пришедшая перемена места, какое-нибудь слово, слух о чьей-то смерти.
Чтобы распознавать лики событий, нужно слушать своими (а не чужими) ушами, смотреть своими глазами. И непрестанно внимать себе, своему даймону[453].
Мозговой аппарат все-таки очень плохо приспособлен для сверхобыденных состояний души. Недаром всю ночь (после встречи с морем) меня мучили сны, где больная (психически) сестра Настя то заболевала на моих глазах, то исступленно на меня нападала, то гонялась за мной и, поймав, горячо обнимала.
1 октября
Ночь. Непоздняя. Тепло, но не по-летнему.
Дивный был закат. (Смотрела с высокого бугра.) Море туманно-розовое поближе к солнцу, громадному – пунцово-красному. А дальше сизое, меркнущее, отливающее и синевой, и сединой пространство. Известково-белые, какие-то по-восточному приземисто-кубические дома на фоне этого видного простора волнуют душу воспоминанием Алжира, Туниса, Яффы[454], Смирны[455] – стран, где Мирович не был (был только в Смирне), но которые он именно “вспоминает”. Вспоминает душу этих городов. Вспоминает – свою ли, чужие ли жизни – там прожитые…
Но раз ты спустился в быт, Мирович, запиши, что видел по дороге сюда, к этой красоте, к роскоши свободы (от забот) и довольства, избыточного даже.
На станции Лозовой из окна скорого поезда ты видел, как под дождем на скамье у водосточной трубы нищего вида женщина нацедила в кружку воды и, обмакивая туда черный хлеб, стала кормить ребенка. Он плакал и отворачивался – вечер был сырой, дождливый, – ему, верно, хотелось чего-то теплого. Я хотела отнести им остатки моих подорожных запасов, но (не символично ли это) крепко были заперты с двух сторон дверцы нашего вагона (скорый поезд, где и третий класс с занавесками, лампами, с постельным бельем и рестораном под рукой). Вечная притча о бедном и богатом Лазаре.
На другой станции, кажется, в Синельниково, перед окнами, в полутемноте, – свет падал от дальних фонарей вокзала, – появились маленькие странные кривляющиеся фигуры. Я и еще одна пассажирка, милая молоденькая еврейка в локонах, стали вглядываться и поняли, что это дети, мальчики лет 9-12-ти, то протягивают руку, то подносят ее ко рту. Стало ясно, что они просят хлеба. (Евреечка первая с восточным темпераментом схватилась за голову с криком: Господи! Голодные дети! Под дождем!)
Пока мы бросились за хлебом и другим провиантом и заметались от двери к двери, наш сытый комфортный поезд свистнул и откатился. Ничего не уделив от своих благ черным фигуркам, которые еще некоторое время бежали за ним, стараясь попасть в четырехугольник света, падающего из наших окон.
Что такое Севастополь (для меня)? Прежде всего, больше всего, неизмеримо значительнее всего – море. Затем люди (Кореневы[456]) – смесь аристократизма и артистической богемы, их высокая культурность и человечность.
Воздух, чудесный морской воздух, которым дышишь после Москвы с тем жадным упоением, с каким усталый, изнемогающий от жажды путник в знойный день припадает к прозрачному холодному ключу.
Узкие, ползущие кверху каменистые улицы, и лестницы на них со всех сторон, и низкие заборы из крупных камней – всё как в старинных прибрежных городках Италии. Сходство увеличивается силуэтами кипарисов и пышными кронами платанов.
Крохотный трамвайный вагончик (или два – один из них летний, открытый), бегущий такой мелкой рысью, что хорошему пешеходу ничего не стоит обогнать его.
Приморский бульвар – вернее, большой сквер. Цветы, много цветов. Гравий, хрустящий по дорожкам. Внизу у самых волн белые полотняные кресла (платные, по 30 копеек за час). Можно слушать прибой и не видеть ничего, кроме бухты, северного ее берега с массивным фортом у выхода в море, и дальше – величавой, причудливо изменчивой беспредельности моря.
И еще – смешные, чуждые великорусскому уху названия: франзоли (белые булки), ставриды (такие рыбки), продажный пункт (где что-то распродается). И на татарском языке вывески.
4 октября. Картинная галерея
Глубокая ночь
Ах, эти маленькие повседневные драмы старых людей, из беспомощности, неловкости, бестолковости – от недослышания, забывания, медленного соображения.
Некогда (теперь ему 70 лет) красавец, остроумец, всегда “как денди лондонский” одетый, Анатолий Григорьевич (Коренев) теперь часто стоит в затрапезном сюртучке, в ночных туфлях, опершись о спинку высокого кресла, с затравленным, мрачным, оскорбленным видом. Черные, еще до сих пор красивые глаза горят обидой, гневом. А иногда в них глубокая уединенная задумчивость. Это бывает при очередной головомойке, полученной от его маленькой, энергично и самоотверженно его опекающей строгой жены. Он вечно делает нарушения в диете, курит, чего ему никак нельзя, “ленится” пойти туда, куда нужно лишний раз сходить. И тогда Мария Ивановна наскакивает на него, как наседка на провинившегося цыпленка. Он не умеет защищаться и не может привыкнуть к такому обращению. Каждый раз молча отходит в сторону и стоит неподвижно, как жестом обиженный самолюбивый ребенок, пока смягчившаяся жена шуткой, смехом, ласковым тоном не вернет его к равновесию.
5 октября. 11 часов вечера. Картинная галерея
Сегодня первый раз море было со мной неприветливо. Чтобы почувствовать его ближе, я поехала опять на катере на Северную сторону. Был предзакатный час. Солнечный блик, почему-то не золотой, а оловянный, широко разлился по мелким волнам бухты. За ней хмуро глядела серая, местами мутно-лиловая морская даль. Вокруг катера носился беспокойный, недобрый ветер.
Анатолий Григорьевич играл на гитаре, с лихими, но изящными, как всё в нем, цыганскими ухватками. Подпевал себе почти без голоса, но с безудержем своего артистического темперамента. Был интересен, жалок и мил в одно и то же время. Это богато одаренный человек из той породы, которая зарывает в землю таланты. Оказалось, что он художник. Дилетант, конечно. Но некоторые из его пастелей привлекли бы внимание зрителя на выставке обилием света, воздуха, изящным и праздничным сочетанием красок. Стало обидно за него. Распущенная воля, неумение двигаться в одной плоскости, к одной предназначенной цели. И такое мироощущение – то с удалью, то с тоской, – что нечего жалеть, нечего беречь. “Жизнь – копейка, судьба – индейка и всё – трын-трава”.
Детище свое – здешний музей – Анатолий Григорьевич сумел, однако, взлелеять на диво. Всё своими руками, почти без помощников. Спас от гибели много хороших картин в годы разрухи на Южном берегу Крыма. Каталогизировал, любовно и умело развесил по стенам и с гордым удовольствием, совершенно безвозмездно читает целые лекции по искусству некоторым посетителям (главным образом экскурсиям). Там и витает его душа, в картинах, в тех эпохах, когда они писались, в тех недоношенных замыслах собственных пейзажей, которые уже не напишутся. Это – в музее. А дома – борьба с диетическими ограничениями и радости такого типа, как сыр, арбуз, перепелка. С женой – прочная, выстраданная связь, ежечасная нужда в ее опеке, благодарность, привязанность и горечь от распеканий (впрочем, заслуженных).
У Кореневых есть дочь-балерина. Живет в Саратове, замужем за балетным танцовщиком, при каком-то балетно-школьном учреждении.
Старики родители доживают свой век одни, в чужом для них городе. Они крепко связаны – и дочерью, и общностью эстетических и широко гуманистических настроений, и всем прошлым. И больше всего теми годами из прошлого, когда жена, не вынеся ревнивого деспотизма мужа, ушла от него к другому человеку. Тот умер от сыпного тифа во время разрухи и бедствий гражданской войны. Покинутый муж, одинокий и житейски беспомощный, очутился в трагическом положении. Узнав, что жена овдовела, воззвал к ней о возвращении к прошлому. Мария Ивановна, человек с большим жалостливым сердцем, поспешила к нему на выручку (надо было выручать из разных капканов судьбы). С тех пор их прежние роли переменились. Деспот – она, он – жертва деспотизма, впрочем, умного, трезвого, целиком направленного к интересам его здоровья и работы без тени эгоизма.
7 октября. Вечер. Севастополь
Инкерман. С этим словом соединено далекое детское воспоминание. Отец работал в Инкермане. Меняя свои профессии по непоседливому и причудливому своему нраву, он в одну из полос своей жизни сменил работы по серебряному цеху, куда был раньше вписан, и превратился в “грабаря”. Глазами отца попыталась я взглянуть на эти серые, похожие на широкие монашеские скуфьи горы в низкорослых деревьях и кустах. Налево – бело-желтый, как у Севастополя, массив, а вдали из ущелья синеет верхушка какой-то дальней горы.
Отец жил, вероятно, в одной из пещер пещерного города, где производились работы. И ему это, верно, нравилось. И нравилась эта белая старинная церковь по левую сторону под высокой обрывистой стеной известняка.
Когда катер отчаливал, по ребру вершины серой горы двигался далекий уменьшенный расстоянием силуэт прохожего. Я подумала: туда взбирался отец, и вот так медленно шел навстречу закату, радуясь, что наконец он совсем один и перед ним уменьшенный расстоянием город, морская даль и огромный простор с неба. Это влечение к открытым горизонтам. И я думаю, что, как в детстве я одинаково с ним почувствовала однажды на морском берегу слияние с мировой душой, так и в старости нашей, если бы мы встретились с ним здесь старинными, мы без слов поняли бы, о чем говорит человеку небо и море. И такое у меня чувство, что в лице невидимого прохожего и этих гор с звучащим древностью и детством называнием Инкермана я реально встретилась с отцом.
10 октября. Утро, 9-й час
В ожидании поездки на вокзал – встречать Анну[457].
После пережитого – в последние дни сентября – надо бы как-то и физически измениться. Приобрести новый орган познавания, новые пять чувств. Или хоть помолодеть лет на сорок. А так как ничего этого не произошло, ощущается странное раздвоение, недоумение и все чаще приливы тоски.
Но то, что было, – было нужно. И не может остаться бесплодным. И пусть будут благословенны эти дни.
16 октября. 12 часов ночи. Севастополь
Холод. Норд-ост. Шторм в 9 баллов. Целый день за штопкой джемпера, который распадается на части. Спасение заболевшего от холода шпица. Мария Ивановна и Анна перевели его из квартиры, где я снимаю комнату, в квартиру Кореневых. Надо бы и мне куда-нибудь спасаться.
И всё мне снится склеп старинный В тени деревьев вековых.Хочется “домой”. И домой не в скобках, а в Отчий дом.
20 октября. 11 часов вечера. Картинная галерея
Когда однажды покойной сестре моей Насте домашние помешали сосредоточиться над писанием (у нее была огромная потребность лет с 13-ти писать и стихи, и прозу), она воскликнула:
– Сколько зарезанных птиц!
Потом объяснила:
– Когда собираешься писать, мысли и образы трепещут крыльями. Им необходимо лететь. Всякая помеха для них – нож. И лучше, если бы меня вместо них зарезали.
От Аллы прекрасное письмо – по теплоте, доброте, дружеской внимательности. Я и не ожидала другого. Мне казалось, что она упрекнет меня за выписанные по телеграфу 300 рублей. Наоборот: она предложила выслать еще на дорогу.
Аллу считают некоторые чуть ли не скупой. Это несправедливо. Она не обращена в сторону помощи – она слишком поглощена процессом своей жизни. Но там, где глаза ее души падают на кого-нибудь нуждающегося в ней, она умеет быть щедрой. И как всегда стыдно, когда заранее предрешишь, что человек будет думать и чувствовать хуже, чем это потом окажется. И насколько благороднее ошибаться в другую сторону – предрешать, что человек будет думать и чувствовать лучше, чем потом окажется.
29 октября. Ялта
Вечер (при короткой, моргослепой свече).
Были в чеховском доме и в Ливадии. У Чехова, пока старая женщина заученным тоном и с такими же словами давала пояснения, я отошла в сторону и увидела стоявшего у дверей Антона Павловича. Вскинув пенсне, он пытливо смотрел на маленькую группу посетителей, разглядывавших мелкие вещи в его комнате. Я видела, что взгляд его, удивленный, недоверчивый, устремлен на молодого парня в заплатанном пиджаке, в грязных дырявых сапогах. Парень не знал, куда девать свои грубые, заскорузлые руки, и в лице его было робкое благоговейное внимание. И я увидала, что в недоверчивом чеховском взгляде засветилось глубокое, на растроганную благодарность похожее чувство.
– Вот когда он пришел ко мне. Признаться, я этого не ожидал, – тихо проговорил он.
– Неужели у вас не было веры в то, что он к вам придет? – спросила я.
– Нет, – ответил он грустно и просто. – Я и сейчас не понимаю, как это случилось. Я верил, что через двести-триста лет он придет к Пушкину, к Гоголю, к Толстому. Но ко мне, к “нытику”, писателю безвременья, автору “Дяди Вани”, “Трех сестер” – кто бы мог ожидать этого визита.
– Это могла сделать только та “здоровая буря”, о которой вашими словами написано вон там, над вашим письменным столом, – сказала я. Он поднял брови, вопросительно поглядел на меня. – Я говорю о революции. Разве по ту сторону, где вы теперь, ничего не слыхали о 17-м годе?
Он улыбнулся милой чеховской улыбкой.
– Вести этого порядка не доходят туда.
– Но вы сами, когда здесь бывали, разве ничего не слыхали о великой октябрьской революции?
– Я здесь, за тридцать три года после моего отсюда отъезда, первый раз, – задумчиво сказал он, – и в том, что я здесь, виновато ваше свойство ощущать нас, потусторонних так живо, как если бы с нами этого перехода не произошло. Так вы говорите, через 13 лет после моих похорон разразилась буря? Двадцать лет тому назад. Почему же этот парнишка до сих пор не вымылся, не приоделся? Разве буря, которая принесла его в мой кабинет, не дала ему ни штанов без мозаики, без латок, ни другой обуви, кроме этих опорков?
– Буря дала ему Днепрострой, Магнитогорск, Беломорканал, аэропланы, танки, комбайны, – всего не перечислишь. Его штаны и опорки – частный случай, заплата на старом платье, пока не сошьют нового.
– Верю, что все это так – но тут я с медицинской точки зрения: такой обувью, такими руками он разносит микробов… Да и у него самого вон глаз гноится. И вытирает он его чуть не половой тряпкой. Я очень рад, что Ольги Леонардовны нет: она бы не дала ему тут и трех минут с моей биографией знакомиться.
– Как странно вы произнесли ее имя. И эти слова: я очень рад.
– Вас это удивило? У нас, потусторонних, есть привилегия быть без оглядки искренними. Ольга Леонардовна от меня неизмеримо дальше теперь, чем вот этот грузчик. И как бы выразиться помягче? Ни на что мне не нужна.
– Скажите (вы теперь это знаете), разве можно так, точно губкой на классной доске написанную фразу, стереть то, где мы были счастливы или несчастны, где тосковали, мучились, любили.
– Все зависит от того, – сухо сказал он, – о чем тосковали, как любили. Там, где была затронута чувственная природа человека и к ней он как-то пристегнул свою мечту – эта мечта сама собой отстегивается, когда разрушается носитель чувственности – тело.
– А по-старому пережить то, что вас пленяло и радовало при жизни – теперь, когда вы зашли сюда, вам бы совсем не хотелось?
– Это коварный вопрос. Вы хотите заглянуть раньше времени туда, где скоро увидите, в чем дело. То, что пережито, мы уносим с собой на веки веков, но оно очень меняется, приобретает совсем иную форму, иное значение. Больше я сказать не могу. И вы, пока не наступил ваш срок, все равно этого не поймете.
– Но, если можно, скажите мне о том, прежнем, когда все это имело понятную для нас форму – какой представилась вам жизнь, ваша жизнь, когда вы длинным зимним вечером сидели в одиночестве вот в этой комнате у камина.
Он прищурился, как бы вглядываясь в огонь, и губы его чуть дрогнули.
– Вот если уронить уголь довольно яркого и жаркого свойства в неглубокую лужу, он долго шипит прежде, чем погаснет. У поэтов – это стихи. У прозаиков – проза. Все вместе – жизнь. Вместе, хочу я сказать, с геморроем, с письмами к Ольге Леонардовне, с мушками, с боннами, с хрипами.
– Вы всегда помнили о вашей болезни?
– Когда не ворочалось чугунное ядро, называемое процессом творчества (придумал же кто-то, что творчество – крылья!), когда отступали от меня все мои персонажи, я говорил себе: что бы там ни было, ты приговорен к смерти, казни посредством удушения.
– А все друзья ваши во всех воспоминаниях, какие появились о вас в печати, пишут о вашей неизменной душевной бодрости, об участливом, активном отношении к людям, о ровности настроения, о не покидавшем вас до конца юморе.
– Бодрость. Участие. Юмор. Гм. Да, юмор. Ну что ж? Так все и было. Но это между нами – фиоритуры органиста, на этих, знаете, черных, басовых, гудящих нотах в органе, когда играют реквием Моцарта. Кстати, вы любите реквием? – спросил он неожиданно. Я ответила, что люблю больше всякой другой музыки. – Я так и думал, – сказал он. – И кладбища, верно, как и я, любите. Я куда бы ни приезжал, знаете, всегда на кладбище иду побродить. Там мы с вами и при жизни моей, теперь припоминаю, встречались.
Я сказала, что не помню, когда это было.
– Вы и не можете этого помнить, так как не знаете, как это происходит. Как встречаются человеческие души в музыке. И в тех чувствах, какое вызывает в них кладбище и смерть. Это постигается потом.
– Так как сегодня все можно у вас спрашивать, спрошу самое главное: был у вас страх смерти, и не просто удушения, а того, что за удушением?
– Вы спрашиваете про скорлупчатое насекомое, которое бегает по стенам и стучит хвостом у Достоевского в “Идиоте”[458]. Когда это слушаешь и все время слышишь, это уже не страх, а что-то совсем особого порядка. Особенно если скорлупчатое насекомое мое бегает уже не по стенам, а по спине, по грудобрюшной преграде.
– Но ведь не всегда же оно бегало, ведь были перерывы, спасались же вы от него хоть на какие-то часы или минуты.
– Я говорю с вами, – сказал он с лукавой усмешкой – так, чтобы удовлетворить ваше любопытство к внутреннему миру того Антона Павловича Чехова, который печатался в “Русской мысли” и в “Северном вестнике”. А что я думаю теперь, я уже говорил вам, вы все равно это можете понять лишь частично и очень по-здешнему вашему, а не так, как это понимается у нас, по ту сторону. Однако мне пора уходить. Наш диалог на этом кончается. Какой большой стал за 33 года моего отсутствия этот кипарис, что у окна!
– Вы любили это дерево?
– Так себе. Я больше березу любил.
– Из ваших книг я вижу, что вы не полюбили южной природы. Хотела бы я знать, что вас от нее отталкивало?
– Яркость. Я же певец сумерек, разве вы не знаете. И декоративность, нарочитость какая-то. Посмотрите на этот садик. Если бы вы знали, до чего он мне в свое время надоел – сплошная бутафория. Хоть бы подорожник, хоть бы крапива откуда-нибудь из-под гравия выползли… Я, знаете…
Стучащий голос старухи, водившей группу посетителей, вдруг ворвался в мои уши и заглушил слова Антона Павловича. И на том месте, где он стоял, улыбалось мне дружелюбно, насмешливо прищурившись, лицо его портрета.
31 октября
Ялта моего детства.
Попала я сюда около пяти лет. И жила до семи. В Аутке, тогда была деревня там, где теперь Ауткинская улица. У отца явилась в те годы фантазия разводить табак и виноград, и он перевез мою мать с двумя детьми, с тещей и с материной подругой Аней из Балаклавы в Ялту. Воспоминания мои о Ялте отрывочны.
…Я и трехлетний брат Миша бежим на окраину нашего виноградника встречать “государя”. Боимся пропустить час, когда он будет проезжать мимо к “своей княжне”. Мы, завидев его издали, кричим: “Царь! Царь!” И в ответ на эти восклицания и на сияющие патриотическим восторгом наши лица он всегда приветливо нам кланяется. Однажды за нами увязалась наша собака Кисон, которая подралась с царским лягашем Клико. Этот случай меня очень напугал, – я боялась, что, если Кисон одолеет Клико, нам за это всем отрубят головы.
…Когда родилась сестра Настя, мне было пять лет. Появление ее меня не очень заинтересовало, а через какой-то срок стало в тягость, оттого что по временам меня заставляли укачивать ее. Помню до сих пор как нечто мне враждебное большую деревянную колыбель. Когда ее раскачивали, она скрипела, а под ней была низкая кровать, такая же деревянная, коричневая. Туда я прятала куски хлеба, которые не хотела есть ни за обедом, ни за чаем. И однажды это накопление сухарей с маслом было обнаружено, и я испытала в первый раз чувство позора. Почему-то мне казалось, что никто никогда не просунет руку между стенкой колыбели и низкой стеной кровати, над которой она качалась. И была уверенность, что это преступление останется безнаказанным.
С полутемной комнатой, где стояла колыбель, соединено у меня воспоминание о чуде.
Однажды мне было так невыносимо сидеть здесь одной над колыбелью сестры, которую мне поручили “закачать”, как это может быть трагически невыносимо в пятилетнем возрасте, когда на дворе солнце и детские голоса. И я стала молиться: “Господи, сотвори чудо” (формы молитв были известны от бабушки и отца, как и понятие чуда). И вдруг через перегородку из светлой комнаты полетели ко мне орехи, миндаль и карамельки в цветных бумажках.
Я немедленно в мистическом восторге рассказала об этом чуде Ане, которая, сотворивши его (она слышала мои молитвы), успела выйти на крыльцо и сделать вид, что она тут ни при чем.
2 ноября. Севастополь
Среди мирного течения дня, среди очередных мыслишек и желаний – обедать, после обеда не пропустить закат, собраться в Бахчисарай, выстоять билет на Москву и т. д., как подземный удар землетрясения, обрушивающий на голову часть потолка, – удар оглоблей в затылок, сваливший Мировича лицом на мостовую. (Это было вчера.) Он не оправился и сейчас – и вряд ли скоро оправится от этого удара – две громадные шишки на затылке и на лбу, кровоподтеки на всей половине лица и сейчас позволяют писать, только выглядывая из-под повязки одним глазом – контрабандой, пока ментор мой Анна любуется закатом. Еще и сейчас сотрясенный телесный состав и близко к нему прилегающая часть психики испытывают травму удивления и слабость, не умея настроить привычного ритма. Но другая часть души и в момент, когда покачнулось равновесие, вылетел из рук портфель и послышался стук, как от расколотого крепкого ореха – так ударилась голова лбом о мостовую, – в эти минуты слушала и видела все это со стороны – видела фигуру Мировича в его сером дождевике и в таком же берете, распростертую на мостовой, видела близко от его лица лошадиное копыто и железный обод колеса. Потом уже ничего не видела до момента, когда голова его лежала на груди старого татарина, который приговаривал: “Ничего, мамаша, гуля будет, потом заживет”. А кто-то подавал ему портфель, бумажник, оттуда выпавший, палку.
Так близко прошла мимо Смерть. Удар оглобли на сантиметр какой– нибудь от “древа жизни”, мозжечка. Удар лбом о булыжник мостовой на сантиметр от височной кости.
Приемлю случившееся как напоминание о большей готовности к смертному часу, который может прийти “как тать в нощи” без всякого предупреждения.
Обидно было бы встретить его мыслями о еде, о Бахчисарае, о билетах куда-то…
7 ноября. Севастополь
Двадцатая годовщина Великой Октябрьской революции.
Хорошая традиция в картинной галерее – угощать в этот день парадным завтраком весь персонал, включая и уборщиц музея, в квартире директора (Коренева). Мария Ивановна и Ксана убрали круглый стол, накрытый белоснежной скатертью и букетами цветов. Хризантемы, белые и палевые, темно-красные в горшках, украшали пианино и этажерку. На столе был сыр, колбаса, пирожные, вино, кофе (настоящий, который давно стал редкостной роскошью не только здесь, но и в Москве). Каждая служащая получала “навынос” еще сдобную булку высшего сорта и пирожное.
Потом мы пошли с Анной в Приморский сквер. Прощальным все сделалось там. От этого – грустным, поэтическим, заранее уже глядящим как бы издалека. Покидая море, испытываешь чувство такой разлуки, какая может быть только с дорогим человеком, когда молча смотришь на любимое лицо, и оно отвечает долгим взглядом, и слышишь дыхание его жизни, и знаешь, что скоро и уже надолго и, вернее, – навсегда не будешь видеть этого взора, не будешь слышать этого дыхания.
Невольно то и дело повторялись в памяти пушкинские строчки, которые в этом году были напечатаны на обложке ученических тетрадей:
Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной… и т. д.И последние строки:
Прощай же, море! Не забуду Твоей торжественной красы.[459]30 тетрадь 10.11.1937-17.2.1938
10 ноября
Перекоп. Быстро темнеющие, страшные болотистые воды по обе стороны поезда. Сколько в них погребено молодых человеческих жизней. Сколько ужаса, геройства и предсмертных мук. А поезд прогромыхал по этой узкой полосе, пропитанной некогда кровью, в полной безопасности со своей “философией обыденного”, такой крепкой – пока мимо идут события, пробуждающие в нашей душе или героя, или мученика, или просто жертвенного ягненка истории, который жалобно блеет под ножом вместо наслаждения Stilles Leben[460].
Харьков. Тень матери. Ее слепнущие глаза, которые в оны дни почти исцелил знаменитый Гиршман. Она стосковалась по дому, испугалась моих трат на житье в гостинице, не докончила курса лечения и ослепла.
Курск. Пены. Сахарный завод. Потревоженные тени далекого прошлого. На фоне меловых гор и свекловичных полей красивая, тоскующая среди своих плантаций Софья Исааковна. Ее брат, с которым была связана душа “дружбой, большей, чем любовь”. Тяжелое лето, когда дружба расшатывалась, заболевала недоверием, уходила из жизни. Чувство уходящей молодости. Переломные годы – дантовские. Дремучий лес, где Дант заблудился на “половине жизненного пути”.
Орел. Тут еще более давние времена. 19 лет. Ночлег в гостинице по дороге на станцию Грязи, куда ехала служить контрагентом у книжного прилавка на вокзале. С тем чтобы нажить денег на дорогу в Сибирь и уехать туда освобождать узников из Карийских тюрем и вместе с ними поднять Сибирь, свергнуть царя и водворить на Руси братство, равенство и свободу.
Москва. Слякоть. Низкое небо. Сырой туман. Трамвай № 31 и милый тарасовский дом. Теплая встреча приморского чудовища с его кровоподтеками и костяным рогом на лбу.
23 ноября
Привезли из Ленинграда датский фарфор – сокол, слон, рыба, улитка, мотылек. Расставили на пианино. Улитки, рыбки, мотылька не видно. Игрушки. Алла имеет на них право как на приятные минуты в своей трудовой и такой трудной жизни. Никто не смеет осудить ее, как это уже сделал сын и его отец. Но нет-нет промелькнет при взгляде на них мысль о их дороговизне и о великих и мелких нуждах лиц, которых мы (и она) близко знаем. В этом пункте можно было бы (и с большим правом) осудить и Мировича: не покупай шелков для заплатных вышивок на драной кофте. Не езди в Крым. Рассчитывай свой обиход суровее – так накопились бы какие-то рубли для утоления мелких, но горьких нужд людей, которых ты знаешь. И не только знаешь, но о них помнишь, чего от Аллы по занятости ее уж нельзя требовать.
У таких людей, как я, как Мармеладов, выправление общей линии жизни откладывается к смертному часу, когда эта кривизна и загрязненность будет выправлена, как у “разбойника благоразумнаго во единем вздохе”. Не говоря уж о странности притязания на такой удешевленный способ “повышения квалификации”, забывается, что смертный час может прийти и схватить за горло, как “тать в нощи”, что есть та “наглая и постыдная” смерть, о которой молятся в ектенье, чтобы она не постигла нас.
6 декабря. В постели. Раннее утро
Непонятны мне люди, которые хотели бы повернуть назад колесо истории. У народов, у царств есть неизбежность поступательного хода событий, как в жизни отдельного лица этапы его души, его возрастов. Мне скажут: значит, неизбежна и реставрация Бурбонов. Очевидно, что так. Но я не понимаю, как можно желать возвращения старых, явно отживших форм. Я могу с трепетной лирикой воспоминаний пройти по Сергиеву, по Киеву, по Воронежу, но хотела ли бы я вернуть те куски жизни, тот “режим”? Без колебания – скажу: “Нет. Если бы даже вместе с ним вернулась и молодость”.
Когда-то на кремлевских часах в полночь раздавалось “Коль славен наш Господь в Сионе”[461]. Это напоминало державинские и пушкинские времена. И собственное детство в Киеве после того, как проиграют “зарю” в соседних казармах, оттуда всегда неслись эти звуки. И мы сами, детвора, в длинные летние сумерки заканчивали пение на крыльце этим гимном.
Но если бы теперь вместо Интернационала в полночь с кремлевской башни понеслись эти звуки – это была бы жуть и нелепость, несмотря на поэзию воспоминаний.
8 декабря. 3-й час ночи
На своем ложе. Фейхтвангер “О Москве”[462] – несвязная книжонка с умалчиваниями, реверансами. Тон неискренней дружбы. Не удивилась бы, если бы он, как Андре Жид[463], Истрати[464], Цвейг[465], Дюамель[466], за границей издал бы что-нибудь ядовитое о нас. Но есть несколько интересных местечек. То, что мне претило в наших газетах – безвкусный и часто рептильный тон, чуть зайдет речь о Сталине, оказывается, претит Сталину, о войне – неизбежность ее. И то, что на оборону отчисляется у нас 1 рубль с шести. От этого становятся понятными все мелкие и крупные недочеты в комфорте обывателя. Но как не хочется войны! Как сжимается сердце при мысли о ее ужасах и жертвах. Какое поле для разгула темных сил. И как страшна мысль о “реставрации Бурбонов”, о возврате к капиталистическому хозяйству. В начале революции мы все беспартийные писали в анкетах: аполитичен, лоялен. Ввиду войны особенно ясно, что в некоторые исторические моменты аполитичности не может быть места. “Кто не за меня, тот против меня”, – равно может сказать и фашизм, и социализм. Отсюда необходимость для обывателя понять, что не время жалеть этого шестого рубля… Но как все это жутко для таких душ, которые подобно Антигоне могли бы сказать: “Я рождена не для вражды, а для любви.”
12 декабря. Выборы[467]
Неграмотная Шура (домработница) волновалась с вечера: как воно будет? Шо мне будет, как я всё не так сделаю? Рассказала про старуху (вероятно, это анекдот), которая поверила какому-то озорнику, что на выборах надо будет с поднятой рукой стоять от утра до 12-ти ночи. Шура, по-видимому, тоже допускала такую возможность и повеселела, когда мы ее уверили, что ничего подобного не может произойти. Кое– каких мелочей в порядке выборов я сама недопонимала, к чему Алеша отнесся сатирически и с прирожденным талантом комика стал рассказывать, что “там будет стоять, Варвара Григорьевна, урна в полтора человеческих роста. И чтобы опустить конверт, надо будет подпрыгивать гораздо выше своей головы. А кто не допрыгнет, тот, значит, срывает единогласное избрание”. Но в общем он был настроен взволнованно и торжественно и очень сожалел, что ему 17, а не 18 лет. Бабушка умиленно плакала от речи Сталина. Шура с блестящими глазами остановилась в дверях и долго прислушивалась к его и к другим речам, ничего не понимая, но, несомненно, впитывая пафос исторического рубежа. Мы с Леониллой поднялись до свету – боялись, что позже будет теснота. Шли в тихом морозном, синем – предутреннем воздухе. В большом зале одного из помещений почтамта было светло, празднично и просторно. Кроме нас (и Шура с нами) было не больше пяти-шести человек. Обслуживающих выборы было гораздо больше. Все они были почтительно-внимательны и по-хозяйски приветливы. В этой почтительности и праздничной торжественности обстановки – огромного значения воспитательный момент для “Шуры”, для тех, кто с горечью иногда думал: “А усе ж они паны и нами правлют, а мы как были, так и зостались на кухне”.
Тут они воочию убедились, что государству нужны от них не только чернорабочие руки, а еще и голос, как “быть или не быть” таким-то людям у власти.
17 декабря. 5-й час. Алешина комната
Важный рубеж самосознания
Много лет подряд томило почти клиническое Unwertigkeit[468]. А в последние годы то и дело подступало к горлу тошное ощущение стерильной бесплодности жизни, нули итогов по всем линиям всех областей ее. И больше всего там, где стихи мои. Изредка, впрочем, случайно наткнувшись на какие-нибудь строки в них, думала: “Но ведь это совсем неплохо…” Однако вывода отсюда не делала, как будто он был предрешен заранее.
Домашнее рукоделие. Нечто вроде той попугайной кофты, которую вышивала лишь для того, чтобы не сидеть бездвижно, как паралитик, чтобы занять часы. Как на эту попугайную кофту в области духа, смела я смотреть на детей моей души. И хуже: смотрела на них как на мертворожденных. Сегодня после строго объективного просмотра вдруг с сильно забившимся сердцем поняла: они живые. И будут жить. Через какие-то сроки после того, как я уйду из видимого мира, они в нем появятся – не очень заметные, скромные, не в парадных одеждах. Кое– кто и вовсе безвкусно одетый. Но все имеющие право на жизнь и право голоса в ней. Живые.
Вот в этом шкафу Алешиной комнаты наряду с Есениным, с Ахматовой, с Балтрушайтисом и т. д. будет стоять книжка строк в 200–300. Ее будут читать, и некоторые даже будут ее любить. Женщины. Или очень женственные мужчины. И те из них, кто любит загадку женских душ. Я далека от мысли, что “слух обо мне пройдет по всей Руси великой” в пушкинском смысле. Но не удивилась бы, через 50 лет застав мою книжку на столе у таджички или удмуртки. У тех, может быть, очень немногих из них, с кем созвучны струны моей души. Я как будто слышу уже их отзвук, их ответ, их “да” тому, что жил-был на свете Мирович. И даже не это. Главное – встреча, посмертная встреча. Великое таинство братского общения.
15 января 1938 года
Из бессвязного рассказа Аннушки (кормилицы Ириса) о том, как бежали они из Аше к Батуму в 1918 году:
…А Женя – молоденькая, а Игорю 4 годика, а Нина Всеволодовна (Женина мать) – сами знаете, какая нервная, – все на мне, все на мне, и собираться, и совет: куда бежать. А я что знаю? Началось: пришли в папахах – “давайте нам хозяина”. А хозяин уже был уехавши. Говорим: “Уехал”. Кричат: “Врете, вы его прячете”. Выходит к ним дядя Нины Всеволодовны, профессор. Высокий такой, большой. Его не зарубили, хоть и кричали: “Зарубим!” Я с Игорем в кухню, Женя – в горы убежала. Потом, как ушли папахи, ночью пришла, в окошко стучит, говорит: “Я есть хочу”. Ну, дали хлебца. Оставалось немного. А Нина Всеволодовна думала, что ее дядю зарубили, – она на балконе стояла, слушала, как они: “Зарубим! зарубим!” Да как прыгнет с балкона, – там и лишилась чувства, бок отшибла и голову. Ее потихонечку прислуга подняла и – во флигель. А когда папахи ушли, тады ее в больницу возили, там вылечили.
…Ну, вот пришло времечко – бежать. Всем бежать – все с гор как горох сыпятся и по дороге, как лошади, в рысях бегуть. Ну и мы. Я с Игорем на закорках, и Нина Всеволодовна бежит, хоть и хромает. Остановочка в избе – пустая изба, тоже из нее убежали. А мы дальше бежать не можем – я с Игорем на закорках, с меня третий пот, вся мокрая. Порешили тут ночевать, убьют так убьют. Ночь. Игорь спит, и те заснули. А я стою возле печки, думаю – топить мне или нет. Оно и холодно, да боюсь – дым увидят. Да и дрова не знаю где. Стук в дверь, кулаком, потом как дубиной: “Отворяй, отворяй, дверь высажу – зарежу”. Что мне делать? А тые спят, и будить жалко – посоветываться. Чем дверь высаживать, правда, лучше, думаю, добром отворить. Отворила, а ен в папахе, огроменный, а в руке куру держит – голову ей срубил. Кура, как индюшка, сама белая, красивая, хоть и головы нет.
– Чтоб, как рассветет, была кура зажарена! – кричит.
– Да как ее жарить? – говорю. – Ни дров, ни посудины.
– Не мое дело (сам наступает, куру мне в руки сует). В четыре часа я за ней приду. Не будет зажарена – и тебе, как ей, голову срублю.
Ушел. Перекрестилась я, заплакала, стала дрова искать и в чем жарить. Бог так сделал, что все ето тут же под печкой нашлось. Куру сварила. Потом в этом же соку на сковородке стала румянить. И такая она пышная, жирная – не тому бы в папахе есть, Игорю хоть бы крылышко отломить… да не смею; и правда голову срубит, а тыи без меня пропадут.
Ну и прибежал за курицей, сам как оглашенный: “Скорей, скорей, тетка, за нами погоня” – другие, значит, в деревню вступили. Не знаю, ел он или нет тую курку, или ему тут же голову, как ей, срубили.
Едем мы на грузовике, народу как сельдей в бочке. А у Игоря понос, запачкал и штанишки и все. Кругом носы затыкают, ругаются: вонища, дыхать нельзя! А которые солдаты прикладом грозятся: сбросим вашего щенка и вас вместе с ним. Тут я и Нина Всеволодовна просим их, умоляем: “Остановитесь, дорогие, где у ручейка, мы поправим дело”. Послушались. Мать – его мыть, я – штанишки полоскать. Спасибо им, что остановились. Если б не то, поскидали бы нас на дорогу. Тады это – живым манером. Разве мы не видели: люди по дороге как бревна, а дети как поленья валяются.
Стою я на палубе с вещами – четыре у меня мешка и подушки, и все наши пожитки, и платье теплое, все добро в них. Присесть, прилечь – негде, теснотища. И мешки стоймя, и я стою, их обнимаю. Стояла, стояла, да и заснула. Проснулась – на полу сижу, к борту прислонилась, ни мешков со мной, ни тех людей, что тут стояли. Туда-сюда: никто ничего не видал, не слыхал. Я, конечно, заголосила. А мне и говорят: молчи, тетка, теперь не то время, чтоб по мешкам плакать. Будь благодарна, что голова цела. А мне чего голова, мне Женины и Игоревы шубки дороже головы.
26 января
Порадовал Москвин. Старый, переутомленный, больной, заваленный просительскими письмами, с тех пор как стал депутатом, читает их, вникает в них, не ленится ездить в нужные инстанции, хлопотать, просить, настаивать. И уже было несколько удач. Отстоял лечебницу в своем районе (по просьбе рабочих. Ее хотели почему-то закрыть). Отстоял пианино, о котором пришли просить подростки, имущество которых подлежало секвестру. И сейчас весь на ходу по делам такого же рода. Я назвала его за это “печальником земли русской”. Он был тронут, но смутился, растерялся, как застенчивый юноша от неожиданной похвалы. Алла с материнским видом обняла его голову и поцеловала в лоб.
8 февраля. Ул. Огарева
На ложе сна. 2 часа ночи.
На днях, перед калиткой нашего двора меня стремительно остановила ненормально высокая женщина, амазонка, валькирия – Нина Бруни[469]. Не виделись мы с ней лет 10–12, а то и больше. Много за это время я слышала про ее легкомыслие, беззаботность, жажду удовольствий и равнодушие к детям. И копошилось у меня где-то в углу сознания осуждение ее. Но когда она со своей олимпийской высоты нагнулась ко мне с радостным, застенчивым приветом и поглядели на меня из ее глаз тропические янтарные, гогеновского колорита два солнца, я сообразила, что ведь это – дочь Бальмонта, который написал “Будем как солнце” и “Хочу быть дерзким, хочу быть смелым” и тому подобное – понятным стало, что нельзя от нее требовать того, что, например, можно от дочери Тургенева, Гончарова и т. д.
9 февраля
Un souffle, un rien[470]
“Безделица”, мимолетное и даже неуловимое впечатление имеет нередко в тонких душевных отношениях крупное, порой даже решающее значение.
Так покойный художник Досекин во время встречи невесты[471] своей на вокзале заметил, как она, проходя в перронной толпе, работает локтями. И у него сжалось сердце мрачными предчувствиями. И они целиком оправдались в его женатой жизни.
Так тепло складывающиеся дружеские отношения между юной и пожилой женщиной разладились после того, как юная похлопала по плечу пожилую приятельницу.
Так – наоборот – неожиданный, понимающий, участливый взгляд в нашу или чью-нибудь другую сторону прокладывает нам иногда путь к сближению с малознакомым человеком.
31 тетрадь 14.2-28.4.1938
28 февраля. Ночь. Ул. Огарева
Жуткая газета – три врача: Плетнев, Казаков, Левин[472] (кроме целой плеяды лиц других профессий) обвиняются в измене, в желании отнять у нас Украину, Грузию и т. д. И кроме того – как виновники смерти Куйбышева, Менжинского, Горького…
Непроницаемой ночи Мрак над страною висел. Видел – имеющий очи, И за отчизну болел[473].Измены, предательства, вредители, головотяпы, перегибщики, процессы, казни. Обыватель растерялся, ничего не понимает, прижукнул, боится дышать громко. А там, за рубежом, четыре державы сговариваются, как бы поскорее обратить нас в “исторический навоз”. Но можно ли даже самыми новейшими газами и самолетами сделать это со страной, у которой есть Пушкин, Толстой, Достоевский и у которой за 20 лет выковалась воля и выдержан экзамен на выносливость. Не могу этого представить. И со стыдом и отвращением вспоминаю, как хозяйничали в 1919 году немцы в Киеве. Их наглые победительские головы в касках, их презрительное verboten[474] на каждом шагу. И сожженные ими деревья в Полтавщине за то, что отказали им в дани. Помню хвост немецких спин на почте, куда однажды зашла что-то послать друзьям в Москву. У всех однообразные пакеты – сало и колбасы (в то время, когда мы голодали). И это ощущение постыдного плена. Какие бы ни были в стране трудности, каких бы ни требовала история жертв – всё лучше “нашествия иноплеменников”.
3 марта
После каждой газеты чувствуешь себя вымазанным с головы до ног грязью, кровью, гноем язв на теле родной страны, гноем душевного распада тех, кто сейчас на скамье подсудимых. Почему ни один из троцкистов, из тех, кто шел в подпольный террор не из авантюризма и не для наживы, не сказал на суде (все равно ведь казнят): “Да, я совершил все это, но таковы мои убеждения”. Почему не нашлось ни одного такого, а все поползли на брюхе, униженно лепеча: да, я изменник, я – негодяй, я – вредитель, я – мерзавец, я – чудовище, я – кровавая собака. Таков смысл и тон их речей. О, если бы это было покаяние! Но у покаяния другой язык, другие слова, другой аромат речи. Это выросшая из страха надежда, что, может быть, если буду так подробно и с таким рвением размазывать все мерзости, какие делал, может быть, меня за это и помилуют. Страх. И цинизм, выпадение нравственных чувств. Insanity moral[475] одинаковые и у тех, кто был “агрессором, вредителем, диверсантом” из-за троцкистской платформы, и у тех, кому до нее не было дела, кого не мог подбить на что угодно кто угодно, поманив марками, долларами, обещаниями первых ролей. Какая тоска, какая жестокая нравственная тошнота…
“И рад бежать, и некуда бежать”[476], потому что слишком ясно сознаешь, что и ты как-то ответствен за все, что творится в мире. И живешь ты в нем, а не где-нибудь “на небеси горе”. И не попал бы ты жить на эту планету, если б не был плоть от плоти, кость от кости ее.
Кто бы ни приобрел новую дачу, вспоминается чеховский “Крыжовник”, конечная ненужность чего бы то ни было для себя (и для потомства) приобретенного. Скажут: но куда же летом ездить на отдых, на природу? Да и зимой – где найти отдохновенный от суеты большого города угол? Вношу поправку: можно приобретать дачу (во временное пользование, времена наследственных усадьб прошли невозвратимо, и жалеть о них не приходится). Можно даже порадоваться уединенной в лесу семейной жизни, саду, огороду, цветнику. Пусть – и крыжовнику. Выясняется – страшное в крыжовнике то, что он стал как бы высшей целью жизни, что не было за душой высшей, чем он, цели. Отсюда банкротство.
1-й час ночи. Побледневшая от трех концертов, с изнуренным лицом, еле говорящая, вернулась домой Алла. Я предвидела, что дача, покупке которой так радовались, станет в Аллиной жизни вампиром, который будет высасывать из нее соки жизни. Когда не было дачи и долга, для нее сделанного, и огромных расходов по меблировке, по саду и огороду, Алла не собиралась давать концерты в этом году. Она ясно ощущала необходимость отдохнуть от нервных и сердечных затрат на Анну Каренину. Появилась дача и смела соображения благоразумия. Она сделалась чем-то самодовлеющим, каким-то кумиром, для которого невелики никакие жертвы. Пора идолопоклонства отошла в прошлое человечества. Но потребность в кумирах и кумиры живут в других формах.
9 марта. Ул. Огарева
Ахают, охают, негодуют, ужасаются, недоумевают в каждом доме. По поводу бухаринско-рыковско-ягодовского процесса. И боятся, до трясения поджилок боятся. Заячье сердце у русского обывателя. Чего бы, кажется, ему дрожать, если он ни сном ни духом не прегрешил против законной власти. Самая мысль прегрешить тут (и не только теперь, но во всякое время при всякой власти) кажется ему до того страшной, до того противоестественной, что за лояльность его никому не опасно поручиться своей головой. А он так перепуган, что даже сам не дает себе отчета, откуда этот перепуг. Может быть, нервный припадок от созерцания скамьи подсудимых, судебного зала и всего, что в нем слышат через газету беззащитные уши обывателя. Газеты же, как нарочно, ошеломляют его “металлами” и “жупелами” до потери всякого чувства меры. И вопят “распни, распни его!” там, где люди уже распяты ужасом и позором перед лицом всего читающего мира. И такой двойной смрад, двойные ядовитые газы струятся от утреннего номера газет на весь последующий день, на всю ночь. Смрад от судебных разоблачений и скверный запах от низменной угодливой поспешной ярости некоторых писак, там где нужны были бы спокойные (сила спокойна), суровые, исполненные нравственного мужества слова.
16 марта. 4 часа утра
Мараморохи. Страшное слово А. Белого[477]. Почему-то хочется им окрестить прожитой день. Но, может быть, было что-нибудь в нем кроме жутких мараморохов, которые гонят сон от головы, истомленной бессонницей. Посмотрим, что было в дне, и, может быть, этим прогоним мараморохов.
Утро. Захват Австрии. Англия умывает руки. Это в “Правде”. Домработница Шура смотрит глазами разъяренной курицы на ломти булки, которые я кладу на газету. Алеша с треснутой костью носа выуживает из ящика радио что-то фокстротное. В ящике дикие неприличные грохоты. Ящик – великан, заболевший жестоким колитом. У бабушки кухонное лицо и глаза бегают, как две бледно-голубые мыши.
Где же то, какое я люблю в ней, – человечное, трезвое, твердое, с ясным спокойствием мужество? Унесли мараморохи. На свое же лицо и совсем не решаюсь взглянуть в зеркало ванной. Знаю, что выглянет оттуда какая-то окаменелая опара с пьяными подплывами глаз, с неприличной мягкостью беззубого рта.
Целый день с двух сторон головы моей водопады, и я почти не слышу, о чем кругом говорят, и хочу одного: чтобы не задавали мне вопросов. Потом почему-то надо есть. Так странно жевать, глотать. Но есть утробный голод. Он заявляет о своих правах. Я разобщена с ним, но я его раба, и я его слушаюсь. Я в тоске звоню Ольге. Я хотела бы, чтобы она была тут. Чтобы я могла прислониться головой к ее плечу. Но говорим мы по телефону о какой-то книге, которую написала Лида Случевская, что-то о Пушкине[478]. И я слышу смех мараморохов, когда вешаю на место телефонную трубку. Нет смысла сердечного, разумного, логичного в том, что Ольга живет от меня отдельно.
Открытка Наташи[479]. Хуже (весна!). Кашель. Слабость. Пишет о театре для детей. Да – театр. Там что-то стройно скомпоновано. А здесь – мараморохи. Может быть, это последняя Наташина весна. Мы с ней движемся наперегонки к бездне, которая поглотит нас. Сегодня мараморохи не дают мне чувствовать в ней “дочь верховного эфира” и “светозарную красу”. Я знаю, что любовь—Primo amore[480] – создала эту бездну. Знаю, но чувствую другое: боль Наташиного горла – и то, что делается с моими ушами и носом. И то, что Сережа и все Наташины дети могут стать круглыми сиротами. И тут же эта новая дача, про которую Алла уже видела страшные сны. Покупки для этой дачи. Концерты для этой дачи.
21 марта. Логово
Творческий вечер Аллы. Цветы, овации. Адрес от студентов, на папке – серебряная пластинка “Любимой артистке нашей молодежи”. Звезда Аллиного творчества и красоты в зените. Счастлива ли она? Упоение моментами “славы” с каким-то детским оттенком и без тени гордости. И только. Остальное все на каком-то острие. И почти всегда – дурное настроение.
Не люблю “творческих вечеров”. Что-то есть вульгарное в таких винегретах из разных отрывков.
Говорят, у Аллы было все гармонически слито. И все удачно. Что же? Бывают удачные винегреты.
27 марта
На днях заходила Е. А. Зеленина. Милая мне и горячо меня полюбившая 33 года тому назад. Из породы гордых смиренниц. Боится “одолжаться” даже у собственных сыновей. Тяжело заболевшая и совершенно одинокая, не известила их и невесток (которые ее любят) о болезни. Лежала без всякого ухода, пока случайно не заехала к ней одна из приятельниц. Много лет подряд у нее были мутные от помраченности внутреннего зрения глаза. В старости, в последние три года постепенно прояснились. Не нужен стал В. (учитель жизни с мефистофелевскими бровями и гаерскими ужимками). Охладела к театру. Когда-то говорила: “Художественный театр не можете себе представить, как много дает моей душе”. Перестала бояться одиночества. Стала справедливее к мужу. Тут восходящая линия. И, право же, это не редкость в старости. Если нет душевного распада или крайнего ожесточения, старые люди лучше, чем они были в молодости: тише, справедливее, участливее.
Вчера видела “Воскресение”. Случайно. Но не раскаялась. Порадовалась на мастерство и на искренний пафос Качалова, изображавшего не то античный хор, не то совесть Нехлюдова, не то самого Толстого. Я боялась, что это выйдет надуманно, навязчиво, противохудожественно. Оказалось – очень уместно и в большом серьезе осуществлено. Сцена в тюрьме, сцена в этапе ранят натурализмом. На это нельзя смотреть из кресел. Надо или не смотреть (как мы все и делаем), или как Нехлюдов за Катюшей или Марией Павловной (“альтруистическая личность”), или как Чехов в поездке на Сахалин, или как доктор Гааз, или хоть частично и канцелярски, как Пешкова[481], быть с теми, кто сидит в тюрьме, кто едет с этапом. Вот что роковое в старости: ни одного для души важного решения нельзя провести в жизнь, если для этого нужны физические силы, здоровье, неистрепанные нервы, выносливость.
1 апреля. Никольское
Не припомню, какой герой какого романа любил наблюдать, как пауки, посаженные в банку, поедали друг друга. Омерзительнее этого зрелища ничего представить себе нельзя. Так вели себя некоторые из подсудимых последнего процесса на суде… Ни у кого не хватило мужества сказать, если чувствовал свою вину: “Да, виновен”. Совсем кратко. И никого не топить.
…Как видно, прав Карамзин, чье изречение мы списывали в детстве из тетради чистописания: “На свете нет ничего милее жизни. Она есть – первое счастье”. Полно, так ли? Не правее ли Мирович, который в каком-то (детском) рассказике изрек: “Самое дорогое всегда дороже жизни и дороже нас самих”.
3 апреля. Ул. Огарева
Дети
Во время ледохода не раз снимали с плывущих по Москве-реке льдин мальчуганов лет 10–12. Когда к ним приближались спасательные лодки, они кричали: “Не надо, не трогайте, мы на дрейфующей льдине, мы папанинцы!”
…На лестнице, в квартире, где поселился – забыла кто – кто-то из “папанинцев”, с раннего утра появились мальчишки, усмирявшие друг друга: “Тише, он (герой) еще спит”. Ждали терпеливо целые часы выхода героя (так встречали бы в прошлом живого капитана Гаттераса или Мишеля Ардана из романа Жюля Верна). В лице папанинцев, челюскинцев для них стал жизнью литературный героический Эпос.
9 апреля. Ул. Огарева
Смерть Пантелеймона Романова.
10 апреля
Что такое смерть для того, кто умер, – нам не дано знать. Что такое смерть для нас – нам дано почувствовать, когда умирают те, кого мы знали живыми.
Когда я увидала в Доме писателя на высоких подмостках в гробу, окруженным и осыпанным цветами, точно вытесанное из сосны грубое подобие того, кого звали Пантелеймон Романов (и такой контраст был в этих нежных розовых и белых цветах с желтизной и одеревенелостью лица), я почувствовала значение слова “поздно”. Поздно для него и для всех нас, кто, как он, скоро будет вынесен из своей жилплощади в гробу, на подушке из стружек, в крематорий или в могильную яму. Поздно увидеть, услышать и понять то, для чего мы родились на этот свет. Но не поздно, почуяв, что родились мы совсем не для того, что оказалось нашей жизнью, осознать это до глубины глубин, как толстовский Иван Ильич, как разбойник на кресте “во едином вздохе”. И пока есть еще в нашем распоряжении какие-то дни и ночи – внимать себе, своей правде, внимать тому, чем можем мы участвовать в жизни людей, идущих рядом с нами, и всем запросам жизни, поскольку у нас есть возможность ответа на них.
Поздний вечер. 28 лет тому назад Романов, хотя я только его узнала, был похож на птенчика, выпорхнувшего из гнезда. Чижик, слегка растерявшийся на воле, но с невинным и жадным любопытством, со страхом, смешанным с храбростью, глядящий по сторонам большими младенческими, молочно-голубыми глазами. Я много возилась с его рассказами, чтобы пристроить их в журнал. И он с нежностью называл меня иногда “няня” или “мама крестная” (в те времена тот, через кого писатель впервые проник в печать, назывался его крестным отцом или крестной матерью). В те дни он был свеж, пытлив, наивен, чист и отзывался на все как Эолова арфа – искренно и неудержимо.
С годами он делался суше, черствее. Увеличилась погоня за благами жизни. И так изменилось лицо, что следа не осталось от прежнего выражения искренности, чистоты и младенческой пытливости.
14 апреля. Ул. Огарева
Важное о Романове: три его предсмертных кошмара и последние сознательные минуты.
Первый кошмар: чудовищной величины коршун терзает маленькую птицу, а она все жива, все трепещется. И не умирает, и помочь ей ничем нельзя. Толпа черных людей, окружающих его ложе.
Необходимость передать какие-то деньги какому-то человеку, который очень в них нуждается. Передать так, чтобы никто не видел. И полная невозможность, несмотря на все попытки сделать это.
И еще был сон: два воза с землей. Его спрашивают, какой ему земли – ваганьковской или новодевиченской?
Умирая, смотрел сосредоточенно, пристально, всем существом на что-то в комнате – туда, где на стене ничего не было. Оторвался на минуту, чтобы поздороваться (очень ласково поздоровался) с близкой знакомой, вошедшей в комнату, и опять устремил глаза туда же и глядел не отрываясь, пока они не закрылись.
Анна (первая жена Романова) увидела в лице умершего совсем не то, что я. Она прочла в нем то, что она любила 20 лет тому назад – и раньше. У нее явилось чувство обновленной к нему любви, ощущение его близости, а двадцати разлучных лет “как будто и не было”. Лицо у Анны помолодевшее, пронизанное глубоким чувством, глаза чудесно сияющие.
“Когда он уходил к Шаломытовой, обещал вернуться ко мне. Вот и вернулся!”
15 апреля. Ул. Огарева
Желтый кирпичный дом двора-колодца против наших окон залит солнцем. Над ним узенькая вырезная полоска беловато-голубого неба с чуть лиловым оттенком (как на картинах Верещагина).
Умер Шаляпин. Вчера об этом в “Известиях” заметка Рейзена[482], снисходительная и пустая, как будто о самом Рейзене, бездарно подражающем Шаляпину, а не о гениальном создателе целого ряда музыкальных образов, о непревзойденном по силе вдохновения и творческой мощи певце. Москвин, Алла, Массалитинова помянули его тем, что в слезах прослушали все его пластинки на патефоне. После этого Массалитинова бросилась к Алле и, схватив ее за плечи со всей кабанихинской силищей, темпераментом, завопила: “Клянись, клянись, Алла, не подавать рук этому завистнику, этому ничтожеству – Рейзену!”
16 апреля. Диван на улице Огарева. 2 часа
Бурные дискуссии о правах и обязанностях личности по поводу заметки Рейзена о смерти Шаляпина и по поводу самого Шаляпина.
Алексей все чаще и чаще проявляет наряду с мальчишеским шалопайством недетскую зрелость и редкую правдивость и справедливость мысли. Он сказал: “Официоз мог ограничиться даже меньшей заметкой, просто сказать: умер Ф. И. Шаляпин. Умнее, конечно, было прибавить то, что было в его биографии. Рассказать, как и почему он не вернулся к нам. Как ему предлагали приехать. Как он лишил себя родины и родину лишил себя. А в «Советском искусстве» надо было написать обо всех его ролях, о его гениальности…”
Мы с Леониллой продолжили спор, уже перенеся тему на философскую почву. И как всегда, были не по летам темпераментны. Особенно Мирович. К счастью, вовремя остановились – иначе пришлось бы прибегать к горчичникам, как уже было однажды.
Думаю: откуда спор? Зачем спор? Никто никого никогда в спорах не переубеждает. Не в том ли все дело, что всякая идея – сила и требует реального выявления. Идея не просто явление умственного порядка. В ней есть элемент этики и заряд воли. Отсюда необходимость возбуждаемую ею энергию разрядить, хотя бы в споре. Отсюда горячность споров, их боевой характер. Спорщики не жалеют своих электронов на заряды, выпускаемые во враждебный лагерь. Кто претворяет так или иначе свою идею в жизнь, тот обычно теряет охоту к спорам.
5 часов утра. (Надоело лежать без сна)
Не один раз мы проходим в течение жизни (если живем долго) через распятие, смерть, погребение и воскресение. Эти малые мистерии подготовляют нас к главному, великому таинству, к большой мистерии расставания души с телом.
О себе могу сказать, что я умирала и воскресала по крайней мере три или четыре раза. Была душевная боль, которая чем-то сродни распятию. Была агония сердца (“ты схоронил меня живой, о, как я смерти не хотела. Как долго-долго под землей живая грудь еще теплела”) и т. д. Была смерть того женского “Я”, чья ось жизни проходила через определенное имя. Потом это “Я” воскресало для новой малой мистерии. Только воскресение его было похоже на роденовскую статую, которую я видела в мастерской Родена под этим же названием “Resurrection”. Два трупа полуистлевшие, с полуоткрытыми глазами – мужчина и женщина – тянутся друг к другу. Так, воскреснув, и я тянулась к мужчине, как к Эросу-воскресителю. Так было до самой старости. И только старость помогла мне понять, что никакой мужчина не мог взять на себя той роли, уже потусторонней (в силе и славе, на облаках небесных), какой душа от него требовала. Что он был подставное, ирреальное лицо, символизирующее ту реальность, ради которой душа воскресала и тут же погрязала во всё “слишком человеческое”, к чему тянули страсти, заблуждения, падения.
18 апреля. 4-й час. Нет сна
Муж “Катеньки” Эйгес[483] (ей 64 года, ему тоже). С ним в последний раз разговаривали лет 35 тому назад в Кудинове. Там Катенька служила врачом на производстве торфа. Она тогда только что вышла замуж за пианиста (и композитора) К. Р. Эйгеса. Когда я сидела в его кабинете, увешанном картинами их сына[484], и смотрела в его глаза, внимательные, тронутые и сожалеющие (не ожидал увидеть меня в таком полуразрушенном виде), я испытала какое-то тихое, глубокое удовлетворение. И передо мной встал мой кудиновский образ. Я поняла, как требовательна, жестоковыйна и неосторожна в обращении с людьми была в то время. Таков же был и он. Кроме того, он страдал, как и другие его братья, манией величия. Он искренно верил, что он больше Вагнера и Бетховена (эту черту в нем и в его братьях мы с Катенькой звали эйгесизмом).
Мы стукнулись друг о друга по какому-то ничтожному поводу и разошлись на всю жизнь, несмотря на то, что Катенька была нежно и крепко привязана ко мне и мы собирались “не расходиться”, т. е. жить близко до конца жизни.
В Константине Романовиче жила душа восточного деспота. Он поработил жену, согнул ее волю, но, к счастью, не замутил кристальных вод ее души. Думала, чувствовала, воспринимала жизнь она по-своему. Во многом они были антиподы, и не без горечи было вино супружеского счастья в их чаше (по крайней мере, для Катеньки). Сегодня во взгляде Константина Романовича, смягченном, почти участливом, и даже в наклоне головы, в прежние времена до спеси горделивом, я прочла то потепление души, которым он, верно, обязан Катеньке. А может быть, и терниям на своем музыкальном пути. Он – профессор фортепианного класса в консерватории. Далек от нужды. Но это ли ему снилось “у врат Царства!”. У него много разных пьес, но их не приемлют, исполняются они не в зале консерватории, а в Доме ученых. И вероятно, это было во благо ему при его до сумасшествия доходившем честолюбии.
Если бы исполнились мечты его юности, воображаю, каким непробойным панцирем гордыни закрылась бы его душа от людей и их судеб. Еще несколько лет тому назад он требовал, чтобы женщина, которая у них была экономкой, вставала, когда он входил. У него были красивые, холодные коричневые глаза, как два редких приморских камушка. Теперь они тоже красивые, но они уже не каменные и глядят не поверх человека, а внутрь его.
Катенька же сохранила всю невинность младенчества в синих северных (она из Великого Устюга) глазах. И детскость черт, хоть они, конечно, несколько оплыли, кое-где разрыхлились, кое-где поморщились.
Радость ее при встрече нашей была горячей, шумной, по-детски экспансивной. Я так не умею. Но и я была тронута. И хоть на глазах у меня не было, как у нее, слез, но где-то внутри они зацвели, как на кудиновских просеках бесчисленные белые колокольчики ландышей.
28 апреля. Москва. Дождливое утро
Вчера узнала: умер (уже три года тому назад) художник Моргунов[485] – некогда Леня Моргунов, сын Саврасова (того, чьи “Грачи прилетели”). Леня Моргунов. 17 лет. Облик монастырского служки – худощавое, строгого выражения смуглое лицо, темные сосредоточенные глаза, негустые, гладкие волосы почти до плеч. Ходил в распускной синей блузе. Был до дикости застенчив, от застенчивости отрывисто-грубоват. Я и мои приятельницы были вдвое старше его. Его случайно познакомила со мной моя квартирохозяйка с целью продать мне или кому-нибудь через меня какой-то его эскиз. Это было, помнится, розовое, туманно-снежное зимнее поле и вдалеке на нем одинокие сани. Были и другие эскизы. Кое-что нам удалось продать. Леня был очень беден. Отец (“незаконный”) умер. Мать, полуграмотная женщина, осталась без всякой поддержки. Была еще дочь (ее не знаю). Жили они в Филях. Во время весенних загородных прогулок с детьми я иногда заходила к ним. Очень бедная была обстановка; знала семья, по словам моей квартирохозяйки, и настоящий голод. Тогда Леня приходил из Филей к нам пешком (в Каретный Ряд) просить взаймы 3 рубля. Я познакомила его с одной богатой семьей, глава которой имел наклонность к меценатству. Он купил у Лени очень хорошую “Позднюю осень”. Поле, обнаженные унылые просторы, уголок облетающего леса. Серая мгла и громада надвигающихся жутких темно-синих туч. Что-то соответствовало в этой картине угрюмым беспросветным колоритом жизни бедного мальчика. Впрочем, были маленькие просветы. Пригревала семья Барцала[486] (вдова известного в то время тенора, моя квартирохозяйка, добрая женщина). Весенние, потом зимние прогулки со мной, с моей близкой приятельницей А. В.[487] и с детьми, которыми я в ту пору любила окружать себя. Живопись – картины свои и чужие. Природа. Потом была у него связь с танцовщицей дункановской школы. Покойная Барцал уверяла меня, что он ко мне “больше, чем неровно дышит”. Теперь я думаю, что в этом была доля правды. Но тогда вызывало только улыбку – так велико было расстояние между возрастами и так занято было сознание другими образами, другими интересами.
Когда он оперился, знакомство как-то само собой стало далеким (в нем был для меня смысл, пока Леня был мальчик). Я потеряла его из виду на многие годы. Случайно встретила на Остоженке, он обрадовался, звал к себе, рассказал, что шесть лет тому назад женился и у него пятилетний сын.
Еще раз после этого через общих знакомых он передал мне, что он нездоров и хотел бы повидаться. Что-то помешало мне зайти в назначенное время, потом я потеряла его адрес. Нездоровью серьезного значения не придала, а это была уже та жестокая болезнь, которая свела его в могилу, – перерождение печени. С облегчением думаю сейчас: вот уже три года, как нет у него этой печени. Живого, реального чувства, что он жив, нет у меня. Может быть, оттого, что тропинка его души только на время соприкоснулась с моим путем. Мы ни в какой мере не были спутниками. И соединяли нас неглубокие и временного характера чувства: у меня материнская жалость и садовничий интерес к прорастающему растению; у него, как я сейчас это понимаю, отроческая, пажеская влюбленность в “королеву”, которая годилась ему в матери. О своем обожании он никогда не говорил, но вижу его отсюда в расширенном, мрачно-восторженном взгляде, в тоне голоса, в робости движений.
Надо мной висит его маленькая картина – несколько кипарисов, между ними пятна яркого света и их почти черные тени. Рука, которая писала их, уже три года – пепел и воздух. А он сам?.. Гипотезы материалистические. Гипотезы идеалистические. Тайна, сокрытая и от веры. Я знаю (верой), что он жив. Но никто из живых, как и я, не знает, где, как, почему и зачем он живет. И какая связь между той его новой жизнью и цветами, кипарисами, картинами, женами и детьми, из каких составлена жизнь по эту сторону, какой я почему-то еще живу, когда “стольких сильных жизнь поблекла”…
32 тетрадь 30.4–3.6.1938
3 мая. Никольское
О тонких движениях души.
Алла, сделавшая глазами знак в сторону матери, готовой засмеяться над тем, что я чего-то недослышала. Алексей, стесняющийся ездить на великолепном своем велосипеде по окраинам мимо бедноты (мог бы, наоборот, наслаждаться восхищением и завистью мальчишек). Мать Ириса, по ошибке перепутавшая лекарство, встает ночью молиться за того, кто его выпил.
Девочка Саша 10 лет (в глубине моего детства) принесла нашей бабушке первый свежий огурец со словами: “Милая бабушка, вы – старенькие, вдруг завтра умрете и не попробуете в этом году огурчика”.
Костя (Константин Прокофьевич Тарасов), рассказавший мне о моменте своего космического сознания в то время, когда я не находила исхода из своего маленького (тогда казалось оно огромным) горя, и т. д., и т. п.
У каждого обладателя даже самых грубых свойств души есть минуты, когда он способен к тонким движениям.
“Тонкость” – от перевоплощения в другого, от ощущения “ближнего как самого себя”.
Третьего дня я вышла из Никольского кооператива и остановилась в раздумье, какой из двух грязных и скользких дорожек идти домой. Парень лет 20-ти, навеселе, прислонившийся к стене кооператива с папиросой в зубах, вдруг озаботился моим положением до того, что бросил папиросу: “Не здесь, мамаша, здесь сосклизнешь, в канаве очутишься. Дай я тебя под ручку вон той дорогой проведу. Не бойся, я на ногах твердый, даром что выпил (взял под руки). Смелей, смелей, давай, мамаша, правой ножкой, носком вправо забирай (шли по косой тропинке)”.
4–5 мая. Москва
Скользнувшие крылом по зеркалу души мысли и образы.
В нашем credo, если оно не вывеска и человек его горячо защищает, – целый клубок эмоциональных корней (любовь, ненависть, страх, привычки сердца и т. д.). И над ними сверху идеологические надстройки. Вот почему безуспешны идеологического порядка дискуссии. И огромный успех у Бэды-проповедника[488], у пламенного революционера, у всякого, кто несет в себе (или кого несет) мощный поток эмоциональной энергии.
6–7 мая. Ночь. Москва. Ул. Огарева
“Стремительные зигзаги рикошетных взлетов” над Тифлисом в Коджары, рядом с Андреем Белым; его новорожденные глаза, то с выражением кретина, то с юродивостью заумных мыслей; палитра слов огромного художника – и среди них безвкусные, аляповатые краски. А все вместе “стремительные зигзаги рикошетных взлетов” (“Ветер с Кавказа”).
Во многом родствен он мне, этот кликуша (А. Белый). И поэтому сквозь кликушество его, которое меня раздражает больше даже, чем других, я понимаю все эти его рикошеты внутренней жизни, взрывчатую – и сразу в десяти разрезах – линию восприятия, миллион “капризов” (от непригнанности винтика жизни к гайке по эту сторону бытия, ему предназначенного).
…Все, чьи нарезы винтиков не пригнаны вплотную к своему месту в машине бытия, страдают “капризами”.
Молю о счастии, бывало, Дождался, наконец, И тягостно мне счастье стало Как для царя венец. М. Лермонтов[489] Тень от облака летучего Не прибить гвоздем ко сырой земле. А. Толстой[490]И может быть, все дело в том, что это не столько винты, сколько “летучие облака”. Иные линии движения, иная структура душевной материи. Лермонтовская Тамара на другой день после гибели жениха вслушивается в искушение Демона: “Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края”. Тут все дело в “надзвездных краях”, в том, что на этом свете поэты (и смежной категории люди) – изгнанники. В том, что “они не созданы для мира, и мир был создан не для них!”.
8 мая. Тарасовская столовая
Никого нет дома.
Благословляю одиночество, Благословляю тишину, Обетованья и пророчества И зовы в дальнюю страну.Все это как над вершиной души – “животворная воздушная струя”. Там звучит это как музыка, как радость. А в долинах – свое: мысли, образы, быт.
Сила контрастов: с одной стороны – блестки, розы, бархатные и шелковые туалеты, груды мяса, авто (ЗИС), дача, апельсины, финики, Париж; Алла, молодая в свои 40 лет, золотокудрая Эос – с великолепным декольте. С другой – “хорошо, что взяли в экономки, собственно говоря, в домработницы”. Обтянутый увядшей кожей скелетик с выплаканными потухшими глазами. Испуганный вид, робкая, прячущаяся манера. Платья явно донашиваются. Висят на косточках скелета, как на вешалке (годы те же – 40 лет). В юности встречались у меня, в кружке “Радость жизни”[491]…
Как различны жребии человеческие и как трудно с этим различием примириться. И как хочется верить, что эти параллельные, но такие несхожие линии где-то – впереди, пусть вдали, пусть через миллион лет встретятся в одинаково прекрасном завершении.
Гусев Николай Николаевич. Бывший секретарь Толстого. Старик с молодыми, теплыми, темными прекрасными глазами. Пришел за билетами на “Анну Каренину”, оставленными для него Аллой. Так как никого не было, я вышла к нему. Сказала, отдавая билеты, что знаю о нем от Льва Николаевича, который во время посещения моего сказал с выступившими слезами (был у него дар слезный): “Гусева моего милого у меня взяли”. Теплоглазый, темноглазый старичок встрепенулся, глаза у него еще больше потемнели и потеплели. И почему-то вдруг догадался: “Вы, может быть, Малахиева-Мирович?” (Раньше он спросил, не матушка ли я Аллы Константиновны, я ответила, что я друг их семьи и живу с ними.) У него был обрадованный вид. Верно, и у меня. Он очень горячо похвалил мою заметку о посещении Толстого[492], вспомнил некоторые места из нее. Я заговорила о его воспоминаниях[493]. И мы тут же, стоя в передней, порешили, что должны увидеться, обменялись телефонами и обещаниями звонить и в близком будущем встретиться. Встреча. Чувствуется что-то нужное, настоящее, не полуфиктивное, как в некоторых милых, но внешних новых знакомствах.
Только тяжела я стала на подъем. Трудно мне раскачаться для выхода. Еще труднее окунаться в уличный гам и пестроту, толкаться в трамваях, впираться в автобусы, гранить лестницы метро (хоть шехерезадные анфилады метро люблю). Трудно носить на плечах, на голове груз шестидесяти девяти лет, и не меньше шести, а может быть, и все 9 недугов.
23 мая. Ночь
“У нас” уже есть машина ЗИС. С необыкновенными какими-то удобствами и красотами, вплоть до радио. Алеша влюблен в нее, бредит ею. С пафосом говорит: “Таких только шесть, только шесть!” (Не знаю, от какого числа и по каким признакам.) И давно я не испытывала такого отвратительного самочувствия, как третьего дня, когда ехала в авто на дачу. У Павшина босые ребятишки, заморыши, бежали за нами с вениками черемухи – “Купите! Купите! 30 копеек!” Копошились в пыли без всякого призора полуголые малыши. Автомобиль, дача-поместье, Алеша, зарывшийся в апельсинах и каждый день отправляющийся “покушать мороженого” в кафе, датский фарфор, какие-то заграничные шелка, зефирные платья, золоченые башмаки. О да, все это нужно для эстрады, для престижа “народной” артистки с двумя орденами. Нужно. Отчего же так смущается и почти устрашается дух мой. Без тени осуждения. Впрочем, “тень” порой мелькнет, когда испугает – точно впервые увиденный контраст – между этим бытом и поступившей в домашние работницы Нины С., Зои, радующейся, что нашла место продавщицы на 170 рублей, и всех тех полуголодных существований, с которыми встречаюсь в Малоярославце. Тень эта не имеет права мелькать. Довольно имущему обернуться душой в сторону неимущих, принять их в сердце свое, явится необходимое следствие: “Иди, раздай имение твое и следуй за Мной”.
Никто не вправе требовать этого от другого человека (можно только от себя).
И кто еще поручится, что по существу из этого вытекло бы и для дающего, и для берущего подлинное благо…
В довольно безвкусной, громоздкой пьесе Л. Андреева “Анатема” (шла в МХАТе около 30 лет тому назад) был такой праведный человек, Давид Лензер, который, получив миллион в наследство, начал раздавать его бедноте, лишил себя важной для его души поездки в Иерусалим, и ничего хорошего из этой раздачи ни для него, ни для других не вышло. Мораль – бессилие, бесполезность богатства. Я бы прибавила – вредность.
Вредна связанная с ним многозаботность и вот эта необходимость закрывать глаза на окрестные нужды, чтобы не обеднеть самому. Вред в самом факте закрытия глаз. От этого не нарастают нужные для питания сердца нити между человеком и миром, отмирают даже старые. Если вовремя не спохватиться, такому богатому Лазарю будет в какой-то момент нипочем пировать, поглядывая, как бедный Лазарь лежит у его ворот, покрытый ранами, и “псы лижут раны его”. Тут процесс окостенения живых тканей души, омертвения их, то, что заставило Сына человеческого с такой печалью произнести: “Трудно богатому войти в Царствие Божье”. Трудно по-своему (и очень трудно) войти туда и бедному. Ему загородят дорогу зависть, осуждение, стяжательность, т. е. то же богатство, только с иного конца. И выходит, что прав социализм, тысячу раз прав коммунизм: должна быть одинаковость прав для всех на все блага жизни, без накопления (о, какого, по существу, не нужно!) у одних и без необходимейших для жизни предметов у других.
Теперь поняла, что томило меня всю дорогу в авто и откуда такой горький и тошный осадок. Боль души, недоумение ее каждый раз, как наткнется на неравенство жребиев человеческих – поскольку они зависят от людей. И еще – смутное, глубинное, неотступное ощущение, что мое место не здесь, где я как сыр в масле и где я в суете, от которой не умею отмежеваться. И вот это “не умею, не могу” в чем-то главном и создает те болевые точки совести, о которых напоминают люстры и ЗИСы (при сопоставлении с Сережиными фурункулами от недоедания и короткими рукавами вылинявшей его толстовки, в которой он приезжал в театр).
24 мая. Малоярославец
…Постучали в окно неожиданно. Распахнулись створки его, и появилась густоволосая, узкая голова, и перекинулось тут же полтуловища из окна – для поцелуя: Сережа. Через минуту в полутемной передней толпились вокруг меня все четыре отличника и раздавались приветственные клики.
И вот я опять среди них – до чего близких, до чего драгоценных. Душа приподнимает голову с какого-то парадного ложа (тарасовская квартира, тарасовский обиход, где в последнее время она жила в полупараличе).
33 тетрадь 3.6–4.9.1938
17 июня. Остоженка
Всю жизнь на житейском плане были трудны мне три вещи: менять квартиру, шить новые одежды и идти к доктору. В этих трех пунктах я мистически и болезненно чувствовала ненужность для меня гнезда на этом свете, тленность того, кого собираюсь наряжать в новое платье, и смехотворную тщетность лечения (у докторов). Эти трудности, все три, предстали передо мной сейчас. От двух последних я отделалась тем, что решила ходить в отрепьях (моему демисезонному пальто 31 год), к докторам – глазному, ушному и т. д. – просто не пошла. Но избегнуть первой трудности уже было не в моей власти – квартиру меняет Алла, а мы с Леониллой включены в эту перемену механически. Испытала постыдное огорчение три часа тому назад, увидав ожидающую меня и Леониллу проходную, предельно неуютную комнату, и решила поехать за исцелением от “ранения” на Остоженку к Анне. В годы молодости мы нередко искали и всегда находили взаимную поддержку, когда жизнь толкнет так, что упадешь, ушибешься до крови, и тогда и не хватило бы сил и подняться, если бы не поспешно протянутая рука друга. В более поздние годы эти навыки отошли по разным причинам в прошлое. А сегодня я пришла к Анне с таким чувством, как 35 лет тому назад. И встретила такой же, как в те времена, живой отклик. И есть в Анне светлая отстоенность чувств и крепость и высота исходной точки, дающая право говорить очень известные, очень банальные “утешения” так, что они звучат действенно.
19 июня. Полдень. Глинищевский переулок
Безобразный, цвета подсохшей крови, кирпичный дом казематного вида впирается всем своим фасадом с какой-то аспидно-черной надстройкой на крыше в окна нашей квартиры.
Но странное дело: третьего дня он меня так ошеломил, так оскорбительно нагло вторгся в круг сознания, что я – в связи с общим разгромом в квартире, с ее придавленными неуклюжими окнами – заболела от него мозговой тошнотой, классическим депрессивным “унынием” и сбежала на сутки под благостный кров Анны. Сегодня же и на этот дом, и на грубые казематы окон, и на перспективу жить в проходной комнате смотрю спокойно, вернее – не вижу их. Как скоро душа, спасаясь от впечатлений, ее отравляющих, задергивает над ними завесу невидения (с шумами это сделать труднее).
На этот раз в быстрой перестановке угла зрения и задергивания завесы невидения очень помог день, проведенный с Анной, ее собранность, ее ригоризм и отстоянность внутреннего бассейна.
“Все – надо! Все – надо!” – недоуменно и укоризненно качая головой, говорила в давние дни старая соседка матери, созерцая мои сборы в Москву, покупки, укладывания, “лепешки-попутнички”, которые всегда пекла мать нам в дорогу.
Сейчас, при перевозке на квартиру и одновременно на дачу, вспомнилось это чуть насмешливое, но кроткое старушечье лицо, обвязанная дырявым платчишкой голова Дарьи Петровны Курманцевой, которой давно уже ничего не надо, после того, как горькая жизнь у злющей невестки привела ее к мирному холмику на Терновом кладбище Воронежа.
“Все – надо” – неизживаемый девиз мира сего, поступательного хода цивилизации.
“Ничего не надо” – девиз юродивых, апостолов, йогов, мудрецов. Единиц среди миллионов. Но также это девиз всех умирающих, которым нужно одно – или глоток воздуха и облегчение от мук агонии, или там, где сознание расширено за грани телесного “я”, – “В руки Твои вручаю дух мой”.
Но как утомительно созерцание многозаботности, многовещности этих двух стихий, порождаемых богатством. Индусская “Кама-Рупа”[494] – Жилище страстей. О ней печальное предостережение: “трудно богатому войти в Царство Божье”.
23 июня. Снегири
(И правда – снегири. С утра до вечера прыгают перед окнами с сучка на сучок высоких сосен эти крошечные желто-розовые птахи.)
“Это все – поэзия” – говорят прозаически настроенные люди, когда хотят сказать, что в данном случае действительность отразилась в ком– нибудь неверно. Они думают, что верное отражение то, где имеются в виду “низкие нужды жизни”. На самом же деле только поэзия – ключ к постижению мира.
28 июня. Снегири
Горчайшая из всех наук Мне ведома – наука расставанья. (Нат. Ас.)[495]День расставания с Ирисом.
Никогда бы я не поверила, что будет такой день, когда прекратится ток общения между нами. И как ни странно – нет для меня в этом ничего ошеломляюще нового. Постепенно-постепенно чистая, легкая, из “лучшего эфира” душа втягивалась в земляную, избяную, тесную, душную душу ее спутника. И захлопнулась дверь избы, называемой “счастливым супружеством”. От меня. И от своей правды, от своего лика.
О супружеское ложе! Сколько о тебе мудрость народа сложила беспощадно жестоких, ужасных в правдивости своей пословиц:
Не по-хорошему мил, по-милому хорош. Любовь зла – полюбишь и козла. Полюбится сатана краше ясного сокола. Хоть скот, да супружеское ложе дает.
И начало таких брачных мистерий в украинской песенке: “Тын нызькый, перелаз нызькый – за тэ ж тэбэ полюбыла, що сусид блызькый…” И над всем библейское проклятие: К мужу твоему влечение твое.
Всю ночь мучила в полубреду тяжелая нелюбовь к мужу Ириса. Снился колодец, как у Верещагина на картине, где томятся турецкие узники. Или французская oubliette[496]. И на дне Андрей (муж Ириса) и я в темноте, в духоте, в тесноте.
30 июня. Снегири
Всю ночь не дают старухе спать соловьи. И кто бы подумал, что старуха не поленилась выползти из постели, одеться, с трудом отвернуть ключ выходной двери и, зябко дрожа (холодная, как в апреле, ночь!), слушать соловьев и смотреть на гаснущие звезды, пока насморк не заложил носа и не заныла ревматическая нога. Трудно понять молодости, зачем старухе понадобились соловьи. А вот зачем. 37 лет тому назад в такую ночь, в предрассветной, таинственной синеве мы шли аллеей Петровско-Разумовского парка – я и человек, которого охватило, как и меня, великое безумие, называемое любовью. Мало было назвать такую ночь счастьем – и совсем не в счастье было ее значение. Космические силы, звездный свет, деревья, запах земли, туман от прудов, вливаясь в душу, смешивались в ней с тайной ее встречи с другой душой, расширяли ее до запредельных граней мира и переплескивались вместе с ней – в неназываемое, в непознаваемое, в смежное с великой радостью и с великим страданием одновременно.
Потом мы забрели куда-то, где было здание – “Убежище инвалидов”. И тот, кто держал мою руку в своей, сказал: “Вот тем, кто там спит, предутренние звезды и соловьи не нужны”. Как он ошибался! Разве вот эта моя ночь не свидетельница того, что было в ту ночь – не поцелуев, не рукопожатий, не розовой шляпы и пышной прически свидетельница, – а того, что вместе с Космосом переплеснулось за пределы его.
И да будет прощено этому человеку и мне все искаженное, нелепое и жалкое, во что претворили мы тайну этой ночи. Он ушел уже лет 20 тому назад из дольнего мира и то, что мы тогда пережили – верю – унес с собой.
А я в сегодняшнюю, о, какую холодную, и притом с подагрическими и ревматическими болями, соловьиную, ночь вспомнила, благодаря тому что была в моей жизни та молодая петровско-разумовская ночь, – вспомнила тот опыт.
Рассвет.
Вырвала из сна мучительная мысль, мучительное представление о том, как гибнет и может быть уже погиб Михаил[497]. Боже мой, Боже мой! как ожестели сердца! Можно любоваться закатами, заботиться о том, чтоб поудобнее был стол у кровати, рвать колокольчики, смеяться с детьми, читать биографию Бейля – в то время, как человек, который когда-то любил, который тебе отдал лучшую часть своей молодости, мучается, гибнет, затерялся в пугающей душу безвестности…
А соловьи – все свое, соловьиное. Но перекличка их сегодня кажется мне такой зловещей. Вопросы без ответов, недоуменье. Прерывистый плач. Пугливая жалоба, обреченность, сиротство и Великое сиротство.
…Но ведь Бог не покинул, не может покинуть мир. И “если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”.
5 июля. Закат. Снегири
Вчера приехала Алла (с ленинградских гастролей, где 15 раз сыграла Каренину). В детской радости каникул она носилась по своим владениям. В бледно-голубых шелках поливала огород.
Сегодня за чаем вдруг горячо заинтересовалась философскими вопросами.
6 июля. 12-й час ночи
Три лица Аллы:
Одно бытовое, бабье (из Лопасни, откуда по отцу предки), сытое, тяжелое.
Другое – детское, невинно, успокоительно смеющееся, наивное и тщеславное.
Третье – Эос – вдруг классически правильное, вдохновенное лицо античного божества (могло бы быть лицом Артемиды, Ники).
С этим лицом она появилась сегодня в раме моего открытого окна в 5 часов утра. Перекликались иволги – лес насквозь светился зелеными самоцветами листвы от косых лучей утреннего солнца. Было в этом что-то древнее, какой-то сон из прошлого Эллады. Так, может быть, предстала некогда Эос или Артемида жрице Аполлона в Дельфах после утомления бессонной ночью.
7 июля. 12-й час ночи. Снегири
Иван Купала. 45 лет тому назад в селе Подгорном (12 верст от Воронежа) бог Ярило в венке из колосьев и дубовых веток, носился по лесу в дионисиевском экстазе. Девушки в цветах и в лентах, молодицы в раззолоченных странной формы кокошниках с криками “Ярило, Ярило” бежали опрометью с его дороги. Я и сестра под эскортом брата, который привез нас на это празднество, видели из-за кустов рыжую головку в огромном, как целое колесо, венке и красное исступленное лицо бога Ярилы, мчавшегося по лесу какими-то дикими прыжками. После этого брат увез нас домой, так как вечером в лесу начиналась уже оргийная часть праздника. В Киевской губернии в ночь под Ивана Купалу деревенские девушки, а вместе с ними и молодые дачницы прыгали через костры. Помню четырнадцатилетнюю Аллочку с лицом Менады[498]в красном платье, пролетающую через высокое пламя костра с песчаного обрыва на берег Домахи (рукав Днепра у Триполья).
Здешние деревни – и Анисино, и Жевнево – напились ради этого дня, по инерции, потому что для них он уже не праздник. Долго неслись над полями, с пьяными выкриками песни. Миф – умер. Изжита до конца его опустевшая символика. Новый миф еще не родился. Ни о чем прошлом ни в личной, ни в исторической области не умею жалеть. Но невольно думаю: эта ночь с кострами на Украине, с Ярилой в Подгорном была осмысленнее, богаче, насыщеннее космическими силами, чем распивание литровок ради них самих, ради того, чтобы впасть в скотское состояние и вот так орать, как орут парни вчера и сегодня по случаю Ивана Купалы. В воронежском лесу было больше чем пьянство, – были оргии, но в этом языческом вопле “бог Ярило” было космическое ощущение Солнца…
А в сегодняшних пьяных песнях – только распущенность и в некоторых звуках их уже физиологическая тошнота.
11 июля. Снегири. Лунный вечер (11-й час)
День и “злоба его”.
Маленькая рыжеватая ночная бабочка сидит на уголке книги, на которую я поставила мою коптилку-лампу. У нее сгорели усики, ноги и обгорело крыло. Она – инвалид первой категории. И оттого сидит смирно и вид у нее смиренный. Но если бы ей починить крыло, она бы опять метнулась к огню лампы. И если бы починить полуобгоревшую психику каждого из нас и потом, как Фаусту, вернуть “его юность, горячую кровь” – опять и опять полетели бы мы на огонь своей лампы. (Истина, любовь, подвиг и просто “упоение в бою, у мрачной бездны на краю”.)
Посмотрите на вещи, какими окружает себя человек: если они не случайны, в них всегда найдется сходство (чаще карикатурное) с их обладателем.
Моя уродливая сумка из старой парчи с бархатом, тюлений маленький ранец вместо портмоне… и остальное (как было всю жизнь) случайно, кроме картин. Да, еще ветки, березовые, дубовые, еловые по стенам. И полынь. Алла – датский фарфор – сокол, слон, налим (игрушки, гладкие, дорогие). Саксонские чашки с ситцевой расцветкой, кустарная мебель, голубые фарфоровые подсвечники, розовый фонарик, хрустальная люстра, грошовые репродукции (с Маковского!) рядом с Добужинским и Бенуа.
Алексей – парадно раскрашенный велосипед, хинная вода, бильярд, цветы в горшках.
Резиновая лодка Москвина.
И т. д., и т. п.
Подошел старик рабочий – к окну кухни уговориться о работе. В это время хозяйка разбирала клубнику – привезли из колхоза несколько решет. Рабочему дали блюдечко клубники. Он нерешительно попросил “кусочек хлебца”, сказал, что ягоды не умеет без хлеба есть. Рабочий сел на песок, скрестив ноги по-турецки, и с жадностью стал жевать хлеб; клубника в блюдечке не уменьшалась. Хозяйка в голубом шелковом пеплуме, садясь за стол, обставленный закусками, с недоумелой улыбкой сказала: вот чудак, ягоды ест с хлебом.
12 июля. Снегири
Старший рабочий, пришибленный жизнью старик, с кротким, виноватым выражением лица. Отбыл свой срок на канале, – теперь живет “кое-какой работой”. Ни кола ни двора, ночует в лесу – “теперь тёпло” (а какое “тёпло”, к утру при открытой форточке натягиваешь на себя второе одеяло).
Другой, тоже с канала, совсем молодой парень. Лицо с открытым и добродушным выражением плутовства. Он как бы говорит всем существом: “Я с канала. Отбывал за воровство и… мало ли чего еще было! Но во мне нет ни злобы, ни жестокости, ни зависти. Может быть, я у вас и украду какую-нибудь вещь. Но если вы со мной будете по-хорошему – может быть, и ничего не украду”. Одежда на нем до того дырявая, что, когда он идет, у него сверкают локти, колена и даже бедра. Ему подарили штаны. Он сказал: “Что вы, что вы! Такие можно носить только по праздникам”. И продолжает сверкать наготой сквозь свои отрепья, у него тоже ни крова, ни родных (беспризорник).
13 июля. Снегири
Ночь. Лунная, холодная. Березы над круто срезанным холмом подступают к кухне, как призраки. В их тонкости, в их белизне на фоне лесной чащи какое-то потустороннее выражение. Кажется, вот-вот они исчезнут, или превратятся в девические тени, или двинутся с обрыва к нам во двор и заговорят человеческими голосами, или запоют что-то похоронное.
Сон: вошел Лев Исаакович (автор “Апофеоза беспочвенности”). В черном длинном сюртуке и волосы черные (у него теперь, пожалуй, и седых на черепе не осталось – 72 года!). Он много выше человеческого роста, что во сне меня ничуть не удивляет. Но удивляет и огорчает, что он проходит мимо, даже не кланяется. Не мне, а кому-то другому говорит: “У меня совсем нет времени, я здесь на несколько часов, а дел пропасть. Я посижу у вас только пять минут”. У двери я замечаю его сестру – такого же сверхчеловеческого роста. Я бросаюсь к ней, и мы крепко с ней обнимаемся. Объяснение сна (в полусне явившееся) – оба они на рубеже смерти, а Лев Исаакович, может быть, даже умер[499].
24 июля. Снегири
От Андрея, Ирисова мужа, хорошее, теплое, искреннее, покаянное письмо. Каяться надо и мне. И я это сделала. На этот раз – первая. Между нами числится целый ряд таких падений и восстаний. Может быть, его одного из всех людей, мной знаемых, я так судила, так осуждала, как будто бы у меня даже какое-то имелось на это право. А в корне вещей главной виной его было, что он, а не М. стал мужем Ириса[500]. Он же, по существу, ни хорош, ни плох, как большинство людей. И еще вернее: и хорош, и плох, как всякий “рожденный женою”. Я начала с самого нежного тещинского к нему чувства и дала ему огромный аванс (Алеша Карамазов и т. п.). Он это не мог выплатить. И кроме того, после приобретения Ирисом дома в нем выявилось атавистическое лицо собственника, хозяина (предки – крестьяне). И это в связи с чем-то косным в его природе и в некоторых оттенках его отношения к Ирису все время меня ранило, оскорбляло (за Ириса) – и образовалась между нами тяжба.
27 июля. После полудня зной. Снегири
Добро, творимое без улыбки, без “грации добра”, тяжело ложится на душу того, кому благотворят.
И… пожалуй, лучше так поступать, как Алла: много раз пройти мимо случаев, где “добро” от нее требовалось. Но там, где ее душа откликнулась, – реализовать отклик со всей полнотой живого порыва. Так бывала она не раз добра и ко мне, и к ряду других лиц, иногда совсем ей не близких.
Недавно она послала 100 рублей моей 70-летней двоюродной сестре, только потому, что увидела ее во сне. С этой же грацией добра она купала меня на берегу (мне запретил врач входить в реку). Забыв о собственной наготе (она вообще пуритански стыдлива), ходила вокруг меня по воде и по берегу, обливала из таза, вымыла мне ноги и даже, как царевна Навзикая[501], собиралась выстирать мой сарафан, но я не дала. Так она недавно поступила и со своей матерью. Кто поверил бы этому, когда она, неприступная, не глядя ни на кого, с ледяным лицом, пробегает мимо людей в своих заграничных нарядах. И все чаще у нее бывает детски невинное и какое-то как у шекспировской героини лицо.
31 июля. Жаркий день после полудня. Снегири
По-разному живут в д. № 8, в поселке “Мастера искусств”, в Снегирях.
Москвин встает в 5, иногда и в 3 утра и едет в автомобиле на Истринское водохранилище ловить рыбу, или идет пешком на берег куда-нибудь поближе к дому. Сидит с удочкой часов 5–7, привозит 5–7 голавлей; долго возится на своей террасе с червями и муравьями. Там же сервируют дневной чай. С видом добродушного, но скуповатого дедушки там оделяет он всех жареным миндалем, винными ягодами, печеньем и конфетами. Ест варенье с “кислинкой”, которое он бережет только для себя. Иногда в полосатом тончайшем пиджаке прохаживается с Аллой по саду – и тогда она, помолодевшая от физической работы и отдыха, кажется даже не дочерью, а внучкой его. Вечерами он любит долго сидеть за ужином в компании детей (18-14-10 лет) и рассказывает разные анекдотические случаи из своей и чужой – актерской и купеческой – жизни. Однажды рассказывал свое детство и юность. Рос в бедности у вдовы-матери. В Замоскворечье. Крестный, богатый купец, его взял к себе, “Ваню старшего”, как бы на воспитание. Он нес канцелярские и приказчичьи обязанности. Кроме того, обязан был поутречать, читать Жития святых, сидя рядом с крестным. Обедал за 10–15 копеек “с лотка”. Приносил в ряды разносчик щи, квас, пироги, рыбу. За 15 копеек можно было скромно, но сытно пообедать. У мальчика, подростка лет 16-17-ти, да и позже не было ни копейки своих денег. Потом – крестный – платил за него в театральную студию, что казалось всем чудом, так как театр в глазах замоскворецких купцов был бесовским учреждением.
Алла – кроме купанья, длинных чаепитий (как у всех) – работает на огороде и по очистке своего леса как сдельная усердная поденщица (в розовой шелковой ночной рубашке, а иногда в заграничном изысканном халате, голова же завязана чем попало). Читает со мной по-французски, прилежно подучивает идиомы, время от времени занимается “философией”, время от времени ходим вдвоем куда-нибудь далеко. Увлекается заготовкой варенья.
Леонилла – уже совсем сгорбившаяся и от старости семенящая, но ничуть не снизившая темпов своей энергии, кипит в работе с 8 утра до 1 часа ночи – на кухне, в лесу, в огороде, во дворе, в комнатах. У нее сделалось жадное лицо – все время нацеливающееся на какую-нибудь новую работу.
Бездельник Мирович рад, что у него есть законные претексты (печень, склероз, головная боль от жары) для отвода от всех этих работ, один вид которых утомляет и расстраивает его (так всю жизнь было). Мирович с тетрадью под мышкой удаляется на опушку леса или затворяется в своей жаркой клетке (когда нет сил никуда брести). 2–3 часа занят с Алешей немецким и русским, с Аллой – французским. The rest is silence.
Алеша – с горестным притруждением немецкой и русской диктовки. Велосипед, волейбол, идиллические прогулки с десятилетней кузиной, не на шутку влюбившейся в него. (Детский эрос с одной стороны, эстетство и утехи самолюбия – с другой; конечно, и то, что называется “симпатией”.)
Работницы, поочередно проклиная свою долю и аппетиты “господ”, жарятся у плиты и то и дело низвергаются в ледник за молоком, за боржомом, за ягодами, за квасом, за маслом, за огурцами…
4 августа
Промчалась в последние дни с Ильфом на автомобиле[502] (серый, мышиного цвета) от Атлантического океана до Тихого. Заезжали и в Мексику. Видела год-полтора тому назад лицо покойного Ильфа в “Огоньке”, и сильно не понравилось оно, и не подозревала тогда, как приятно мне будет прокатиться с ним по “одноэтажной Америке”. Несомненно, это талантливейший из очеркистов современности. Острота зрения, тонкость восприятия, внутренняя культурность, юмор – еще немного, и был бы это Чехов ранней поры (между Чехонте и Чеховым “Чайки”). Кланяюсь в его сторону и братски-тепло благодарю его (услышит ли?) за головокружительно-быстрое и такое насыщенное впечатлениями путешествие. За то, что побывала в Великих каньонах, в пустыне, где кактусы воздевают руки в закатное небо, в сталактитовой пещере (забыла, где она) и в сверкающих миллионами огней Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско. Благодаря ему, я почувствовала судьбу вымирающих индейцев и оторванных от родины, законсервированных в своем соку среди чуждого народа молокан.
Уловляю, за что я и теперь люблю (уже без вопроса о неге, напротив, с вопросом неловкости, неуместности) болезнь, токунки, например, приступ печеночных болей.
Тут есть нечто от сна Анны Карениной: il faut le battre le fer, le broyer, le petrir[503]. Присутствуешь при том, как в сильной и разрушительной физической боли раздробляется толстая кора на душе – неведение, забвение, окамененное нечувствие. Хоть на время становишься легче, прозрачней.
6 августа. Снегири
Мысль – первая после пробуждения, еще в полусне, мысль, вытекающая из глубин подсознания, вся пропитанная горестным недоумением и ужасом: так это, значит, правда – не умеет, не хочет, не может человечество иначе жить, чем с убийствами, пытками, казнями, с ложью и лицемерием… Все мудрецы всего мира взывали к нему: “не убий”, “возлюби”, “остановись и задумайся” – и как в дикие времена, но со всеми ухищрениями науки готовится всемирная бойня в добавление к той крови, которая уже льется в Испании. И нет квадратного километра, заселенного людьми, где не было бы вражды, взаимных обид, угнетения, унижений, лжи, несправедливости, жестокости. И ты – кость от кости, плоть от плоти человечества, и ты ответственен за это безумие, и в себе ты несешь его семена.
7 августа. Снегири
Летучие мысли и образы, случайно застрявшие в памяти.
Народ не имеет классового сознания. Народ знает богатство и бедность, “прохладную” и трудовую, трудную жизнь. Тех, кто живет сравнительно богато и “прохладно” (комфорт, возможность долгого отдыха, а для некоторых членов семьи даже ничегонеделанья), народ уже называет буржуями. Контора, рабочие, крестьяне откровенно считают буржуями обитателей 25-ти дач (“Мастера искусств”).
…Нисходящая линия новых “знатных” людей – дети артистов, профессоров, крупных ответственных работников, стахановцев, попавших в газеты, и т. д. – стремятся обособиться, выделиться в касту, не смешивающуюся с массой. Может быть, им это не удастся. Работа, война, случайности на широком размахе строительства заставят их перетасоваться с простыми смертными. Но характерно, что и в социалистическом обществе не умирает боярское местничество. И даже в артистической среде иерархия почетных мест определяется не столько талантами, сколько громкостью имени, накопленностью благ, связями с правящим кругом. Здесь Лебедев-Кумач в одном ранге с Алексеем Толстым и Утесов с Качаловым. И в другой среде Дуся Виноградова рядом с Шмидтом, Коккинаки с Пашей Кавардак. В первооснове такого явления, с одной стороны, свойственное толпе поклонение успеху (“жрецы минутного, поклонники успеха”); а со стороны успевающих – жажда утвердиться, закрепить за собой, а если можно, и за потомками реальные блага, вытекающие из знатности.
11 часов вечера.
Примчались два автомобиля к “Мастерам искусств” с вестями, что сегодня умер Станиславский. Москвин потрясен. Не выходит из своей комнаты. С ним Алла. Москвин – я понимаю. Больше, чем полжизни связан в общем деле, дышали воздухом театра, которому отдали всю молодость, все силы. И личная дружественная связь. И обаяние личности Станиславского. Но почему с этой вестью вбежала в контору почти в рыданиях и в крайнем переполохе бухгалтерша наших дач (она к Станиславскому никакого отношения не имела), это мне не совсем понятно. Умер очень старый человек, течение жития совершив, “восполнивши тайну свою”. Успокоился. Откуда же треволнение, нервная лихорадка? Крайняя неготовность к факту смерти вообще или сенсация вокруг знаменитого имени, как бы уже участие во всех похоронных фанфарах?
Я шла домой из конторы лесной тропинкой совсем уже в темноте. И как эта темнота, однако, полная таинственной, лесной, космической жизнью (и звезды проглядывают сквозь верхушки сосен) – была для меня смерть этого человека. И был он для меня уже не актер и режиссер (мировое имя!) Станиславский, не доктор Астров, не доктор Штокман, ничто из того, что он создал на “отмели времен”, а душа, переступившая за грани времен и пространств, освобожденная от покрова телесности. И этим более близка, чем те, кто заключен в “темнице праха”. И точно я его впервые по-настоящему увидела и узнала в этой лесной, звездной темноте в ночь его смерти.
12 августа. Снегири. Раннее утро. Солнце
За пять дней, в какие была разлучена с этой тетрадью, – круговорот событий, внутренне значительных в обиходе Мировича: Москва (по дороге в вагоне пьяная, ржущая, орущая компания… вузовцев, справлявших какое-то свое торжество, какой-то сдали экзамен), чистилище трамваев, толкотни, жары, очередей, мерзких запахов летнего города, не освеженного деревьями, дышащего расплавленным асфальтом и бензином. Встреча с Людмилой. Когда долго не видишься с другом, боишься – не утратится ли общий ритм восприятия, таков ли реальный образ друга, каким его мыслишь в памяти прошлого. (Опасение оказалось напрасным.) Никольское: встреча с младенчиком, сыном Ириса. Крохотное одухотворенное личико, с синими, как у матери, глазами; все время шевелил губками, точно силился сказать что-то непередаваемое словами. Приезд Ольги, по какому-то ясновидению решившей, что я в Москве, и безошибочно позвонившей в тот час, когда я была дома (только час и была дома).
В тот же час появление у меня Москвина и Аллы. Оба они переполнены похоронами Станиславского. Хорошо говорили о нем, лежащем в гробу: “Отшельник, схимник”, “жизнь, отданная на служение искусству безвозмездно, безоглядно”. Вспомнили слова, сказанные Станиславским его ученикам: “Берите поскорее от меня все, что можете, обирайте, грабьте меня, спешите, спешите, скоро будет поздно”. Как счастливый жребий чувствую, что это “поздно” относилось к смерти, а не к маразму, к духовному распаду.
25 августа
Мое болезненное отвращение к еде (почти весь год с перерывами) – мудрая помощь отойти от “гортанобесия”…
Иван Михайлович (Москвин) говорит: “Станиславскому, когда был на диете, ставили на стол, если обедал со всеми, ширмочки, чтобы не видел блюд, какие могли бы соблазнить его к нарушению диеты”.
До чего безвкусно оформлено место упокоения и вокруг вся площадь Станиславского на Новодевичьем кладбище – огромная могила в красных цветах… с гелиотроповым бордюром. Недопустимое сочетание. А по ограде множество аляповатых грубо-красных искусственных цветов.
27 августа. Снегири
…Мысль утром: был такой поэт в мою молодость – Аполлон Коринфский, был романист Луговой, была Крандиевская, Нина Петровская. В литературных кругах имена их произносились так же серьезно, как имена Гиппиус, Сологуба, Иннокентия Анненского. Теперь о них никто не помнит. Их слава жила в стенах редакции и в салонах лет 20. Но ставка всей жизни некоторых из них была прежде всего – ставка на “памятник нерукотворный”. Обманули и обманулись сами, жили ложной ценностью. А впрочем, был, вероятно, дружески родственный круг, который, относясь, как и сами авторы, серьезно к тому, что они сочиняли, добывал себе какую-то своеобразную пищу для души из этих стихов и романов.
29 августа. Снегири
Прохладное серебряное утро все в тумане пополам с дымом (продолжают где-то гореть леса). Туман так густ, что солнце кажется бледным, как луна.
“Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности… как отдать ее всю всем. Это закон природы; к этому тянет нормально человека”.
При этом: “Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все и даже желать, чтобы тебе ничего не было выдано за все обратно.”[504]
Так пишет “ретроград” Достоевский. И ретроградность его в том, что условием для самопожертвования личности обществу, государству он берет высокую (в истории человечества лишь единицами достигнутую) ступень развития.
30 августа. 2-й час. Зной
Ночью в первый раз чуть ли не за целый месяц был дождь. Леса еще горят (торфяные), но дымки гари стали тоньше.
Приехала из Одессы Алла (там снималась для “Петра I”). Хорошо рассказывала о Станиславском. О его своеобычности в жизни, о его всепоглощенности творчеством в области театра. О гениальных прозрениях в пути актерской работы, о магическом даре перевоплощения (“в каждой роли глаза совсем другие, и такие, что не узнаешь в них Станиславского”).
Искренняя дань почитания, искренняя печаль о нем его “врага” Немировича.
Мелочи: Станиславский всегда ходил за кулисами во время действия на цыпочках. В Америке один пожарный вошел в коридор, смежный со сценой, с громким топотом. Станиславский кинулся к нему, как коршун, пожарный от страха присел и замер на месте, а Станиславский остался над ним в позе коршуна, со скрюченными пальцами в виде когтей до конца сцены.
Станиславский никогда не кутил, не пил, никто не видел его нетрезвым. На пирах выпивал один бокал шампанского.
Приехал Москвин с рыбной ловли, с Оки. Жил там с сыновьями в простой избе. Рыбачил напролет почти без сна день и ночи (“спал часика 3–4 в сутки”). Спрашиваю, в чем пафос этой рыболовной страсти. Отвечает: во-первых – река, утро или, например, закат на реке – красота неописанная. А потом – погоня за удачей, за счастьем.
– А если бы вы не ели совсем рыбу, интересно было бы ловить ее?
– Почему же нет? Дело тут не в ухе, а в природе, в спорте. Да и почему-то все интересно, что рыб касается.
34 тетрадь 6.9-13.11.1938
18 сентября. Ночь. 2-й час
Горбатый человек[505]. Маленький. Такое впечатление, что взрослому человеку он по пояс. Очень широкие плечи и очень выпуклые два горба – спереди и сзади. Лицо еврея-интеллигента, молодое, умное и симпатичное. Особая удлиненность черт, свойственная горбатым. Голова откинута назад.
Биолог. Пишет научную работу. Женат. Я знаю литератора, у которого одна из его ног, всегда вытянутая назад под прямым углом, заканчивается тонкой закорючкой, похожа на хвост. От тоже женат. Меня трогают и умиляют женщины, для которых это не преграда к браку. Тут или огромная любовь-жалость, или мученическая жертвенность, или такое одухотворенное восприятие человека, что наружные свойства уже ничего не значат.
Из-за двух своих горбов он выглядывает с веселым и спокойным видом без всякой застенчивости. Игнорирует свой вид и впечатления его на других, победил себя здесь или просто привык? Привыкают же старые люди к своему безобразию.
20 сентября. Москва. Ночь
Как во время ущербной луны все озарено зловещим, изнемогающим, мрачным светом, такой же свет бросают на жизнь наши собственные упадочные настроения.
Каким стареньким, грустным, изнемогшим от неуюта и трудностей существования показался мне сегодня Степан Борисович[506]. Трагическим показалось, что жена его на 20 лет его моложе и что так неестественно она располнела. И хотелось заплакать от того, что у нее выпал передний зуб. Чепуха все это… Ах, нет, не чепуха, потому что дело не в зубе, а в том, что “Tout lasse, Tout casse, Tout passe”[507].
А у девочки их (8 лет), умненькой и похорошевшей, какие-то стригущие лишаи – и на носу, на подбородке, на щеках деготь. И в комнате пахло дегтем. Говорилось как будто бы об очень романтичном и беллетристично интересном, но душа слышала в этом призрачное “не бывшее, как будто бывшее”, “желаемое и ожидаемое, как настоящее”.
И себя ощущал Мирович со стороны всех брешей, пробитых старостью. С трудом плелся на вокзал, с трудом влез на трамвай с передней площадки, за что был осыпан грубой руганью нервозного кондуктора. Дома зловеще ощутилось неумение, нежелание Алексея приняться за работу, его дефективная лень, дезорганизованность, обломовщина.
Дома – “Сага о Форсайтах”, запоем часа два. Была одна в квартире: время, посылаемое мне для сосредоточения и творческих затей. Я же не сумела (не захотела? не смогла?) оторваться от чтения. И когда к ужину оторвалась, почувствовала себя объевшейся Форсайтами до заболевания, так, что ни есть, ни пить, ни разговаривать не могла.
За ужином у маленького нашего гостя было затуманенное, детски– жалобное выражение. Его забирал грипп, и в этом состоянии с его невыносливостью горбатого человека ему было трудно думать о том, что надо вставать завтра в 4 часа и лететь на самолете в Ялту. А там приниматься ради заработка за незнакомое, хлопотное, ответственное дело картинных выставок (ему передал эту профессию Александр Петрович, Алешин отец). Его влечет изучать орган равновесия у ракообразных (какой-то камушек внутри), а ему придется командовать развешиванием и упаковками картин и всей коммерческой стороной дела, к которой он, кажется, не способен.
И на всю жизнь, на всю, может быть, долгую жизнь, ему эти горбы. Ни передохнуть от них, ни забыть о них. Разве ночью, во сне. А проснешься: они тут как тут, два – и нужно их одевать, лелеять, беречь. По временам они болят. Глуп, неуместен, дерзок вопрос “за что?”. Но трудно не задать его, где-то в глубине души. За что это ему, а не такому-то, такой-то, не всем, а Виталию Михайловичу Диршу. За что такое искажение? За что и зачем.
30 сентября
Девушку 17-ти лет из квартиры Айдаровых полураздавил грузовик: проломлен нос, изуродовано лицо (что-то с костями лица)… В Париже гасят ночью огни, ожидая налетов, эвакуируются дети и старики. В Испании продолжают лететь с неба бомбы в мирных жителей. У Сережи от недоедания желёзки и фурункулы. Его тонкая длинная шейка, перевязанная узким бинтом, не выходит из моего сознания. И чудесная, застенчивая, но яркая, как у матери, улыбка. Разлив улыбки. Он начинается как будто со лба, светится в глазах, проливается на щеки, на почти не разомкнутые линии губ и на все существо до подошв ног. По тому, как он ел колбасу, пироги, целый калачик, пирожные, как ел, не отрываясь, хоть и умеряя темпы насыщения (он не страдает ни жадностью, ни интересом к вкусовой области), по тому, каким показалось ему пиршеством это мое скромное угощение, вижу, помню, что оттого он и болеет, что недоедает, как и братья и сестры его. И теснится в сознании порой еще многое, многое такое же несовместимое с тишиной и красотой здешних мест.
“Сопрягать надо”, – говорит Пьеру Безухову в его сне масон Лабрин. И тут же (какая тонкохудожественная черта!) Пьер просыпается от слов, уже наяву прозвучавших: “Запрягать надо”. Запрягать и запрячься, ехать, куда повезут законы истории. И в том экипаже, в каком уже выехал (класс, среда, профессия, семья, русло быта).
5 октября. 1-й час ночи. Москва
Гремят фокстроты. (Алеша не может отойти ко сну без них. Для него это как для хорошего монаха полунощное правило.)
Растерзали Чехословакию. Никто не заступился. Умыли руки. Как ни страшен призрак войны, хотелось бы, чтобы мы пошли va-bank. Есть моменты, как в жизни отдельных людей, так и в истории государств, когда нет места дипломатии, промедлению, вообще своекорыстию, когда Судьба призывает к риску во имя справедливости.
Ирис мой, ангел-хранитель Мировича в течение долгих лет его старости, взялся выхлопотать мне работу в Музее Ленина или у Бонча[508]. Работа и как заработок для внучонков, и как дело, оформляющее жизнь в днях, нужна мне как никогда…
О людях, каких вижу, о каких слышу
…Алла в пафосе древонасаждения и других садовых работ. Трудится на своем участке, не разгибаясь, в свободные от театра дни. Нередко делает для этого около 100 километров в день на своем ЗИСе. Сегодня с матерью и с Шурой (домработница) посадили 150 кустов малины.
…Леонилла в бешеном развороте хозяйственной энергии (в 69 лет!). Александр Петрович – “праздником (но не светлым) жизнь пролетает”; перемежается бурными конфликтами на обычном плацдарме (сын) и мрачным состоянием обиженности.
…Алексей – хотел бы так же в праздниках, то есть в удовольствиях, пролетать через жизнь. Но нужно кончить 10-й класс. С внутренним возмущением и тоской впрягается в работу. На пристяжке – три учительницы и репетитор (по математике и физике, химии и тригонометрии). Пафос жизни – править автомобилем. Для этого, когда только можно, готов ехать на дачу, за 50 верст.
…Алле подарила дирекция в сотый спектакль “Карениной”… корзину с фруктами. Я понимаю этот подарок статистке, живущей в бюджете 300 рублей, или уборщице, костюмерше. Но примадонне Художественного театра можно было придумать что-нибудь несъедобное, что-нибудь более “художественное”. Или просто цветы.
…Леся[509] (Аллина племянница) работает у станка с учителем в нашей старушечьей комнате. Пленительно красива в некоторых своих движениях и позах. Ее учитель – юноша 22-х лет, тоже красивый утонченной женственной красотой. Готовился на сцену Большого театра, от какой-то случайности сломал позвонок – и вся карьера свелась к тому, чтобы давать уроки и этим зарабатывать на пропитание.
…ЗИС отвез меня в Петровско-Разумовское, и там я прожила часа три– четыре. Был солнечный чудесный день, и теплый, и прохладный вместе. Сквозь черные стволы громадных столетних лип поблескивало серебром озеро. Золотые листья плавно кружились в безветренном воздухе. Мирович предался воспоминаниям, а потом и стихотворству. И сам Мирович, и стихи его – все было на тему Tempi passati. И вдруг с боковой аллеи грянули пронзительные в три голоса частушки:
Милый мой, Лезь в печь головой — Там пышки-лепешки, Будем шамать мы с тобой.Пели три молодые работницы разудалого вида. Они шли, обнявшись, толкая друг друга. Одной шалунье, когда она поравнялась со мной, видимо, хотелось толкнуть чудную бабку, что-то строчившую на тюленьей сумочке вместо стола. Но подруга удержала ее.
– Вы бы что-нибудь получше спели, – сказала я ласково. – Охота вам петь про то, как “шамают” и в печь головой…
– А чего ж тебе, бабушка, спеть? Может, вот эту: “Она, моя хорошая, забыла про меня” (раздирающим голосом).
– Какую-нибудь настоящую деревенскую, старинную, какую бабки ваши пели.
– А на кой нам, что бабки пели? Они свое пели. А мы свое.
Я поняла, что они правы. Но жаль, что это их “свое” такое бескрылое, безвкусное.
8 октября. Малоярославец. Сережин праздник
Ничего праздничного, кроме моего приезда, колбасы, которую я привезла как подарок, пирога с ливером вместо второго блюда (мясо в каком бы то ни было виде здесь учитывается как роскошь).
Свежесть юной жизни. Тепло насиженного гнезда. Чудесное излучение чистоты, доброты и высокого нравственного мужества от Сережиной матери.
Сама в полунищете, неизлечимо больная, переживающая тяжелое горе, обремененная тысячью забот о детях, находит в себе горячее желание и силы устраивать поблизости чужую семью, где мать совсем инвалид и нет никаких почти средств к жизни.
Как жаль, что хочется спать – такая лунная-лунная ночь, такая огромная томительная печаль “земного бытия”, о которой хотелось бы рассказать, но нет слов. Одолевает сон.
18 октября
Ночь. Очень важное, очень меня взволновавшее (радостно) сообщила мне Алла; возможно, что у нее будет ребенок. Ничего, что отец старик и Алле 40 лет. По цветущести и свежести плоти Алле нет и 30-ти. А Москвин несет в себе корни, богатые черноземными силами, мощным творческим темпераментом. Дай Бог, чтобы не оказалась обманной эта надежда – ее и моя. Всем существом хочу для нее этой радости.
19 октября
Ожесточенный диспут Аллы с мужем о покойной жене Немировича[510](умерла в этом году 80-ти лет). Аллу восхищает, что до конца жизни она не утратила интереса к театру, к гостям, ко всем сторонам светской жизни. И что создала мужу образцовый уют и раз и навсегда закрыла глаза на вереницу его измен, больших и малых.
Александр Петрович гневно возражал, что не стоило ей “пошляку” Немировичу создавать уют и что ничего хорошего нет в том, что восьмидесятилетняя женщина “завивала кудерьки”, красила губки, прикалывала цветочек на грудь и все свои брелоки, полученные от театра после каждой премьеры.
Аллу прельщают те черты, каких у нее нет: ровность, выдержка, способность создавать уют, интерес ко всему окружающему, стойкая жизнерадостность. Александра Петровича возмущает как личное оскорбление ложь в браке, пустота светских гостиных, искусственность интересов (он не верит, что увлечение покойной Корф театром было искренно). По существу он, конечно, более прав. Но как оба не правы тем подчеркнутым антагонизмом в исходной точке суждений. И в страстном, хоть и бессознательном желании задеть побольнее друг друга во время спора.
Казалось бы, “что им Гекуба?”. А между тем из-за этой Гекубы разошлись после ужина оба с нервами, взбудораженными до предела. Обоим Гекуба обеспечила бессонницу.
Эрос, медлительно лишаемый питания с одной стороны или грубо сразу разорванный как живая связь одной из сторон, переходит в антиэрос. В этих случаях, чтобы не начать взаимно друг друга ненавидеть, важно так устроить жизнь, чтобы друг друга не видеть. Тогда скорей и легче заживет рана разорванной связи и того, кто пострадал от разрыва.
25 октября. Сумерки. Диван в Глинищевском переулке
У благотворителей есть неписаная иерархия нищих. Иным дают что– нибудь из одежды (временами) и покормят. Иным двугривенный. Некоторым не полагается больше пятачка. И наконец, есть такие, каким благотворитель с легкостью говорит: “Бог подаст”.
Такая же иерархия существует и в других жизненных отношениях. Некоторых людей мы охотно приглашаем к нашей духовной трапезе и готовы поступиться для них нашими удобствами. Других мы не пускаем дальше приемной нашей души, и то, чем мы делимся с ними из наших внутренних богатств – равносильно двугривенному. Третьим мы даем еще меньше и для того лишь, чтобы отделаться от них (пятачок). Мимо четвертых проходим без остановки, а если они стучатся в нашу дверь, им говорят, что нас нет дома.
Расточают себя щедро и без всякой иерархии, раздают направо и налево чистое золото только святые, не замкнувшиеся в святости, а несущие ее в мир, да еще редкие, преисполненные врожденной активной доброты натуры. Наряду с ними так называемые – светские, общительные люди: но эти раздают позолоченные гроши и вообще фальшивую монету в силу своей внутренней бедности.
Иерархий не должно бы быть. Их, вероятно, не было в катакомбах. Они стирались высоким накаливанием братского чувства. Но в другом направлении, то есть снизу вверх: у смиренных и высших ступеней духовной лестницы не достигших – было чувство почитания, утверждавшее иерархический сан того, кто на высшей ступени.
Я и Анна, две в комфортных условиях живущие старухи, обе в теплых одеждах и в перчатках, со свежими от Филиппова булками в руках. Тут же в трамвае – до отрепьев бедно одетая, с изможденным, скорбным лицом старушка, по-видимому “интеллигентка”. Руки без перчаток, ботинки без калош, порванные.
– Куда она пойдет? Что будет есть? Где будет спать?
Мы обменялись этими вопросами и пошли пить чай с белой булкой и с сыром. Предложить ей какой-нибудь рубль было страшно, чтобы ее не обидеть.
1 ноября
Сорокалетие Художественного театра. Парадные спектакли с правительством. Пышные чествования, речи, адреса. Банкеты. Ордена. Денежные награды. Леонтьевский переулок отныне – Станиславский. Глинищевский – Немировича переулок.
Отражение празднеств в нашей квартире – вечерами Алла в парижских туалетах перед зеркалом – утомленная, невеселая, раздражительная (от личных причин и от парадов устала; всякий парад ей чужд).
Разговоры о деньгах. Москвин получил 20 тысяч, Алла – 6 (двойное жалованье), Москвин подарил первой жене эту сумму – жест, который меня очень тронул. Когда говорят о его скуповатости, забывают о таких его широких размахах. Алле он поднес прекрасное и очень ценное жемчужное ожерелье. В обеих квартирах Аллы – верхней у Москвина и нижней, где ее семья – Алеша и две бабки, – во всех углах и на окнах корзины с цветами. Среди них роскошные гигантские белые хризантемы. Нужно ли говорить о культурных заслугах театра. Этим полны в юбилейные дни обе наши газеты, кроме “Советского искусства”. Об этом и раньше написано уже несколько книг.
Да и не мое дело – оценки в таком разрезе, в таком масштабе. С одной стороны, я чувствую и понимаю такие вещи интимно, субъективно, келейно. С другой стороны, мне свойственно рассматривать их, как и всё sub specie aeternitatis[511] (под углом их отношения к вечному). Взглянув на прошлое МХАТ с этой моей точки, я низко кланяюсь ему за горение в искусстве его вождей и артистов и за все то “разумное, доброе, вечное”, что излучалось с его сцены через Толстого, Ибсена, Гамсуна, Чехова и других.
39 лет тому назад мы с сестрой, две жаждущие широкого русла провинциалки, не нашедшие никакого русла своим силам и творческим возможностям, явились в Москву без круга знакомств, без денег, с одним рекомендательным письмом нашего киевского друга Шестова к его другу Лурье. Посвящением нашим в это большое русло – русло культуры был первый же спектакль МХАТа. Это был “Царь Федор”. Потом “Одинокие”. И Чехов. Главным образом Чехов. А позже “Бранд”, его “всё или ничего”, максимализм требований от жизни и от личности. И весь Ибсен с его непримиримым зовом от низов жизни.
Так называемое декадентство во многих из нас переплеснулось уже тогда в пафос устремления через гибель к переоценке ценностей, к восторженному, безоглядному полету в Неведомое. Действенно волновали слова Ницше “Только там, где гробы, возможно воскресение”, шестовское “Безнадежность не есть ли высшая надежда?”.
Даже салонное малокровное “Ищу того, чего не бывает” Зинаиды Гиппиус[512] звучало трепетным обетом для нас (сквозь безнадежность), что будет, наконец, то, чего до сих пор не бывало, что обещали красные зори (в мемуарах А. Белый упоминает о них), зори, которые и мы с сестрой отметили с особым мистическим чувством в первый год приезда в Москву. Красные, а весной в расцветке павлиньего пера, как у Врубеля в “Демоне”.
А. Белый сумел передать эту настроенность в таких словах: “Как будто кто-то всю жизнь желал невозможного, и на заре получил невозможное, и, успокоенный, плакал в последний раз”.
Этими обетованными слезами, как алмазами, искрилась для нас на том рубеже Москва. Половина души жила в безнадежности, а другая половина уже в тех предрассветных слезах, когда душа почуяла приход невозможного и плакала “в последний раз”.
О том же “небе в алмазах” говорил нам в Художественном театре “Дядя Ваня”, и в других чеховских вещах мы слышали то же, о чем говорит Вершинин, – но чаяли наступления этой новой лучшей жизни не “через двести-триста лет”, а в пределах нашей жизни. “Плачь – а втайне тешься, человек”[513], говорил в своем стихе рано умерший “рубежник” Иван Коневский. И мы, зрительный зал МХАТа, плакали вместе с актерами и выходили из театра освеженные как живой водой этими слезами.
2 ноября
Какая хмурая заря, Как грустно солнце ноября. Свинцово-сер покров небес, Безлиственный безжизнен лес, Угрюмы бурые поля, Безмолвна сирая земля.3 ноября. Предобеденный час
“Я все забываю, я все забываю”, – в отчаянии восклицает чеховская Ирина из “Трех сестер”. Она права в своем отчаянии. Забвение – первый признак заболевания души “окамененным нечувствием” или просто нечувствительным для самой души распадом.
“Я все вижу, все помню”[514], – писал однажды мне один из друзей моей молодости, попавший в жестокий тупик, где мучались втроем – я, он и моя сестра. Тогда он верил, что найдет силы поднять бремя представшей задачи. Потом он, как и большинство людей, спасаясь от боли и тяжести, прибегнул к забвению. Оно привело часть души к “нечувствию”. В ней, в этом склепе нечувствия, замурован труп моей сестры, душевно заболевшей от зрелища своего склепа. В этом же склепе схоронены и те мысли, те движения души, те творческие возможности этого человека и мои, которые родились бы от нашего сопутничества.
5 ноября
Когда подводятся (сами собой) итоги некоторых поступков близких людей и когда понимаешь, что эти поступки не есть что-то случайное, а вытекают они из их душевного типа, лишнее говорить им об этом. И вообще – обсуждать это с кем бы то ни было. Если мы достаточно любим этих людей, на огорчающие нас их душевные свойства мы должны смотреть так же, как на их физические недостатки, если они у них есть. Мы легко прощаем близким недостатки фигуры, веснушки, лысины, курносые носы и т. д. И когда, подытожив некоторые их проявления, поймем, что душа их не идеально прекрасна, а веснушчатая, лысая, курносая, нам следовало бы не носиться с этими недостатками, а полюбить – любовью-жалостью – еще сильнее тех, кого любим. А если мы не умеем этого сделать, наоборот, расхолаживаемся в их сторону, значит, мала, плоха, бедна любовь наша (“любовь все покрывает”). Если бы я узнала, что такой-то из моих друзей оглох (или от природы глухой был мой друг), или был бы подслеповат, или с трудом двигался, разве изменилось бы от этого мое к нему отношение?
Ольга, в один из периодов моей глухоты, сказала однажды в ответ на мои слова, что “глухота часто раздражает”: “А мне, наоборот, кажется чем-то трогательным ваша глухота, чем-то мне нравится”.
Здесь мерило настоящести чувства, его живых корней.
Так же и мне надо принять находящее (и все чаще и все на дольше) роковое Ольгино “неведение, забвение и окамененное нечувствие” в сторону мою и других друзей.
35 тетрадь 18.11–30.12.1938
18 ноября. 11 часов вечера. Глинищевский переулок
Может ли немужественный человек стать мужественным? Не на один какой-нибудь момент, под влиянием особого чувства или идеи-силы, а мужественным как характер, во всем и до конца. Я думаю, что может – под влиянием великого душевного потрясения, как это было с моим братом (на 22-м году) после душевного заболевания сестры Насти. Тут, как в горниле, сразу закаляется сталь. И еще может возрасти и укрепиться мужество, когда душа найдет передаточный ремень от своего крохотного колесика, в каком вращается вокруг оси своих аппетитов, страстей, привычек и необходимостей житейского порядка, к Primo Motore (первому двигателю).
1 декабря. Глинищевский переулок
Одна из моих приятельниц, моих лет, женщина с большой одаренностью души и с высокоразвитым нравственным чувством (Екатерина Васильевна Кудашева), недавно сказала: “Есть «грехи», как будто совсем ничтожные, но они всю жизнь не дают покоя вашей совести. И вот в чем странность: вы и не хотели бы, чтоб они были прощены, чтобы эти угрызения совести перестали вас по ночам мучить”.
Здесь верное чутье души, что нужен для некоторых “огрехов” длительный, может быть, до конца жизни процесс их выравнивания. Так у меня по отношению к покойной матери. Я знаю, что до конца жизни не перестану – и не должна перестать – мучиться моей виной “сумасшествия эгоизма” в то время, когда она нуждалась (слепая!) в теплоте, в нежной, внимательной заботе. Тут я хочу прибавить, что я была нравственным чудовищем в тот период моей жизни. А Дионисия, сиделка матери, была ангелом ее хранителем.
11 часов вечера
В соседних комнатах оживленная возня по украшению Аллиной комнаты и столовой. Вешают и перевешивают занавески и картины, расстанавливают вазы, стелют ковры. Совещаются, отходят и подходят, смотрят издали и поближе. Иногда зовут меня из моего угла посмотреть. “Хорошо?” Я отвечаю: “Хорошо”. Только один некрасивый и безвкусно не на месте водворенный этюд не могла одобрить. Но под моим “хорошо” бродят мысли сумасшедшей старухи из “Грозы”: “Все, все в огне гореть будете”.
Так вошла в мою память и так зарубцовано в мироощущении моем, что ничему, решительно ничему не помогут, нисколько не облегчат боли жизни, не скрасят ее уродств, не осмыслят ее бессмыслицы (там, где она иррелигиозна) все эти утонченности и прикрасы цивилизации.
Ни в жизни народов, что мы видим и на Западе, и у нас. Ни в жизни отдельных лиц. Все эти кружевные завесы, и полированные столы, и фарфоры потешают человека, даже склонного ими потешаться, лишь в момент приобретения. Очень скоро он в своей обстановке привыкает к ним и перестает замечать их. Если бы люди окружали себя настоящими произведениями искусства, в этом был бы еще смысл. “Тайная вечеря” Винчи и две рафаэлевские Мадонны, случайно попавшие в нашу убогую обстановку, в моем детстве несомненно сыграли – для меня и сестры Насти – роль критериев прекрасного в искусстве живописи. Без них я не бросилась бы так жадно (в 26 лет), когда попала за границу, в миланскую галерею Брера и позже не пережила бы того, что дал мне Эрмитаж, Лувр, Мюнхенская пинакотека.
Но что могут дать душе в высшей степени посредственные картинки и незаконченные плохие этюды художников “с именем” человеческой душе? Там, где есть в них какое-то настроение, или жалостный сюжет, или естественная красота пейзажа (у Аллы есть 3–4 таких картинки), это еще имеет некоторый смысл как оживление стен. Если бы на них смотрели. Но на них так редко смотрят. И они играют роль каких-то цветных пятен и привычной вывески вкуса и зажиточности квартирохозяев.
Прочтя то, что я пишу, Алла обиделась бы на меня и запальчиво спросила бы: “Что ж, по-твоему, следует оставить голыми стены и окна, без драпировок и тюля, и мебель, какую попало?” Я бы ей ответила, что я не консультант по оформлению жилищ. И не Савонарола. Вообще не учитель жизни ни в какой мере. И я не стану даже говорить с ней о тех мыслях, какие будит во мне украшение ее апартамента (“все в огне гореть будем” и т. д.).
Не стану, потому что в ее годы (немного раньше, но это не существенно) я украшала свою комнату любимыми открытками (!) и на этажерке стояли кустарные игрушки и коробочки. И если бы мне кто-нибудь сказал в те времена, что это безвкусица, я бы ответила, что и сама понимаю это, но мне эти грошовые жалкие репродукции – за неимением настоящих картин – говорят о настоящих картинах и чем-то тешат, волнуют и украшают жизнь. Значит? Значит, прав Экклезиаст: во время жатвы и позже, когда и жать уже нечего, другое мироощущение, чем весной и летом. Экклезиаст и старуха из “Грозы”, их “суета сует и все суета” непонятны, вернее невнятны для молодого сознания и для оставшегося в старости молодым – есть такие типы, например, Леонилла.
Для меня Экклезиаст был понятен и в раннем возрасте. Но его мудрость молчала для меня в таких житейских обстоятельствах, о каких я сейчас говорю. И так и надо, и хорошо, что она молчала. Всякому овощу свое время. Для чего же я пишу все это? А вот для чего: под всем этим мечта: как прекрасно, как важно, как чудесно было бы, если бы вот так тщательно, с таким рвением, с такой затратой сил и средств украшалась бы человеческая жизнь – и каждая отдельная и вся культура – прежде всего ценностями внутреннего порядка.
С отдельными людьми изредка это бывает. Тогда они впадают в другую крайность: крушат все ценности искусства и уходят в монастырь или тачать сапоги, класть вдове печку и самому выносить помойное ведро, как Толстой.
Для старых людей христианского или индусского склада души естественно на известном уровне перенести ось оценки всех вещей, включая и себя и свою жизнь, извне – внутрь. Но не всегда и не со всеми молодыми нужно делиться своей оценкой.
4 декабря
Надо ждать Леониллу. С восемнадцатилетней оживленностью после труднейшего по хозяйственным заботам и мотанию дня собралась на концерт, а сейчас, верно, наслаждается наверху (у зятя-депутата и народного артиста) “вкусным чаем” (ее термин, когда к чаю есть какие-нибудь дорогие закуски и сладости). Она работает как пчела и наслаждается, как мотылек. Ловит на лету каждое развлекательное впечатление – из громыхающего радио отрывок фокстрота, которому будет подпевать и в такт головой и плечами подтанцовывать. Чашку чаю на ходу, в кухне – с яблоком или с вареньем. Аллины рассказы об анекдотических случаях в театре; приход внуков. Может седьмой раз пойти на пьесу, где играет ее дочь, и там уже плавать в наслаждении, как мотылек в брачном полете в солнечное утро.
И вот уже ½ 3-го, а ее все нет и нет. Если сейчас угнездиться на ложе сна, куда изо всех сил тянет усталость после двух бессонных ночей, – Леонилла придет в момент засыпания, и тогда прощай сон до 7 часов утра.
Иногда я дивлюсь, что нас продержало в роли подруг с 7-ми до 70 лет. У нас такие разные свойства натуры, вкусы, интересы; всё мироощущение и миропонимание разное. И навыки обихода, и привычки, и возможности, и невозможности.
Нилочка Чеботарева, несомненно, оказала смягчающее влияние на мой буйный мальчишеский нрав в те годы.
А в старших классах гимназии роли переменились, и гегемония в дружбе перешла на мою сторону. Сестра Настя и некоторые подруги в этом возрасте окружали меня сейчас не очень для меня понятным обожанием. Мне открыли огромный кредит в сторону моих духовных возможностей (теперь, в итоге всей жизни их надо назвать “невозможностями”). Преувеличивали выгодные стороны моей наружности так, что потом выросла легенда о моей красоте. Я потом слышала ее из уст одной знакомой, собирательницы легенд, и дивилась. Состав класса, с которым я окончила гимназию, назывался будто бы “классом Вавы Малахиевой”. И волосы у меня были все в “локонах” (они несколько кудрявились), и коса до пят (едва достигала пояса). Так же прославлялись глаза, цвет лица, руки и т. д.
Вдумываясь в эту легенду, теперь я вижу, что в корне ее лежал тот неисследованный еще магнетизм Эроса, который и в 50, и в 60, и даже недавно, под 70 уже лет, привлекал ко мне некоторых людей и преображал в их глазах мои наружные и внутренние черты. В чем эта сила, эта власть притягивания, иногда для меня совсем нежелательная и всегда бессознательная, не берусь судить. О ней в юные годы мои сестра Настя писала (по поводу одного из моих “поклонников”, безнадежно приворожившегося ко мне):
О том, как полюбил он ундину Со сказочной силою глаз, Как он свиданий боялся, Чувствуя власть над собой, Как ему в грезах являлся Образ ее молодой, Бледный, как небо ночное, Полный таинственных сил…Однако же какой магнит для человека его собственное “я”! Коснувшись его, я и не заметила, как отвлеклась от Леониллы.
Итак, раз примагниченная к моей особе, она так и осталась в этой позиции, то удаляясь, то приближаясь; порой Эрос ее сменялся антиэросом, скрытым и раза три в жизни даже нескрываемым. И может быть, естественно было бы для нее прийти к полному неприятию такой натуры, такого существа, как я, если бы не скрепила нас кроме личной “дружбы” пламенность всего пережитого в юности – общие мечты, надежды, планы вне личного характера. А потом родственное участие в жизни друг друга, ее дети, общие друзья. А в старости – рок, судивший коротать старческие дни в одной комнате. И ей, и мне это оказалось не таким простым и легким, как представлялось издали. Но, кажется, мы приняли это. Совсем. До конца.
Звонок. Это Леонилла. Она сейчас будет рассказывать о том, что было в концерте, и будет чувствовать, что у нас разные языки, и что я это чувствую, и что этого уже не изменить.
9 декабря. Ночь. У своего письменного стола
В ответ на мое нравственное томление по работе и на жизненную важность заработка мне послано, пусть кратковременное, секретарство у Москвина (депутат, народный артист). Со вчерашнего дня на меня хлынули целые водопады человеческой нужды и горя. За эти два дня больше 50 писем. Помочь тем, кто вопиет о помощи, можно в 2–3 случаях (из 50!). Я понимаю, что бедный печальник Фрунзенского района при его сердечной отзывчивости и добросовестности изнемог под бременем чужих скорбей и рад облегчить себя, разделив их со мною. Мне же они чем-то кстати. Мне надо их помнить, надо поднять и понести, хоть и без реального облегчения скорбящих. Это мое “тайнодействие” в сторону “недугующих, страждущих, плененных”.
11 декабря. 11 часов вечера
То, что кроется под сухим газетным словом “жилищный кризис”, расшифровывается теперь для меня в бессонную ночь туберкулезной швеей – чулан, 4 метра, без отопления, без освещения, – ее доводами: “А могла бы еще жить, я молода, нет воздуха, сырость, доктор говорит: вы погибнете”. Расшифровывается каким-то полуграмотным Феоктистовым, живущим на “Больших Кочках” в 5 метрах со всей семьей, без окна и напрасно молящим инстанцию за инстанцией прорубить ему окно и каким-то манером увеличить площадь до 7 метров (на 4 человек!). Расшифровывается, что веренице этих людей, которые молят о жилплощади – негде спать, умирать, учиться, работать, жениться и выходить замуж. Вообще – негде жить. Потому что нельзя ведь назвать жизнью, когда человек месяц за месяцем ночует в лаборатории рядом с мертвецкой, причем на всю ночь его запломбировывают. И нечеловеческая жизнь детей, которые учат уроки под кроватью, куда отец провел им лампочку. И страшен конец жизни престарелой актрисы (76 лет), которую “отовсюду гонят”, а своей площади нет и ни в какое инвалидное убежище не принимают. И красноармеец, который вернулся с Хасана в свое прежнее общежитие, а там уже все переделали на отдельные комнаты, и он живет на кухне, напрасно взывая о своем положении всюду, куда взывать полагается. Надо думать, надо верить, что печальники их районов как-то их разместят. Чтобы, забираясь в теплую постель в просторной комнате, засыпать мирным сном, надо верить, что эти Коркины, Феоктистовы и другие, “имена же их ты, Господи, веси”, уже не валяются на полу, не задыхаются в своих 3½ метрах, не спят под пломбой с мертвецами… Что если это так сегодня, то завтра уж непременно-непременно все будет по-иному в их жизни.
13 декабря. За ширмами
Наконец у меня подобие “своего угла”. Купили ширмы и отгородили три четверти занимаемой мною территории от остальной комнаты. Отгорожены – кровать, пол письменного стола, стул и маленький ночной столик.
Свой угол. То, чего так напрасно и так жадно и так горестно добиваются на письменном столе моем клиенты депутата Фрунзенского района. Впрочем, о “своем угле” большинство из них даже не мечтает. Большинству кажется завидной долей всей семьей в составе 5-6-7 и даже 10 человек с площади в 5, 10 метров перейти на другую, где будет на два– три метра больше. И между ними есть такие, какие совсем не имеют жилплощади (состоят на учете!), живут в каких-то кухнях, в полусараях, в чуланах, скитаются по чужим углам (как я жила в ожидании комнаты на Кировской около года).
Оленя ранили стрелой, А лань здоровая смеется.Думаю о страстотерпцах, чьи судьбы завалили мой стол. Жалею. Ужасаюсь. И все-таки радуюсь ширмам, уюту и комфорту моего угла. Жалкая радость. Непонятная радость. Особенно если принять во внимание, что человек, который некогда был так близок душе, терпит – неизвестно где – величайшие лишения и, может быть, уже умер от них. Неестественно это и страшно, что можно так чувствовать. Wie kannst du ruhig schlafen, Und weiss, ich lebe noch…[515]
У каждого из нас есть кто-нибудь, кто мог бы задать нам, а может быть, и задает такой вопрос…
14 декабря. 3 часа дня. У моего письменного стола
В балконную дверь видно, как резво кружатся снежинки и как нагромождение красных железных крыш уже покрылось пушистой белой скатертью. Зима. И хочется – и странно все же – думать, что эта зима, как много оснований предполагать, – последняя. Пятилетняя Женечка Балаховская, когда гувернантка рассказывала ей о бессмертии и о рае, с живостью спросила: “А зайчики будут в раю?” И еще из “Родного слова”: дети утешают мать, у которой умерла маленькая дочь, их сестра: “В лучшем мире наша Лиза”. Мать отвечает: “Но в том мире нет лугов, ни цветов, ни трав душистых, ни веселых мотыльков”.
На этой детской приверженности красотам “образа мира сего”, о котором знают, что он “проходит” – по временам ловлю себя. Будут ли там вот такие снежинки, их нетронутая чистота, их легкость, их кружение? Будет ли снег, снежные холмы, убранство деревьев и сами деревья. Первые весенние ростки пионов и нарциссов, первая трава, и первые листья, и золотая осень. Встречусь ли с грецким орехом моего детства, с пальмами и кипарисами. И с той березой, которую уже в 30-летнем возрасте, в одну душистую влажную апрельскую ночь обняла и целовала атласную ее кору. И была она – одно со мной и с мириадами звезд, смотревших на меня сквозь тонкие ветви ее и мелкие, чуть раскрывшиеся листочки. Будет ли шепот летнего дождя в жадно пьющей его зелени сада? Будут ли у нас “там” глаза и слух, и обоняние. Или все-все будет по-иному, на что намекают некоторые сны и пейзажи на фоне бессонных ночей и музыка.
16 декабря
Люди, которых мы в дневном сознании считаем своими спутниками, в потоке тайножизни могут оказаться живущими за тысячи верст от нас, и может вынырнуть оттуда некто, в ком мы узнаем нашего спутника с незапамятных времен.
И не придется ли нам включить в тайножизнь чередование некоторых наших сновидений и те пейзажи, которые я вижу на грани сна и просто на фоне темноты в бессонные ночи.
И не относится ли к этой области то, что угадал и сам пополнил Даниил, которому я рассказала один из своих снов. Это был прорыв – ряд окон из моста-тоннеля в необычайного вида и значения серебряно-сиреневые пространства. Это было года 2–3 тому назад. После этого те же (разной окраски) пространства я нередко стала видеть как бы слоистыми и одно для другого проницаемыми, так, что моря и вообще какие-то водные и воздушные просторы могли быть расположенными над другими слоями морей, суши и воздуха в чудесной и чем-то друг с другом объединенной окраске. В последний раз, говоря о “сиреневом сне”, Даниил прочел мне, как он его записал, и в записи оказались уже позднее мною виденные, более сложные, многослойные пейзажи. Я думаю, что он видел их и, может быть, заодно со мною, в тайножизни.
2 января 1939 года
Вчера ночью скончался Георгий Иванович Чулков. Всегда такой нервно-оживленный, быстрый, аритмичный, громкий, лежит так непривычно спокойно, сложив на груди исхудавшие желтые руки. И нет пушистого огромного ореола седых волос вокруг лица, где застыла теперь тихая созерцательная дума. И такой странно маленькой кажется его голова без этого ореола с повязкой, точно от ушной боли (чтобы не отвисала челюсть).
Жена с лучистой скорбью иконописного лица – рассказывает: “Он больше всего любил житие св. Вонифатия. Говорил: он был, как и я, кутила, блудник. А потом неожиданно для всех (верно, и для себя самого) объявил себя христианином и с радостью пошел на казнь”. Последние дни его болезни протекли в сильном горении веры. “Согрешил, но не острупел”, – в слезах умиления говорит жена…
6 января. Раннее утро. Остоженка
В человечестве существует два противоположных отношения к умершему – египетское и толстовское, близкое к индусскому. В первом случае хризалиду бальзамируют, чтобы сохранились ее черты на веки вечные. Это же почтительнейшее отношение к форме души мы видим в православии в связи с верой в воскресение мертвых как в соединение их душ с тем же (!) прахом, в какой превратится их тело до Страшного суда. Для Толстого тело, покинутое духом, хуже, чем прах, – он воспринимает его со всей свойственной ему силой чувственного впечатления. И так к нему подходя, конечно, бежит от него без оглядки. Индусы тоже спешат предать хризалиду очистительному огню, пока она не предалась тлению.
Перед гробом Георгия Ивановича я чувствовала всем существом, когда с ним прощались, что его там нет, что это лежит не он, а замороженный отпечаток его образа, в каком душа его проявляла себя для наших пяти чувств. Он был жив, несомненно, и даже присутствовал пространственно среди нас – в этом смысле мне понятны упрашивания какого-то простеца (на кладбище речей не было): “Говорите, говорите. До шести недель он слышит”. И может быть, во имя шести недель этих следовало бы прощаться с умершим в первые часы после кончины, когда тление не смело еще коснуться его образа. И затем предать его тело огню и испытать за него радость конечного освобождения от его “безгласной, безобразной, неимущей виду” здешней формы его.
И вот еще какое чувство весь день после чьих-нибудь похорон: почему же и мы не там? Почему надо еще носить на себе эти жилы, кости, мясо, и боль, и болезни, и необходимость есть, пить, спать и грешить, грешить. И так оскорбительны поминки, “еда в доме, где некто перестал есть и живет не по-нашему – преставился (переставили на другой план)”.
7–8 января. Малоярославец
“О сущих в море далече”[516].
36 тетрадь 12.1-20.3.1939
22 января
Ночь. Ранняя. В столовой гости. Подружки из “Зеленого кольца”. Верочка Редлих – теперь режиссер в Иркутске[517]. Ее сестры. Громадная, как бы из подушек сложенная, пожилая Лена с мягким, беззубым коричневым лицом и добрыми впалыми глазами. Другая сестра[518], с виду затрапезная домхоза, косенькая, стриженая, безобидная. Юрий, Аллин брат, болезненного вида, сдержанно-оживленный, умный психиатр. Алешин товарищ, Сережа Б., тщательно причесанный, с каемкой первой пушистой бородки. Алла, в светло-голубом, голубым затканной душегрейке, с позолоченными волосами, рассказывает в лицах что-то театрально-анекдотическое, от чего за круглым столом не смолкает смех.
Как все чуждо. И как ненужно, и как трудно.
31 января. Глинищевский пер.
Как-то мимоходом я сказала Леонилле: “Как хорошо в квартире, где недавно кого-то похоронили”. Ей показалось это до того смешным, что она громко расхохоталась. Она не поняла, чем это хорошо. Ей почудилось здесь даже что-то кощунственно-эстетское. Конечно, если “где пиршеств раздавались лики – надгробные там воют клики”[519], – тут мало хорошего. Но вот в комнатке Надежды Чулковой, потерявшей недавно мужа, ничто не говорит о надгробных кликах. Их и не было. Было таинство смерти. Был праздник перехода из мира видимого в невидимый. И каждая вещь в доме носит отпечаток того, что здесь было. И все вещи стали прозрачнее, легче. Тоньше стали стены дома, и чудится за ними воздух иных пространств, а не Смоленского бульвара.
5 февраля
О раздвоении
Встретила на лестнице Хмелева (актер, играющий Каренина) и чему-то обрадовалась и, спускаясь рядом с ним к вестибюлю, вплоть до самой парадной двери, развязно, восторженно и сбивчиво говорила ему об удачности и об особенностях этой роли. Он не знал, что ему думать об этой старухе в шапке Мономаха и в серых рукавицах, налетевшей на него с кадилом, полным фимиамов. Он шел рядом, благодарил, опасливо глядел сбоку, улыбался застенчиво и недоумевающе. И когда перед нами в вестибюле вырос какой-то его знакомый, молодой высокий актер, безукоризненно одетый, Хмелев, вероятно, был рад, что наконец я перестану говорить. Была рада и я, так как уже на пол-лестницы, с не меньшим, чем он, недоумением слушала себя, в особенности удивляясь тому жару, с каким говорю, и не находя в себе ни интереса, ни сочувствия к вещам, высказываемым старухой в шапке Мономаха. Больше этого: с пол-лестницы я уже ясно ощущала нарастающую досаду, грусть и отвращение к тому, что говорю. И эти чувства остались со мной, по крайней мере на час прогулки по Петровскому бульвару. К ним прибавилось еще непонимание, что это за процесс я пережила (внутренне) в связи с этим словоизвержением. Детвора, летающая с ледяной горки на санках, обилие нетронутого пушистого снега, нежная голубизна неба сквозь черные узоры нагих лип разогнали это как нелепый сон. Но я и сейчас не понимаю, что это было, кто это выскочил из меня на лестнице, чтобы так поговорить с Хмелевым.
12 февраля. 4 часа после полуночи
Мозаика дня
Легкие снежинки. Бледно-синие дали. Снег уже осевший. Черные деревья пролетающих мимо перелесков. Быстрый лёт автомобиля. Чудесный ветер. Воздух еще зимний и уже весенний. Милый Кедров – застенчивый фавн и дитя, талантливый актер и заботливый и неудачный созидатель уютного очага. Новорожденное лицо Аллы в маленьком бархатном капоре. Снега. И еще снега: “не белы то снежки в поле забелелися”. Забелелась молодость, детство. Те киево-печерские снежные овраги, по которым лазили шестьдесят лет тому назад. Пещеры. Колючие кустарники– “дураки”. Ваня Аверин, двенадцатилетний “реалист” – первая любовь.
…И вот нарядно раскинувшая на склоне холма свои террасы и лестницы Аллина дача. Уют теплой комнаты с коврами, с пузатым блестящим шумным самоваром. Телемак, ласковый, радостный. Силуэты его и молодцеватого в военной форме шофера – на лыжах, за рекой. Снега. Снега. Елки крохотные и большие – в зимнем заколдованном сне, но уже близкие к пробуждению. Возврат. Первые огни в сумерках. Изумруды и рубины семафоров. Загадки и задачи Кедрова, созерцающего Аллу, как созерцал бы козлоногий полубог зачарованно-недоступную для него нимфу. Город. Толпы у метро, громадные хвосты у трамваев и автобусов. Гудки автомобилей – вот-вот задавим кого-нибудь. Дома. Под венецианской люстрой караси, клубничное варенье. (Стыдно. Приятно. И “все равно”.) Кухня. Работница Шура с карандашом, священнодействующая над тетрадью под мою диктовку. Алешин товарищ, вислоухий, пудреный, с прямым пробором, блаженно или просто непонятливо и застенчиво улыбающийся, когда Алеша над ним издевается. Алла в концертном туалете с 2-мя орденами. Ночь. Бессонница.
17 февраля
Блинный вечер у Аллы.
Икра, бананы, мокко; после блинов среди красного дерева и датского фарфора под екатерининской люстрой – музыка. Пианист Т., бездомный неврастеник, молодой, но уже лысеющий, с подпухшими белесыми глазами – вид загнанной бурей в пустыню полуощипанной птицы – чудесно играл Вагнера, Шумана, Скрябина. От трагической невместимости любви в земных берегах умирала на берегу океана Изольда. Из патефонного ящика голос Шаляпина воскресил Наполеона – “В 12 часов по ночам из гроба встает император”, потом – верных ему и Франции двух гренадеров (“возьми мое сердце, товарищ, во Францию – там сохрани”). И слушали мы. И были тронуты. И ели бананы. И пошли спать в свои клетки. И назавтра побрели в той же колее.
1 марта
Въехал в дом великолепный столовый сервиз – что-то и синее в нем, и золотое, и большущие блюда, и средние, и малые. Въехал как почетная, желанная торжественная персона. И на другой же день обновили его разными пышными снедями. Золоченым уполовником черпали из развалистой миски шампанское с ананасом. И не собираюсь я осуждать за это наших знатных людей, и чувствую Аллины права на игрушки, как дорого бы они ни стоили. Да и мне ли осуждать! Мирович сам не прочь насладиться бананом, мандарином и “конфеткой прельщается”. Меня поражает, что все это происходит с нами на той же планете, в те же дни и часы, где кто-то нам близкий или хоть просто знакомый томится в жесточайших телесных и душевных испытаниях…
Это пронзило некогда Шекспира (“Оленя ранили стрелой, а лань здоровая смеется”, т. е. веселится, пирует – в человеческом случае). Пронзает это и нас, но… не мешает есть при случае ананасы, забавляться то тем то другим.
37 тетрадь 22.3–7.7.1939
24 марта. Ночь. Второй час
Расползается белье и вся одежонка. Сколько ни зашивай, нельзя повернуться, чтобы не появились новые и новые бреши.
Так же, по всем швам, трещит телесная оболочка. И как докучно и напрасно чинить в такой степени обветшавшее белье – а лучше его выбросить на тряпки и заменить новым – так смешно и бесполезно заботиться всерьез о починке разрушающейся семидесятилетней плоти. Поэтому нечего удивляться, что старухи не идут к докторам и не проводят “курс лечения”. Они, правда, лечатся: примочками, припарками, горчичниками, но это лишь потому, что ищут избавления (временного) от текущей боли, понимая, что самая болезнь, называемая старостью, неизлечима.
29 марта
Семьдесят лет тому назад в такое же солнечное, как сегодня, утро было дано мне увидеть свет, войти в жизнь по эту сторону, где я теперь, и пройти ступени, для которых эта жизнь нам дана. Благословляю свет и все, что он озарил мне, благословляю жизнь. Что же касается ступеней восхождения – боюсь, что я там же, где стояла в семилетнем возрасте – только с утратой детской чистоты. Я тот виноградарь, который не пошел работать на виноградник ни в третий, ни в шестой, ни 9-й час[520]. Сегодня пробил для меня уже последний, двенадцатый час. И вот это необходимо помнить отныне в каждом часе жизни, в каждом помысле, в каждом движении души. Аминь.
По словам матери, я родилась в очень солнечный день, в воскресенье, во время обедни. Считаю это предзнаменованием для моего внутреннего пути – ряд озарений, ряд смертей – и после каждой – воскресение.
14 апреля
Не выползаю весь день из логовища – грипп.
Одно из благ жизни – старческой жизни – возможность болеть в тепле, в чистоте. И когда есть рядом человек, который не тяготится уходом и смотрит на него как на дело, нужное для своей души. Таким человеком в моей и материнской жизни была Денисьевна, которая сейчас со мной, отчего и ощущаю свой грипп сейчас как благо.
Если физические боли не раздражающи, они могут быть даже приятными, намечая ту линию, по какой мы оторвемся от нашей оболочки, и вырывая нас (если мы в постели) из мышьей беготни быта.
В сергиевские дни – там часто болели ноги, часто была и простуда – я писала иногда до 9 стихов в дни лежачей болезни. Помогали болеть, делали эти дни праздником Денисьевна и Ольга.
В мрачной, нескладной, наболевшей сергиевской действительности это было убежище от ее зол, душевный санаторий. Обе они – и Ольга, и Денисьевна – вносили особый, лишь им свойственный, поэтический уют в уход за Мировичем. Ни цветов, ни фруктов, ни музыки, ни колыбельных песен не приносили они – а вот, оглянувшись, вспоминаю, что болела при них, окруженная цветами, под чудесную тихую музыку и угощали меня райскими плодами и баюкали в колыбели, как младенца, и вместо потолка было над нами звездное небо.
29 апреля. 4 часа ночи
Вчера меня спросила Анна: “Если бы вы два года тому назад знали, как сложится ваша жизнь с Тарасовой, какая будет ее атмосфера, согласились ли бы вы меняться комнатами?” Я не положила на весы полуголодную жизнь на Кировской, неумение приспособляться, болезни, частую необходимость обедать у Тарасовых или Добровых и ответила: “Конечно, нет. Потому что – велико благо своей, уединенной, неприкосновенной комнаты. Велико благо независимости, хотя бы (при бедности) наполовину иллюзорной”.
5 мая. 11-й час. Остоженка
Была давно розовая, долгая уже весенняя заря. Но холодно, как в октябре. Была Анна, “сердцевина души которой круглая, золотая” (слова о ней покойной сестры Насти). Было чтение писем Романова (ее мужа).
6 мая. Остоженка
Tempi passati. Есть такая картина у Борисова-Мусатова: екатерининских времен помещичий дом с белыми колоннами. Над ним вечернее жемчужно-розовое облако, вокруг него аллеи парка. На первом плане в робронах и фижмах две женские фигуры, два задумчивых призрака невозвратно ушедшей жизни[521]. Такими призраками вчера были мы – Анна и я над романовскими письмами и дореволюционным еще дневником Анны.
…Молоденький студентик (он был в студенческой фуражке) с невинным и ясным лицом, робко вошел ко мне в назначенный час по поводу рукописи своей “Отец Федор”. Рассказ был небанален, свеж, колоритен. Чувствовалась своя дума о жизни, незлобивый юмор, знание быта, о каком писал. Живой диалог. Шевельнулись во мне надежды, что из него вырастет незаурядный писатель, и я решила не терять его из виду и помочь выйти в люди. Он стал заходить ко мне и однажды встретился с Анной. Ей было за 30, и она была на десять лет старше его. Но вид у нее был молодой – яркий румянец, ослепительные зубы. Встреча для обоих оказалась роковой. Романов влюбился с первого взгляда. Анна ответила. В это же лето они повенчались в деревне Щукино, Псковской губернии, где мы все трое гостили у моей старой приятельницы – А. Р. Кветницкой, которая служила там земским врачом.
Дальше было то, что на этом свете называется счастьем: взаимная брачная страсть и все растущая дружеская близость. Если Романов и Анна разлучались на 2–3 часа, они кидались друг другу в объятия с радостным криком. Когда Романову пришлось уехать (фантастическая случайная командировка) собирать долги какому-то банку по всей России и Сибири, Анна получала и отправляла по две телеграммы в день, и так они оба терзались разлукой, что решили ездить вместе. Сколько они объехали городов – не перечтешь. Почти целый год ездили. И не замечали времени, и не утомлялись скитальчеством в этом длинном свадебном путешествии. Потом Романов взял какое-то место в тылу фронта. Туда Анне уже нельзя было попасть. Потом они жили в Петербурге, и там Романов почувствовал желание изменять (отнюдь не покидая жены). Он серьезно мотивировал эту свою новую линию необходимостью для писателя новых встреч с женщинами, новых “освежающих жизнь” волнений. Анна мучилась ревностью, хотела уходить, но у нее цела и крепка еще была душевная связь. Когда им пришлось уехать в имение его тетки, для них вновь зацвела идиллия под яблонями Яхонтова. Я гостила у них как-то зимою. Помню эту снежную тишину глухой усадьбы, вой метели в окрестных полях по ночам и колокольный звон, которым спасали путников от опасности заблудиться и погибнуть. Романов много читал, много думал, много писал в Яхонтове. У него был кроткий вид, почти всегда задумчивый, если он не вел разговора с кем-нибудь. В разговоре был подкупающе детски-искренен, своеобразен по стилю речи (по особому безулыбочному юмору, который я очень в нем любила).
Потом был Острогожск – где я у них также гостила. Потом – Петербург (может быть, это был он уже второй раз, а может быть, я его неверно поставила перед Яхонтовым). В Петербурге отношения их пошатнулись из-за ревности Анны и свободолюбия Романова. Я ездила к ним с целью как-то примирить их, как-то помочь выяснить возможную линию общей жизни. В какой-то мере она наладилась, но во время гражданской войны, когда они жили то в Яхонтове, то в Одоеве, опять разладилась. В Одоеве он дал похитить себя больше чем зрелой балерине Шаломытовой, которая увезла его в Москву. После этого он уже не вернулся к Анне, хотя и писал, и при встречах говорил ей, что это лишь эпизод для него, что отношения его к Анне несравнимы ни с каким увлечением, никакой другой женщиной. В браке же его с Шаломытовой даже и увлечения не было. Анна объясняет этот шаг тем, что Романов был неустроен, безработен, она же доставляла ему весь комфорт для работы над “Русью”, которой Романов придавал громадное, общечеловеческое значение. (“«Русь», – говорил он в период этой писательской своей mania grandiosa, – «Русь» – это эпопея, перед которой меркнет «Война и мир»”). Сквозь нездоровый пыл этого одержания “Русью” время от времени прорывались глубоко человечные, нежные токи в сторону Анны. Его письма к ней этого периода дышут тоской, тревогой, заботой – и прежде всего какой-то неизбывной, горячей, раненой нежностью.
Анна, очутившаяся в годы разрухи в полуголодном и холодном одиночестве, не могла верить им, читала их без того прощения и доверия их звуку, с каким переживает их теперь. Новая жена вела между тем всеми способами подкоп под дружеские отношения мужа к Анне и добилась развода. Чего от рыхлого, мягкотелого русского интеллигента, да еще писателя, не добьется силой воли и скандалов истерическая и практическая баба…
9 мая
У себя за ширмой. Ночь.
Мелкие брызги потока, Несущего всех в Мальстрем. Голос железного рока, Далекий, забытый Эдем.10 мая
Холод. Голод. Непосильный труд. Оторванность от близких. Неволя. Оскорбления. Безнадежность. Жесточайший из жребиев на земле. И для тех, на кого он пал, и для матерей и жен их. Страстная седмица. Богоматерь у креста. Ее жребий легче. Она стояла у креста несколько часов. Гизелла Яковлевна и другие матери и Наташа – у креста годы. Богоматерь приняла последний вздох сына, и было у нее утешение знать, что окончились его муки. Этого утешения у Гизеллы Яковлевны и у Наташи и отраженно у меня – нет.
17 мая. Ночь, 3-й час
Вчера и сегодня утром – Новогиреево. Встреча с Ольгой, ее очаг – теплый воздух милых стран детства (ее) и молодости (относительной) моей. Небо родины. Родной язык. Понимание. Приятие (взаимное). Утром на возвратном пути, в метро, недоуменная печаль: как могло это быть, что Сергей и Ольга не со мной. Новое и радостное: уже установившаяся живая связь с Аничкой (Ольгина дочь). Долго, 8 лет, я не могла найти в ней ничего близкого мне, Ольгиного. И огорчалась, и отчуждалась – (“не Ольгина дочь, Веселовская”). Она и теперь явно Веселовская. Это в их роду установилась такая прозрачная лазурь глаз и умный, пытливо-задумчивый и в то же время динамично умный зрачок. Но мне стало все равно, чья она дочь, на кого она похожа. Я встретилась лично с ней, нашла неожиданный мост интереса и любви к душе, глянувшей на меня из-за воздушной голубизны детских, не по-детски умных глаз.
7 июня
В случайном разговоре с Гизеллой Яковлевной упомянули несколько имен из того круга золотой еврейской буржуазии, где я давала во время оно уроки, где меня почему-то высоко ценили и ожидали каких-то блестящих результатов от моего общения с детьми. Вихрь революции и просто река времен унесли многих. Не только сверстников наших, но и тех, кто был молод, когда мы уже перешли рубеж так называемой зрелости.
Среди имен этих было произнесено слово “Блюма”. Я безмерно удивилась тому, что она умерла. Так не идет иным людям умирать, что не можешь представить себе их ушедшими за таинственную грань смерти. Перед глазами моими встала маленькая женская фигурка в малиновом фланелевом капоте; с малиновым же румянцем смугловатое лицо. Довольно красивые, по-собачьи умные коричневые глаза, сухой и некрасивый рот с мелкими зубами, черные без блеска волосы в кудряшках, маленькие ноги в изящных туфельках. Блюма. Die Blume – цветок. Она не была цветком и в более ранней молодости. Но в тридцать лет в ней была свежесть и крепость хорошо законсервированной вишни. С надеждами на личную жизнь она покончила, пережив несчастную любовь в ранней молодости. Жила с мачехой в богатой мрачной квартире, не сходя со своей кушетки, обложенная книгами на всех языках. От скуки она предложила мне давать уроки английского языка. Мы виделись через день. Она всегда лежала на кушетке, которую называла, как Гейне свой цикл стихов, Matren Gruft[522]. О неудавшейся своей жизни говорила с горькой насмешкой. И вдруг все переменилось. Появился в ее орбите какой-то дальний родственник, моложе ее, который увлекся ею. Она покинула кушетку, переоделась из фланелевого халата в парижское платье. И вскоре рассказала мне, что у нее есть жених, что она заставила его пройти все стадии романтического ухаживания, прогулок при луне, ревности, стихотворства, похищений перчатки, платка и т. д. Они поженились, и я слышала, что живут дружно, каждый год рождаются дети. И больше 20-ти лет ничего о Блюме не слышала. А сегодня услыхала, что был расстрелян муж, были какие-то несчастья с детьми и сама Блюма умерла от склероза мозга. Преходящие тени. Вспомнилась надпись на одной гробнице, на Байковом кладбище в Киеве: “Любил, страдал, терпел, исчез”.
10 июня
Бабе Эле[523] неожиданно сделалось плохо с сердцем (74 года). Всегда суетливая и многословная, обнаружила спокойствие, и бесстрашие ввиду, может быть, возможного удара, которого все мы ждем, семидесятник в нашем хрупком возрасте. Распоряжалась толково, светски-вежливо, без ахов, хоть сознание на секунды у нее мутилось: “Грелку – к ногам. Если нет, то – бутылку. Эфирно-валерьяновых. Может быть, есть с камфарой, то с камфарой. Ничего. Это пройдет. Не надо тревожить Наташу (невестку)”. На другой день она уже ходила и даже бегала, не обращая внимания на докторский запрет. Но моментами ей становилось хуже. В одну из таких минут она опустилась на стул и, глядя каким-то прощальным взглядом на террасу, где любуется четыре раза в день внуками за общей трапезой, сказала с важным, сосредоточенно-печальным выражением странно помолодевшего после припадка лица: “Я ухожу. Кто вместо меня поддержит Наташу? Кто будет как-то улаживать материальную сторону? Если бы Миша (сын ее) был тут… Я бы не хотела уйти, не дождавшись его. Но, как видно, не суждено”. И такая непривычная для нее покорность звучала в этих словах.
15 июня. Ночь
Сегодня узнала случайно: умер философ Шестов[524].”Из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я”[525]. А была некогда такая большая, такая глубокая (казалось) душевная связь. И то, что называют любовью – с его стороны. И с моей – полнота доверия, радость сопутничества. Месяц в Коппэ, когда души безмолвно сблизились на такой головокружительной высоте и в такой упоительно молодой радости общения, что каждое утро казалось первым утром мира. Озеро, сумрачные горы Савойи, розы маленького сада, росистая трава по вечерам, огромные оранжевые улитки, каждая книга его библиотеки, чай, который я готовила ему по ночам, когда дети уже спали. Музыка, во время которой я встречала его долгий, неведомо откуда пришедший, о невыразимом говорящий взгляд. Было. И земной поклон за все это, и за письма, за дружеские заботы, за всю нашу встречу, хоть и была она ущербна и, не дозрев в значении своем, могла окончиться так, как закончилась сегодня – “из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я”.
17 июня. Москва. Диван в «своей» полкомнате
Зной. Тянутся к зениту грозовые облака.
Странно: при известии о смерти Шестова не ощутилось никакого потрясения (“из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я”). Но уже через несколько часов я заметила, что все вокруг в особом колорите изменилось, как бывает после важных душевных событий. И душа как бы перешла на иной строй. А самое важное – приоткрытая отдушина из жизни, где пребываю, и струя воздуха горных вершин. На высоких горах жила эта душа. И как одиноко – до встречи со мной. Вероятно, так же и последние двадцать лет. Впрочем, о них я ничего не знаю. Знаю только, и в этом сущность такой, как у него, души – поистине “истина”, какой он искал всю жизнь, была ему дороже самой жизни. И в этом были его крылья. И еще – в неподкупной правдивости мысли, в бесстрашии перед самыми жестокими выводами и в упорном “творчестве из ничего”. Было нечто дантовское в его лице, изборожденном следами нисхождения в ад. И в его натуре, в безбоязненности заглянуть туда, где томятся gli perdate gente – обреченные гибели. И думалось ему некогда, что я его Беатриче. И верила я тому долго. А сейчас от всего долгого, мучительного и духовно важного общего прошлого – одна сказанная им фраза: “Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”.
И еще вспомнилась надпись на одном из его портретов: “Может быть, вещие птицы Аполлона (про лебедей) тоскуют неземной тоской по иному бытию. Может быть, их страх относится не к смерти, а к жизни”.
Он боялся жизни. О, не за себя! О себе он точно забыл, когда взял первый попавшийся жребий личного устроения, пережив “крушение своих наваждений”. Он боялся жизни за всех людей – прошедших, настоящих и будущих, за общий всем жребий ничтожества, страдания, смерти и темноты загробных судеб. Он как бы поднял на свои плечи ту ночь короля Лира (недаром Шекспир был так близок ему), когда под рев степной бури, под грохот грозы Лир говорит: “Нет виноватых. Я заступлюсь за всех”. О смерти же он не раз говорил: “Это последний и, может быть, самый верный шанс узнать, бессмертны мы или нет”. И еще: “Если бы оказалось, что за смертью нас ничего не ждет, что нет ни Бога, ни бессмертия души – не стоило бы после этого жить ни одной минуты”.
28 июня. Снегири
Вечер.
Призрачна грань, отделяющая нас от ушедших из видимого мира близких наших. Лев Шестов, о смерти которого недавно узнала, до того реально, до того волнующе-действенно живет со мной рядом, как это было в давние времена общей напряженной духовной работы и его обета: “Что бы ни было с вами, что бы ни было со мной, я никогда не отойду от вас и всегда буду с вами”. Жизнь давно разделила нас пространством, временем, и внутренние пути, казалось, пошли обособленно, в глухой дальности один от другого. Но это – поверхность явлений. Под нею тайно-жизнь со своими сроками, законами и нежданно выплывающими из океанов подсознания Атлантидами.
Лев Шестов не был супругом моей души, ей сужденным, единственным “Ты”, которое так безумно и так напрасно искала она всю жизнь. Но он был друг – спутник для дальнего, опасного, полного неизвестности плавания. Я верю, чувствую, знаю, что корабль его стоит где-то вблизи на якоре и не уйдет, пока я не покину гавани. Я думаю, что встречу на этом же корабле сестру (Настю), некогда обручившуюся с ним. Может быть, и мать – о, если бы…
3 июля. Снегири
День. Солнечный, ярко-синий с караванами белых облаков, прохладный, полный птичьих песен.
Алла (вернувшаяся с киевских гастролей) рассказывает: “Выхожу после «Карениной» из Соловцовского театра, где в юности сидела за 50 копеек на галерке – и как будто это сон какой: огромная толпа молодежи выкликает мою фамилию, бросают цветы, провожают до квартиры после каждого спектакля. Номер в гостинице утонул в цветах. Кто-то прислал букет из ста роз. Днем по улице даже неприятно проходить – такая слава. Только и слышишь: Тарасова, Тарасова. Я этого не люблю.
Но, может быть, потому что это Киев, детство ожило и юность – голоса и лица все как родные. И как-то согревают, трогают до слез”.
В один из таких вечеров после спектакля Алла увидела среди толпы у подъезда фигурку Маруси Каревой, бедной почтовой служащей, в детстве гостившей по временам в Аллочкиной семье (Маруся – моя двоюродная племянница). Тут же стояла свечечкой с сияющими глазами тетя Леля в белом платочке. Алла подхватила их и потащила, несмотря на протесты, ужинать к себе в номер. Там тепло их угощала, поила шампанским Марусю (поныне бедствующую с девятилетним сыном и параличной матерью), в какой-то мере одарила и обещала впредь о ней помнить. Когда говорят об Аллином холоде, о ее скуповатости, о шорах на глазах ее души, о броне на ее сердце, надо бы помнить такие странички из ее книги Живота. Они – порывы, и как бы для нее самой неожиданные, но они всегда искренни, чужды всего показного, преднамеренного. И не так уж они редки. И кто может учесть по существу: отзывчивость Неждановой, Барсовой, может быть, при их широкой показной установке не значит ли меньше в моральном весе личности, чем эти детские, безоглядные порывы Аллочкиной доброты?
Ночь за полночь.
“Крошки, окрошки, винегрет с горчицей”. Алла сыну о смерти оперного актера Алексеева[526]: “Так он мечтал о даче, с такой любовью устраивал, столько вложил трудов, забот, денег, все чудесно устроил – и умер, бедняга. Даже, говорят, ни одного дня не поживши на даче”. Невольно приходит в голову (тут я жду мысли о преходящести “образа мира сего”, о “суете сует”, но с удивлением слышу) – вот видишь, как нужно ценить дачу, как важно здесь жить как можно дольше, как можно больше”.
Приехал Москвин с севастопольских концертов – взбодренный, хлебнувший на гастролях славы до пьяни – и с корабля, и с берега, и на улицах его чествовали, и речи говорил…
Алла слушает, подкладывает ему на тарелку редиску, выбирает клубнику покрупнее и смотрит на сплошь красное старческое лицо влюбленно светящимися глазами.
Я бы хотела, чтобы ее видели в такие минуты те сплетники, которые объясняют ее роман с Москвиным расчетом. Может быть, они и здесь чего-то недопоняли бы, но пришлось бы им от своей трактовки отказаться.
7 июля. Москва. Рассвет
День Ивана Купалы. Именины Москвина. Интимный вечер у него (я, Алла, Алеша). Музыка – Бетховен и другие. Приятно было видеть Москвина во власти музыки. Алла ему (со сдержанной гордостью и нежностью): “Ты сам похож на Бетховена”. Есть в чем-то сходство – привлекательная некрасивость, значительность, мощная скульптура головы. Алеша – милый, похудевший, утомленный, но растроганный музыкой. Завтра четвертый раз (!) пойдет держать литературу. Дорого дается ему и нам всем его аттестат. Беспутная, в оранжерее растущая вкось и вкривь – может быть, потому что рвется на волю молодая моя орешина, но хочу верить, что орехи будут золотые. Сегодня утвердил наконец, где учиться дальше. ГИК (Государственный институт кинематографии).
38 тетрадь 9-7-14.10.1939
18 июля
…Убили актрису Райх, жену Мейерхольда[527]. В 4 часа утра позвонили в ее квартиру, где она занимала только одну комнату после недавнего ареста мужа. С ней была только домработница, которая отворила дверь на звонок. Убийцы нанесли ей три раны и, думая, верно, что она мертва, бросились в спальню Райх. Она, верно, долго боролась с ними – у нее оказалось десять ран, и в ближайшей квартире слышали крики (но не прибежали на помощь.). Убийцы скрылись, ничего не взяв из вещей. В чем тут узел преступления, никто не знает. Но как-то все содрогнулись от омерзительности и ужаса этого события: на спящую, беззащитную женщину нападают с финками два негодяя, наносят ей десять ран (десять ран!) и благополучно убегают. И те, кто слышал призыв на помощь, не тронулись с места.
В убийстве, в каждом, чем бы оно ни было вызвано или прикрыто, страшна не самая внезапность расставания с жизнью, а то, что она отнимается человеком у человека. Во всякой другой внезапной смерти – от волка, от молнии, от упавшего на голову кирпича – нет этого потрясающего ужасом наше сознание – разрыва между тварью и Творцом, между “я” и “ты” в человеческой семье. Страшно самоуправство Каина над судьбой Авеля. И это печать выключенности из человеческой семьи, какой по библейскому сказанию отмечен был Каин.
Когда я думала ночью о том, что произошло накануне, когда представляла себе, что должна была пережить Райх, поняв, что ее убивают, что гибель неизбежна, – страшней, чем это, ощущалась та “тьма кромешная”, из которой выскочили на нее с ножами два Каина и куда скрылись они после убийства. И ведь живут они и сейчас в каком-то доме, – спят, едят, пьют вино, распутничают с женщинами (это всегда рядом с убийством).
Они, может быть, и не чувствуют на себе каиновой печати. Но она ведь есть на них. Она – реальность, она – обреченность на отпадение от Бога.
30 июля
Перед сколькими людьми у меня вина из-за моей склонности к произнесению приговоров. В числе их Пришвин. В одной из тетрадок моих говорится, что “Пришвин плохо пахнет”. И почти ничего другого не говорится. Если бы еще прибавить: вот от такого-то писателя в таких-то местах таких книг плохо пахнет. И сейчас же упомянуть о других местах. Это еще было бы с полгоря. А вот горе (горе – неисправимости Мировича): там указал на прыщик, там на какую-нибудь бородавку или не такой нос, глаз, подбородок, какой Мировичу не нравится, и пошел дальше как ни в чем не бывало. А через какой-то срок опять встретился с этим писателем (или с человеком) и видишь – умный лоб у него – с широкой думой (это у Пришвина), похожей на кнут-гамсуновскую, но со своей, от русской души идущей думой, и влюбленность в природу, и чувство мировой души в рассказе “Охотник”, и верность Матери-земле, и глаза поэта-тайновидца в ее лесах и болотах. И там, где это, – нет фальшивого звука, нет безвкусного выпирания своей писательской особы (честолюбца и приспособленца). И прощаешь ему все прыщи и бородавки, все ужимки и прыжки в неинтересную биографию. (“Моя жена любит сыр”… Берендевна, Петя, Лева – (сыновья.))
11 августа. Снегири
Небывалый грех мой – поспешность выводов и окончательных приговоров. Так и с портретами Герасимова – за три дня он так их “исправил и дополнил”, что ожили москвинские глаза, их внимательная серьезность и выражение внутренней крепости и силы. Можно бы дать ему более яркую печать таланта. В нем больше депутата, чем “Божьей милостью” артиста – но, может быть, таково задание художника.
И в Алле (пока) выдвинул он не русскую прелесть ее – дочери народа, молодки из Лопасни (откуда родом ее дед) и не крылатую творческую устремленность далеко за пределы всякого быта (ее лучшее выражение) – но грациозную женственность (здесь он польстил Алле) и парадную обдуманную красивость элегантной актрисы. Впрочем, портрет будет готов еще только через пять-шесть сеансов. И в лице во взгляде может явиться то, чего мне недостает, чтобы сказать: “Да, это Алла”.
Но хороша полупрозрачная шляпа-пастушка на воздушно-взбитых золотых кудрях, легкое полупрозрачное, золотистое пальто, кусочек на груди розоватого газа с темно-красной розой, жемчуг на обнаженной шее, грация общего контура от изгибов шляпы к плечам, к линии руки на ручке кресла, к общему выражению молодого стана.
15 августа
Художник Герасимов пишет Аллу, одетую в элегантнейший парижский костюм; во время сеанса рассказывает (мягкий, сильный с разнообразными и в высшей степени своеобразными интонациями голос):
– Вхожу в гастроном, то, другое заказываю. Есть дни, когда денег у меня куры не клюют (недавно получил за 10 дней работы 55 тысяч). А передо мной старушка – Боже мой! “Сто грамм колбасы, – говорит, – дайте, да потоньше, как можно потоньше, нарежьте”. Так и вижу: к дочке вечером обалдуй какой-нибудь придет чай пить. Старушке колбасы и понюхать не придется. А дочку обалдуй через месяц бросит (энергичный, безнадежный жест кистью).
И дед, и отец Герасимова – прасолы. И он в ранней юности ездил быков продавать. Вырос в Козлове – теперешнем Мичуринске.
– Знаете вы свои глаза? – спрашиваю его. Он с испугом оборачивается от умывальника, где после сеанса моет руки.
– А что?
– Я, если бы вас писала, затруднилась бы, как передать в вашем лице эту удаль степной песни, самой степи Моздокской и в глазах огни Ивановой ночи, Ярилу. И в этих же глазах, в глубине, соломоновскую мрачную убежденную безнадежность: суета сует и все суета. И “противны мне дела, совершающиеся под солнцем” (приблизительно это говорю).
Он осветил меня ярилинской, моздокской своей улыбкой.
– Это со мной жизнь, люди сделали – мрачные точки-то в глазах. От природы я – веселый парень. И душа нараспашку.
После отъезда Герасимова, когда завернет его машина за угол лесной дороги, мы с Аллой невольно вспоминаем его слова, его манеру. Алла великолепно копирует некоторые интонации его – особенно: “Боже мой!” В этих двух маленьких словах яркий и правдивый темперамент души, умеющий “видеть, слышать и понимать”.
Закат, как и утренняя заря – мистериальное время (для человека) в суточном круговращении планеты. Недаром все богослужения во всех культах приурочены или к восходу солнца, или к закату его (“свете тихий”): пифагорейцы, индусы, встречающие зарю погружением в Ганг, цветами и гимном.
17 августа. 11 часов вечера. Снегири
Хроника: умер художник Бродский. И конечно, от рака. Это инфернальное чудовище получило какие-то логические права разъедать корни жизни по эту сторону.
Герой пьесы Булгакова “Батум”[528] (о Сталине) не разрешил ставить и даже печатать пьесу. Эта громовая стрела поразила Булгакова в вагоне 1-го класса за шампанским недалеко от Тулы. Ехал в Тифлис с разрешения глав искусства готовить пьесу к постановке (изучать couleurs locals[529]). Булгаков убит. Говорят, лежит лицом к стене и окна завесил. По-человечеству – жалко. И в то же время тут было что-то придворно-искательное в самом замысле, хоть пьеса и неплохая. Отказ ставить и печатать ее делает честь уму и такту Сталина.
18 августа. Ночь. Дождь. 12-й час
Был днем Сахновский (режиссер МХАТа). Говорил о возможной постановке “Идиота”. Я удивилась, что на роль князя считают возможным пустить Хмелева. Настасья Филипповна, конечно, была бы – Алла. И была бы это ее лучшая роль – богаче оттенками, ярче, глубже Анны Карениной. (Это не значит, что, по-моему, она с Анной не справилась. Но, так как не справился с инсценировкой Волков, отразилось это и на образе Анны.) Чудесный Лебедев вышел бы из Москвина. Не худший – из Тарханова. Аглая, конечно, – Степанова. Но вряд ли разрешат. Не ко времени, не ко двору Достоевский.
Как небрежно, халатно, скомканно очерчены у Достоевского некоторые лица, играющие не последнюю роль в романе. Вернее сказать – не играющие никакой роли, но занимающие немало страниц: две сестры Аглаи, два жениха их – Евгений Павлович Радомский и князь Щ. Еще Радомский нужен автору для скандала в Павловске, где жертвенный, мучительный надрыв у Настасьи Филипповны, выступающей, как “бесстыдная наглая камелия”.
А без Щ. и без обеих сестер отлично можно было бы обойтись. Аглае даже больше идет роль единственной, избалованной родителями дочери. Недописана и сама Аглая (по сравнению с образом Настасьи Филипповны). Вероятно, тут виною бедность – отсюда спешность и стремление ранить.
Когда я ищу образ и для князя Мышкина, я вижу П. Романова в ранней его молодости и Сережиного отца в первые юношеские годы.
8 сентября
Две подруги с малых лет Аня и Нина замужем за двумя братьями[530]. Нина – “удачно”, то есть муж – художник, много зарабатывает. Анин муж – неврастеник, эгоцентрик, менял профессии, отравлял жизнь жене и детям и попал однажды в очень далекие края, откуда нет вестей уже два года.
У Нины трое детей. У Ани – шесть. Дядя художник, щедро помогающий осиротевшей семье брата, купил им полдомика в Малоярославце с довольно обширным участком. Все шестеро работают по дому и по огороду. (Старший Миша развел великолепный огород.)
Мать – с высоким станом, с античным обликом Деметры Элевсинской – сажает ухватом в русскую печь горшки с кашей, с картофелем. Нина – подруга – только что приехавшая из Крыма в сопровождении очередного друга дома (дочь Бальмонта!). Что-то распаковывает и запаковывает на крылечке с помощью друга дома, счастливого и покорного. Она распоряжается властно, стремительно. В улыбке ее застенчивость, отчужденность; в глазах с красиво изогнутыми ресницами грусть и непреклонность. И вся она со своим огромным ростом кажется существом иной, не совсем человеческой природы.
Шагами богини (“И шагнула богиня с Олимпа в Итаку”) она уносится в сопровождении счастливого инженера на вокзал.
4 октября
У Елисеева.
– Что это за дебош? Почему стена на стену? (Толстый, пенсионерского вида старик с выпученными глазами. Толпа вращает его как в вальсе.)
Мещанка средних лет, работая энергично локтями:
– Очень просто – мыло дают.
Над жизнью и смертью замаячили два лозунга: Мыла! Сахару!
…Письма из Киева:
“Киев на угрожающе военном положении. С вечера темно хоть глаз выколи, при этом скользко. Снабжения почти никакого. А что есть – с громадными очередями, и дороговизна неприступная. Не позволяют выключать радио, и оно орет день и ночь.”
В этом круге знакомых, вернее, старинных друзей всем за 6о, а некоторым и за 70 лет. Все еще работают, кроме тех, кто слег уже на смертный одр с температурой 39 или 34. Все поголовно бедны. Кто служит сиделкой в больнице, кто дает уроки (в Киеве им грошовая оплата). Кто довольствуется, несмотря на полученный в древности диплом об окончании гимназии, местом приходящей домашней работницы. Берут на дом починку, штопку. Кое-кто за угол и кусок хлеба обслуживает по всем пунктам каких-нибудь родственников. Все больны – кто грыжей, кто белокровием, кто туберкулезом, кто печенью. И у всех подагра и склероз.
39 тетрадь 22.10.1939-9.2.1940
24 октября
Если бы описать в библейском стиле жизнь современного человека – все равно какой страны, – получилось бы некое кощунство в сторону Библии и явное издевательство над современным человеком. Ведь библейский стиль (рядом – но в ином аспекте – Гомер, Упанишады, Рамакришна) непревзойденная форма для того, чтобы говорить о человеке самое центрально-важное и на тысячи веков вперед. Противоположность ему – газета, брошюра. В этом зеркальце отражается, этим отражением довольствуется в массе современный человек.
25 октября
Мы только счастье знаем там, Где любят нас, где верят нам. Пушкин, “Цыганы”[531]Прописная истина – но так легко, так полетно-красиво и оттого так убедительно влетающая в жизнь души там, где ее обиды за свой образ действия и за то, чего ей не хватает. Эти строчки надо чаще вспоминать – но только применительно к своему образу действия: больше тепла, больше внимания, веры, любви в сторону тех, кого судьба сталкивает с нами, кто обречен с нами жить.
26 октября
Некто сказал: “Друг – это хлеб и вино, чистый воздух и одиночество”. Горе той дружбе, где между хлебами попадаются уже камни, и к чистому воздуху подмешаны кухонные чады и миазмы осуждения и недоверия, и вино разбавлено водой, и в одиночество врывается докучный взгляд соглядатая (а не нашего другого “я”, откуда и слово “друг”).
5 ноября. Новогиреево
Новогиреево. Оно же – страна Прошлого. Воронежский дом над откосом железнодорожной линии. Слепая мать – ее залитое радостью лицо. Возглас: Вава приехала! Брат Николай – покровительственная (хоть был на 11 лет младше), шутливая, застенчивая нежность. Красавица тетка. Веснушчатая и тоже сияющая, домработница Наташа. Малиновая лампада перед иконой Иверской богоматери с каплей крови на раненой щеке. Эгоистическое томление нелепо сложившейся своей “личной жизни” (точно эти любящие так горячо и бескорыстно люди не были, не должны были стать моей личной жизнью). И великая бесплодность и призрачность жизни того периода. А может быть – и всей жизни.
Новогиреево. При внешней неуютности, такая надежная, такая теплая внутренняя уютность. В холоде нетопленой комнаты – такое щедрое тепло Ольгиного существа. При тесноте маленьких комнат, забитых книгами, внутренно – такие вольные, такие манящие просторы, как воронежские дали из окна Ольгиной квартиры в ее детстве.
Только двух людей знаю, способных жить в Мире в мире собственной души, высоко над житейским морем. Ольга и Женя Г. (Евгения Сергеевна Готовцева). Ольга в юности пережила увлечение Леонардо да Винчи, его картинами, его биографией интенсивнее, чем своими воронежскими романтическими встречами. Евгения Сергеевна так некогда вошла в орбиту Франциска Ассизского. Теперь Ольга живет в веках, в истории народов и параллельно в пушкиниане. Дмитрий Донской, Батый, галлы, Средневековье, Египет вмешались в ее жизнь, как большая половина ее содержания (в другой половине через пень-колоду скачущая хозяйственная забота и ребяческие увлечения школьными интересами дочери-первоклассницы).
Евгения Сергеевна о себе говорит: “Я живу на Гималаях. Оттуда такие горизонты. У нас на даче я собираю навоз – я собрала сто корзин. Но в то время, как я собираю его, я сливаюсь с красотой утра, с землей и с небом. Я перечитываю Пушкина и вместе с ним говорю, просыпаясь в октябре: «Встает заря во мгле холодной»”
20–21 ноября. 5 часов утра
– Вы знали Пяста? Он умирает. Я навещаю его. Он в Б. Московской гостинице (голос Надежды Григорьевны по телефону). – Отвечаю: знала. Но не вижу в этом печального по существу события. Жизнь, по-моему, страшнее смерти.
Я разумела жизнь, как она до сих пор сложилась у человечества – с войнами, насилием, с неравенством, с голодом и тысячами несправедливостей, с ничтожеством интересов и низменностью стимулов.
Леонилла подхватила последнюю фразу и вмешалась:
– Да, как же! Это все только философия. Не верю ни одному человеку, что ему жизнь страшнее смерти. Все цепляются за жизнь. Никто не хочет умирать.
Ни самоубийцы, ни мученики, ни “три смерти” Толстого, ни то, как принял смерть собственный ее муж, не поколебали в Леонилле ее афоризма:
– Все до одного цепляются. Никому не верю.
По страстному оттенку голоса я поняла, что ее теза относится ко мне. И почему-то меня задело это, и я тоже горячилась. Из-за чего! Разве я не знала, что в главном, в самом важном, Леонилла не может мне верить, как не верила слепорожденная девочка, что я вижу в конце аллеи идущего человека. Она прислушалась и сказала, пожимая плечами: “Никого там нет. Я не слышу”. А когда человек подошел, не сделала вывода, что можно “видеть” издали. “Вот теперь видно”, – сказала она, когда расслышала хрустящие по песку шаги.
Хочу верить, что бедному другу детства моего будет дано хоть в самом конце пути увидеть и услышать то, что скрыто от ее глаз, что не долетает до ее слуха.
1 декабря. 2 часа
Сейчас по телефону сказали Аллочке: на финляндской границе началась война[532].
В эту ночь, в то время, как мы будем притеплившись, мирно, как ни в чем не бывало спать, молодые жизни – сотни или десятки, это уж не так важно, пройдут через жестокую боль, агонию, увечья…
На дальневосточном фронте хирурги, по словам одного приехавшего оттуда врача, работали 16 часов в сутки.
Домработница Шура потребовала, чтобы провели в кухню радио. “А то я как в лесу. Слышу «война, война, война». А какая, с кем, почему – ничего не известно. Мороз по коже бежит, а сама не знаю отчего”. Подвела ее к громадной Алешиной ландкарте. Показала все страны и, кто с кем воюет и в мировую войну воевал, рассказала. Если б у нее было хоть полчаса еще свободного времени, необходимо было бы заняться географией. Грамотой занимаемся около года, а толку мало, несмотря на все ее прилежание. Нет ежедневного часа, в котором не была бы набита и задурена ее голова спешными мелочными делишками. Зайдешь вечером на кухню: “Ну как, Шура?” С расстроенным лицом отвечает: “В диетический ехать. На Арбат”. Или: “Гладить нужно”. Или: “Платки намочила”, и т. д., и т. п.
Трудность просьб и легкость отказов – верные показатели заболевания, летаргии, а может быть, и умирания дружественных отношений. Когда мы любим человека, мы сделаем все, чтобы не отказать ему, и сделаем с радостью. Когда мы любим меньше, любим теплохладно, мы приложим старания, чтобы не отказать – но уже сделаем это без радости. Когда мы любим совсем мало, нам легко отказать даже тогда, когда исполнить просьбу было бы нетрудно. Когда любви нет совсем – и вместо Эроса поселился в сердце антиэрос, что бывает нередко, – отказывают даже с каким-то торжеством, с ощущением злой радости. Это уже не акт равнодушия, но открытой враждебности, и он очень вреден для обеих сторон, от него можно заболеть.
3 декабря
На днях узнала в одном доме о двух смертях: Зинаида Гиппиус и Любовь Дмитриевна Блок (Менделеева – жена Блока)[533].
Зинаида Гиппиус вошла ко мне в пажеском костюме – короткие штаны на длинных ногах, о стройности которых говорил в свое время “весь Петербург”, в черном бархатном берете на великолепных пепельно-золотых волосах. Высокомерный, кокетливый, иронический андрогин. Шевельнулось пустое любопытство:
– Как там встречают андрогинов?
Она смерила меня бледным взглядом твердых юношеских глаз – насмешливо и презрительно:
– Где это “там”? Вы говорите о небе монахов Троице-Сергиевского посада?
– Нет, о вашем – когда вы были неохристианкой.
Встал ее образ в белом хитоне с черным крестом на груди. И рядом с ней в таком же хитоне и такая же величественная Зинаида Аннибал[534](жена Вячеслава Иванова). И мефистофельский смех Лундберга:
– Когда я увидел их, мне “стало так неприлично”.
– Неохристианство? Да. Было и это, – сказала она, отвернувшись от меня с задумчивым видим.
Перед нами оказалась в воздухе какая-то перекладина, и она села на нее с картинной грацией, закинув ногу на ногу. В руках у нее очутился изящный золотой портсигар. Она щелкнула его крышкой, потрогала перламутровым миндалевидным ногтем тонкие душистые пахитоски и со вздохом закрыла.
Я поняла, что там, где она теперь, нет места куренью. И стала она похожа на шестнадцатилетнего гимназиста, которому запретили курить. И на юную мечтательную девушку, которой ни к чему эти панталоны. Жалость и симпатия, прихлынувшие к моему сердцу, заставили ее обернуться и посмотреть на меня доверчиво.
– Вы зачем, собственно, меня позвали? – спросила она. – Я вам никогда не нравилась. Вы не верили в мою искренность.
– А разве вы были искренны?
– Всегда. То, что вы называли моим кокетством, ломаньем, позой, – было моей искренностью. Я не могла проявлять себя иначе. Есть люди, которым для общения необходимы маски или хоть грим.
– Ложь вместо правды?
– Человек, если он не примитивен, тонок и неглуп, сумеет разобрать, где правда, где ложь. Ложь только переодеванье хороших знакомых в маскарадный костюм, как во время карнавала.
– А зачем же карнавал?
– Боже мой, вы еще спрашиваете! От скуки. От серости жизни, конечно. От мертвости ее.
– Вы оттого так и любили смерть, что ощущали себя уже как бы умершей? (Прозвучали во мне, как далекая музыка, ее стихи петербургского моего периода.)
Полуувядших лилий аромат Мои мечтанья легкие туманит, Мне лилии о смерти говорят, О времени, когда меня не станет. Мир – успокоенной душе моей. Ничто ее не радует, не ранит… и т. д.[535]Она услышала во мне эту свою музыку. Лицо ее нежно порозовело, поголубели бледные глаза.
– Разве, по-вашему, это неискренно? – с живостью спросила она.
– Искренно, как и все, где вы говорили о смерти. И как большая половина ваших стихов. Мы говорим сейчас о лжи. Вы сами начали одну из страниц дневника своего словами: “Я – лгунья”. Вы утверждали:
“Кому нужна о нас правда”. Вам казалось, что хорошо и даже почетно быть Протеем. Вот об этом карнавальном тоне – не в стихах, а в жизни, – о позировании и стилизации себя в области идей вспомнила я, когда спросила: разве вы были искренны?
У нее опять стал отроческий вид первой ученицы, наивно-серьезной и внимательной.
– Я искала. Как и вы. Как все мы в ту эпоху. И подобно Ставрогину у Достоевского, когда мы говорили, что верим, мы не верили, что мы верим, а продолжали искать. Мы были слишком динамичны.
– И может быть, недостаточно глубоки?
– Куда углубляться без корней?
– А там, где вы теперь, есть куда пустить корни? Или надо вернуться в прошлое, пережить его по-новому, сделать его настоящим.
– Довольно, – сказала она. – Вы забираетесь в посмертную область, где вы ничего не поймете, пока не попадете туда, и о которой у нас с вами нет общего языка. Вот вы спросили про андрогины: где они? Точно есть что-нибудь значительное в том, что я целовала Аньес и мучила Аньес в то время, как вы целовали своего Ивана или Петра. Важно – как это было и к чему привело. Но об этом я ничего не скажу, – прибавила она высокомерно. – Мы с вами не друзья. Вы меня никогда не любили. А я вас просто не замечала, хоть припоминаю ваше лицо как чем-то знакомое. Встречались два-три раза на каких-то раутах в Питере, не правда ли?
– Да, если можно назвать это встречами. Ни вы моего, ни я вашего лица не увидали, и не родилось у нас желания разглядеть друг друга по-настоящему. И признаться, мне странно, что вы сейчас появились в моей орбите.
Она улыбнулась насмешливо.
– Вот как! Я – в вашей орбите? Не лучше ли было бы сказать, что вы вошли в мою орбиту, предъявив четыре строчки вашего стихотворения:
Язвит меня печать познанья, Твоя мятежная звезда. Как ты в ущербном мирозданье, Не утолюсь я никогда.(С чем обращались вы к Светоносной Деннице, то есть к Люциферу.)
– Разве достаточно общности одной какой-нибудь темы, чтобы упокоенный поэт покинул загробную обитель свою и явился к другому, которого он совсем не знает?
Она поглядела на кончик своей длинной узенькой ноги в пажеском башмаке с пряжкой. И покачала им, любуясь его изяществом. Она продолжала и здесь гордиться “мучительным следком” своим (слова Достоевского о Полине из “Игрока”).
– У нас с вами контакт, которого раньше мы обе не знали, – нехотя заговорила она. – И он в гораздо более широкой области, чем стихотворные наши темы. Это – смерть. Мое и ваше к ней отношение. То, как вы некогда читали мои строчки про снег – “…И падают, и падают… К земле все ближе твердь. Но странно сердце радуют безмолвие и смерть”[536]. И когда вы услыхали о том, что я перешла через этот порог – все, что вы слышали через мои стихи о ней, прозвучало в вас и вызвало ответную музыку. Она действует как заклинание. И вот я пришла. Но у нас мало общих струн. И говорить нам больше не о чем, и я ухожу.
– Куда? – спросила я тихо.
– Куда скоро придете и вы. И, быть может, мы там встретимся, чего я при всем моем к вам равнодушии не желала бы для вас. Ибо это область, где происходит движение по утомительно широким кругам спирали при очень малом ее развороте кверху.
– Разве движение там зависит не от нас?
Она усмехнулась и покачала головой.
– Там все совершается, начиная с того размаха, темпа и ритма и в том направлении, в каком дано здесь. Линия движения, которая создается скепсисом и духовной ленью, не скоро может настолько сжаться, чтобы, приблизившись к своей вертикали, вознестись кверху, как исповедание мучеников.
– Что значит “не скоро”, если там времени нет?
– Это вы из Апокалипсиса почерпнули? Это там сказано об эпилоге. А нам с вами еще много предстоит действий и картин и много сроков – в почтенных цифрах триллионов и квадриллионов.
Молнией промелькнула ее андрогинная улыбка, бледно-бездонно проголубели, рассеиваясь в воздухе, глаза, и пугающее душу пространство задрожало между нами мириадами созвездий.
5 декабря
Говорили у Даниила о том, что бывает смерть как художественно построенный эпилог к пьесе “Жизнь человека”. И это такая смерть будит в нас чувства высокой удовлетворенности.
…Говорили это по поводу слуха, что Вячеслав Иванов (“Вячеслав Великолепный”, как прозвал его Л. Шестов) окончил свои дни кардиналом в Риме и хранителем ватиканской библиотеки[537]. Известие о Л. Шестове – если оно верно – что автор “Апофеоза беспочвенности” умер в католическом монастыре[538], поражает странностью, почти сказочностью. Но за него отрадно. Конечно, легче умирать под звуки органа в каком-нибудь величавом аббатстве, чем среди телефонов, газет, бульваров и всего вавилонского столпотворения в Париже.
И как некоторым людям не идет умирать! Никакого конца не придумаешь, чтобы вышел он художественным.
Романтически – и сценически – подходящие концы:
1) у Аллиного отца (мужественное спокойствие, “сон” о развоплощенном своем состоянии, первомайское торжество, которое он чтил, – хоронили 1 мая, музыка, которая неожиданно повстречала похоронную процессию – музыки хотел на своих похоронах;
2) у моего отца – тихое сгорание от тропической лихорадки, видение крестного хода, счастливая улыбка в бреду – и необычайно просветленное лицо после смерти (незадолго до этого писал матери: “Видел, но не во сне, новое небо и новую землю”).
Для Пушкина, для Лермонтова – смерть на дуэли.
Но все это – не более чем романически-романтическое оформление сокровенного таинства, называемого смертью.
Когда я рассказала Алле и Леонилле о смерти В. Иванова и некогда близко знакомого им Л. Шестова (о том, что закончили жизнь в монастыре), Алла воскликнула: “Сбесились!” А мать ее раскатисто захохотала.
16 декабря. Остоженка
Позднее утро. Мороз. Солнце. На балконе, запушенном снегом, 21 воробей – все круглые от взъерошенных перышек. Когда кормила их, каждый выбирал кусок побольше и взлетал с ним на балюстраду балкона. Один воробей был трус: порывался слететь за кормом и в то же мгновение возвращался на перекладину.
Ненужная встреча.
В снежный, розовый от вечереющего солнца день, с белого, чуть голубоватого неба, сквозь воздух, пронизанный мириадами иголок инея, принесся он, рыцарь в серебряных латах, с глазами чуть голубыми и холодными, как зимнее небо, с которого он прилетел.
Когда он, остановясь у балконной двери, сделал странный салют мечом, он так был похож на ангела – вестника смерти, что я не узнала в нем Блока, каким видела на юношеских портретах.
Я наклонила голову с покорностью пославшей его воле, трепетно дивясь, почему медлит он вонзить меч в мое сердце. И когда подняла глаза, встретила его взор, где сквозь лед светилась солнечно-ласковая усмешка.
– Вы приняли меня за другого, – сказал он. – Подумали, что я – Азраил, вестник смерти. Вы ошиблись. Но не скрою, что я предвестник ее.
– Теперь я узнаю вас: вы – Блок, – сказала я.
– Да. Так назван я вот в этой книге, где вы вчера целый день обо мне читали. Но там, где я, у меня, конечно, другое имя.
– И по-видимому, другое звание: вы в рыцарских латах.
– Поэты все там в рыцарских латах. У всех один девиз, какой избрали себе некогда иезуиты: Vocati sumus ad militia Dei vivi (Призваны в воинство Бога Живого).
– Я всегда считала вас рыцарем Прекрасной Дамы.
– Моя Прекрасная Дама, Розовая тень Владимира Соловьева, Дева Мария пушкинского бедного рыцаря, богиня Кали Рамакришны – только образы Софии Премудрости Божьей, то “вечно женственное” в Божестве, та сила, которая, по словам Гёте, возносит нас к Божеству. Кто служил ей по эту сторону, тот рыцарь ее по ту сторону в воинстве Бога Живого.
– Но до конца ли вы были рыцарем ее? Когда мчались на острова кутить с продажными женщинами, когда писали “я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне всё – равно”[539], что бы вы сказали Прекрасной Даме, если бы она явилась вам?
– Я упал бы ниц, не смея коснуться нечистыми устами края риз ее. И я сказал бы: зачем ты скрылась от меня? Зачем меня покинула средь льдов и вьюги бытия? И не Твоих ли я извечно знакомых глаз искал в глазах моих незнакомок – и на миг находил их, и тогда с раскрашенных жалких масок не твои ли “очи синие бездонные цвели на дальнем берегу?”[540]
– Я верю вам, что это было бы так. И люблю вас за это. И единственной вашей изменой Прекрасной Даме готова считать тот миг и за ним и те дни, и годы, когда вы обожествили златоглавого своего идола, невесту свою, и сделали столь земную – Любу Менделееву “Женой, Облеченной в Солнце”[541] и, падши, поклонились ей.
– Люба? Жена – Облеченная в Солнце? – Он закинул голову назад с выражением иронии и скорби. – Это было кратко. И это было бы долго. До конца жизни. Если бы не скрылась от меня Прекрасная Дама, я видел бы ее в глазах жены и не искал ни в чьих других глазах. Все дело ведь в том, что скрылась она от меня. И я закружился в хмелевых снежных вихрях, как призрак среди других призраков. Или мертвый подобно врубелевскому Демону лежал в том лиловом ущелье, где вы встретили меня сегодня, когда перелистывали мои записные книжки:
В лиловом ущелье Лежу я один в забытьи, И губы лобзать ослабели, И сломаны руки мои…– А там, где вы теперь, вы встретили Прекрасную Даму?
– О, нет, но там я увидел путь, каким нужно к ней идти. Понял, как нужно ей служить.
Сквозь морозное и снегом запорошенное окно серебряно прочертились силуэты лебединых крыльев: “Он спустился с Монсальвата”, – пронеслось у меня в голове. Он прочел мою мысль и сказал:
– Нет, с Ориона. Вас ввели в заблуждение лебединые крылья. Но вещие птицы Аполлона есть и там. И они переносят поэтов туда, где слагались их строфы, к тем, кто внимал их созвучьям.
– Я только теперь, в 70 лет, внимаю вашим созвучьям.
– Потому что вы раньше вслушивались в музыку мою, как в прижизненные обетования. Как, может быть, и я сам слагал ее. Теперь они раздаются для вас там, в Ее полях, о которых я писал: Ты в поля отошла без возврата, да святится имя Твоё! Снова красные копья заката протянули ко мне остриё…[542]
Для вас, как и для меня, Она там и без возврата сюда.
Заиграл солнечный луч на небесном серебре панциря. Опустились у меня веки от ослепительного белого света. А когда открылись глаза, в комнате не было никого. Только на полу метнулась тень лебединых крыльев.
21 декабря. Ночь – после 4-х дней болезни (печень, голова)
Что вспомнилось. Что само напишется.
Слабость. Приятная, потому что есть где и есть “от кого поболеть”. Разрешаю ее себе, потому что кажусь себе уже младенчески старой. И потому что очень худо эти дни себя чувствовала. И потому что со мной Денисьевна, которая особенно любит меня, когда я болею и слабею.
Леонилла вытащила из-под спуда старые альбомы и ворох рассыпанных фотографий. Глянула я сквозь них с привычной теплой поэтической грустью на свою и на ее молодость, на спутников, которые отошли далеко, и на тех, кто ушел без возврата “в страну безвестную, откуда не возвращался ни один путник”.
Денисьевна ахала над нашими карточками, удивленная, умиленная, – и все приговаривала: “Какие обе хорошие, красовитые!” Без тени печали, что бесследно прошла наша красота, и без охоты сравнивать полуразрушенные лица с юными. Она не употребила даже слова “были”. Это была для нее какая-то наша ипостась, которую ей было радостно в нас открыть, о существовании которой она не знала.
Это было то, что заставляло древних египтян делать условно юное, условно красивое лицо каждому покойнику на футляре его мумии.
23 декабря
“И в дни потопа так же было.”
7000 раненых, 1800 убитых.
Александр Петрович, раскуривая папиросу после очень обильной еды и чаю с вареньем, собираясь идти к приятелю играть в преферанс, говорит:
– Что такое 7 или 10 тысяч там, где 4–5 миллионов войска! Обидно только, что это пахнет затяжной войной. Что через два года Алексею не миновать фронта. И какое истощение страны.
После обеда я шла по Тверской за сыром и булками к ужину. Легкий мороз. Лунное небо, облачное. Снежинки касались старого моего лица, как ласка детских губ.
…А в Финляндии люди – молодые – Алешиного, Сережиного возраста шли через минированные леса и, растерзанные, взлетали на воздух, и проваливались в болота по пояс, по плечи, с головой. И через два-три дня узнает мать, бабка, жена, сестра, что никогда им не увидеть их Сережу, их Алешу, что погиб он страшною смертью.
29 декабря
На днях тяжело внезапно заболела Евгения Сергеевна Готовцева (бывшая Женя Смирнова). Перед лицом возможной близкой смерти как выпрямляется во весь рост, как проясняется в главных своих чертах образ человека. Я знаю около 30 лет и люблю эту женскую душу, горячую, быструю, легкую, правдивую, “скорую на помощь”. Есть люди, подобно Гермесу, с ногами, окрыленными для исполнения высшей воли. Есть икона Богоматери, называемая “Скоропослушницей”. Под знаком этих двух образов, как в чем-то главном с ними равнозначащее, вижу милое, любимое, смуглое лицо – для меня неувядаемо юное, каким встретила “Женю Смирнову”, когда ей было 20 лет.
На Варварин день “Женя Смирнова”, не застав меня дома, узнала, что я на Остоженке и что плохо с головой и трудно одной вернуться под тарасовский кров. Со свойственной ей крылатостью там, где кому-то чем-то можно помочь, она через полчаса была уже передо мной и проводила меня – и в ее прекрасных глазах византийской Мадонны, когда глядели они на меня, была такая скорбная и такая светлая, каждый миг готовая претвориться в юную, солнечную улыбку, нежность. А сейчас она в больнице. Воспаление брюшины. Если бы я могла коснуться губами ее лба и облегчить касанием (приближением) рук ее боль. Может быть, это помогло бы и выздоровлению. Но ведь не пустят, не пустят меня туда. Попробую “полечить” на расстоянии. Здесь надо мысленно окружить одр болящего непрерывным (по возможности) сосредоточенным о нем предстоянием. В христианстве это проводится в Таинстве Елеосвящения. Я знаю ряд случаев, когда облегчались страдания больного и сама болезнь исцелялась.
2 января 1940 года. Малоярославец
Призрачной жизнью, несмотря на ее утучненность, живет тот слой Москвы, в который вкраплена моя жизнь.
Вырвана из жизни этого слоя та главная ценность, вокруг которой органически складывается судьба каждой личности и располагаются все остальные ее ценности. Отсюда выпирают, уродливо и жутко, в рисунке этого быта красное дерево, автомобили, дачи и валютные побрякушки. Еще, конечно, здоровье и амурные дела. Живое человеческое чувство притушено или закрыто от самого человека защитной броней, чтобы не приносило лишних волнений и не мешало жить. Идеологическая надстройка продиктована моральным комфортом – не рисковать, не идти против господствующего течения идей и политических требований момента. Какие пышные лозунги ни выставлялись бы этой средой, по-настоящему жизненны и действенны здесь только те, которыми она руководится, умалчивая о них: сытость, удовольствия, безопасность и так называемая слава.
И насколько чище, легче, здоровей для души воздух многотрудной и многоскорбной жизни, какой живут здесь. Нужда явная, неискоренимая – при всей борьбе с ней. И никогда эта борьба не становится пафосом жизни, целью ее. В борьбе же каждодневной закаляется мужество и терпение. Дети (младшему 8, старшей 15 лет) уже приняли труд как закон жизни, лишения как один из путей ее и как высший по сравнению с богатством путь (“трудно богатому войти в царствие Божье”). В лютый мороз то у того, то у другого не хватает рукавичек, валенок, теплого белья, достаточно теплого пальто. Спят возле окон, откуда несет ветер, а на подоконнике замерзает вода. В уборной те же 20 градусов, как и на дворе. Пятнадцатилетняя Маша носит воду из колодца, который за 4 дома от них. Забыли о белом хлебе. Не всегда есть даже и постное масло. И такой неуют в домишке. Синеют от холода руки. Темно, как ночники, горят лампы. И в этом неуюте, в темноте и в холоде каждый из четырех птенцов этого гнезда живет счастливой по-своему жизнью. Счастлива чернобровая, розовая Маша своим весенним расцветом, школьными интересами (она – общественница), подругами, редкими, но шумными вечеринками. Счастлива серьезная, по самой природе своей “отличница” – четырнадцатилетняя Лиза глубиной своего внутреннего мира, жадным чтением, удвоением своей жизни при помощи Шекспира, Гёте и других великих писателей. Счастлив вихрастый, буйный, талантливый двенадцатилетний Дима, который забыл шалости и лыжи для рисования, ходит вечерами в недавно открытую студию и уже написал очень удачный портрет, никогда раньше не учившись рисованию.
И всех счастливее солнечный зайчик, восьмилетний Ника. Лежа в гриппе у заледенелого окна, с сияющими глазами рассказывал мне о быте и нравах разных зверушек, которых с изумительной отчетливостью хранит в памяти наряду со всеми героями Жуковского, Пушкина и “Тысячи и одной ночи”.
И все вместе, вокруг больной, но терпеливой и героически мужественной матери, счастливы своей любовью к ней и ее любовью к ним и живой шаловливой дружественностью друг с другом.
15 января. Москва
Странная идея, навязчивая идея – собрать завтра вокруг себя из кружка “Радости” 23 года тому назад вокруг меня объединившихся девушек школьного возраста. Их было человек 12–15. Из них связь у меня уцелела с 5-6-ю. Спрашиваю себя сейчас – зачем я это затеяла? Зачем они мне и я им? Каждый из них мне чем-то дорог, и интересен, и приятен. Но зачем – “собирать”? Мне это трудно – и как предварительная забота, и невольная шумность, и уносит это 30–40 рублей, которые можно было бы отдать “внукам”. И в то же время чувствую, что это нужно. Точно я исполняю тут чью-то волю, которой нельзя прекословить.
Сегодня и вчера “лечила” Ивана Михайловича Москвина. Утишилась боль, улучшилось самочувствие (у него воспаление нервных корешков в области шеи и головы). Потом полечила голову Леонилле. Капля удовлетворения, скрасившая пустыню безработности. Истомилась душа по ощущению нужности, занятости, работы.
Говорю Ивану Михайловичу: “Вероятно, в СССР я – единственный гражданин, которому некуда девать времени и сил”. Он говорит: “Но ведь вы всегда что-то делаете”. – “Да. Но все такое делаю, что не может считаться делом”.
17–19 января
16-го числа, которое было назначено для встречи “Радости” (Ольга, Ирис, ее подруга Леля, Машенька К., Нина), грянул 42-градусный мороз. Пришла одна Женя (Ирис) и случайно Сережа. И что-то вышло из этого интимно-праздничное. Для них двоих расставлены были все угощенья, приготовленные для всех. И они почти все скушали. По этому признаку вижу, как плохо они питаются.
1 февраля
“Сердца горестные заметы”.
Тяжело заболела Елизавета Михайловна Доброва – сестра-друг. Не то печень, не то почка, и прощупывается в боку опухоль. Она лежала побелевшая, опрозраченная у обеденного стола на том диване, который ей всегда служил постелью. Над ней обедали и разговаривали. А она глядела, как с иконы, прекрасными своими черными глазами – свято и строго. Дней десять она почти ничего не ест, только фрукты и немного икры.
Когда так заболеет человек, что у изголовья его появится тень смерти (может быть, идущей на этот раз мимо), встает в сознании близких истинный образ заболевшего. Не я одна, все близкие, я думаю, увидали Елизавету Михайловну (для меня “сестру Лилю”) в ореоле неустанного, жертвенного труда для своих близких – и для чужих, потому что всякий, кому она могла помочь, переставал быть для нее чужим.
40 тетрадь 12.2-12.5.1940
24 февраля
О том, о сем (за 9 дней).
Рассказы о чудесах храбрости советских летчиков в воздухе и на земле. А я все время вижу – прежде всего и больше всего, – как этот храбрец или тот, кому храбрость стоила жизни, сгорали живьем, разлетались на куски от взрыва, прикоснувшись к телефонной трубке или наступив на какую-то кочку. Люди. Живые. Которым дорога была жизнь, манила, обещала – всё ведь молодость, которая “вкушая, вкусила мало меду”.
Непостижимо, как это случилось с человечеством, как смело быть, что “человека человек послал к анчару властным взглядом”[543].
…Я бы хотела сейчас спать. Просто спать, как сурок. Уткнуться с головой в подушку – “не помнить, не видеть, не жить, уйти от сознания”. Взамен этого будет бессонница. И раньше 6–7 утра не придет сон.
Евгения Сергеевна (Готовцева, она же и Смирнова Женечка), недавно чудом выздоровевшая от перитонита, рассказывает: “И было у меня, когда я болела, такое чувство, что я плавучий островок в каком-то небольшом озере. И в одном месте озера пролив, который ведет не то в море, не то в бездну какую-то. Словом – в неведомое. И, когда меня подносит течение близко к проливу, я знаю: это смерть. Но я спокойна. Зеленая-зеленая каемка вокруг меня – изумрудные кусты, и в них вся сила жизни (это память обо мне, любовь (молитвенная) ко мне друзей). Я полагаюсь на нее. И радуюсь ей. Пролива не боюсь, но когда меня относит от него тайнодействие друзей, радуюсь. Очень хорошо было – не передашь словами.”
А я и без слов поняла, помню, как было незабываемо и непередаваемо хорошо, когда в клинике истекала кровью 5 или 6 лет тому назад.
5 марта
Встреча с М. В. Юдиной. Год-два тому назад она взволновала бы меня в той области, где ощущается кармически важное. И казалось тогда, необходимо общение, и было странно, что она этого не почувствовала. Сейчас понимаю по чувству до конца изжитой кармы, с каким ощущала Марию Вениаминовну на этот раз, что можно изживать такие кармы и в одиночку. Это завершилось в сентябре, ночью без сна, случайно проведенною в комнате, из которой она выехала, но где оставались ее вещи и где, соприкоснувшись с ними, я переправилась с ней через вершину ее искания (у нее только что погиб перед этим любимый человек при восхождении на Эльбрус)[544].
9 марта
От юности моей я не переставала повторять “не могу”. Не могу того-то видеть, а вот этого слышать, а это выносить. Что-то сделать, куда-то пойти. И вижу теперь, что под многими этими “не могу” крылась возможность преодоления их. Но вот пришло настоящее “не могу” – старость. И наряду с ним – трагикомичные попытки преодолеть его. И тут же расплата – целые часы слабости, полного выбытия из всяких дел, из общения с людьми. Нечто похожее на зимнюю спячку медведя.
Понятными стали те, что в детстве будили только удивление – слезы 70-тилетней бабушки, когда она прерывала какое-нибудь хозяйственное занятие и, вытирая наскоро руки, говорила: “Что хотите, то со мной и делайте. Мочи нет. До постели не дойду. В поганый угол (это там, где стояло помойное ведро) впору головой ткнуться”.
Вот это “мочи нет” – совсем другой природы, другого могущества над человеком, других прав, чем то, мое прежнее “не могу”.
16 марта
И каждую ночь, натягивая повыше уха одеяло, вспоминаю, что так укрываться научила меня двадцать лет тому назад в нестерпимо холодной квартире Валя Затеплинская – Ольгина подруга. Случайно мы ночевали вместе. Она в ту ночь была очень несчастна: накануне взяли мужа, который вдобавок измучил ее душу перед этим изменой, возвратом, явной неустойчивостью своего чувства в ответ на ее высокую, первую и последнюю в ее жизни любовь, которую она принесла в их брак. И она заметила, могла заметить и пожалеть, что мне холодно, и деловито, обстоятельно рассказала, как нужно укрываться.
29 марта
День рождения Мировича. Зам. дочери решили праздновать его одновременно с 25-летним юбилеем кружка “Радости”. Из этого моего “зеленого кольца” на горизонтах наших уцелело 8–9 человек. А собраться могли только трое; кто был в отъезде, кому не успели дать знать, чьи адреса и совсем были неизвестны. Но тем интимнее и теплее прошел вечер. Не побоялись загородной распутицы Ирис и Ольга. Убрали стол мимозами и альпийскими фиалками Лида и ее alter ego – Мария Александровна (Рыбникова). Ольга привезла несколько записей из времен юной их “Радости” и прочла их. Прихватила три коробки любимых моих в те времена конфет – пьяных вишен. Мария Александровна подарила мне свой чудесный рисунок из серии “Загадки”. И не это важно, и не в том дело – а в том, что все это, вместе взятое, было для всех лишь транспарантом, сквозь который шло светлое, задумчивое, дружественное тепло, взаимное приятие и понимание. И душевный ревматизм Мировича был прогрет до мозга костей этим обилием тепла и благоуханием юности зам. дочерей, которым всем уже перевалило за сорок.
3 апреля
…На Кировской, под сводом метро у эскалатора, сегодня и каждый раз, когда приходится там проходить, яркое, но точно о посторонних людях видение: я с каким-то рыбьим бутербродом во рту и в руках (это был тогда мой обед) и настигший меня за этим обедом Сережин отец. Это было наше последнее свидание – три года тому назад. Наташа говорит: “Он в тот день говорил о тебе так тепло. С такой хорошей участливостью”. И я видела, что он пожалел меня, – а это был один из лучших кусочков моей жизни, Кировская.
Через две недели постигло его великое испытание. И, как ступени эскалатора, каждый раз проходят передо мной в метро ступени нашей, некогда общей и к концу такой раздельной судьбы. Что бы ни было на каждой из них, все – благо, если ведут ступени вверх. Мой эскалатор, по моему ощущению, остановился и требует серьезной починки. Про его же лестницу, если он вынес крутизну подъема (ему-то идти на своих ногах), никак уж не скажешь, что ступени ее ведут его вниз. Дай бог тебе силы, родной, далекий некогда такой священной близостью близкий друг.
Нравятся мне слова: “утренюет бо дух мой” – в них какая-то обновленная, росистая (от недавно пролитых ночных слез) бодрость, как летом, на заре, на некошеном лугу, когда идешь босиком и душой и телом пьешь всю свежесть утра.
Какой бедной, и больной духом, и бездомной кажется мне Алла, когда в своих концертных туалетах стоит перед зеркалом. Или когда, как сегодня, вернувшись домой после “Анны Карениной”, не раздеваясь в передней, прижимает к себе щенка и ласкает его и лепечет нежные слова. В такие минуты кажется, что ничего-ничего нет у нее в жизни, кроме платья с орденом и с жемчугом на шее и уродливого, со старчески морщинистой мордашкой щенка Бека. Нету Бога. Нету всего божьего мира. Нету обета иной жизни, кроме этой, сотканной из иллюзий и терзаний.
Тогда ее комната, полная красного дерева, заботливо обставленная, с датским фарфором и пейзажами, кажется так же иллюзорной, вроде того зала в андреевской “Жизни человека”, где разодетые гости ходят на фоне черной космической пустоты, повторяя: как пышно, как богато, как светло.
22 апреля. Ночь
Послеполуденные мысли.
Мой Мирович – тот же Голядкин. Я хочу этим сказать, что в “Двойнике” Достоевский вскрывает свое отношение к себе (голядкинскому началу в себе). Что он так же томится этой связанностью, неразрывностью с ним, ответственностью за него и нередко отвращением к нему, как все это испытываю я в отношении Мировича. Цельному человеку этого не понять.
“Три сестры” всколыхнули далекое прошлое. Смотрела я эту пьесу еще в то время, когда жив был Чехов. Вершинин был Станиславский, Маша – Книппер, Ирина – Андреева. Теперь Машу играла Аллочка (в те времена ей было 5 или 6 лет). Книппер – она сидела близко от меня – старенькая, желтая, с крашеными волосами, была мрачна и нескрываемо мучилась завистью. Она была бы счастлива в этот вечер, если бы Алла не справилась с ролью. Этого не случилось. Наоборот – Алла была чем-то лучшей Машей, чем Книппер, – более благородного, более трагического рисунка.
29 апреля. 3 часа ночи. «Утру глубоку»
Встреча с Ахматовой. Через час после встречи для меня уже было непостижимо, почему я так восторженно обрадовалась ей, какой-то одной частью моего существа. Другая удивлялась моей настроенности и как бы не совсем доверяла искренности ее. Это можно изобразить в виде такого диалога, как в одной музыкальной вещи у Шумана, где поочередно выступают Эвзебий и Флорестан[545] (Эвзебий – критически, Флорестан – восторженно).
Эвзебий: – Не могу понять, чему ты обрадовался. “Четки”, “Белые голуби”[546] – неужели это вести из того мира, куда, “как лань на источники водные” стремится душа твоя?
– Из того ли, об этом я сейчас не думаю, но ее строфы – мир музыки, мир красоты и художественной правды.
– Мирок, ты хочешь сказать?
– Мир. Правдивой, изящной, тонкострунной женской души.
– Но если бы и так, “что тебе Гекуба”? И что за чувства она разбудила в тебе? Разберись.
– Это как бы погружение в нечто чудесное. В чудо облечения плотью человеческой души, которая звучала во мне только своей музыкой. И отсюда необычность ощущения, особая трепетность собственного ритма души. И благодарность к той, кто этому явился причиной.
– А если б она была стара и некрасива, было бы это так?
– Она немолода, и красота ее очень условна и граничит с некрасивостью. Ее нужно видеть извнутри, как увидел ее Блок, когда написал ей “Красота страшна”[547]. Или Гумилев, когда сравнил ее с Серафимом.
– А что увидел ты, Мирович, когда так охмелел и затрепыхался и не знал, что делать?
– Амфитриту, вышедшую из морской глубины и превратившуюся наполовину в скульптуру, наполовину в живую женщину, чья судьба горестно прозвучала у меня в сердце и раньше. А теперь за пасхальным столом прошла через душу, как рыдание.
– Но согласись, что во всем этом было что-то ненатуральное, какая-то тебе даже не свойственная экзальтация, от которой тебе тогда же было не по себе.
– Было, но я не знаю отчего.
– А я знаю. Ты вышла в тот момент из своего ритма, из своего душевного строя, даже из своего жеста и языка. Ты очень смешно переполошилась. И мне хотелось бы знать, что на тебя так подействовало.
– Я уже сказала: чудо воплощения музыки и образов стиха в женщину-поэта. И прихлынувшая к сердцу обида за нее, боль о судьбе ее.
– Тебе хотелось бы увидеть от нее равноценное внимание, в какой-то мере дружить с ней, Флорестан?
– Нет, Эвзебий. Я бы даже не хотела ее больше видеть. Потому что ворвались сюда какие-то преувеличенные чем-то неверные ноты.
– Я рад, что привел тебя к этому сознанию. Все это “суета, томление духа, затеи ветреные”.
2 мая
За три дня. Разное – важное и неважное.
О Блоке (из писем его к Е. Иванову)
В час, когда пьянеют нарциссы, И театр в закатном огне, В полутень последней кулисы Кто-то ходит вздыхать обо мне…* * *
И, пока пьянеют нарциссы, Я кривляюсь, крутясь и звеня. Но в тени последней кулисы Кто-то плачет, жалея меня[548].Недаром Сомов написал его в костюме Пьеро[549]. Но есть в нем другая душа (у всех по две, а то и по три и четыре души). Там он рыцарь Прекрасной Дамы Sans peur ni reproche. Эта другая душа и плачет о нем, когда, подвластный первой душе, он “кривляется, крутясь и звеня”. И недаром слово “нарциссы” и то, что они пьянеют. Блок – Нарцисс, влюбленный в свое лицо (признание Е. Иванову): “Я свое лицо люблю”. “Знаю, что ломаюсь ежедневно, знаю, что из картона”… но “себя ненавидеть (за это) не умею и не могу”.
Блок пьян вдвойне от влюбленности в Прекрасную Даму и от влюбленности в себя. В среде, где он жил, он – “оборотень”. Исключение для отдельных друзей. И для “мамы и Любы”. С ними он Саша, до конца искренний, навеки полуребенок-полуюноша, цветочно-нежный. С другими людьми “лицо перекашивается, и губы кривятся от напряжения”. Особенно в литературной среде, где бег взапуски, чехарда, подсиживанье, поножовщина мелких самолюбий (“Мережковские хотят посадить меня на ладонь и сдунуть”[550]).
Где рыцаря Прекрасной Дамы приглашают на собрание, где бы “Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но вкупе”.
…Где решили “производить ритмические движения, танцы, кружения, символические телорасположения”.
Земной отрадой сердца не томи, Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому (из А. Ахматовой)[551]Хотелось бы знать, литература это у нее или же “линия движения”.
…И во все это Блок окунулся с головой. Он мог бы сказать с И. Брянчаниновым: “Раны, нанесенные мне миром, сделали для меня мир отвратительным. Но не предохранили от новых ран”[552].
Е. Иванов воспринимает безумие как особую форму сознания. (Это же и у Достоевского устами Свидригайлова.)
У Е. Иванова душевно больные жена и дочь. Он не теряет с ними нити общения, любит их, живет с ними в интимной близости. Под ледяным панцирем в душе Блока бушевал хаос, врывались в его сознание молнии безумия. Должно быть, это и влекло к нему “Женю Иванова”, и Блок так благодарно любил и ценил Женю за то, что тот больше самого Блока понимал язык его образов (для Блока это было часто кривлянье, балаганчик, для Иванова – путь души, борьба с хаосом).
Ночь. Звонил Новиков (не Прибой). Голос из того далекого времени, когда “на преполовенном жизненном пути” я заблудилась в дантовском дремучем лесу. Какие горькие и в какой-то своей части какие светлые годы. Новиков примыкает к их светлой части. Я ждала ребенка. Новиков этого не знал, но что-то в его настроении было соответствующее моему торжественному чувству тайны, во мне живущей, и ожиданию чуда. У нас были часто длинные монастырского характера трапезы (рыба, грибы, овощи). И разговоры были в той же окраске – чуда жизни, тайны жизни, красоты жизни. Ребенку этому не суждено было в те времена увидеть свет. Он родился через 10 лет от другой матери, но это ему не помешало дать мне познание радости и тайны материнской любви.
В Нижнем, он же Горький (поистине горький), масло 60 рублей, мясо 40, молоко 6 рублей литр. Племянницы Добровых, приехавшие оттуда, еще сравнительно молодые, постарели, исхудали, изможденный вид, знакомый по 1919 году. Особое выражение голодного терпения и недоумелости. Спрашиваю: “Как же и чем питаются те, кто получает на целую семью 300–400 рублей, если вы почти голодаете на ваши 1200?” – “Хлеб и кипяток, больше ничего”, – ответили в один голос.
Такие же вести из Киева, Тифлиса, Самары (Куйбышев), Краснодара. И в подмосковных – Загорске, Верее, Малоярославце, Можайске не лучше. Жестокая мера не пускать из этих городишек в Москву за продуктами. С этой целью повышен вдвое железнодорожный тариф. Голод перехитрил эти меры: обыватель доезжает до ближайшей станции и пешком идет в Москву. А Москве завидует, хотя ненавидит ее и клянет.
Борис (Ольгин брат) приходит рисовать в отсутствие Аллы ее interieur. Его привлекает старинная мебель, красное дерево, общая артистичность убранства. Борис хочет переключиться из профессии организатора выставок на искусство графика. Очень хочется, чтоб это ему удалось. Талантливый человек, как и все остальные братья и сестра (Ольга). Но все с какой-то запинкой, с какой-то роковой преградой к систематическому и нарастающему движению в творчестве. Кроме Володи[553], прославившегося в своей области, куровода, все не вытанцевались до исторического масштаба. Если бы не какой-то яд в мозгах (он, может быть, вызывает и творческий подъем, но чем-то отравляет волю), Ольга давно была бы беллетристом, Борис – художником, Николай[554] – крупным изобретателем (может быть, попав в американские условия, он и сделался им). А бедного Всеволода[555] (младшего из Бессарабовых) эта ядовитая талантливость свела в могилу в юношеском возрасте – сгорел мозговой аппарат, не доведя до конца, может быть, гениального изобретения (передача движения на расстоянии 500 километров с помощью какого-то прибора).
41 тетрадь 14.5-19-6.1940
14 мая
Увиденное, услышанное, подуманное. “Мировой пожар”. Такая война, какой объяты сейчас столько стран – и вот-вот ринутся в ее пламя еще новые жертвы, – воспринимается уже не в исторической перспективе (раздел трофеев и суд истории потом), а как бедствие истребительного характера, как голод, мор, землетрясение. Грандиозность ее стихийной стороны ощущается в космических размерах – самум, степной буран, шторм на океане, извержение вулкана, наводнения, в каких волна высотой с колокольню слизывает с берега тысячи жизней. И эти тысячи жизней воспринимаются в особом значении как одно из явлений постигшей нашу планету катастрофы.
Когда же газеты хотят испугать или похвастать количеством индивидуальных бедствий – “столько-то тысяч раненых, столько-то убитых, триста парашютистов спустились на вражеский мост”, – тут количество теряет значение. Если бы был только один на все сражения страшно изуродованный раненый, только один пилот сгорел бы живьем, только об одном убитом зарыдала мать: “увы, мне, сын мой возлюбленный” – пожалуй, было бы еще страшнее, еще непонятнее то, что делается на этом свете.
Количество подавляет наше воображение, а сущность была бы одна и та же. Гаршин хотел сказать обратное своими “четырьмя днями на поле сражения”[556] – но сказал то же самое, что я говорю. И если бы он описал четыре дня, проведенные четырьмя тысячами раненых так, как провел герой его рассказа, впечатление от него не увеличилось бы, а уменьшилось.
Не умею яснее выразить мысль мою. Я хочу сказать вот что: по-моему, страждущие и гибнущие миллионы в таких катастрофах являются как бы выразителями судеб одного человека. И наоборот: один человек тут как бы совмещает в себе всю сумму страданий и ужасов, пережитых миллионами человек.
Созвучно с этим фоном народных бедствий приходят из подмосковных мест и окружных областей черные вести о гибели садов. Сады стоят черные, без единой почки. Стволы громадных деревьев промерзли до корня от 42-градусных морозов. Малоярославец был сплошным фруктовым садом. Теперь он кладбище.
О низменном:
К. Чуковский хвалил шекспировские переводы Ириса, обещал поддержку, а через несколько дней отрекся от похвал, от обещания хорошего отзыва. В лаконичной форме и не прощаясь, положил трубку. “Так они все теперь поступают, – незлобиво сказал Ирис, – если не связаны кумовством или взаимными выгодами”.
Мирович купил икры на 3 рублей 75 копеек (50 грамм) и съел ее при закрытых дверях с жадностью, как беременный. И было это, помимо “гортанобесия”, низко еще потому, что это могло бы пойти и должно бы пойти на лишний кусок масла Сереже или Денисьевне. И что в Киеве есть голодающие друзья.
23 мая. Ночь. Холод
Что вспомнилось.
Купола Новодевичьего монастыря. Нежная, на некоторых деревьях еще прозрачная зелень. Сквозь нее чудная синева первого утра мира.
Под одним из храмов склеп. И в нем живет литератор, больной, скрюченный ревматизмом Борис Садовский. Маленькие подвальные окна забраны решеткой. Дневной свет в его жилье почти не проникает.
Н. Г. (Чулкова) говорит:
– Он очень доволен. Очень любит свою квартиру.
И прибавляет:
– Я бы тоже хотела жить здесь. С печалью вижу, что не могу этого для себя желать, хотя возможности так жить невольно завидую. Под ногами гробницы, мертвые кости. Над головой решетчатые низкие окна. Вечный сумрак или свет лампы (ему провели электричество).
А на кладбище цветет сирень, буйно зеленеет трава, на каждой почти могиле цветы. Возле Чехова и Станиславского развели целый вишневый сад. Вишни в цвету. Над одичалой могилкой Н. С. Бутовой, наконец (через 19 лет) Художественный театр собрался положить гробовую плиту. Некрасивую, серую, тяжелую. Памятник сыну Горького – хорошая скульптура, если бы где-нибудь ее поставить под деревом в Барвихе, здесь же, в месте упокоения, производит жуткое впечатление. Есть что-то кощунственное в этой позе, в заложенных в карманы руках, в ногах, нетвердо расставленных, как бывает у выпивших людей, в мутновопросительном выражении мрачного истощенного лица.
Побывали у П. Романова, у Г. И. Чулкова, у Т. Ф. Скрябиной, у Самаровой.
29 мая. 2 часа ночи
Что там, вот сейчас, у берегов Ла-Манша! Какие кровавые ужасы, какое мужество и отчаяние, и предсмертные судороги, и смертельная боль, и гибель цветущих юношеских жизней…
30 мая. Утро
Вчера: “Гибнет (как нация) Франция, то же грозит и нам. Погибла уже без возврата Испания”. Не могу судить об этом по невежественности моей и по слабости философского мышления.
О детерминизме. Где грань предопределенного и человеческой свободы? Индейцы как нация вымерли, как замерзает нераспустившаяся почка на древе жизни. Следствие это высшего о них произволения (в замысле творца о творении своем) – или это их неумелость, волевая или духовная слабость, или просто несчастие (открытие Америки). Что значит душа народа? Что значат “иерархии”? Знал ли о них или только желал, чтобы они были в плане мироздания, Дионисий Ареопагит[557], когда перечислял их: “начала, престолы, господствия, силы, власти, серафимы, херувимы, архангелы, ангелы”.
Когда я произношу эти слова, они для меня наполняются великой грозной реальностью. Я была бы в отчаянии, если бы стала думать, что это лишь образы фантазии Ареопагита и все вместе неудовлетворимая потребность человеческого разума в стройном оформлении мира, неведомого и непостижимого по существу своему.
Но так уверенно произнести слово “иерархии”, как говорят, например, штейнерианцы, или “Душа мира”, как произносит это философ С.[558], – у меня нет прав. Это для меня запертая (может быть, до какого-то срока) дверь, за которой я слышу, как бычье дыхание, голоса, несомненное присутствие жизни – и при этом жизни по отношению ко мне высшей и ко мне имеющей живое, реальное – но для меня непостижимое – отношение. В такой же мере не открытое мне, как и души нации; и законы их существования, и место их в общем плане мировой истории.
Доктор Жуковский, молодой блондин с задумчивым, углубленным и в то же время открытым взглядом. Что-то во взгляде его, знакомое, далекое и уже с оттенком потусторонности, странно взволновало меня в минуты короткой случайной встречи. (Оказалось, что он психически ненормален и потусторонность его взгляда отчасти этим объясняется.) А когда мы столкнулись с ним в том же доме второй раз, хозяйка сказала ему:
– Варвара Григорьевна хорошо знала вашу маму. – А для меня прибавила: – Это сын Аделаиды Казимировны Герцык.
И тут я поняла, что взволновало меня первый раз в его лице: в глубине его мужских серых глаз как бы теплилась голубоватой лампадой мечтательная, застенчивая душа его матери. Я сказала ему об этом (в каких-то других выражениях), и он не то испугался, не то обрадовался. Через несколько минут он подошел ко мне и застенчиво сказал:
– Моя тетка Евгения Казимировна пишет воспоминания о моей матери. Не могли ли бы вы написать о ней и вот это, что сейчас мне сказали, и все, что о ней помните.
Я пообещала и, может быть, напишу о наших немногих встречах и о главном от нее впечатлении, которое в книжечке ее стихов сводится для меня к ее четырем строчкам (осень в Крыму):
Блаженна страна, на смерть венчанная,[559] Согласное сердце дрожит, как нить. Бездонная высь и даль туманная, — Как сладко не знать… как легко не быть…И как чудесно ожила Аделаида Герцык в этот час в передней Надежды Григорьевны. Метерлинк в “Синей птице” и Пиранделло (итальянский драматург) пытались свести идею воскресения мертвых к таким моментам или к длинному ряду их, когда знавшие и любившие того, кто умер, интенсивно живут его образом, ощущают умершего как живого.
Для меня это не воскресение, а реальная встреча с тем, кто не умирал, но в какой-то миг стал для нас невидимым и недосягаемым в прежних формах общения.
Ночь. 12-й час
Немцы бросают зажигательные бомбы на Париж. Может быть, они попали уже на Лувр, на собор Парижской Богоматери.
О людях что уж говорить! Это муравьи под железным сапогом Войны. Это столько-то тысяч убитых в газетных реляциях, столько-то раненых. Поток беженцев. Ни сила воображения, ни здравый смысл, ни совесть, ни человечность тут не имеют никакого голоса.
15 июня. Снегири
Утро, и не серебряное, а по-октябрьски серое, с мокрой землей, с нависшим дождем.
У Рейзена – такой есть баритон в Большом театре – камин из какого-то необыкновенного камня, гобелены, панно. И у всех других “мастеров искусств” (так называют наш поселок) – такие же роскошные прихоти – у кого какие. И у всех почти авто, немецкие овчарки. В качестве таких же “мастеров” привольного и покойного отдыха примкнули к поселку именитые профессора медицины – Фромгольд, Фронштейн, Герцен, Фельдман.
Балованные, оранжерейные дети их (у большинства) ни в чем не знают отказа. И тут же, у ворот одного из сильных мира сего, вижу вчера в сумерках: стоят над лужицей в неописуемо-фантастических лохмотьях два мальчика – один лет шести, другой лет трех. Босиком, несмотря на очень холодный вечер. (Все мастера искусства и их прогенитура в драповых пальто, в калошах.) Оба малыша тощие заморыши, но лица милые, кроткие. В руках какие-то непонятные железки, связанные бечевкой. Пристально вглядываются в лужу, в зеркале которой проплывают клочки облаков, красноватых от последних лучей догорающей зари. Спрашиваю: “Что вы тут делаете?” – “Птичек будем ловить”. – “Где же они?” Старший таинственно указывает на лужицу, в глубине которой пролетают отражения запоздалых ворон.
– Где же вы живете?
– Вот здесь, – мотнул головой на одну из торжественных вилл, – папка сторож.
Дача театрального “мастера искусств” с крупным именем. Там есть кроме “мастера”, очень, правда, занятого, пожилая, ничем не занятая жена и у них двадцатилетний сын. Почему она не видит, почему может выносить рядом с собой эти жалкие отрепья, эту босоногость детей своего сторожа. Что случилось с ней, откуда эта слепота и жестокосердие? По виду это обыкновенная, туповатая женщина, но совсем не злая, скорее добродушная…
И все они – мастера и мастерицы искусств – почему из года в год могут выносить рядом со своими палаццо полуразвалившуюся хибарку, где живет бухгалтер их конторы (Екатерина Андреевна Дорина). Время от времени она говорит на собраниях о том, что у нее дует из-под пола, что дымит печь, что картофель в большие морозы этой зимы промерз насквозь в комнатушке, где она спит. В ответ кое-кто сентиментально жалеет, кое-кто обещает (ложно) предпринять меры, но большинство отмалчиваются. А ведь большинство не злые люди и не все поголовно скряги.
17 июня. Дождливое утро. Духов день
Пятнадцать лет тому назад в Киеве в этот день мы говорили с моим другом Людмилой о таком храме, который был бы где-то высоко на горе, с хрустальным куполом, без икон – о храме во имя Духа святого. Туда приходили бы в белых или голубых одеждах. Там непременно был бы орган и такие песнопения, такие возгласы, которые относились бы к Духу святому. Из ныне существующих молитв пропел бы хор “царю небесный, утешителю, душе истины”. Прочли бы дивную молитву Симеона Нового Богослова. Может быть, часть ее – “едиными устами, единым сердцем” пропели бы или прочли все, кто в храме. В храм этот пришли бы только те, кто, как в элевзинских мистериях, готовился к этому дню какой-то срок – не меньше года. Говорила все это я. Собеседница моя возражала. И может быть, она была права. В этой моей мечте много эстетства и “гора Гаризин”[560]. И не исполнились ли времена и сроки, когда поклоняться Богу надо “не на горе Гаризине, а в духе и истине”.
Трудно тем душам, через которые совершается ломка старых форм и чуть намечается созидание новых. Тут примешивается много узкоиндивидуального. Но всегда это – не для одного какого-то индивидуума, всегда это момент истории религиозного становления в человечестве, кризис религиозного сознания.
42 тетрадь 21.6–6.8.1940
2 июля. Ночь. Снегири
Какая для меня всегда радость, когда взмахнет крыльями и вырвется из сетей быта и некоторых собственных свойств крылатая (но вечно сетями опутанная) душа Аллы. Я не умею любить ее, когда она очерчивает себя куриным кругом женски-театральной колеи: сын, муж, театр. И пребывает глухой и жесткой ко всему остальному миру.
Но не значит ли, что я люблю ее, если я так – до слез – могла радоваться, когда по дороге на дачу, в машине, она рассказывала: “…прохожу по нашему переулку и совсем случайно взглянула вверх и вижу – облокотилась на подоконник М. (маленькая актриса их театра, проболевшая больше полугода ревматизмом и другими недугами). Кричу ей: «Анна! Ну, как ты?» Она вместо ответа закрывает лицо руками – плачет. Я ей кричу: «Анна! Перестань, ну перестань. Что ты? Я к тебе сейчас зайду». Зашла. Узнаю, что с мужем разрыв. Поправилась, но не совсем. В санаторий путевка есть, а места нет. Про мужа ей говорю: – Об этом потом. Мало ли что в жизни бывает! Сейчас у тебя на первом месте должно быть здоровье и сын (у нее мальчик 10 лет). Его надо в лагерь на лето. Оказывается: тоже места нет. Я к телефону: «Для кого же тогда места, как не для мальчика, у которого больная мать и нечего есть». А есть правда почти нечего. Словом, где по телефону, где сама съездила, устроила и ей санаторий, и мальчишке лагерь, и театральный обед на двоих. Она плачет, говорит: «Алла! Тебя сам Бог ко мне послал». А муж тут же, перепуганный, как заяц. От меня прячется. Я его так, как будто его нет совсем. До чего же приятно, когда так все удается – точно и на самого какое-то счастье свалилось…” (Счастье ощущения живой жизни собственной души.)
8 июля
Природный вид “откровения”. Опыт личный.
a) В семилетнем возрасте образ недотыкомки – тот, который встретила позднее у Сологуба. (У меня без этого названия – просто серый, шершавый, но одушевленный особой жизнью живущий шарик, с которым лучше не встречаться поэтому в сумерках, он появлялся в связи с сумраком, пробегая по двору, я перепрыгивала время от времени через него, не скажу точно, видела я его реально зрительно, “галлюцинаторно” или как мысленный образ.)
b) В 10-14-летнем возрасте отношение ко всем деревьям нашего сада как к человеческим существам, принявшим только растительную форму жизни. В частности, настолько яркое ощущение души старого ореха, что могла возникнуть к нему пылкая привязанность. Зимой болезненно ощущалось за него, как ему холодно. Осенью засушивались листья с его веток, чтобы сохранить и возобновлять с ним близость (его запах воспринимался как дыхание его души). Если бы его срубили, в то время это было бы не меньшее горе, чем потеря друга. В Сергиеве (через 50 лет) это восприятие души древесного царства ярко пережилось однажды на рассвете: весь сад глянул в душу задумчивым, зеленым, пугливым взглядом дриады.
c) В кудиновских лесах (возраст за 30 лет) – определенный зрительный образ, возникавший при неожиданной тревожной перекличке птиц, летящая через лес низко над землей молодая женщина в зеленом одеянии, с зелеными глазами, с зелеными волосами. В каждом лесу и всегда ощущение затаенного присутствия стихийных духов. О том же говорила однажды и Машенька Кристенсен. Она прибавила: “Оттого я люблю ходить в лесу только опушкой. Там «их» меньше. А в лесу всегда немножечко страшно”. Флоренский, Ремизов безоговорочно принимали существование леших, русалок, домовых, оборотней. Так же ощущала стихийных духов и души деревьев, особенно сосен, Елена Гуро.
Между прочим, душу Луны, встречу с Луной, мгновенье реального общения с душой Луны я пережила однажды, когда лучи ее разбудили меня и осознались как взгляд (с оттенком некоторого страха, как перед новизной, так и перед силой, порожденного ярким взглядом ощущения). Это же повторилось ночью на днепровских отмелях. Ощущение было менее интенсивное, более разлитое, но и более жуткое, похожее на колдовство. Стихийных духов – не темного порядка – мы слышали несколько раз вместе с сестрой, как музыку, определенную – несколько странную мелодию, точно врывавшуюся откуда-то для того, чтобы облететь вокруг нашей комнаты несколько раз. Это бывало после (или во время) разговоров на темы мистического характера.
Похожую музыку мы услышали однажды вместе с Ирисом ночью тоже после разговора о “заумных вещах”.
“Откровения” темных сил. Свой и чужой опыт.
а) Страхи перед близостью и возможным нападением темной силы.
Такой же страх испытывали в разное время и в разном возрасте многие из лиц, известных мне (моя мать, бабушка, Н. Н. Кульженко, многие дети). Сережина покойная тетка Шура, покончившая с собой, когда ей было 17 лет, указывала иногда, по словам Сережиной матери, в какой– нибудь темноватый угол, говоря:
– Разве вы не видите, там черт стоит.
Моя сестра Настя, еще до психического заболевания, видела темную силу в образе неизмеримо огромного отвратительного лица с челюстью, отвисшей “в пропасть, в вечность”.
Отец, под конец пребывания в монастыре, где прожил много лет, во время тяжкого душевного кризиса увидал ночью прильнувшего к стеклу окна злобно хохочущего дьявола (окно было на втором этаже).
В сергиевские дни темная сила на мезонине, где я жила, ощущалась мной и как невидимая, но несомненная реальность (я могла бы указать, где она). И как звуковое, ритмично стучащее проявление (чему свидетелями были и Соня Красусская и Денисьевна). Однажды – как будто огромная толстая птица пролетела несколько раз вокруг комнаты, шлепаясь в потолок и в стены. Я зажгла свечу. Ничего не было видно, но эти шлепающие звуки продолжались.
Елена Гуро слышала “отвратительный писк” ломившихся к ней “исчадий зла”…
Рассказ одной сергиевской монахини очень плотского “устроения”.
“Вот вы, Варвара Григорьевна, как человек светский и к тому же ученый, в бесах, наверное, сомнение имеете. А у нас в монастыре не только нам, манатейным, но и самой незначительной чернице они являлись. Расскажу вам хоть бы про себя. Смолоду, конечно, больше других бесов нас всех блудный бес искушает. Были и мне от него искушения. Больше в сонном мечтании, правда. А наяву только три раза. Один раз (я тогда послушницей была) пошла я на чердак, белье вешать, – ан, бес тут как тут: растарлычился, руки, грудь мохнатые, лицо красное, как у пьяницы, рога невелики – так, вроде шишек еловых на темени, а язык вывален наружу чуть не до груди. И лапами растарлыченными к себе манит:
– Подь сюда, монашенка, подь сюда. Никто не увидит.
А я как закричу: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», – так снизу ко мне из прачечной все черницы на чердак повскакали. Думали, какой лиходей на чердак забрался. А я ни жива ни мертва, говорить не могу, только в угол им, где батюшкино белье висит, показываю (батюшкино отдельно от нашего стиралось). Спрашивают: «Что ты, Мотя? Что ты?» А я им: «Не видите разве, кто там, в углу растарлычился?» – «Да никого нет», – говорят (а сами крестятся). Тащут меня – «подойди поближе, тебе это помстилось». Подошла я и вижу, что ж бы вы думали? Батюшкины кальсоны, а сверху, где бороде быть, пакля из-за балки понависла. Ну уж, а морду-то, ясно, бес сюда пристроил. Они рады воспользоваться. Тем более – одна я была. И правило в эту ночь, признаюсь, поленилась прочитать.
Второй раз: идем мы с черничкой Анютой бережком с купанья. А у нас по реке ветлы огроменные, старые. Иная полречушки шапкой накроет. Время под вечер. Смотрю я на такую ветлу, и что ж бы вы думали – солдат в полном обмундировании, за ветку уцепился и качается, а сам на нас зубы скалит. Усищи в аршин. Я к Анюте: «Девушка, видишь? Что ж это такое?» Она: «Где? Где?» – «Протри глаза, – говорю ей, – и смотри: солдат во всей амуниции и на нас зубы скалит». – «Это ветка», – говорит. – «Хороша ветка». Тут она как крикнет: «Вижу, вижу, да в какой он амуниции, он в чем мать родила». И правда. – был в амуниции и вдруг стал нагишом. Перекрестились мы да бежать. А он сзади – «ги-ги-ги!» Да бултых в воду. Оглянулись – собака плывет. Солдата как не бывало (да и откуда ему в монастыре нашем быть). Явно бес для искушения солдатом прикинулся.
В третий раз – ходила я к игуменье после всенощной благословляться утром – на Петровке это было, поговеть. От игуменьи идти, такой у нас вроде летнего коридорчика хмелем обвитый переход к нашему корпусу. Иду это я и вижу – навстречу мне козел черный, черный, как вороная лошадь, глаза как свечки. И одним глазом на меня подмигивает и ногой стучит – поперек дороги стал, да как фыркнет, а потом повернулся, да на дыбы, да ко мне на задних ногах этаким франтом идет, а передней ножкой подбоченился. Я как крикну: «Ах ты проклятый!» А он мне: «Так что ж, что проклятый! Пойдем да погуляем». Плюнула я ему в харю и три раза «свят, свят, свят» прочитала. Он свистнул и сквозь землю провалился. Только как будто жженой шерстью запахло – опалила его молитва моя”.
Все эти три опыта полны психологизма и, может быть, истерической фантазии. Но ведь могли проникнуть сюда и темные силы (если допустить их существование). Могли именно благодаря подходящей настроенности этой “монашки”.
14 июля
Всю жизнь идет со мной рядом репутация ведовства. Смолоду “belle sorcière”[561](как назвал меня один из приколдованных). Потом просто sorcière. Теперь – старая колдунья. Но, как это ни странно было бы услышать создававшим мою колдовскую репутацию, – я не только не “колдую”, но иногда изо всех сил противлюсь тем силам, во мне живущим, которым хочется “ткать паутину свершений из огня моего бытия” (из одного стихотворения моей молодости). Особенно теперь, в старости, когда до конца осозналась тщета и опасность “своеволия” там, где ткутся нити человеческих судеб и в общемировом пути, и в каждой отдельной человеческой жизни. Когда я говорю внутренне или вслух: “я так хочу” для кого-нибудь из близких или далеких, или целых народов, или для себя, само собой прибавляется из глубины моего существа: “если такова твоя воля, Отец”.
21 июля
Была Алла – как большая розовая роза – центифолия или как даже розовый, пахнущий слегка розой пион. А глаза были детские и в лице девическая чистота. А рот скупой (первый раз это заметила). Маленький, своеобразно красивый, с чуть выдающейся нижней губкой – и скупой.
Учитель Алешин, черно-смуглый юноша, полуармянин, полурусский, то задумывался о своей горькой доле (его с осени должны взять на военную службу, жена ждет ребенка, он – кормилец семьи), то, выходя из задумчивости, начинал пристально вслушиваться и всматриваться в окружающее. Иван Михайлович сидел побледневший, с опущенными мускулами щек, с жалостным и усталым выражением в глазах, с розовым Аллиным платком на плечах. Алеша исправно ел, но весь ушел в созерцание мысленного образа невесты и в воспоминания о прогулках и всей яркой лирике истекшей недели.
Бабки, как две старые совы, тесно рядышком сидели на конце стола у самовара. Шел разговор – два разговора, как всегда в застольной беседе с гостями, один – словесный, другой – безмолвный. Причем, и безмолвных – два: один – голос даймона, голос высшего “я”; другой – закулисная, бытовая забота или самокритика и критика присутствующих.
Разговором, как всегда, овладел Сахновский. Развалисто, как римский патриций времен падения, погрузившись в кресло (и профиль, кстати, римский), затрагивал тему за темой о международной политике, о Гитлере, о нашей раздетости-разутости, о театральных делах. Артистически изображал Немировича: “Если б его спросить о предстоящем сезоне, отвечает: я отдыхаю, я здесь ни о чем не думаю. В четырех местах (у него большая дача) играю в покер – наверху, внизу, на террасе и в саду”.
И когда Сахновский все это рассказывал, я слышала наряду с его сочно звучащим голосом другой – раннестарческий, о том, что мучает астма (“не грудная ли жаба”), что тянет к спиртным напиткам – и запретили врачи алкоголь, что надоела глупая, жирная жена и “хорошо бы тут, на даче, видеть рядом с собой в летнем дезабилье такую-то молоденькую актрису или студентку”. И за этим басовые аккорды органа:
Requiem eternal[562], – от грудной жабы не мудрено задохнуться в каждые последующие полчаса. И жизнь прожита неряшливо, чувственно, в халате. И рядом с женщиной, которая давно отталкивающе неприятна. И это, и многое другое прикрывается лицемерием и прорывается скифской грубостью. И сын неудачный, изнеженный, жуир и тоже с астмой в 20 лет. Теперь мучается на военной службе. И то и дело в госпитале. И все вместе трын-трава. И это ужасно.
И у крашеной жены, заинтересованной сардинками и о них говорящей, да еще – о собаках, звучала над этим тоска о единственном сыне, бессильное желание для него тех же благ – вкусных обедов, клубники, купанья, летней неги, какими наслаждаются родители и каких он лишен в суровом режиме казармы. И еще глубже: молодость ушла, жизнь уходит, муж внезапно может умереть каждую минуту, сына с его ожирелым сердцем загонит в гроб казарма – за что тогда ухватиться… Хна? Белые летние туалеты? Купанья дряблого тела в Истре? Ботвинья? Шоколад? Любимая собака (и она ведь может издохнуть!), дача, настурции, розы. Нет! Мало, мало. Не того душе нужно, и не за что ей ухватиться перед разверзающейся бездной.
С обычным спокойным, талантливым за столом, как и на сцене, юмором подавал реплики и сам что-то летучее, анекдотическое говорил, устало опустившись в кресло, но громко и, как всегда, “живиально”, милый Иван Михайлович. И слышалась мне за этим неусыпная забота о каком-то там затвердении и нагноении, о возможной операции, о горе депутатских дел, т. е. писем, растущих на столе у секретаря, о необходимости их читать и невозможности ничего сделать из того, о чем там просят. И третий голос говорил мужественно и сурово: жизнь пришла к концу. И нечего за нее хвататься. Ты не хочешь операции – это хорошо. Подумай прощально и строго обо всем, что было твоей жизнью. Позаботься о первой жене и о второй жене, и о балбесах сыновьях. Примирись, что жизнь на этом свете не вечна. Примирись.
Оживленно что-то рассказывала, кого-то копировала, заразительно смеялась и угощала гостей Алла – но была под этим мысль: “1-го у Алексея экзамен”, и “задумал жениться”, “сколько хлопот”, и “тревожно, хоть и надо радоваться”, и “тревожно, что не расходится затвердение у Ивана Михайловича и падают его силы”, и “хорошо бы съездить в Таллин – запастись по дешевым ценам одеждами для себя, для Алексея”, и “комнату отцу Алешиному надо создать в этом же месяце – иначе где же молодые разместятся.” И по-совиному тесно сидящие бабки, внутренно разобщенные, что-то произносили, что-то ели, но одну из них, как туча мошек, осаждали неизбывные домашние заботы и злобы дня. А под этим: “нет сил уже на это кружение” и “все надоело”. Другая, давно уже и по частой глухоте, и по одичанию, и по занятости своими мыслями, изображающая в этих случаях “лицо без речей”, молчала и томилась (“и сам я, и все – не то, не то”).
24 июля. Снегири
Поздний вечер. Темный. Надвигается гроза. На закате была одна туча необыкновенной красоты: темно-голубая, длинная, на четверть небесного купола, а верхняя часть ее вся в белоснежных, отливающих жемчугом кудрях – из-за них лучами прожектора солнце озарило небо и другие облака. А под этой темно-голубой тучей зарделась потом ненадолго алая, золотыми продольными стрелами прочерченная полоса.
Сон, по чувству реальности подобный яви. Л. И. Шестов вошел в квартиру (известную мне только по снам). Он приехал откуда-то. Ненадолго. Вошел в дверь – молодой, каким я знала его больше 40 лет тому назад. Я лежала на кушетке, тяжелораненая. Мне прострелили (где и почему – не помню) навылет живот и поясницу. Я видела, что он ищет кого-то глазами, но не была уверена, что меня. У меня не было сил позвать его, не было голоса. Но я подумала: можно притянуть его взглядом. И стала пристально смотреть на него. И он вдруг повернулся и обрадованно подошел, и опустился на колени у моего ложа, целуя мою руку; и я с любовью и радостью целовала его голову.
28 июля. Ночь. Снегири
Увезли Ивана Михайловича с температурой (39) в Кремлевку. Садился в автомобиль в полусознательном состоянии. Отекшее, изжелта-бледное лицо. Может быть, ему уже сделали операцию (нагноение где-то в почке). Когда так сильно заболевает человек, когда кажется, что близок к нему порог, называемый смертью, – тогда только понимаешь, в какой мере он тебе дорог. И встанет он во весь рост со своим настоящим, не житейского порядка лицом. (У Лермонтова об этом: “Смерть, как приедем, подержит мне стремя; слезу и сдерну с лица я забрало”.)[563]
43 тетрадь 7.8-14.10.1940
13 августа. Москва
Воздух, отравленный бензином, антрацитом, испариной четырех миллионов плохо вымытых человеческих тел. Грохот и лязг строительства, гудки автомобилей. Босоногие, грязные, сопливые заморышики-дети у амбразуры ворот и в каменных квадратах душных дворов, лишенных травы и деревьев, на оголенных улицах, бывших прежде бульварами. Очередь у газированной воды, у ларька с мороженым, у пива. Очередь везде, начиная с картофеля и молока и кончая конвертом на почте. В переулках полутьма, пьяные окрики молодежи, визги девочек.
11 сентября. Снегири
Утро. Еще никто не вставал. Море тумана нахлынуло на луга, дошло до края усадьбы. Леса, который недалеко за лугом, совсем не видно.
Как странно близки бывают в семьдесят лет детство, юность: точно спаивается звено цепи, идущей в бесконечность. Звено здешней жизни – на “зеленой звезде, называемой Землею”. В одном из моих старческих стихотворений об этом – “в кольце начала и концы”.
Вместе с туманом, когда я открыла занавеску, припало к моему окну то, Бог знает в какой дали затерянное, туманное утро в степи под Воронежем. Мы ехали в крытом экипаже с доктором Шингаревым. И во мне, и в нем расцветало в ту осень – повторным, однажды заглушенным уже – расцветом чувство. Глубокое, благоуханное, горестное. Оттого горестное, что был он женат и честно относился к жене и любил двух крохотных детей своих. В невольно тесной близости под крытым верхом экипажа повторилось для нас (и уже больше никогда не повторялось) жуткое, ни словами, ни жестом не тронутое блаженное томление, три года перед этим пережитое. Тогда, на возвратном пути из Парижа, мы так же невольно были придвинуты друг к другу теснотой вагона. И так как это была вторая бессонная ночь, решили поочередно спать на плече друг друга на моей маленькой думке. С какой странной осязательностью вспомнилось касание русой его шелковистой бороды, звук дыхания, стук сердца, которое 22 года тому назад перестало биться. (Этого человека зверски убили в 1918 году.) Не надо думать, что в живости этого воспоминания есть и то телесное томление страсти, которое в молодости, верно, было. В старости оно помнится иначе – в потрясающем и расширяющем своем для души значении, без плотского привкуса. Да и тогда потрясение души и расширение ее до пределов бытия было так велико, что плотское переставало уже быть плотским.
В этот вечер, в Воронеже, я припоминала его слова о прелести “туманных очертаний дали”, о “влаге слез”, которыми напоены ранней осенью степи, и у меня сложились строчки, которые я сейчас вспомнила после тысячелетнего забвения:
И даль полна туманных очертаний, И воздух напоен недвижной влагой слез, У сердца дали нет. И нет воспоминаний. Оно в стране невоплотимых грез — Блаженных грез, загадочно-неясных, Коснувшихся пределов бытия, Земного чуждых и прекрасных, Как небо и душа Твоя.12 сентября. Москва
Если допустимо сравнивать то, что называется душой (нечто по существу необъятное и до конца непонятное), с чем-то протяженным, пространство души окажется занятым на три четверти пра-пра-прадедовским (и родительским) наследием, и лишь четверть, а в иных случаях и в десять раз меньше окажется принадлежащим личной, а не родовой душе человека, его личности. И как надо быть настороже личной душе от воздействия родовой души с ее наполовину зоологическими законами и обычаями и привитыми историей и средой свойствами. В свободолюбивом человеке вдруг проявится раб, в добром и благородном – жестокий эгоист, в тонко чувствующем – пещерный дикарь…
6 октября
Известие о смерти Сережиного дедушки.
Как всегда, смерть до конца проявила внутренний образ человека. Во весь рост встала рыцарственная фигура Sans peur ni reproche.
Всю жизнь служил верой и правдой идее, которая вмещала истинную, для него реальную, на земле осуществимую правду. В свое время отдал остатки земли “народу” (был в партии народных социалистов). Сидел в тюрьме за речи, расшатывающие трон (был секретарем во 2-й Думе). Как известный экономист был приглашен в Госплан. Несогласный с некоторыми сторонами в постановке дел, ушел, рискуя вызвать к себе недоверие и опалу. В ежовские времена был оторван от любимого дела – работы над чаадаевским архивом, доставшимся ему по родственной линии. Несмотря на свои годы – что-то около 80-ти – был выслан, куда – неизвестно. И там, как и за всю жизнь, можно быть в этом уверенным, не покривил душой, не изменил своей правде. На “поминках” прочли написанный им 10 лет тому назад набросок (очень искренний и яркий): “Смерть Чаадаева”, в котором чувствуется его личное, с чаадаевским совпадающее, высокоодухотворенное отношение к жизни и к смерти.
44 тетрадь 15.10–14.11.1940
22 октября. Остоженка
Умерла (17 октября) Любовь Яковлевна Гуревич[564]. Человек с богато одаренной, теплой душою, с обаятельными свойствами ума и характера.
В начале революции у нас были годы личной близости. Мы виделись нечасто (я жила в Сергиевом Посаде). Но при каждой встрече ощущали взаимное понимание и симпатию. У меня со дня, когда я узнала, что ее нет уже в Мансуровском переулке и нигде под “солнцем живых”[565], чувство личной утраты. Оно смягчается, просветляется и утешается тем, что над ней стоит тот образ этой прекрасной души, который после ухода ее из-под здешнего солнца ощущается еще действеннее и торжественнее – как навеки живой. И еще тем, что нам, ее сверстникам, предстоит очень скоро перейти туда, куда перешла она. И к этому прибавляется грустное сознание, что, если бы она продолжала жить в Мансуровском переулке, мы бы продолжали не видеться с ней, как это было во все годы, после встреч в 1920–1923 годах. Старость, немощь, заросли тропинки. Но как ясно, что от этого не умерла душевная близость, что не перестала быть дорогой эта милая-милая, светлая женская душа. Хочу для детей и внуков вписать сюда из отрывков ее записок то, чем она мне особенно родна и дорога.
“…В старших классах гимназии мучительно переживала период религиозных сомнений, не переставая быть в основе религиозной, презирая «обыкновенную» жизнь.
И потом меня волновали вопросы религиозные и нравственные, а политика, гражданственность интересовали лишь как форма, в которую облекается нравственность.
В двадцатилетнем возрасте я исповедовала религию непосредственного чувства, просветленного отречением от личного центра тяжести, очищенного деятельной любовью к ближнему и ко всему человечеству. Я была полна доверием к Провидению и ощущала тесноту земной атмосферы для человеческого духа («на земле душно. Земля такой маленький уголок вселенной»)”.
И уже в годы старости записки кончаются так:
“Жизнь, несмотря на все, что творится в ней страшного и уродливого, по-прежнему, как в самые молодые годы, кажется мне величественным полетом «к неизвестной человеку цели»”.
Лида Случевская о похоронах Любови Яковлевны: “В крематории, вся в белом, в белых цветах, под прозрачным вуалем, она была такая светлая, такая умиротворенная и такая обновленно юная-юная, какой душа ее оставалась до самого конца (она скончалась в 74 года). Она опускалась в люк, как в Неведомое, через объятия Матери-земли и огня. Все провожавшие стояли в полной тишине, не отрывая от нее глаз, зачарованные, сосредоточенные на этом миге, как на таинстве. И вдруг оглушительно громко грянул Интернационал. Все вздрогнули, побледнели. Марии Александровне[566] сделалось дурно”.
2 ноября. Остоженка
Когда у моего отца украли на пароходе 500 рублей (все, что вез семье из своего заработка), он рассказал об этом как о неприятном, незначительном эпизоде, без всякой лирики (что мы, дети, отметили как разительный контраст с бурным огорчением матери). Мать переполошилась дня на три. Переполошилась и я, когда вытащили вчера кошелек с 50-ю рублями. Пусть на три минуты, но для души заметно, так что пришлось даже чем-то ее усмирять, чем-то утешать – пусть в течение трех минут. Но пришлось. Вот они – гены. С некоторого времени ясно различаю их в себе – отцовские и материнские. Первые мне неизмеримо ближе. Некоторые из них я отождествляю с моим “я”. Но и вторые вплелись в мое “я”, живут и действуют в нем – то как такой вот переполох из-за портмоне с 50-ю рублями, то, как душевная робость, как бы ощущение какой-то бесправности, то, как обидчивость. У матери было трудолюбие и крепкое чувство долга. И как жаль, что этих “ген” она мне не передала (они ярко стали действовать в покойном брате Николае после двадцатилетнего возраста).
Как трудно выбраться из химических данных наследственности. Построить из них новую комбинацию – личность – можно лишь тогда, когда пробудится четкое духовное устремление к прообразу своему, воля к самопреодолению. Творческая воля к самосозиданию. Это было в Фиваиде[567], было у подвижников православных и католических монастырей. И это сознательная или бессознательная задача каждого человека, начиная с первой ступени духовного развития.
6 ноября
Мысли за шкафом (с грелкой на печени).
О рабстве.
“Человек – раб и мученик по своей природе и больше всего боится свободы”.
Сколько на свете людей, которые не дерзают – не говорю уже – по-своему жить, но и мыслят и даже чувствуют не по-своему, а как велит среда, исторические обстоятельства, диктатура господствующих в данный период, в данном обществе, идей.
Особенно же крепко и глубоко сидит инстинкт рабства в женщине. Может быть потому, что в плотской любви женщина от мужчины зависима и поневоле покорна. Эта ее зависимость и покорность передается и в союз душ: почитание силы (иногда несуществующей в мужской натуре), рабье прислушивание (рабье, если оно не любовное) к желаниям господина, подчинение его вкусам, рабий страх не угодить, рассердить.
Все это улавливаю в Людмиле[568], по существу гораздо более сорганизованной, цельной, этичной и волевой, чем ее мальчик-муж Алеша.
О робости.
Анна сказала недавно: “У вас есть какая-то странная робость в некоторых случаях, робость перед учреждениями. И перед некоторыми людьми. Например, перед Аллой”. Что такое робость? Нет ли и тут элемента рабьего порядка – может быть, капли крепостной крови? Не знаю. Вернее – мимозность душевных тканей, страх грубого прикосновения. А в учреждениях – мистический страх перед царящим в них отношением к людям вне их личности.
За последние три дня шесть женских лиц с их судьбами прошли через поле моего сознания. И я все думаю о них – то об одной, то о другой, то обо всех вместе. Совершают свой путь как будто в стороне от нашей дороги те или другие души. Мы называем их “знакомыми”. Но настанет день, когда они делают несколько шагов рядом с нами как друзья. И это волнует и будит чувство ответственности (если они хоть чуть приоткрыли лицо своей души и своей судьбы). Будят то, что испытал король Лир в бурную ночь в степи: “Нет виноватых. Я заступлюсь за всех”. Где, когда, перед кем это будет, знает один Бог – мне же ведомо лишь одно, что я не за одну себя отвечаю, что я крепко связана со всеми, кого встретила “в степи мирской, печальной и безбрежной”.
…В хмурый, холодный и мокрый день со мной поровнялся и поздоровался приветливо малознакомый женский голос. Оглянувшись, увидела Литовцеву, жену Качалова[569]. И почему-то ей захотелось узнать, где и как я живу, чем занята и хорошо ли мне у Тарасовой. И захотелось рассказать о своей хромой ноге, которая давно, еще в молодости подкосила всю ее театральную карьеру. Я вспомнила Элину из “Драмы жизни”[570], стройную фигурку в огненно-красном платье, в шляпе с красной вуалью. Ее “тахи-тахи, тахи-тахи” – “это танец с бубном”. И вскоре после этого стрептококки гриппа бросились на ногу, повредили кость – и не было уже больше танца с бубном на сценическом поприще для красивой, молодой, честолюбивой, жадной к жизни актрисы. Остался муж, его измены, отраженная слава его имени. Наряды, которые не искупали впечатления хромой ноги. Сын[571], которого не сумела воспитать, режиссерство, в котором неизбежны неудачи, так как Нина Николаевна совсем не режиссер, а просто актриса. На лице отпечаток рассерженности, неутоленности, но так она тепло и почти интимно расспрашивала Мировича, как будто он был затерявшийся и найденный в толпе милый ей человек. И так доверчиво рассказывала о больной ноге, о глухоте, от которой упорно лечится и не может вылечиться, и ей обещают, что стрептококки из уха могут попасть и еще куда-нибудь – в глаза, в мозг, мало ли куда. Так рассказывала, как будто только со мной можно было об этом поговорить, а больше не с кем. Кто знает? Может быть, и не с кем. У мужа свои болезни. И всего интереснее ему коньяк, который ему запрещен и он прячет его от жены в одеколонном флаконе, в кармане пальто или в другом заветном месте. Интересны ему остатки его славы, его собака Джим; может быть, какая-нибудь балерина, – но вряд ли жена, пожилая, хромая и у которой, по словам работающих с ней, раздражительный, нескладный характер. А Дима, как и все взрослые сыновья, эгоцентрично живет своей мужчинской жизнью и, вероятно, ни разу не задумался, что делается во внутреннем мире старой матери.
Инна[572]. Фантастическое существо, живущее наполовину в грезе, в сказке и то в немотивированной радости жизни, то в ужасе перед ней, но всегда с братским чувством к человеку и с нежным дочерним чувством к Мировичу (также и к Анне). Не видимся мы иногда по полугоду, иногда по году, а были промежутки и в несколько лет за тридцатилетнее знакомство. И после каждого перерыва ее голос звучит в телефон так, как будто мы расстались на несколько дней и она успела соскучиться о человеке, общение с которым ей нужно каждый день. Помню ее семнадцатилетней девочкой с огромным руном пепельно-золотистых кудрей, с репутацией исключительной талантливости (в студии Художественного театра все восхищались ее отрывком из “Грозы”). Анна и Пантелеймон Романов водили ее с собой в повышенного типа столовую обедать (она жила одиноко и терпела во всем нужду, впрочем, терпела сказочно-беззаботно и даже весело). Потом ее жизнь ломалась пополам несколько раз. Были брачные встречи с не стоящими ее мужчинами. Были ни на что не нужные годы в камерном училище под опекой одного старика, память которого она, впрочем, и до сих пор чтит. Потом Semperanto[573] с его оккультными трюками и ломкой души и нервов. Короткое замужество с каким-то доктором; рассталась с ним из-за не пришедшего от него вовремя письма. И, наконец, восемь лет тому назад – муж – спутник и друг, наконец-то честный человек, с крепкими моральными устоями. Сын, желанное дитя, с чудесной улыбкой, по-видимому богато одаренное. Но “завистливы боги к смертных блаженству”. У мальчика (теперь семилетнего) оказалась какая-то сложная нервная болезнь, нечто вроде пляски св. Витта. Он в санатории, где с ним производят всякие эксперименты, от представления которых мать не спит по ночам (извлекают из позвоночника мозговую жидкость, впрыскивают то одно, то другое. И не позволяют в течение месяца видеться).
Мария Михайловна[574] – женщина за 50 лет. Лицо серое, рыхлое, губчатое, похожее на древесные грибы, и оттопыренные серо-лиловатые губы формой напоминают те же грибы; редкие зубы; мало волос. Об этом пишу лишь для того, чтобы показать, как мало все это значит и для самочувствия самого обладателя такой наружности, и для других людей, которые быстро примиряются с первым впечатлением сильной некрасивости. И скоро начинают находить ее привлекательной как оболочку, сквозь которую через умные и добрые собачьи глаза проглядывает чистая, добрая, мужественная человеческая душа.
Во “время оно” была она “церковной сестрой”. Тогда это не было еще “одиозным”. Потом служила в сахтресте. И случилось так, что сосед по комнате, когда она проходила в профсоюз, пришел на заседание и заявил об этом ее пятне. Его заявление на 10 лет отсрочило для нее профсоюзную бумажку со всеми последствиями ее отсутствия. Вскоре после этого события жена этого соседа внезапно заболела ночью – оказалось, преждевременные роды. Муж побежал за врачом, за извозчиком, а жена осталась одна. Мария Михайловна услыхала ее вопли и стоны и вошла к ней. Та испугалась – до того ей показалось невероятным, что человек, которого они с мужем предали, мог зайти к ним с доброй целью. Но она была так беспомощна и так страдала, что, не протестуя, дала одеть себя в ожидании извозчика. Мужа не было целый час. А когда он с врачом приехал, Мария Михайловна уже приняла, омыла и спеленала младенца. Доктор потребовал, чтобы мать немедленно унесли из комнаты, где ремонтировалась печь и было пыльно и грязно. Соседи не смели заикнуться об этом Марии Михайловне, но она сама предложила свою комнату, выселила своего сына-школьника в коридор, а сама оставалась 9 дней с неожиданными гостями. Причем с ней не разговаривали ни муж, ни жена. Выбираясь, не сказали спасибо. И потом много лет не разговаривали, хотя ребенок их, когда стало ему два года и больше, постоянно бегал к Марии Михайловне, и она его ласкала, и когда он внезапно заболел ночью, возилась с припарками и бутылками горячей воды. И, может быть, этим спасла ему жизнь. Благодарное чувство к ней у соседей появилось лет через 15, когда Мария Михайловна внезапно заболела (сердечный припадок), тоже ночью. Жена ее предателя, и он сам, и их дочь приложили тогда ряд усилий, чтобы спасти ее жизнь. После этого они вообще стали внимательны к ней и, как умели, выражали свое дружественное отношение. Но для того, чтобы размягчилась засуха их сердец, понадобилось 16 лет “непротивления злу” и любви к “врагу” со стороны Марии Михайловны. Какой огромной внутренней важности это по виду ничтожное дело из породы дрязг. Экзамен, сданный на “отлично”, там, где Мирович получил бы единицу.
13 ноября
В “Известиях”: Молотова встретили с необычайной помпой в Берлине[575]. И было уже 2-часовое совещание с Гитлером. Над всем этим реет апокалипсический “Конь Бледный”. Задумал он, видно, проскакать по всей планете со своими истребителями, залить всю планету кровью, населить ее ужасами голода, мора, чудовищных лишений и невыносимых душевных терзаний.
Останови разящий меч праведного гнева Твоего, Господи. Смилуйся над грешной землей. Умягчи сердца, просвети мысли, укажи пути, прямо ведущие к свету правды Твоей! Умири нашу жизнь, Господи!
45 тетрадь 15.11–14.12.1940
17 ноября
Не узнала Тверского бульвара. Не понимала несколько минут, куда и откуда я еду. Все признаки скорого отъезда в Дальний край. А впрочем, почему же он дальний, когда так он близок всем нам, людям, в особенности же тем, кому 70 лет и по ночам бухает молот склероза в ушах. По-украински об этом хорошо – “велыка дорога” – умирание, смертный час. Великая дорога (по трудности, по значительности) и самая старость. Узкий путь, тесные врата, облегчающие душе возможность передвинуть ось в духовную область.
9 декабря. Ночь
Когда-то я возмущенно запротестовала, отвечая на совет друга (Сережиного отца): “возгревать любовь”. Вспыхнули и “пропыхали” (как сказал бы А. Белый) слова: “Терпеть не могу ничего подогретого, разогретого. По-моему, это ничего не стоит. Стоит лишь то, что само возникает из самых недр души”. Я просто не понимала, о каком процессе тут идет речь, а сейчас понимаю: “возгревать” – это значит тушить вовремя, бдительно, энергично, то, что возникает в душе недоброго, осудительного, отчуждающего в сторону какого бы то ни было человека. Тогда доброе чувство – если не любовь – то зачаток ее, возможность ее само собой “возгревается”. Тушить надо тут же, на месте. (Толстовское “Упустишь огонь – не потушишь”.) Когда он станет пожаром, нужны усилия, может быть уже непосильные, чтобы его потушить. Огонь же каждого осудительного, недоброго душевного движения тушить легче. (Но пусть не думают, что “легко”. Это также работа, о которой сказал, умирая, Владимир Соловьев, – “тяжела работа Господня”.) Здесь так же, как и во всех вопросах духовного роста, нужно надеяться прежде всего на свет и на влагу того, что называется “благодатью”.
12 декабря. Поздняя ночь в театре
Что сцена! На сцене Шеридан[576] и актеры показывают и рассказывают, как злословят английские леди и джентльмены. Вильямс[577] тешит глаз зрителя великолепными сочетаниями красок и световых эффектов в лордовских гостиных, библиотеках и вестибюлях. Но потому ли, что легко и красиво и забавно все было на сцене, привлекало то тяжелое, что в партере, в коридорах, в буфете. Обглоданная старостью, но жутко бодрящаяся оплывшим и сморщенным лицом с потухшими глазами – Книппер[578]. И наклоняющиеся к ее руке, но бегущие мимо молодые мужчины, чем-то ее интересующие. Курносый, плечистый детина – не то приказчик, не то лодочник, – но в нарядной паре и с орденом за режиссерским столом. Старчески красивый, с умным страдальческим лицом, почтенный, больной не то водянкой, не то почками старик, тяжело опирающийся на палку. Он, может быть, завтра умрет, зачем ему Андровская[579] в красной амазонке, галопирующая по сцене.
С лакомыми лицами, со вставленными челюстями, редковолосые, двуподбородочные матроны, пожирающие наскоро пирожные и бутерброды. Оставшийся без места (верно, билет потерян), растерянный подросток со слезами на глазах. Он, верно, всю жизнь будет терять билеты на право входа туда, куда другим можно, и не найдет своего места. Некрасивая, большеголовая, с желтой шеей молодая девушка. Эта будет тоже без места, за флагом, за бортом. У нее испуганный вид…
46 тетрадь 15.12–23.12.1940 1.1–7.1.1941
20 декабря. Ночь
Улица.
Есть дни такие серые, седые, такие по-осеннему мокрые и по-зимнему снежные и холодные, что кажется: никогда не выглянуть больше солнцу из-под низко нависшей тухлой пелены туч. И кажется, что мир ужасно и непоправимо стар. И точно покрыт морщинами, трещинами распада и язвинами загнившей ткани. Такими кажутся дома. И те, что состарились, и те, что строятся – ненадежной кажется стройка – состав кирпичей и балок, и карточными представляются нагромождения одиннадцати этажей. И таким ущербным видится человек и судьба его на этом свете.
В диетическом магазине
В диетическом магазине шмыгают у кассы и у прилавков расторопные и умелые карманные воришки. У таких старух, как я, оторопелых от тесноты, пестроты и магазинного гула, им ничего не стоит вытащить кошелек. Особенно если он спрятан в сумке-молнии. У меня из такой сумки так увели портмоне два раза подряд. И поэтому я зажимаю с напряженным вниманием и как можно крепче бегучий запор ее. И когда возле меня вырастает с протянутой рукой худенькая фигура девяти-десятилетнего мальчика, я еще больше впиваюсь в запор молнии и опасливо сторонюсь от грозящего покушения на остатки моей пенсии. И не осознаю, бегло взглянув на опасного соседа, какие глаза, какое лицо у этого ребенка. Только испытываю болезненный толчок в сердце. И не осознаю моего сурового и отчужденного взгляда, каким я ответила на робкую, с голодной тоской в глубине чистых детских глаз мольбу, почти безнадежную; таким был и жест неопытно, неуверенно и сконфуженно протянутой руки. И бледное до синевы было лицо, и бледные, нежного и даже изящного выреза, губы. Все это я осознала после укола совести и жалости в сердце, от которого замираю на минуту на месте. А когда начинаю искать этого малыша глазами, его уже нет нигде. Вокруг меня ворочаются и толкаются только какие-то тучные мужчины с гастрономическим выражением лиц, с пакетами в руках, хозяйски суетливые. Но его лицо, взгляд, протянутая рука остались со мной тоже навеки.
24 декабря. Раннее утро
Старческая бессонница.
Впился в меня образ этой старухи в шлеме, которая опять – и уже в последний раз – приходила. Бывшая актриса. Хлопоты о том, чтобы попасть в инвалидный приют, в которых и Москвин принял участие, ни к чему не привели. Приходила “прощаться” (она приехала из Белгорода, спасаясь от голода). Алла ей назначила определенный час и обещала “поделиться туалетными вещами” (так сказала старушка в шлеме). Жуткий вид придает ей этот шлем. Обветшавшая валькирия, вылетевшая на битву с жизнью в подбитой ветром, рыжей, короткой юбчонке, в огромных мужских штиблетах, безоружная, уносимая морозной вьюгой неудач в страну голода, холода, одиночества. Ей 71 год. Просьбы, унижения, страх перед жизнью, невылазность лишений наложили на лицо ее особый штамп, которым она исключается из общества. Леонилла даже не пускала ее в переднюю, пока не приходила Алла. Она ждала ее внизу, у лифтерши или на площадке.
Алла говорит, услышав тяжелый запах одежд валькирии:
– Вам необходимо пойти в баню.
Валькирия отвечает:
– Да ведь нужно чистое белье. А у меня разве оно есть?
С тем порывом горячего, деятельного, безудержного участия, какие вдруг налетают на Аллу и срывают с души ее броню “невидения и неслышания”, бросилась она в свои комоды и принесла валькирии ворох разного белья, мыло, какой-то отрез материи и сама закутала ей голову сверх шлема своим старым, но еще хорошим теплым оренбургским платком.
29 декабря. Ночь. 5 часов. (Утро?)
“Как стая вспугнутая птиц” кружатся образы и мысли и то смутные, то яркие и жгучие обрывки чувств. Попробую нанизать их на нить сознания и понять, чего они хотят от меня, почему не дают мне уснуть.
…Необходимость и невозможность коренным образом изменить жизнь. Но, может быть, это не роковая невозможность, а только неумение? Может быть, кто-нибудь умный, умелый мог бы научить меня, как сделать это?
…Тоска о кировской комнате. Там было полуголодное существование, и в болезни приходилось друзьям “возиться”, как говорит Леонилла. Приходилось и целыми длинными периодами приживать тут же, где томлюсь теперь этой прочной формой того же приживания, но когда я уже не гостья и нет резерва кировской комнаты. Какое шелудивое слово “приживание”! От него чешется голова, горят уши и поднимается из недр души мозговая тошнота.
Еще недавно я все же считала, что в условие обмена входило мое право жить в этой семье как “член семьи”, пока не умру. Так говорилось при обмене. На днях же у Леониллы, в недобрую минуту, вырвалось соображение, что мной уже съедена до конца стоимость моей жилплощади. Кто поручится, что она не делилась этой мыслью с Аллой.
И вот уже трудно бывает, когда Алла насупится или смотрит отчужденно, глотать куски пищи за обедом. И оттого глотаешь их с подчеркнутой бесцеремонностью, хоть они и застревают в горле. Алла чужда мещанства, но она внушаема в каждом отдельном случае. И мать – одно из тех лиц, которые умеют влиять на нее. Может быть, ненадолго, но тень, брошенная ее словами (или отношением к данному субъекту), окрашивала, вероятно, не раз в мутные краски ее собственное представление. Я хочу сказать – ее прежнее, до моего приживательского стажа, представление. Дело в том, что мы обе видели друг друга всю жизнь с казового конца. И открыли взаимно неограниченный кредит. В будничном быту под одним кровом и при условии материальной зависимости старшего друга от младшего высунулся наружу и другой конец, не казовый, а тот затрапезный, распоясанный, неряшливый, настороженный, какой учит прятать английское воспитание, а русский человек (“душа нараспашку”) не умеет, не хочет, не привык прятать. Одомашнились, снизились, пропылились образы. Для меня это поправимо. Я умею чувствовать лик каждой человеческой души, и мне легко восстановить его там, где он для меня исказился или померк. Для Аллы – не знаю.
3 января Ночь. Бессонница.
…Все религии учат разграничивать преходящее и вечное. И только тогда, когда человек постигнет это разграничение, ему не грозит опасность прилепляться к преходящему, как к вечному. Тогда он по-новому принимает землю и ему можно ее целовать, как Алеша Карамазов. В этом поцелуе он соединяет преходящее с вечным, жизнь по эту сторону могилы с жизнью потусторонней.
Из древних преходящесть мира явлений отметил (за 500 лет до Р. Х.) Гераклит Эфесский – “Все течет, все изменяется”. “Pantarei””[580] – помню, как 40 лет тому назад поразило меня это слово в устах давно умершего С. В. Л<урье>. И самая мысль (она же в послании ап. Петра – “проходит образ мира сего”), и звук слова “Pantarei. И странно: говоря о предметах философского порядка, этот очень умный, всесторонне развитый человек, по природе своей властный, эксцентричный и гордый, – всегда делался робким, как бы бесправным. Он был очень богат, всегда модно и по-заграничному одет, самоуверен и самонадеян, – а цитируя какого-нибудь мыслителя, казалось, стоит на пороге его жилья, в бедном, дешевом – с толкучки – платье, не смеет войти и застенчиво созерцает золотые монеты, зная, что из всех этих богатств ему дадут двугривенный.
Однажды я спросила писателя Льва Шестова – друга этого “философа” (увы! Семен Владимирович <Лурье> был философом в кавычках): отчего Семен Владимирович, при его данных, за всю жизнь написал две философские статьи? Лев Исаакович со своей тонкой, доброй улыбкой ответил с юмористической интонацией:
– Трудно верблюду войти в игольное ушко. – И прибавил: – Творчество, особенно там, где человек ищет истину, всегда жертвенно. Во-первых – это горение, “муки творчества”, во-вторых – сосредоточение интересов не на том простом, легком, непосредственно приятном, в чем привыкли жить такие баловни судьбы. А в-третьих, чего доброго, найдешь такую истину, как Франциск Ассизский, – разденься донага и живи всю жизнь голяком.
Потому ли, что холодно (на дворе градусов 30), приходит на ум огонь как первооснова мира (по Гераклиту). Мне кажется, что огонь как первооснову чувствовал и Пушкин. Отсюда его укоризненный эпитет “хладный”…
6 января
….Страшная ночь, когда выпущенная из психиатрической больницы сестра Настя, казалось уже совсем выздоровевшая, закричала ужасным голосом: “А! Мертвые? Мертвые!” – в то время, когда я убирала елку. Это было в Воронеже. У Насти сделался буйный приступ. Ее связали, и брат Николай остался с ней, мать забилась в нервном припадке в чулан, а я помчалась под звездным сверкающим небом в больницу за врачом. Сверкал и серебрился снег пустынной площади, жалобно перекликались паровозы у вокзала. И душа силилась совместить трагическую сторону мира – жребий безумия, гибели, невознаградимой утраты – с звездным небом рождественской ночи.
И еще одно Рождество. И елка в Воронеже. У матери сильно заболели глаза, и ее положили в глазную больницу. Я и брат Николай навещали ее каждый день. И странно было приходить в опустелый дом и смотреть на эту разукрашенную елку, которую мать уже не могла видеть (она вскоре и совсем ослепла).
…Первая елка двухлетнего Сергея Михайловича. Пережитые с ним вместе восторги созерцания игрушек, привешенных к нижним ветвям, и цветных свечек, когда их зажгли. Он радовался им благоговейно, как огнепоклонник, и вопил от переполнения чувств: агго, агго! (огонь), указывая мне то на одну, то на другую свечу.
…Прекрасная елка на Разгуляе (устраивала художница Наташа Смирнова). Вокруг меня и Н. С. Бутовой гирлянда молодых девушек. Среди них и Алла, и Ольга… На елке голубые и синие украшения, серебро, белые цветы. Гаданья, Ольгин обычай зажигать свечку за каждого близкого ей, присутствующего и отсутствующего. Из тех, кто был на этой разгуляевской елке, “иных уж нет, а те далече”. Вскоре после того Рождества по ту сторону уже были Надежда Сергеевна и Тонечка – невеста Евгения Германовича Лундберга. И прошел через душевную болезнь, и ушел в неведомое Михаил.
…забытый сон – зачем он снится, Когда уж имена и лица В невозвратимость рок унес.7 января. Вечер. У себя за ширмой
Здесь хочу переписать записки покойной сестры моей Анастасии Мирович. Я нашла ее тетрадь среди моих старых бумаг, и мне хочется поместить рядом с моими записями об этих днях то, что она написала 50 лет тому назад, когда ей было 17 лет.
Так бывает нужно иногда тем, кто связан был в жизни любовью или дружбой, быть схороненными на одном кладбище, за общей оградой.
В тетради сестры мне попался один отрывок, где она описывает, как на рождественские каникулы с приютившими ее подругами она попала в деревню, к их родителям.
22 декабря (года нет)
Вот уже и Яблунивка[581]. В воскресенье утром мы сели на поезд, а часа в 4 этого же дня были уже в Белой Церкви. Там ожидали нас лошади из деревни. Зная, что нас едет трое, за нами прислали два экипажа. В один села я с Лелей[582], в другой – Люда.
День был пасмурный, морозный и ветреный. Белая Церковь, нечто среднее между местечком и городком, глядела неприветливо со своими грязно-белыми домишками, обнаженными деревцами на улицах и большой площадью, заставленной, по случаю воскресного дня, возами, вокруг которых кишели хохлы и евреи. Евреев было особенно много. Они, в каких-то заплатанных хламидах, продавали на каждом перекрестке в корзинах бублики и коржи.
Мы скоро проехали через всю Белую Церковь и очутились в поле. Сильный ветер как будто ждал нас и с ног до головы обдал морозной пылью. Пришлось надеть валенки и закутаться в бурки с головой, в каком положении мы доехали до самой деревни, лишенные возможности разговаривать. Когда время от времени я выглядывала из бурки одним глазом, я видела перед собой бесконечную снежную равнину, сливающуюся на горизонте с серым холодным небом. Лошадь мчалась быстро-быстро. И когда я, закутавшись, начинала дремать, мне казалось, что вот уже кончилась моя жизнь, и теперь неведомый возница мчит меня через холодные пространства нирваны к тем блуждающим монадам, с которыми сливаются души умерших.
“Кончено все, – думала я, – как ни прожита жизнь, но она уже прожита, и другой не будет”.
И вместе с чувством покорного отчаяния меня охватывало сознание глубокой важности переживаемого момента, я сознавала, что я навеки отделилась от земной суеты и слилась с чем-то великим, неоспоримым.
“Вот она – смерть, – думала я, – нельзя ее ни бояться, ни презирать. Она – сильнейший из законов природы, и смертный ему подчиняется…”
– Вот лесок, где мы летом читаем, – на ухо прокричала мне Леля из глубины своих шуб и платков.
Я высунула голову. По обеим сторонам дороги теснился молодой лесок, ветвистые деревца которого, казалось, переплелись и прижались друг к другу, дрожа от холода. Скоро мелькнула речка, затянутая льдом, и по обеим сторонам ее хаты, крытые соломой. Залаяли собаки. Кое– где блеснули огоньки. Я хотела заглянуть в лицо моей спутницы, чтобы угадать, с каким чувством она подъезжает к родным местам. Но это мне не удалось, потому что она не высунула носа из платков, и я увидела только заиндевелые очки.
Матушка и батюшка уже давно ожидали своих детей. Безвыездно живя в этой деревеньке, где они свили себе прочное и уютное гнездо, они, пожалуй, привыкли к тому, что дочери, которым “нужна наука”, живут розно с ними. Но когда дело шло о гимназическом образовании, они еще мирились с этим. Теперь же, когда дочери вместо того, чтобы жить при родителях, придумали себе еще какое-то фельдшерство, к добродушному и горделивому отношению родителей примешивалась горечь.
– Як обрыдла мени ция наука, – говорит мать.
Но, впрочем, на эту тему не распространяется, убежденная, что таковы потребности современной молодежи и ничего с этим не поделаешь.
Матушка мне нравится. Это – тип хозяйственной, самостоятельной и умной женщины. Во все щелки и закоулки хозяйства проникают ее глаза. Но и газеты находит время читать, и книжки “Недели” ей интересны. И взгляды на жизнь у нее свои, не похожие на те, какие встретишь в ее среде. Так, например, она говорит о замужестве, что это “ужасный шаг для женщины”. И не желает его для своих дочерей.
Я знала заранее, что не могу ей понравиться.
Кто сам большой практик, у того органическая антипатия к “недотепам” и “поторочам”. Собственный муж возмущает ее этими качествами, и за них она презирает младшую дочь, Лелю.
Муж ее, уже седовласый батюшка, душа добрая и ум пытливый. Он выписывает, кроме богословских, и светские журналы и по целым дням читает. Но в практической жизни он действительно “потороча”. Поотворяет все шкафы и недоволен, что в комнате “непорядки”. Потеряет шейный платок и уверяет, что кто-то его надел. В семье к нему относятся без особого почета. Матушка посмеивается над ним, за обедами переглядываясь с дочерями, когда он возьмет чужую ложку вместо своей или рукавом рясы попадет в суп.
Как это всегда бывает в таких семьях, по приезде детей под родительский кров мать выставила на стол все, что у нее было в запасе соленого, печеного и вареного.
Обстановка у них полудеревенская, полугородская. Полы натерты воском и блестят, как паркет. На полу разостланы коврики, мебель обита клеенкой, изо всех углов смотрят иконы. Потолок низенький. Кухня близко – из нее валит в комнату чад и запах кушаний и заносится на ногах солома, которой здесь топят печи.
Я вошла в кухню, и мне все было странно: и то, что Гапка прядет клочья конопли, и что другая младшая Гапка бьет масло в каком-то необыкновенном, приспособленном для этой цели бочонке. И что соль стоит здесь в больших макитрах и предназначается она для кабана, которого “треба засолить”.
Из кухни я вышла на крыльцо. Какое тоскливое впечатление от деревни зимой. До того тоскливое, что хочется плакать. Вспоминается, что в России не одна такая Яблунивка, а что их тысячи рассеяны в снежных полях и что в каждой их них – бедность, болезни. И всегда соломенные крыши хат, и огороды, и гуси, и посинелые от холода в жалкой одежонке мальчишки в чем-то упрекают меня, чего-то от меня хотят, просят, требуют. А я знаю, что ничего-ничего сейчас не могу им дать. И не знаю, дам ли им в будущем.
С такими тяжелыми мыслями я легла спать после вечернего чаю и ужина. Чересчур мягкая перина, чрезмерная сытость, запущенные шторы по контрасту перенесли меня в воронежский убогий обиход мамы. Лежа в кровати под пушистым одеялом и глядя на большую звезду, которая светила прямо в окно, я думала о том, с каким бы мучительным и сладким чувством я припала бы сейчас к маминым рукам и как бы неутешно и ненасытно целовала их…
23 декабря
Я всматриваюсь в деревенскую жизнь и вижу, что для меня было бы трудным делом прожить в деревне всю жизнь.
…Если бы в настоящее время я могла предполагать какое-нибудь серьезное общественное движение, несомненно, что я пристала бы к нему. Но такого движения нет. А в качестве фельдшерицы из Кирилловки я всегда буду чувствовать себя на краю того, что жизнь выбросит меня за борт – и в материальном, и в духовном отношении.
…Сердце у меня замирает, когда я слышу глухой отдаленный шум всемирной столицы (Парижа). Этот грозный шум обещает или смерть, или возрождение моим притупленным нервам, моей голове. Но если бы я даже умерла от избытка впечатлений, можно ли об этом жалеть: что это за человек, который умирает от того, что жизнь поразила его своей грандиозностью. Даже хорошо, что он умер, потому что незачем на свете жить таким тонкострунным арфам.
…Сегодня мне виделись какие-то странные сны: будто черная-черная речка шумела и бурлила под длинным, тяжелым мостом. А я проезжала под ним на шаткой лодчонке. И будто кругом не то сумерки, не то ночь. Кто-то меня звал с берега и просил вернуться, но я не хотела. И будто со мной какое-то бесконечно дорогое существо – не то мама, не то Юлия – смотрит на меня прелестными, но безучастными глазами и делает вид, что меня не узнает и что ей все равно, куда я еду на этой лодочке и что со мной будет дальше.
Вчера, как только зажгли лампы, со всех сторон послышались колядки – и в сенях, и в кухне, и в саду:
В темные ночи, В ясные зори, Христа славлючи…И припев:
Святый вечор! Добрый вечор!А в прихожей грянули стройно юношеские голоса:
Златые цветы, В которых и мы, На главах венцы Возложены.И что-то милое, наивное и в то же время казацкое, бравое было в этих бессмысленных словах и в молодецком напеве.
Самовар уже давно кипел на столе, но мы не могли успокоиться, ходили взад и вперед по комнате, стараясь подражать своими голосами колядкам парубков. Как будто эти песни таинственно сближали нас с огромным, неведомым для нас миром крестьянской жизни.
– Они хоть и без смысла многие поют, но все-таки хороший это обычай, – прочувствованно повторял батюшка, устанавливая на столе возле себя столбики из медных монет для раздачи колядчикам.
Злотые цветы, В которых и мы, – На главах венцы возложены,– тихонько и торжественно подпевала матушка с изменившимся, ласковым и одухотворенным лицом, заваривая чай.
Я вышла на крыльцо. Небо было звездное, а от сугробов снега исходил бледноватый, сумрачный свет, придавший всем окрестностям фантастический вид. И сады, и церковь, и хаты – все было покрыто пушистым слоем серебряного инея. Сказочное царство. Или сон ребенка в Рождественскую ночь. Далеко-далеко, откуда-то с другого конца села доносилось пенье. Я вслушалась.
Восковые свечи зажигайте, Христа восхваляйте…И мне показалось, что это поют не дивчата, а невидимые бестелесные духи, которые летят к нам с неба поведать миру, что пришел к нему Бог.
47–48 тетрадь 9.1-18.3.1941
9 января. Москва
5 часов 19 минут (так ответил автомат, когда устала ворочаться без сна с боку на бок, зажгла лампу и спросила по телефону, который час).
Толстой в одном из старческих дневников пишет, что не раз он сомневался, нужно ли вести ему такие ежедневные записи, не раз считал их ненужными, а вот “сегодня (не помню, какого года и числа) понял, что эти дневники были – самое важное из того, что он за это время написал”. Нужно ли прибавлять, что тут слова “самое важное” относятся к нему, к его душевной потребе.
Фаустовские, гамлетовские души в отличие от донкихотских – не могут обойтись без дневника. Писаного или неписаного – это все равно. У Фауста – это ночные монологи перед чашей с ядом. И, думается, немало было у него таких ночей, как у Гамлета с его “быть или не быть”. Если же такой Фауст или Гамлет был неграмотен, он шел к духовнику, к старцам в Оптину пустынь, и там ему помогали разобраться – “быть или не быть”.
И о себе я все яснее понимаю, что записываемое здесь мною мне, и только мне по-настоящему нужно. Недаром же я могу выбраться “утру глубоку” из постельного тепла и вот так строчить, вполне осознав, что, может быть, эти листки пойдут после моей смерти только “на цигарки”. И, так или иначе, поглотит их “медленная Лета”. Там, где был творческий акт, написанное поэтом “заражает” (по выражению Толстого) с помощью особых чар, какими располагает искусство. Есть мысли, которые приносят с собой воздух горных вершин, освежающий душу и разгоняющий испарения гнилых вод повседневности. Их немного. И может быть, они уже все прозвучали человечеству в те или другие времена. Остальное же, что пишется, огранивает грани их, дает им краски эпохи, преломление в разных индивидуальностях. А всякие “опавшие листья”, начиная с розановских, ценны лишь как форма общения, как расширение границ общения. Так мы в молодости нашей встретились с Марией Башкирцевой, с Елизаветой Дьяконовой, парижской студенткой, которая бросилась в расщелину ледника от несчастной любви к французскому доктору. Было ли это чтение нам чем-нибудь по существу полезно? Ничем, кроме того, что мы пережили вместе с ними как подругами, тепло и взволнованно, все перипетии их судьбы. И душевные терзания их, и раннюю смерть. Если бы я нашла где-нибудь на чердаке тетрадь с искренними отпечатками жизни (внутренней) совсем безвестного человека, не поэта, не мыслителя, и знала бы, что он уже умер, во имя этого посмертного общения с ним я бы читала его тетрадь с жадностью, с жалостью, с братским чувством, с ощущением какой-то победы над смертью.
12–13 января
Письмо от Лиды (Леонтьевой). Давние вспомнились дни – 20 лет тому назад! Нежное, легкое лицо, легкие золотистые волосы. Приехала со мной из Ростова, потому что были в то время “для бедной Тани все жребии равны”. Кого любила, тот не стоил любви, обманул, ушел. Годы замужества – чуждая психика, разные языки: рыжий Гуго, латыш, сначала учитель, потом изобретатель. Но совершилось библейское проклятие: “к мужу твоему влечение твое”. Привязанность, женское брачное чувство заменили то, чего просит душа в юности. И когда упорно, тупоубежденно, как может только латыш, муж стал на линию приискания другой жены, так как у “Лиды нет детей”, – страдала от обиды и горя, от ужаса перед одиночеством. И одиночество все-таки пришло, хоть и по другому мостку – мужа за что-то “привлекли”, куда-то услали; отнята вместе с ним и комната, и Москва. 47 лет “Age de cypres[583]”, хронический плеврит, грим и накладная золотистая коса плохо дают иллюзию молодости. А без нее как работать на эстраде? Работает. Пока.
По-разному встречают горе. Одни вопят, как обваренные кипятком, и мечутся в поисках мазей и присыпок.
Другие – падают замертво и живут долго в полуобмороке, сохраняя только видимость жизни, из которой выбывает их душа.
Третьи стремятся изгнать образ своего горя мечом сурового мужества. Четвертые одеваются в него, как в праздничные одежды (“Горе – праздник человеку”), лелеют и воспевают, делают его центром сознания. И только немногие подымают его высоко над собой, как причастную чашу с литургийной молитвой: Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся (Ирис, Наташа, “сестра” Людмила).
5 марта. Ночь
Мировичу предложили (Москвин) сделать монтаж “Педагогической поэмы”. Вчера. А сегодня Мирович предложил Алле сделать для нее монтаж “Родины” (для концерта, для радиопередач). Похоже на то, что Мирович в 72 года приобретает, наконец, какую-то рабочую колею. И выйдет, может быть, из состояния паразитизма. В добрый час, мой брат-осел![584]
Все это пошло от Аллиной роли в радиопередаче монтажа горьковской “Матери”. Алла дала такой углубленный и такого крупного масштаба образ, что я не могла не обрадоваться и не восхититься им. И это породило живой отзвук в мою сторону. И вспомнились мои возможности и моя тоска о работе.
7 марта
Помощь – и самую существенную – оказывают люди друг другу нередко, не зная и даже не подозревая этого. Осторожностью, нежностью касания к нашей душе или, наоборот, такой грубостью, от которой она потрясается до основания и в этом “основании” своем возобновит ощущение главной опоры, которой искала в ком-нибудь другом, а не в себе, в чем-нибудь преходящем, а не в том, что вечно.
Установка Наташиной жизни – труд, терпение, мужество, проводимое неукоснительно в жизнь, предпочтение благ высшего порядка благам низменным и преходящим помогла мне в давно необходимом сдвиге (которого хотела, о котором думала, что он уже произошел, но который до возвращения из Малоярославца был лишь в мире желаний, мечтаний, иллюзий). Я не умела перестать сравнивать здешнего обихода с малоярославским, и вообще с долей тех, кто терпит лишения. Не умела воздержаться от осуждения (обвинения в невидении, неслышании, ожестении сердца). И часто в подсознательном копошилось желание каких-то крох со стола (конкретнейшие желания!) в сторону тех друзей, которые обделены на жизненном пиру.
И на этот раз, когда я приехала ночью с вокзала и застала всех домашних за ужином, в первую минуту меня кольнуло ощущение контраста богато сервированного и уставленного цветами и яствами стола с той суровой скудостью, какой запечатлен быт Наташиной семьи. Но этот укол уже был как воспоминания моего недавнего восприятия, а не как действенная сила. Он не породил искушения судить и осуждать. Поняла душа (а не ум), что, во-первых, эти блага ничтожны по сравнению с внутренней просветленностью, с душевным миром, с любовью, с верностью своей правде. Во-вторых, что они бывают не только ничтожными, но и вредными для духовного роста. И так ясно представилось, как равнодушно, а вернее, и с неудовольствием отнеслась бы Наташа к такому пиршественному столу для своих детей (не говоря уже о себе самой). И какое мимолетное и пустое “удовольствие” дает этот стол даже такому гурману и эстету, как Мирович. И как ничего ему не стоит отказаться от него ради благ другого порядка. (Насколько здоровее, светлее, душевно свободнее чувствовала я себя в Малоярославце.)
16 марта. Утро
Разбудили суматоха и восклицания, в которых послышались какие-то рыдающие звуки, какой-то многоголосый переполох. Оказалось – назначена Алле первая премия – 100 тысяч, кажется. “Высочайшая награда”. Об этом из редакции позвонили в квартиру Москвина в 6 часов утра. Нина в прозрачной ночной рубашке, Алеша в халате, Людмила из-под одеяла – бурно ликовали вокруг сбежавшей сверху в ночном туалете Аллы. Лицо ее среди растрепанных, заплетенных в маленькую косичку волос розово сияло детской радостью. И главное тут было не 100 тысяч – а награда. Высочайшая. Она переживала ее, как на торжественном публичном акте переживает золотую медаль первая ученица, которую едва было не лишили награды. Деньги в ее сиянии не играли большой роли, хотя по всему обиходу здешнему их часто не хватало. Эту статью совершенно затемнило сознание громкой, на весь мир похвалы, так называемой “пальмы первенства”. (Из наивного ходячего языка актерской среды это выражение не исключено.) Алла не честолюбива в мелком значении этого слова. Она отнюдь не гналась за славой, никогда не участвовала в театральной чехарде. Но в течение всего своего актерского пути она чувствовала вокруг себя интригу, то и дело натыкалась на “подножки”. Ее не раз обходили ролями. И Немирович, и Судаков предпочитали Еланскую. Первый, потому что она как женщина больше была в его вкусе, чем Алла. У него это за все 54 года его режиссерской деятельности имело решающее значение. Судаков же выдвигал Еланскую просто потому, что она его жена. И в последнее время Алла чувствовала, что вокруг нее плетется паутина с целью если не “угробить”, то “зажать”. И было у нее сегодня в 6 часов утра такое чувство (и такой вид, когда она слетела к нам вниз), как у бабочки, вырвавшейся из паутины и взлетевшей кверху над цветущим лугом.
Не сияла вначале (потом рассияла) бабушка. С ее знанием житейской жизни она поняла и почувствовала, какие заботы, неприятности, нарекания, претензии, просьбы, отказы повлечет за собой эта искусительная сумма в 100 тысяч. С этой же стороны восприняла и я это событие. Передо мной всколыхнулась волна суетных, жадных, вредных для Алеши вожделений (он уже говорил за эти два часа о малолитражке и о какой-то мохнатой шляпе). И натиск всего того, что надстроится над Аллиным бытом пустого, лишнего, трескучего, многозаботного… Сколько хлынет игрушек, погремушек, позолоты и какой будет разбег и рост желаний и потреб. И сколько вокруг этого вскипит зависти, жадности, корысти и новых театральных интриг. И так я рада, что не шевельнулось на этот раз во мне ни единой пылинки осуждения за то, чем, предвижу, напылит на Аллиной дороге эта высочайшая награда. Ни пылинки корыстного ожидания крох с Аллиного стола в сторону моих голодающих и недоедающих друзей – Наташи с детьми, Людмилы, тети Лели, Денисьевны. Для меня сегодняшнее утро – проверка этой обновленной в сторону Аллы моей душевной линии: поистине, до самых глубин сознания ничего внутренне не требовать от Аллы и любить ее творческую сущность, ее детское (и теперь в чем-то детское), от рождения милое мне лицо, любить “без мук, без рассуждений, без тоски и думы роковой”[585].
И еще важное: измерилось этими тысячами до самой глубины, как неважно и ненужно для внутреннего пути моего и моих недоедающих и голодающих друзей – упадут или не упадут с Аллиного стола на их стол какие-нибудь крохи (может быть, в каком-то смысле будет лучше, если не упадут).
49 тетрадь 19.3–2.7.1941
23–28 апреля
23 апреля в 10 часов утра скончался Филипп Александрович Добров. Друг – 32 года дружеского тепла, внимания, понимания, ничем не омраченной духовной и душевной близости. Но не о том я хочу говорить, как велика для меня эта потеря. В старости, если человек ощущает в себе и в каждом человеке его неумирающую сущность, боль утраты смягчена сознанием того, как недолго ее переносить. И переоценкой ценности всего, что относится к преходящему. В числе их уменьшается и та громадная, трагическая ценность всего относящегося к миру наших человеческих привязанностей, в какую вкладывает в молодости большинство людей иногда цену самой жизни. Я хочу говорить о друге: как он жил, как умер и как его хоронили.
Жил как артист в высоком смысле этого слова. Слушал музыку своей души и вдохновенно передавал ее, сидя за роялем в столовой, когда гремели тарелки, ходили мимо люди, убирая со стола или накрывая на стол. И лицо его с возрастной, важной осанистой полнотой становилось легким, как у Мадонн Мурильо, и весь он уносился ввысь, точно прислушиваясь к музыке сфер. Музыку, высоко настроенный лад своей совести, слушал он, когда высказывал мысли о жизни, о тех или других людях, когда бежал от компромиссов, не давал ни одному корыстному мотиву забраться в область воли, когда самые помыслы охранял суровым презрением ко всему низменному, суетному, мелочному. Ему были созвучны творения философов, живших на вершине человеческой мысли, и великих поэтов. Он не замечал заплат на своем пиджаке, тесноты своей щелки, где стояла его кровать, отгороженная занавеской от кровати свояченицы (Екатерины Михайловны), а в трех шагах тут же спала домработница. Не замечал иногда и того, как мечется в хозяйственных заботах и нуждах его жена, как часто не замечал, как бывает ей трудно свести концы с концами в зыбком бюджете вольно практикующего врача (смешно и неправдоподобно, что, прослуживши 40 лет заведующим терапевтическим отделением в городской больнице, он получал, выйдя в отставку, 200 рублей пенсии).
Был бессребрен. Получив от пациента какие-то бумажки, иногда свертывал их в трубочку, не интересуясь общей суммой, и мимоходом клал в руку жене. Сам же спешил в свою тараканью щелку, в мир, где его ждал перевод Горация в стихах (любимое занятие одно время), Платон, немецкие философы, иногда “Вечерние огни” Фета. Почти всегда лежал на его ночном столике какой-нибудь созвучный ему поэт. Помню Гёте, Рильке, Вячеслава Иванова. Однажды он вышел из-за драпировки, отделяющей его приют от столовой, с вдохновенным, задумчивым лицом, повторяя “и странен был томный мир его чела”. С этими словами он подошел к роялю. И только взявши несколько аккордов (он нередко импровизировал) и случайно подняв глаза в мою сторону, он заметил меня и вместо приветствия, не теряя вдохновенного вида и подбирая нужную ему мелодию, спросил:
– Помните, Вавачик, – такое было у него нежное имя для семидесятилетнего друга, – как это удивительно у Пушкина сказано про смерть Ленского: “И странен был томный мир его чела”[586].
Прежде всего – да простится мне избитая похоронная – “человек он был”. По призванию же философ, может быть, и профессор философских наук, художник слова, и горячо любили бы его студенты за живую творческую мысль, за проливающуюся сквозь нее человечность. И если он не дилетантски, а всецело посвятил бы себя музыке, если бы не отвлекала медицина, был бы он композитор или один из тех пианистов, которые мощной волной уносят своих слушателей в моря-океаны своей души.
Недооценивание, а может быть, и незнание этих своих прав и привходящие другие тяготения и жизненные условия сделали его врачом. И те же, главные его свойства – человечность и интуитивность, определили в нем физиономию врача. Он был прекрасный диагност и лечил не болезнь, не просто больной организм, а больного человека, с его страдающей в данном теле душой, с его судьбой. Он с негодованием говорил о психиатрах, которые лечат такие-то и такие телесные симптомы больной души, и о той психиатрии, “которая забывает о субстрате – о человеческой душе, помня только вместилище, через которое она проявляет себя и в котором болеет”.
Подходя к больному, он прежде всего действовал целебно уже одной чуткой настороженностью к его личности и щедрой широтой отдачи своего человеческого тепла.
Я знаю ряд лиц, которые, как и я, не умеют и не любят лечиться. Не выполняли они и тех советов, которые получили от доктора Доброва. И может быть, потому, что, побывав у него на консультации, уже начинали чувствовать себя лучше. Как будто он поделился с ними каким-то волшебным бальзамом, где музыка его души и высокая человечность скопились в тонко ограненном хрустальном сосуде его души и, радужным излучением непосредственно действуя на душу пациента, исцеляли и тело его. Я не хочу сказать, что, кроме этого чудесного врачевания, он не владел другими методами. Он был образованный, умный, с большим клиническим опытом врач. Немало больных вылечил он и этим путем – осторожного внимательного пользования по всем правилам науки. Но в разговорах со мной он не скрывал, что, по его мнению, “лекарства лекарствами, но суть не в них” и что “сложная, тончайшая и таинственная машина – человек, ибо в основе ее – Тайна с большой буквы”.
Наряду с его человечностью, а может быть, именно из нее и вытекала, бушевала в нем нередко стихия великого гнева. Взрывы ее были всегда по одному поводу: кто-нибудь или что-нибудь оскорбили в нем образ человека, который он носил в своем сердце, как носят на груди православные христиане любимую икону.
В таком гневе он мог доходить и до нехристианских чувств. Помню, в дни империалистической войны он прочел, как по вине какого-то генерала оставили полк без провианта на двое суток и так на третьи сутки голодные солдаты должны были принять бой (кажется, это было в Августовских лесах)[587]. Никто бы не узнал в тот миг музыканта, мыслителя и человечнейшего врача в Филиппе Александровиче. Это был Зевс Тучегонитель. На ясном лбу его грозно напружились страшные морщины, молнии сыпались из глаз, нечеловеческим гневом и точно раскатами грома вылетали из уст его слова:
– Расстрелять этого генерала, говорите вы? Расстрелять? Бабья сентиментальность. Из него надо бифштексы вырезать и этими бифштексами кормить эту гадину, мерзавца, подлеца перед следующим сражением.
И в смехе его – раскатистом, неудержимом – было нечто гомерическое. “Как будто ветреная Геба, кормя Зевесова орла”, проливает на землю “громокипящий кубок”[588] этого олимпского смеха. В этом взрыве неудержимого веселья над глупостью, пошлостью, жадностью, трусостью обывателя, над мещанством идеалов и вкусов, прячущихся под различными громкими лозунгами и масками, было изумление олимпийца:
– Вот что они там раскомаривают (его словечко); вот какой требухой питаются.
И снисходительность, понимание, что невиновны они в том, что не для них нектар и амброзия, что нет им места на пиру богов.
Его собственный юмор проявлялся больше всего в таком смехе, сопровождавшем короткое меткое определение чьего-нибудь поступка или характера или настроения, и в скульптурной рельефности интонаций, с которыми он подавал такую фразу, и в лукавом блеске молодых – до последней, семидесятитрехлетней жизни молодых глаз. Такими я видела его глаза за несколько часов до того, как они закрылись в последнем сне. Мы сидели в столовой на диване перед обеденным столом в ожидании обеда. Говорила больше я. Он расспрашивал меня о дорогих мне детях, о Сереже и его семье, Телемахе[589]. Что представляет собой эта юная поросль от десяти до девятнадцати лет? Чем живут внутренно? Что любят? Каковы их отношения к окружающим, чуду, к искусству? Какие подают надежды? То со смехом, то с вдумчивой пытливостью задавал он вопросы один за другим. И сам дополнял – всегда психологически удачно – недостававшие в моем рассказе черты. Когда я рассказала о терпеливом и заботливом отношении Сережи к покойному дедушке, о том, как бережно и глубоко любит он мать и как серьезно, с каким огромным трудолюбием отнесся к своей геологии и как чист душой и аскетически ограничен в своих потребах, – у Филиппа Александровича на глазах блеснули слезы и он, часто задышавши, проговорил:
– Вот тут можно сказать, как в старину в молитве перед учением: “родителям на утешение, отечеству на пользу”.
Потом разговор перешел на юность и старость.
– Вам 70 уж стукнуло? – спросил он меня.
Я ответила, что стукнуло 72.
– Значит, я перегнал вас. Мне стукнуло 73.
Если делить души на пять категорий (так мы когда-то с покойной Н. С. Бутовой делили): на детские, юношеские, зрелые, старческие и загробные – душа у Филиппа Александровича была апрельски юная, наполненная бродящих соков прорастания душа. И при всем его религиозном приятии жизни и смерти он порой говорил с сумрачным негодованием о законе, ущербности, вражеской рати годов, разрушающих в человеке здоровье, силы, красоту, творческие возможности.
На этот раз в утешение ему я рассказала о моем старинном приятеле Залесском[590]. Ему 86 лет, но ни умственные способности, ни духовные запросы в нем не угасли. Он, как и всю жизнь, любит детей и без платы работает в детской библиотеке, чтобы побыть какие-то часы в общении с ними. Читает Данте с комментариями знакомого приват-доцента. Поддерживает переписку со мною (я была дружна с женой его, которую он потерял пять лет тому назад). И в письмах его звучит теплое внимание ко всему, что меня радует, заботит или печалит.
Образ этого старца, для которого всю жизнь его покойная жена была единственной Беатриче в его лесу, в долголетнее хождение его по кругам ада и чистилища, растрогал Филиппа Александровича до слез. И он, никогда не видевший Залесского, стал расспрашивать о нем с братским участием: как, чем, где и с кем он живет. И наружность, и прошлое его детально заинтересовали психолога-беллетриста, который был также включен в многогранное, богато одаренное существо врача.
Это было уже давно. Мы сидели рядом в зале консерватории на духовном концерте синодального хора. Когда раздались погребальные напевы Кастальского[591], где рыдания детских голосов чередуются с неумолимо грозным приговором мужского хора – умереть во что бы то ни стало, Филипп Александрович дотронулся до моей руки и, приблизив к моему уху побледневшее лицо с глазами, на которых блестели слезы, прошептал:
– Должен человек умереть!
– И воскреснуть, – так же тихо сказала я.
Помню его пытливый, вопросительный взгляд. И когда замолкла в зале перекличка рыданий и смертного приговора, он задумчиво и сурово сказал:
– Воскреснуть – это как кому. По вере.
В последние годы жизни он не сказал бы так. Когда затрагивался изредка между нами вопрос о вере, о смерти и бессмертии, сомнения в том, что жизнь человеческой души бессмертна, у него не было. Однажды, когда мы говорили о космическом сознании, он осторожно спросил:
– Было у вас нечто похожее на то, о чем говорится в книге д-ра Бэкки (книга о космическом сознании)[592]?
– Нечто похожее – было, – сказала я, – а у вас?
– Нет, – сказал он. – Я этого, к сожалению, не испытал. Но я и без этого знаю, что и моя, и всякая другая человеческая душа не может быть смертной.
В Страстной четверг я зашла в приемную его, где он лежал на кушетке, утвердивши на животе какую-то огромную тяжелую книгу, которую читал с сосредоточенным и светлым лицом. Метнувши в мою сторону доверчиво-ласковый взгляд, он сказал пониженным растроганным тихим голосом:
– Хочу прочесть страстные службы. Помимо всего – высочайшая поэзия…
И на глазах его блеснули слезы. У него было свойство, называемое в святоотеческих писаниях “даром слезным”, знак быстрого и глубокого восприятия недрами сердца вещей духовного порядка. Я вышла из его приемной молчаливо и благоговейно, как из церкви. Я поняла, что хоть и были тут слова о поэзии, но совершалось наряду с ними страстное богослужение.
Через шесть дней после этого я вошла в ту же приемную после телефонного звонка общего друга Надежды Григорьевны. И на этом же диване он лежал, сложив на груди руки. И на лице его была торжественная печать – не смерти, а начавшейся для него новой жизни. Казалось, он прислушивается сквозь сон, сковавший его плоть, к чему-то несказанному, единственно важному, чего искал всю жизнь и что наконец обрел.
17 мая (Похожего на октябрь). Ночь
Залетел на минуту Даниил. Принес три бокала – образцы хрустального сервиза для вина. Загнала его необходимость как можно скорее обменять эти остатки прежнего благополучия семьи на сумму, которая дала бы возможность прокормиться в течение месяца. В романтическом восприятии жизни и сердца человеческого рассчитывал, что Алла, зная острую нужду в их доме и болезнь Александра Викторовича[593], который мог бы приискать какую-нибудь работу, бросится ему навстречу и растроганно, сочувственно-радостно вынесет тут же и вложит ему в руку 1000 рублей (так в скупочной оценили хрусталь). Этого не случилось. И Даниил подхватил чемоданчик с сервизом и унесся дальше. Был похож на мрачную, гордую, гонимую ураганом птицу. “Железный занавес” не позволил мне вмешаться. Но если бы не отгородил он меня от линии Аллиного движения, если бы были у меня интимно нерушимые или высшего порядка права “вмешиваться”, я должна была бы вскрикнуть: не пропускай этого мгновения – оно твое. Ты можешь в нем распрямить во весь рост лучшие стороны твоей души. Тебе представился почетный случай просто щедро в горестную минуту этого легендарно доброго и щедрого дома отплатить им за те вереницы людей, которых они кормили, вытаскивали, не жалея сил, из нужды, окружали заботой, не щадили ни сил, ни времени, не зная мещанских счетов и расчетов. И если бы не были они друзьями моими, железный занавес не помешал бы мне сказать это. Казалось, что она почует сама, что так нужно сделать, что недаром совпала ее премия с кончиной их главного кормильца.
21 мая Алла решила купить хрусталь без всякого с моей стороны заявления. И может быть, именно потому, что не было давления. Ей важна свобода порыва, творческий волевой момент.
1 июня. Ночь
Стремительный, издалека прилетающий серьезный до строгости, до печали и тут же загорающийся юмором взгляд. Волосы седые, лицо молодое, чело моложавое, свежее, одухотворенное. И то озабоченное, отсутствующее, то пристально тепло внимательное выражение. Энергичная решительность движений.
Войдя в кабинет ее, сразу почувствовала себя в горном воздухе – легко дышать и прохладно, и тепло – так бывает в Давосе среди снегов в солнечный день.
Выслушала меня внимательно и быстро. Задала ряд вопросов.
– Вы все еще с артистами живете и в з часа спать ложитесь?
– Да.
– Эта жизнь для вас совсем не подходит. Ни в каком смысле.
– Я не могу ее изменить.
– Отчего?
– Старость. Болезни.
– Вы на иждивении этой артистки – как ее фамилия, забыла?
– Да. Хотя у меня есть пенсия, но ее бы не хватало. И она, кроме того, нужна мне для других целей, то есть для других, близких мне людей.
Сильный, стремительный, издалека прилетевший взгляд коснулся меня, как зов, раньше, чем я услышала слова.
– Переходите жить ко мне. На мое иждивение.
Я засмеялась:
– Вам хочется иметь дело с моей старостью? С моими болезнями?
– Да. И хочется, чтобы я была кому-то нужна. Чтобы кому-то было до меня дело.
С минуту в комнате была такая тишина, какая бывает, когда совершаются события в нас, не от нас зависящие.
Я встала и поцеловала ее наклоненную над рецептами голову.
– Я не перееду к вам, – сказала я, – но я буду помнить ваши слова и вас как очень важное, очень дорогое.
– Нет, вы подумайте, – сказала она, и лицо у нее стало детски просительное.
– Я сейчас думаю о том, что до отъезда на дачу повидаюсь с вами – без всяких лечебных целей. Что мне это стало необходимо.
– И мне, – энергически и задумчиво призналась она. (Видимся мы второй раз в жизни. Я была на приеме у нее два года тому назад.)
Это, несомненно, “встреча”. И на очень высоком плане. Но, вероятно, было бы ошибкой втискивать ее широкость и потусторонность в житейские формы, в общий суп, в неизбежность каждодневных касаний, разговоров, недоразумений, может быть…
22 ИЮНЯ. Ночь
Недаром этой ночью – и прошлой – мне снились налеты аэропланов, канонады и другие ужасы сражения. И, когда я проснулась, этот гул для меня продолжился. И я думала: по какому-то для науки непонятному проводу я соединена с Лондоном, как соединена была одно время с Испанией и раньше с Августовскими лесами.
А в два часа сегодня в мирный, разгулявшийся после утреннего ненастья, солнечный день пришло к нам известие, что ночью немцы бомбардировали Киев, Севастополь, Ковно, Житомир, Одессу. Ночью был реальный сон. А это известие весь день кажется сновидением, ворвавшимся в дачный быт, как если бы пролетел над лесом семиглавый дракон или ступа с Бабой-ягой.
Перед обедом я пошла в контору за письмами. А когда возвращалась, увидала Галочку и Нину (мать ее) на террасе с необычными лицами (тут и началось все, похожее на сон). На маленьком румяном лице Нины можно было прочесть: “У нас сенсационная и трагическая новость”. Хрупкое, ледяное, как почти всегда (в сторону матери), лицо Галочки говорило: “Я презираю сенсации и уже по одному тому, что ты им поверила, не стану верить”. Но чувствовалось, что и она чем-то встревожена.
– Ты ничего не слышала в конторе? – спросила Нина, наморщив брови. И прежде, чем я ответила “ничего”, выпалила: – Бомбардируют Киев, Севастополь, Ковно, Житомир.
И через несколько минут это подтвердил сторож Егор Павлович с миной диогеновского стоицизма.
– Бомбардировка так бомбардировка. Ну что ж? Я сам был на фронте. Ничего особенного. Другие говорят “страсти”, и правда, что страсти. А по-моему – ничего. Кому суждено – скапустится. Кому ногу-руку оторвет, проживет и калекой. А кто и жив-здоров вернется, как я, например. Правда, у меня контузия, оглох, и ревматизм добыл – ноги и теперь к погоде ломит – памятка, значит, от окопов осталась. Только, по-моему, это все напрасно: бабы ревут в Аносине, в Жевневе… Чего реветь – не ее муж первый, не он последний на войну идет. Значит, так положено. (Раскосое лицо, с курносым сократо-верленовским большелобым профилем. Сам крохотного роста, коротконожка.)
23 июня. Ночь. Снегири
Всем дачникам велели притемниться. Во дворе, где мы живем, в Москве, поставили зенитные орудия. За хлебом, за маслом и сахаром панические очереди. На Садовой роют окопы. Метро превращено в бомбоубежище.
24 июня. Снегири
Утром в конторе сторожиха, похожая на скифскую бабу, встретила меня словами:
– Про Москву еще не слыхали?
– Нет, а что?
– Да разбомбили ее, – отвечает эпически скорбно.
– Откуда вы знаете?
– Люди проходили, говорили.
Оказалось потом, что налет был – 9 аэропланов.
Сон. Жуткая невозможность данной реальности и попытка проснуться, но быстро несут ноги по лесной тропинке домой. Что-то предпринять или хоть поделиться вестью, чтобы она поскорее до конца осозналась и как-то изжилась. Что Москву “разбомбили” – это было явной нелепицей. Но что мог быть налет, это сразу показалось вероятным – хоть и на грани сновидения. Весь день, как зловещее воронье, кружились над нами слухи, один другого чернее. Газеты и радио не прогнали их, когда известили, что это была пробная ночная тревога. Им не верили: “скрывают, успокаивают, боятся паники”. Верили тому, что подбит германский аэроплан. Что стреляли из зенитных орудий. Что были взрывы. Что в Тушине был воздушный бой. Среброкудрая соседка моя носилась по дачам, где есть радио, бегала в совхоз, в Жевнево. Меня ноги и сердце не пустили дальше конторы. Алексей и Людмила волновались до изнеможения и падали по временам в прострации на свои постели. На беду, сломалось что-то или испортилось в Алешиной малолитражке. Полдня он пробился понапрасну над ремонтом. Вечером сидел за чаем как с креста снятый. Говорит:
– Ничего не чувствую – ни природы, ни экзаменов, ни самого себя. Живешь как во сне, где все запутано, ничего не разберешь, все какое-то невероятное, а тут еще малолитражка уткнулась в калитку и ни с места. Можно было бы хоть на станцию съездить, что-нибудь узнать. (Сейчас он постучал в мою дверь: слышите взрывы? А у меня в ушах целый день канонада, слышу только близкие звуки.)
– Притушите лампы. Опять налет на Москву, – осмотрел, нет ли в занавеске щелей, и ушел опять спать – в таком был изнеможении.
Ну, что же, милый, от нас требуется только мужество, спокойствие. И не думать о себе, когда страна охвачена пожаром войны.
“Час воли Божьей”.
Вчера поговаривали, что воздушные бои в случае налета на Москву могут разразиться как раз над “Мастерами искусств”. Может быть, оно так и будет. Мои заложенные камфарой уши начинают улавливать звуки взрывов на фоне обычного гула и шума от склероза. Конечно, если это суждено, через минуту может разорваться бомба над крышей нашего дома. Радуюсь спокойствию и доверию к воле и любви Отца. Ложусь в постель со словом до конца сейчас понятной ектиньи: сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу передадим. Аминь.
25 июня. Сумерки
Часть ночи, до 3-го часа, прислушивались к стрельбе. Алеша насчитал 10 пушечных выстрелов – неведомо где, неведомо по какой причине вспугнувших нашу лесную тишину.
Но другую часть ночи я спала как младенец, уснувший на коленях матери. На физическом плане никакого покоя быть ни для кого не может, когда над страной летает ангел-истребитель. Но на другом плане устанавливается линия готовности делить судьбы своей страны. Линия – как это ни странно сказать – уверенности “что бы со мной и со всеми нами ни произошло – все благо”.
Это не исключает предчувствия больших скорбей лично для себя. А скорби других людей уже разлились кровавым потоком от Балтийского моря до Черного. И природа, и весь мир в отсвете этой братской крови выявили другое, спрятанное мирным временем трагическое лицо. И в этом – испытание полноты нашего сыновнего доверия: принять трагическое как высшую волю (“не так, как я хочу, а как хочешь Ты”). Не я одна так чувствую. Я знаю ряд лиц, переживших Первую мировую и гражданскую нашу войну, обретя этот путь. Они сворачивали порой с него, но до конца не теряли. Так мы жили в Ростове в батайские дни, в Киеве во время одиннадцати бомбардировок (поляки, украинцы, немцы, красные и белые попеременно).
30 июня
Пасмурное холодное утро. По дороге в контору глаза упали на ковер голубой вероники между соснами. Почему-то порой от новой красоты в летней природе вздрогнешь так болезненно, как будто встретил обоз тяжелораненых.
В конторе говорила о том, что Алеша и Люда хотели бы примкнуть к какой-нибудь местной оборонной группе. Таких групп в поселке, оказывается, нет. Просто конторский сторож роет вблизи конторы какую-то канаву. Да еще Родионовы у себя вырыли подобие бомбоубежища. Но Алешиным вопросом Е. А. (бухгалтер) заинтересовалась. Говорит, можно организовать кружок оборонных активистов. Буду очень рада, если Алексей, от своей улиточной новобрачной неги оторвавшись, серьезно возьмется за такое ответственное дело. Экзамены все, для меня и для себя неожиданно, сдал.
Если дом отдыха, который недалеко от нас, переформируют в лазарет, поищу в нем для себя дела. Не в операционной – в прошедшую войну со стыдом проверила свою невыносливость перед видом ран и перевязок. Но было большое моральное удовлетворение от ухода за ранеными, от общения с ними, писания писем, раздачи лекарств, от ощущения, что заменяешь им мать, сестру, бабку.
Иван Михайлович вернулся из Барановичей и Минска, где были ожесточенные бои. Говорят, вел себя героически, не растерялся, не выказал никакого страха. Но, однако… зачем же концертировать там (не странная ли это затея), где летают над головой снаряды или можно ожидать, что вот-вот они полетят.
1 июля. 7-й час (вероятно, часы остановились). На террасе
В этот час лес уже пронизан косыми, предзакатными лучами. Зелень берез и молодых дубов прозрачна, и прозрачность ее подчеркивается глубокой темно-зеленой тенью чащи, сквозь которую лучи не проникают.
Мягкая молодая листва шевелится от самого легкого дуновения ветра, и не прекращается трепетная игра света с тенями. Светлый задумчивый мир излучается от каждого дерева, от цветов, которые я только что полила, и когда оглянусь назад – от чуть зеленеющей пашни и бархатистых заречных холмов с приземистыми силуэтами деревенских изб.
Канонада и танки и грохот сражения, от которого я чуть не сошла с ума в эту ночь и не знала, куда деваться днем, заглушены этим миром. Дана передышка – отвернуться от неправдоподобного ужаса войны, почувствовать его преходящесть, может быть иллюзорность – и уловить над ним дыхание жизни в ее целом и высшую волю и высший смысл во всем, что совершается в человеческой истории и в жизни каждого отдельного человека.
Что во всякой войне непереносимо страшно? Не страдания людей, не гибель их, не разрушение их жилищ, их быта. Страшен дух убийства, овладевший волей народов и их вождей. Поэтому другие гибельные катастрофы – крушения поездов, землетрясения, пожары, наводнения, ураганы – не кроют в себе того потрясающего до ужаса, как война.
2 июля
Побывала в Москве. Подвез на своей машине совершенно незнакомый актер из Большого театра (Мчадели). Настало время, когда все, у кого есть машины, всех, кому нужно в Москву, из дачного поселка без отвоза подвозят. И даже заранее оповещают соседей, что будет одно или два свободных места. Одна из ценных сторон войны, как и всяких общих бедствий, – открытие в душах доступа Эросу – от предложения мест в машине или газеты вплоть до желания и решения “душу положить за други своя”. Москва раскалена извне и наэлектризована до белого каления внутренно. Это не выражается шумом – напротив, в Москве тише и суеты меньше, чем всегда. Но озабочены и сосредоточенно-серьезны лица, у многих сумки через плечо с противогазами и перевязочными средствами. Особая походка – торопливость без суеты. И без улыбок (не видела у взрослых ни одной улыбки). Все точно заранее прислушиваются к вою сирен, к воздушной тревоге и еще не оправились от той, какая была ночью. Везде волнующие плакаты. “Разгромим, раздавим, уничтожим врага”, и много бранных слов. Это не подымает дух. Нужно бы краткий, полный достоинства и всех объединяющий лозунг: “Отечество в опасности” (удивительно сильное сочетание двух слов).
Когда возвращались, Алешин мышонок – игрушечная серая литражка – бежал по Волоколамскому шоссе все время рядом с длинной вереницей автобусов, вывозящих детей из Москвы в Волоколамск. Из окон глядели веселые мордочки малышей, и автобусы внутри и снаружи были убраны зеленью. Нельзя не быть благодарным тому, кто продумал и, говорят, стройно провел эвакуацию детей. Не для детского слуха, не для детской нежной души и неокрепших нервов – сирены, бомбы, грохот зенитных орудий, пожары. И в этом, и за этим – торжество насилия, разрушения, убийства, попрание всех ценностей, выработанных человеческой культурой.
Запомнилась из картин этого времени почему-то одна особенно ярко при всей несложности сюжета. Ранним утром я иду в контору узнать, как прошла ночь в Москве. Серое небо, недвижная стена леса по трем сторонам четырехугольной пашни, где чуть пробились какие-то зеленя. Близкий горизонт Жевневского холма. На гребне его серые приземленные крыши. И в стороне от изб понурый силуэт лошаденки. И воронье летит куда-то над деревней. А перед конторой на жалкой тележинке сидит, сгорбившись от боли, Герцен, знаменитый хирург, внук знаменитого писателя. Возле него хлопочет беспомощно его жена. Машины в это утро ни у кого из соседей не могли достать. А больному экстренно нужно в лечебницу. И ехать на тележке тряско, он не решается. У него темные мученические глаза. И пусто кругом пустотой брошенности, обреченности. История как бы говорит индивиду: “Не до тебя теперь, хотя бы ты был Герцен”.
50 тетрадь 4.7-25.7.1941
4 июля
Сегодня утром привез из Москвы Кот Тарасов[594] газету с речью Сталина. Алла и бабушка слушали в слезах. “Отечество в опасности” – смысл этой речи. Иван Михайлович говорил о диверсантах. Спускаются на парашютах где-нибудь в лесу, в форме милиционеров или НКВД и сеют смуты, по-видимому, один такой смутьян побывал в Аносине, потому что ни с того ни с сего разнеслась весть об измене. Упоминалась и фамилия генерала. Завтра приедет в Москву из Бахчисарая мой Сергей Михайлович. Какую бы ни поручили ему форму оборонной работы, заранее уверена, что выполнит ее честно, стойко и на отлично, как до сих пор все задания школы, университета и жизни дома.
5 июля. Снегири. Знойный день после полудня
Иван Михайлович (Москвин) после минского ада, после раскаленного горна Москвы как-то, сидя за чайным столом дачной террасы в прохладный, душистый час вечера, курит сигару и задумчиво говорит:
– Хорошо-то оно хорошо. Да как-то ненатурально. И даже неловко. Это ощущение “ненатуральности”, призрачности дачного уюта и красот природы и чувство какой-то стыдливой неловкости пользоваться этим в дни великих бедствий Родины знакомы, я думаю, всем дачникам со дня объявления войны.
После утреннего чаю было на террасе нечто вроде совещания: куда податься в случае, если неприятель докатится до Смоленска. Алла думает, что орденоносцам в этом случае грозит исключительная опасность и что приходится думать об Урале. Леонилла еще вчера предусмотрительно принесла мне немного чаю, сахару и еще чего-то и уложила в маленький баул. “В случае чего тебе на первое время хватит”. Вот уж поистине ни о “первом”, ни о втором “времени” применительно к себе в случае взятия Москвы ни малейшей заботы не чувствую. Пусть будет что будет, все мне назначенное приемлю. Но, пожалуй, был бы укол в тончайший духовно-душевно-сердечный нерв многолетней связи моей с тарасовской семьей, если бы они с легким сердцем оставили меня здесь на произвол судьбы при этом бауле, который принесла вчера Леонилла, а сами без оглядки спасались бы. Это было бы в порядке вещей, но…
Алла говорит: “Нет такой минуты, когда бы я не чувствовала войны со всеми ужасами ее. Я не могу себе представить, чтобы я могла сесть за пианино или запеть, или расхохотаться, или с интересом читать какую-то книгу”.
Помимо нервного страха – перед налетами, бомбардировками, беженством – в ней несомненно и громко говорит то, что называют патриотическим чувством. Она сопереживает и геройство, и гибель наших летчиков и с жадностью следит за каждым передвижением наших и немецких войск.
За обедом, когда был неудачный суп и прочее приготовлено было кое-как (готовила не стряпуха Шура, а горничная Маруся), Алла с детским энтузиазмом воскликнула:
– Каждый день готова была бы отныне питаться только таким супом и ничего не есть хорошего, только бы мы победили и кончилась эта бойня.
В глубокие сумерки пили чай на террасе, чтобы не нарушать приказ о затемнении (в комнатах притемняться трудно, нету непроницаемых занавесок на большие окна). Вдруг взвился предгрозовой вихрь, крупные капли дождя застучали по чайной посуде, над Аносином завертелась странная колесообразная молния, а с какого-то недалекого аэродрома ахнуло раз за разом зенитное орудие. Все вскочили с мест и начали перетаскивать чашки, тарелки, стулья в комнату Ивана Михайловича. Стало темно, тесно, что-то доедали, путая свои и чужие тарелки. Легко было вообразить, что мы уже в числе беженцев.
Я выходила за чем-то, а когда вернулась, Алла меня спросила:
– Ты согласилась бы эвакуироваться, если бы тебе предложили? Хмара (артист) говорил сегодня, что в Москве был опрос: неработающих женщин и детей записывали на эвакуацию.
Я ответила:
– Не знаю. Не думала об этом. И пока не собиралась отделяться от вас. Но если бы вы так решили, я постаралась бы пробраться в Малоярославец.
– Это по Киевской дороге. Там еще опаснее, – сказал Алеша.
– Дело не в опасности, а в том, что для меня трудно оторваться от всех близких людей, ехать куда-то одной, в безвестность. – На этом разговор был замят. Но, по-видимому, они опасаются в моем лице лишнего балласта. И по-своему – правы. И грустное в этом лишь, что не перевешивает тяжесть балласта. Нечто иного порядка…
7 июля. Снегири
День Ивана Купалы. Именины Ивана Михайловича.
В этом году празднование отметилось только букетом ирисов с Аллиной стороны и пучком малиновых смолок и ромашек с моей. Никаких пирогов, никаких гостей. Вытащили в дополнение к вчерашним щам и котлетам бутылку шампанского и выпили “за победу и скорый конец” войны.
Ночь. Лунная, теплая, благоуханная. Неописуемая красота плакучих берез с таинственной белизной их стволов и еще более таинственной игрой света и теней в их ветвях.
И не захотелось любоваться всем этим больше пяти минут. Как будто и видишь, и понимаешь, как это прекрасно, а любоваться некому.
9 июля. 12 часов ночи
Мрачная багровая луна сквозь свинцовую дымку ползет кверху над зловеще сумрачным лугом. Сильно нездоровится – почти не покидала постель. Все еще в Москве (обещала Ольга приехать). Два дня не знаю, что на фронте. В пяти верстах от нас спешно строят аэродром. Говорят, мы на трассе и в случае воздушных боев подбитые аэропланы будут падать на наши головы. Голов осталось мало. Каждый день спешно уезжают те немногие, кто по необходимости, по храбрости или по легкомыслию не думал уезжать. Подвигло на скорый отъезд соседство аэродрома.
От Сергея Михайловича открытка. Задержался со всем курсом в дороге. Впрочем, теперь, может быть, он уже и в Москве. Письма из Москвы приходят на 5-й день. Если смогут Тарасовы уладить финансовый минимум, нужный на месяц жизни в Малоярославце, попробую увязаться за Сергеем. То обстоятельство, что там тоже возможна боевая трасса по Киевской линии, нисколько не останавливает меня, раз там дорогое для меня Сережино гнездо и, возможно, он сам.
10 июля. 5 часов дня
Стало тревожно за тех, кто застрял в Москве. И томительно без вестей с фронта – уже третий день! Выпила крепкого кофе и принудила брата осла презреть все немощи и пойти на разведку. В конторе сказали, что вчера приехала Екатерина Сергеевна (Приорова, родственница Сережиной семьи)[595]. Дама со светски стеклянными синими глазами. Но потом от разговора на тему фронта, сына ее[596] и Москвы ожили глаза. Последняя сводка успокоительная (если могут назваться успокоительными “ожесточенные бои”).
Ночь – приехала вся семья и Нина. Записочка от Сережи с непривычно нежным обращением, и начинается письмо словами: “Если бы ты знала, как я по тебе соскучился”. Родное, драгоценное дитя! Да благословит тебя Бог за эту ласку. И за то, что ты такой, как ты есть. Сережа едет в какой-то рязанский колхоз и очень доволен формой оборонной работы.
Ольга говорила с Аллой по телефону. С Академией наук, со всеми архивами уезжает в Томск. Спрашивает, что делать со стихами и прозой.
Ни малейшей не чувствую об этом заботы. В то время, когда надвигается на родную страну пожар войны, странно думать о стихах и об “опавших листьях” с души Мировича. Если случайно где-нибудь что-нибудь из тетрадок уцелеет, значит, такова их судьба. Если не уцелеет это убогое наследство, мало потеряют наследники. Поднялся вопрос, уже открыто, о том, чтобы эвакуироваться мне, когда вся семья поедет на Урал, мне – в Малоярославец. В город, куда хлеб возят из Москвы, а в Москву уже не пускают, к Наташе, на попечении которой уже пять старух…
12 июля
Время предрассветное. Не хватает объема мысли и воображения – все, что совершается, воспринимать в размерах большого полотна. “Все сопрягать”, как во сне Пьера Безухова. То и дело замыкаешься в какой– нибудь детальной части. Скорченный в раскаленном танке, задыхается юноша. И валятся другие танки (с живыми, живыми, живыми людьми) на дно реки. Куда-то на лесную поляну опускается парашютист, и его ведут расстреливать. С лихорадочной трусостью, готовясь к бегству за Урал, собирают свои меха и бриллианты актеры, которых неподражаемо изображала сегодня Алла. Но хуже всего и чаще всего такой фиксируемой деталью бывает харьковский вокзал 1919 года, где я осталась в усеянной беженцами и усыпанной насекомыми зале и так провела четыре ночи, пока случайная милость коменданта не перебросила меня в Новочеркасск к Скрябиным. А друзья (о, больше, чем друг) Лев Исаакович, жена его и дети неожиданно простились со мной и поехали ночевать в город и продолжали путь уже без меня.
Жизнь повторила это. И я понимаю и приемлю ее логику – но поневоле уже в тех же разрезах, как и налеты аэропланов. “На войне как на войне”. Тяжелораненый или инвалид с костылями или просто немощный и старый человек затрудняет бегство. Но как хотелось бы, чтоб в мире не были возможны ночные налеты на спящих людей с какими-то бомбами в 3000 градусов. И такие прощания, как на харьковском вокзале с Л. И. Странно, что это воспоминание болит во мне и мешает спать больше, чем похожая на него точка настоящих событий. Чем вырвавшаяся у Аллы фраза: “Разве я могу принять на себя за твою дальнейшую жизнь ответственность”. (А я была уверена, что она сделала это три года тому назад, когда торжественно сказала про обмен комнат:
– Включаю тебя в свою семью.)
16 июля
Продолжение.
Опять после некоторого затишья – “ожесточенные бои”, притом с крупными потерями с обеих сторон. Таково сегодняшнее известие по радио в совхозе. Ожесточенные бои. Нельзя не сойти с ума, если начать вдумываться сердцем и воображением в то, что под этими двумя словами… Какая чудовищная судорога боли и ужаса. Вот под этим же самым небом, которое над нашими головами сияет безмятежным миром и благоволением.
Ночь.
Кончили чистить клубнику. Чистили втроем – Алла, Леонилла и я. Алла распределила – сколько стаканов на варенье, сколько на кисель, сколько к чаю. Засыпали ягоды сахаром и разошлись по комнатам. Спать. Завтра рано утром Алла, Иван Михайлович и Алексей с Людмилой уедут в Москву. У кого зарплата за телевидение, у кого театральные дела, у Людмилы – зубы, у Алеши – хлебная карточка (с завтрашнего дня на все продукты карточки).
…И в дни потопа так же было.
18 июля. Москва
Сделала неожиданное для себя усилие, встала в 7 часов и попала в Москву на соседской машине. Вдоль шоссе то и дело выставляют свои длинные грозные пасти зенитные орудия. Колышется на брюхе серебристый кит – сторожевой аэростат. Обгоняем отряды парней с лопатами на плечах – рыть окопы. Ленинградское шоссе неузнаваемо: множество бутафорных домишек, заросли елок, какие-то низенькие вытянутые строения. Из Военно-воздушной академии сделали феерический замок, какие бывают в Луна-парке. На прилавках у Елисеева по старым ценам – только сыр и сметана. Закуски и кондитерские товары вздорожали ровно вдвое. То же самое и в булочном отделении. Немногочисленная публика торопливо наклоняется над ярлыками цен и в большинстве своем спешит к сметане или к выходу из магазина налегке. Я целый день провела без пищи и решила что-нибудь приобрести к чаю (чай и сахар у работницы был). Но после разглядывания цен могла остановиться только на калаче. Потом мы угощались им трое – я, Ирис и Кот Тарасов. В это время взвыла сирена, и я первый раз в жизни побывала в бомбоубежище. Занятно, как спешили в него люди, как перепуганные до бледности были у некоторых мужчин лица. В низенькой, подвального характера комнате, теснясь, расположилось более 50 человек. Сидели на каких-то старых, продавленных стульях и табуретах, на плетеной софе. Рядом со мной сидела девушка с кудрявой стриженой головой и ярко-блестящими, смелыми зеленоватыми глазами. Она и ее молоденькая накрашенная подруга, должно быть тоже эстрадная актриса, весело болтали 0 чем-то своем. Пожилой даме, сидевшей рядом с Ирисом, то и дело становилось дурно, и она нюхала спирт. Ирис, конечно, был далек от страха, вероятно, не испытал бы его и под ураганным огнем.
19–25 июля. Москва
…От скорбных дней тех солнце померкнет И луна не даст света своего.[597]Вой сирены в 7 часов, потом в 10. Иногда и днем. Ночлег в бомбоубежищах. Или в квартире (мы с Анной Васильевной во втором этаже). В квартире – грохот фугасных разрывов и зениток. Но зато – поскольку была с Анной, а раз совсем одна – торжественное ощущение близости, а минутами и неизбежности в следующую минуту – смерти. Полнота сыновнего доверия: “не так, как я хочу, а как хочешь Ты”. И “в руки Твои предаю Дух Мой”[598]. Любовь. Легкость, как бы уже отсутствие тела. Спокойствие – превыше всех ужасов убийства и грохота орудий. Ясное сознание преходящести всего временного (и своего воплощенного состояния). И вечных ценностей жизни “в духе и в истине”.
В бомбоубежище другое: испуганное, ниц упавшее на грязный пол, в страхе и трепете человеческое стадо или животный покой изнемогшей плоти. Человеческие тела, охваченные сном. Соперничество за скамейку, за стену, к которой можно прислониться. Анабиоз братских чувств. Мучительная духота. Дни: головная боль, сон наяву. Явь, похожая на сон. Москва – в судорожной попытке убежать от фугасов и пожаров. На площади у Курского вокзала несметная толпа беженцев. Ими переполнены дороги даже от пригородных станций. Когда ехала из Никольского, приехала не задавленной только благодаря чуду – охранял какой-то парень, принял на себя лавину сундуков и кулачный бой за места у стены площадки. В Никольском, как и у Добровых, – высокая ступень мужества. Ирис – св. Женевьева на картине Дени. Мысль о Содоме и Гоморре, который мог быть спасен из-за двух праведных. Даниил в пожарной охране: “За 20 лет первое дело, в котором чувствуешь себя нужным”.
Ах, все не то, не то я пишу. Это такое частное, такое малое. Надо было начать с апокалипсического неба, которое я увидела 22-го, когда отворила дверь Аллиной квартиры (не хотела идти в бомбоубежище) и увидела в огромное окно перед лифтом скрещение ракет, прожекторов, ровные частые ряды молний на фоне алого зарева и какие-то зловещие зеленоватые шары, плавающие в этом море света и точно виноградные гроздья свисающие неведомо откуда. И все это знаки, говорящие каждой душе о том, что исполнились времена и сроки, что переполнена чаша гнева хозяина жизни – за то, что мы сделали с нашей жизнью – каждый из нас, за исключением “двух праведников – как в Содоме и Гоморре”. И все человечество, вместе взятое. И была другая ночь, когда молчали зенитные орудия, а по всему горизонту и еще в разных местах разливалось безмолвно и росло и умножалось багровое пламя пожаров. Казалось, Москва за ночь должна сгореть вся. И было удивительно, когда утром оказались уцелевшими и ряды улиц, и площади.
…Хочется верить, что сгорит в этих пожарах, которые загорелись над нашей страной, до конца сгорит все темнящее, тяжелящее, обескрыливающее нашу жизнь и все “слишком человеческое” в каждом из нас.
51 тетрадь 28.7-23.8.1941
28 июля. Малоярославец
Есть рубежи в жизни страны и в жизни отдельного человека, когда трудно найти идущему через такой рубеж слова, которые бы верно отражали, что делается с человеком и вокруг него. Динамика душевных событий в такие дни стремительна, день равен по своей насыщенности целому месяцу, угол зрения нов и необычен – новизна его в совсем ином строе чувств и мыслей, чем-то новое, что уже было в прошлом. И потому, если заговоришь о настоящем моменте – слова кажутся бедными, косноязычными. Или впадаешь в сушь газетной реляции.
В моменты катастроф большинство людей заболевают тем, что Толстой называет “сумасшествием эгоизма”. Прежде всего эта болезнь схватывает тех, кто в обычное время не обладал способностью “слышать, видеть и понимать”.
Те, в ком до катастрофы теплилось сознание непреходящести их жизни за порогом того, что называют смертью, и доверие к Руке, ведущей их через отрезок временной жизни и через грань смерти, – также могут ослабевать и падать духом. Но в их внутреннем мире есть убежище, куда поднявшись, они обретают стойкость духа, готовность к тому, что их ожидает, и в этом убежище крепнет их доверие к Руке, ведущей их. Некоторые из них получают возможность и право светом, разгоревшимся в их душе, освещать и другим, ослабевшим, их путь и служить им опорой, когда катастрофа выбивает их из равновесия. (Наталья Дмитриевна Шаховская. Позднейшая, после ее смерти приписка.)
Потерявший равновесие или впадает в панику животного ужаса и в “сумасшествие эгоизма” по отношению к другим людям, или находит это равновесие в ярко вспыхнувшем сознании своего братства с людьми, своей тождественности с ними, и отсюда в новой, озаряющей нездешним светом его путь любви. Той, о которой сказано: совершенная любовь побеждает страх.
Чудо такой любви мне было дано увидеть в работнице Шуре по отношению ко мне, старой бабке, которая во многом ей была чужда и непонятна, многими свойствами могла не нравиться. Кроме того, у прислуги всегда есть не то зависть, не то пренебрежение к бедным родственникам или призреваемым лицам в богатой семье. Были эти штрихи и в Шурином поведении в мою сторону, хоть и смягченные тем, что я охотно учила ее грамоте и научила писать счета.
В дни, когда загрохотали над нами фугасы и зенитки – и в Шуре отразилось это как светопреставление, – испуг Шуры доходил до физической драмы, до полуобморочного состояния. Она заметила, что у меня его не было в те часы, когда мы оставались с нею вдвоем в квартире. И это было первое, что ее ко мне приблизило. Потом, когда Тарасовы стали лихорадочно собираться в бегство из Москвы, а на ночь уезжали ночевать на дачу и Шура поняла, что я в бегство их не включена, она прониклась ко мне страстной жалостью и целые дни изыскивала способы, как помочь мне добраться в Малоярославец. Для того, чтобы получить билет, нужно было полсуток простоять на вокзале. Этого она не могла сделать, так как на ней лежал ряд обязательств по дому. Но заботы ее и разговоры везде, где можно было разговаривать на тему о моей “покинутости” семьей Тарасовых, привели к тому, что лифтерша Дуняша за 30 рублей причислила меня к своей семье, эвакуируемой на родину, под Малоярославец. И 26-го подоспевший со своей литражкой Алеша доставил меня в сопровождении Шуры и Алешиного отца на Киевский вокзал.
Киевский вокзал. Надо было провести в нем до посадки около трех часов. Самой бы мне не донести тюки с моим скарбом, да и без вещей при условии бега, толкания и лозунга “спасайся, кто может” вряд ли удалось бы мне “спастись” без Шуры и Александра Петровича. И вот тут-то я поняла, о чем говорит притча о милосердном самарянине. Как евангельский путник, избитый и ограбленный разбойниками, я была брошена разбойными налетами в беспомощном положении. И два милосердных самарянина – Шура и Александр Петрович – на Киевском вокзале были самыми близкими мне в тот час людьми. В самом высоком и незабвенно важном смысле. Потому что и я была для них тем ближним, который получил от них доказательство самой высокой, действенной любви, о которой сказано: “больше нет той любви, когда положат душу свою за други своя”[599]. На вокзале оставаться было далеко небезопасно. От глухих и все приближающихся выстрелов вздрагивали стекла вокзального фронтона. Вражеский самолет явно кружил над вокзальным узлом. Огромная люстра, под которой мы случайно сидели, качнулась. Шура опасливо поглядывала на нее. Я поняла ее мысль.
– Ты отойди, Шурочка, подальше, вон в тот угол. Там безопаснее в случае чего, – сказала я.
– А вы?
– Мне нечего от нее бежать. Это неплохой конец, если она сорвется.
– Вы думаете, что придавит сразу?
– Конечно.
– Так и будем же вдвоем помирать, – с прояснившимся лицом сказала она и прибавила: – Мне чего-то совсем не страшно.
И недаром в это утро вырвались у нее слова, когда были какие-то запинки с моим отъездом:
– Я бы всю душу отдала, только чтобы вам уехать…
В огороде у друзей, в хибарке, собственноручно построенной Мишей Бруни.
(Миша Бруни – старший сын Анички Полиевктовой, которую знаю с десятилетнего ее возраста. Талантливый футболист, студент-физкультурник, бросивший свой факультет, скрипач, портретист-самоучка, выдающийся макетист при Большом театре, попутно прекрасный огородник при домишке матери.) Встреча с Мишиной бабушкой, Татьяной Алексеевной. Приехала к дочери Аничке. Кроме нее еще 2 старухи (у нас их, включая меня, – четыре). Одну чужую, три дня не евшую старуху актом милосердия и героизма с великими трудностями вывезла из Москвы Мишина сестра, девятнадцатилетняя Настя, красавица, мятежная, авантюристичная натура, из тех, что носятся по свету, движимые волей к гибели, как бы выискивая места, где опасно, где рифы, подводные скалы, узкие проливы, путаный фарватер, штормы и водовороты.
Вчера мы едва уговорили ее не ехать за теплой одеждой в Москву, куда едва проскочил накануне поезд из обстреливаемого Очакова – в 14 верстах от города.
В огороде друзей мы сидели с бабой Таней (Татьяной Алексеевной) в игрушечно-сказочной избушке на несообразно высокой и широкой кровати и говорили о том, что фугас этой ночью попал в Угодский завод[600] (завода там уже больше ста лет нету). Попал в стадо. У нас от его падения зазвенели стекла, и мы с Машей поспешили раскрыть окна. Говорили о том, что в Боткинской больнице в отделение выздоравливающих от скарлатины детей также попала фугасная бомба и много детей искалечено. Почему-то немецкие бомбисты разрушают больше всего больницы. Если это не случайность, страшен в этом вызов человечности, круговой поруке Красного Креста. Может ли быть человеческая воля так насыщена духом убийства и разрушения, чтобы и свою жизнь человек ставил на карту, и тысячи чужих жизней обрекал на муки и гибель – из-за чего?
Чтобы немцам в будущем (и как неверно такое будущее) жилось сытней, удобней и написал бы историк, что в таком-то году (и на такой-то срок) Германия одержала блистательную победу.
Нам довелось в эти ночи быть свидетелями этого блистания. И заплатили за него жизнью и ранами и увечьем дети Боткинской больницы.
И когда мы с Татьяной Алексеевной говорили о “войнах и военных ужасах”, на пороге раскрытой двери сидела восьмилетняя внучка ее, Дашенька, летучее, белокурое, легкое, как мотылек, дитя, и вполуха прислушивалась порой и сейчас же из детского инстинкта самосохранения переставала слушать и с улыбкой что-то лепетала своей кукле. А за нею из густой зелени огорода глядел только что расцветший алый мак. И хотел успокоить и не мог, а только глубже и тоньше ранил душу своей красотой.
Как хочется какой-нибудь воинской повинности для себя. Как понимаю Ириса и Даниила, с чувством глубокого морального удовлетворения дежурящих в пожарной охране по ночам. И какая это печальная анафема старости – отсутствие легкости, ловкости, выносливости и просто физических сил, нужных, чтобы поднять зажигалку в 5 килограммов.
Вчера еще во время оборонной лекции у колодца лектор, когда объяснял, как обращаться с зажигалками, как тушить пожар, досадливо сказал: “Конечно, не из старух надо формировать пожарную дружину”.
1 августа. Малоярославец
Этой ночью дежурила от 12-ти до 2 часов ночи у окон и во дворе. Счастлива, что пригодилась дорогой мне семье хоть на это. И очень пригодились во внутреннем мире моем эти часы и для меня. Установлю этот порядок и на последующие ночи, какие мне будут отмерены. Важно, что Наташа, в непрерывной работе суетящаяся весь день, в это время будет отдыхать. Ночь была спокойная – только вдалеке маячили ракеты, казавшиеся крохотными звездами. И до зенита неба разливалось бледное вздрагивающее сияние.
Татьяна Алексеевна в огородной хибарке сейчас рассказывала мне, что видела в эту ночь 9 самолетных эскадрилий, промчавшихся к Москве, и слышала пять фугасных ударов – один посильнее, другие совсем глухи. Говорят, один фугас грянул прямо в костер, разведенный пастушонками в 10-ти верстах от города. И дети, и овцы, конечно, погибли. Татьяна Алексеевна при всей страстности своей натуры и горячести любви к дочери и внукам в глубине души спокойна, то есть внутренно готова ко всему.
“Хлеб наш насущный даждь нам днесь” – расширять и усложнять эту молитву в такую годину, как наша, – кощунственно. Когда стояла в райсобесе за распределением пенсионерской очереди (и в количестве целого кило), эта смиренная и тревожная дума о хлебе и мольба, обращенная к пухлому, алкоголичному председателю, была почти на всех лицах. И какая горестная растерянность охватывала тех убогих старух, которые не получали права на хлеб насущный или потому, что числились иждивенками детей, которые их не желали кормить, или не имели ни пенсии, ни достаточно инвалидного вида.
Странное было явление во время моего дежурства. Вдруг стала меркнуть луна, низко стоящая над концом нашей Успенки, и когда я высунулась в открытое окно, я увидела огромную стену дымно-белого тумана, быстро надвигающуюся с этого конца, так что через минуту и перед нашим домом туман поглотил все соседние предметы. Запаха никакого не ощущалось, но столько пугали химической атакой “коварного и беспощадного врага”, что явилась невольная мысль: газы. Разбудила Наташу. Она, спросонок бросившись к окну, прошептала: “Дымовая завеса”. Но скоро спокойным голосом сказала: “Давай решим, что это явление естественного порядка” – и пошла спать.
У меня на страже – состояние подъема, как струны, натянуты нервы, и воображение то и дело рисует, что должно вот-вот произойти и что, к счастью, ни разу не произошло. У Наташи завидное, ровное, крепкое, не глядящее вперед спокойствие истинного мужества.
7 августа. 11 часов ночи
В ожидании тревоги пробую писать при лунном освещении.
В каждой тревоге три момента: сначала лают собаки, потом воет сирена, потом гудят аэропланы и начинается в небе игра прожекторов и ракет. Апофеоз тревоги – стрельба и пожары, к счастью, бывает не всегда.
Непрерывное дежурство у колодцев, чтобы диверсант не подсыпал яду. Дежурят дремлющие, а то и крепко спящие домхозы. Наташа через 3 ночи на 4-ю сидит на скамье против колодца с 2-х часов ночи до 6-ти утра, несмотря на протест бабушек, – туберкулез горла домкомитету не кажется достаточной причиной.
Вошла в круг милых мне лиц Наташина двоюродная сестра Наталья Сергеевна Шаховская (здесь ее зовут Таличка). В рамке густых стриженых, снежно-белых волос молодое (ей за 40) лицо. Умное, внимательное, с хорошими серыми глазами, с ясной девической улыбкой. И голос, и манеры – молодые, но не молодящиеся. Прекрасные породистые руки. Все существо ее как бы говорит: “Я не ищу того, что называют «личной жизнью» и ни за чем не буду гнаться. Буду работать (она бухгалтер) и мужественно встречу старость, как и все трагическое, что подстерегает человека, особенно в такие дни, как теперь”. Через день по служебной обязанности она дежурит в их учреждении и с юмором рассказывает о тех опасностях, какие были в ее дежурные ночи. И о безобразном, пьяном окружении служащих и начальствующих в нем лиц.
“Возмещение отсутствия ребенка” (выражение Пантелеймона Романова) – для нее в повышенной любви к шестнадцатилетнему племяннику. Она охотно и тепло говорит о нем, о его рыцарском к ней отношении, о его свойствах, вкусах и привычках. Но и это в ней как-то уравновешено и всё – прямо, чисто, без оглядки на себя, ничего напоказ. Никому не придет в голову сказать об этой седой девушке “старая дева”, хотя возраст ее в соединении с целомудренно-ясным впечатлением девичести сразу чем-то останавливает внимание.
Недавно случайным образом узнала, что в Малоярославец 3 месяца тому назад приехала и купила дом племянница Ивана Алексеевича Новикова (писателя) Евгения Андреевна Новикова и что она услышала обо мне и очень хочет повидаться. Третьего дня утром я взяла Нику и пошла с ним разыскивать ее дом. Он оказался на Ухтомне, в узеньком тупичке на склоне высокой горы над оврагом и обширными приречными лугами. Большой вишневый сад, чудесный вид на луг, на извилистую речку и на амфитеатр трехпланных лесов, кончая моим любимым туманно-лазурным, похожим на далекое море третьим планом. Навстречу нам выбежала хозяйка дома, Евгения Андреевна, для меня – четырнадцатилетняя Женя, с которой я познакомилась в 1909 году в Туле, когда ездила в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому. Теперь Жене набежало 46 лет, и я стала из 40-летней писательницы, ходившей в пестрых кустарных одеждах, беззубой бабкой. Но мы сразу узнали друг друга и странно горячо обрадовались встрече. Я – потому что охватило меня живое воспоминание о целой полосе жизни, далекой, невозвратимой и волнующе-милой при ее воскресении в памяти именно тем, что она так далека, невозвратима и так не похожа на последний отрезок моей жизни. Женя обрадовалась мне, как я потом выяснила, как празднично-яркому в их тульской жизни воспоминанию о приезде московской писательницы в дни святок, о моих рассказах про Толстого, святочных играх вокруг елки, в которых я принимала участие. И тогда, как и теперь, мостом, перекинувшимся между мной и их многодетной семьей, был их дядя, писатель Иван Алексеевич Новиков, в те годы связанный со мной живым дружеским общением. Впоследствии жизнь на физическом плане нас как-то раздвинула, но зерно живой душевной связи, очевидно, не умерло и незаметно пустило какие-то ростки и в душе детей, выросших под его моральной опекой.
У Жени (для меня у четырнадцатилетней гимназистки Жени) двое детей, семилетняя темноглазая, на рафаэлевского херувима похожая девочка Людмила и светлоглазый пятилетний мальчик Андрюша. Она подвела их ко мне с таким видом, как подводят детей к священнику для благословения, и я, целуя их головки, почувствовала, что не просто знакомлюсь с ними, а из самой глубины души благословляю их.
И мне жалко, что эта вчера еще чужая и незнакомая женщина должна скоро покинуть Малоярославец. Дети плохо выносят бомбоубежище; спасая их, она решила искать пристанища во Владимире, куда уже уехала ее младшая сестра, Аля. Ее тоже хорошо помню: пяти-шестилетняя миловидная девочка, любимица всех старших сестер и братьев. Матери у них не было, отец тоже отсутствовал, и жили они с дядей Ваней (писатель Новиков), которого любили как отца и как близкого друга– товарища.
С Женей находится здесь сестра – Верочка. Ее узнала по необычайно блестящим, умным черным глазам. Она одинока, то есть не замужем. Научный сотрудник при Академии, увлекается физикой, работой по спектральному анализу и т. д.
11 августа
По словам приезжих из Москвы, продолжается бегство из нее. Увеличилось еженощное разрушение от фугасов; зажигалок меньше бросают. Но появилась комбинированная зажигалка-мина. Кто ее схватит как обыкновенную термитку, погибает от взрыва. Да упадет вечный позор на имя изобретателей таких комбинаций.
Вчерашняя тревога прошла в полной тишине – если не считать гудения самолетов. Отбой зато был дан только в четвертом часу. Мой дозор осложняется тем, что ночи очень холодные и я не могу долго дежурить на дворе, а только выхожу по временам проверить юную пожарную стражу. Лизу застала спящей на террасе так крепко, что даже не могла разбудить ее. Арсений[601] (двоюродный брат детей, здешний учитель, математик – 23 лет), только что приехавший, так истомился к 2-м часам, что уснул стоя, облокотившись на засов ворот. А между тем, говорят, самый нужный для бодрствования час, когда самолеты возвращаются с набега и облегчают себя, сбрасывая куда попало и фугасы, и зажигалки.
Узнала из газет, что Алла и Москвин никуда не уехали. Алла 8-го играла в “Трех сестрах”, и сбор был полный (!). Гладиаторская жертвенность актеров (Цезарь – государство) и неистребимый лозунг толпы – “Хлеба и зрелищ”. К фугасам привыкли (“Ко всему подлец-человек привыкает” – Достоевский). И летящая с воем и грохотом над головами смерть не переключила внимание к ценностям высшего, чем хлеб и зрелища, порядка.
Надо будет одеться потеплее и все-таки самой дежурить на дворе. На детей нельзя положиться.
16 августа
У почты встретилась лавина беженцев из-под Смоленска. Прохожие стояли у стены и пережидали, пока схлынет поток оборванных, пропыленных, усталых и откровенно голодных людей. Одни мужчины, в возрасте от 18 до 50–60 лет. Некоторые у раскрытых окон и у женщин, которые со страхом и с жалостью на них смотрели, просили “шматок хлебца”…
К вечеру их свели на луг, но неизвестно, накормили ли. Не хватило, думается, у города хлеба на такое огромное количество и таких голодных гостей. На их несчастных, изможденных, угрюмых лицах легко было прочесть, на какой способ утоления голода натолкнет их история, психология и прежде всего физиология, если не сумеют наладить их питание.
Вернулась вчера Маша из Москвы. Говорит – настроение в Москве подавленное, растерянное. Толки об эвакуации, очереди. По карточкам только хлеб. По дорогим ценам (масло 50 рублей кило, сахар – 15, белый хлеб вдвое дороже, чем был) – все есть. Из не подорожавших предметов назвала яйца, молоко. Приехала девочка взбудораженная и угнетенная, с какой-то сердито-пессимистической окраской речей, ей раньше несвойственной. В институт ее приняли, но когда занятия (и будут ли) – неизвестно. По Москве бродят зловещие слухи о каких-то отравленных бомбах (и в здешней “Искре” о них писали).
19 августа
День Преображения. Любимый праздник мой, Сережин и его отца.
Когда-то, в далекие времена, отец Сережи подарил мне кольцо, на котором были вырезаны слова “свете Радости, свете Любви, свете Преображения”. И горько поплатились мы за это кольцо. Он – за то, что от человека, от слабой и грешной женщины ждал этого света. Я за то, что считала себя несущей этот свет. И чувство, нас связывающее, принимала за путь – притом для нас единственный, – ведущий к преображению.
Враг идет к Москве Можайской дорогой.
Как странно мне произносить слово “враг”. Есть люди, которых я не могу принять, не могу любить (что меня очень мучает). Но то душевное движение, которое заставило здешнего какого-то Главка, Панченко, ударить кулаком и ногой пленного летчика, не только мне чуждо, но отвратительно, и в тот момент скорее Панченко, чем этот летчик, ощущался бы мной как враг. Такое же содрогание всего нравственного уклада моего существа вызвала статейка Алексея Толстого под заглавием: “Я призываю к ненависти”[602]. И кто он такой, разжиревший барин-паразит, вагонами тащивший себе вещи из Львова, откуда у него эти слова, это право “призывания” какого бы то ни было к чему бы то ни было…
Живое, “достоверное” общение с матерью в сегодняшнем сне. И как не раз уже было – в какой-то странной, неуютной обширной гостинице, знакомой лишь по сновидениям. Мы живем с ней только вдвоем. Спим в разных комнатах. Но мне становится страшно в моей постели, как бывает необъяснимо и необоримо страшно только во сне, и я вхожу в ее комнату и забираюсь в ее постель и говорю ей: “Мне стало страшно”. Она, как почти всегда в моих снах, молодая, какой помню ее в моем детстве. (Иногда старше, но никогда в том дряхлом виде, в каком была в последние годы. И всегда зрячая. За 16 лет до смерти она ослепла.) Мать дает мне место рядом с собой, обнимает и ласкает и успокаивает меня, а я прижимаюсь к ее груди, как никогда, даже в детстве не было (всегда были какие-то странные, болезненно не допускающие телесной близости ласки, простоты и непосредственного тепла отношения). Просыпаюсь успокоенная, с теплым, благодарным к матери чувством. И с воспоминанием до мелких подробностей встречи. (Коридор гостиницы и то, что дверь оказалась незапертой, когда я вошла прежде, чем лечь в свою постель. Странное, воспаленное лицо коридорной горничной, заглянувшей ко мне. Большая двуспальная кровать матери, ее косы, тепло ее груди.)
21 августа
Жутко темная ночь за окном. Пишу при крохотном свете скудной лампы с нахлобученной на нее синей бумагой. И это после полного отсутствия по ночам света кажется роскошью.
Ленинграду дано три дня для эвакуации. Если верен слух, что решают его взорвать перед тем, как сдаться, – какое безумие. Город Петра, город Пушкина, Эрмитаж, Исаакиевский, дворцы – неужели подымется у народа, у тех, кто за него так предрешил, рука на такой акт варварского самоубийства.
54 тетрадь[603] 6.1-25.4.1942
6–7 января 1942 года. Малоярославец[604]
Второй день уже, как германцы не кидают на беззащитные наши головы свои гнусные бомбы, ядра и еще какие-то мины. Кто выходил на улицу в эти дни, говорят, что город имеет обгорелый, разоренный, полуразрушенный вид. Девять десятых населения спряталось от бомбардировки немецкой и от боев русского наступления по окрестным деревням. 31-го немцы к вечеру начали жечь дома, где не было налицо хозяев. Со всех сторон небо запылало розовым огнем зарева. Мы с Татьяной Алексеевной[605] (я с 26-го перешла к ней) прилегли не раздеваясь в ожидании, что будут жечь и наш дом, так как хозяйка его уехала. В 4 часа ночи мы услыхали, как ломают забор соседнего дома и по улице перекликаются мужские голоса. Мы собрали документы, кое-какие вещи и решили спасаться от пожара и хулиганов (конечно, для поджогов они поспешили присоединиться к немцам). Спасения другого нам не было, как поспешить в пустой курятник на конце длинного, заметенного сугробами двора. Когда я перебиралась через эти сугробы, над головой моей затрещали пулеметы, заахали дальнобойки и зачертили свои алые параболы минометки. Татьяна Алексеевна была уже в дверях курятника и отчаянными жестами призывала меня. А я упала в сугроб, из которого не сразу могла выбраться. Снег вокруг от мин был розовый, и все было неузнаваемое. Зона убийства, его звуки, его права и законы, ад на земле, подобный тому, какой в детстве рисовался в преисподней. Я бросила мешок и не могла уже вернуться за башмаками, калошами и одеялом, которое оставила в сенях на вязанке дров, причем не закрыла в сени дверь, что имело для нас очень скверные последствия, об этом будет речь ниже. В курятнике мы забились в угол и прилегли на мерзлую, оснеженную землю и на какие-то поленья. Татьяна Алексеевна все вытягивала голову, все приподнималась, и я молча пригибала ее к земле. В щели старого сарайчика были видны то молнии выстрелов, то красноватые вспышки мин. И с двух сторон раздавались голоса, воинственные крики “вперед, товарищи!” и трескотня пулеметов. Мы поняли уже, что это наступление наших войск (город ждал его позднее). Была ли у нас надежда, что мы уцелеем? Трудно сказать. Было огромное напряжение всех сил души и нервов, нужное для готовности принять смерть. И было выжидание – вот-вот в следующую секунду уже будет Она. И не страх (страха не было), а ужас, относящийся не к себе, не к лежанию нашему на морозной земле под перекрестными выстрелами, а к тому, что есть на свете убийство, есть война, что это реальность, что это смеет быть реальностью. Протеста – за себя – не было. Вместо него было такое чувство, что это мое место, мое время, мне сужденная судьба (к бомбовозам у меня этого нет, против них, против их устремления на меня я протестую всем существом).
В этой вневременности, куда мы попали, осознался впервые какой-то срок, какой-то возможный сдвиг, из-под свиста, треска и мелькания световых линий, убийства – только тогда, когда раздались совсем близко тихие человеческие голоса. Мы выглянули, не вставая из двери, и увидели ряд высоких белых привидений, прижавшихся к забору. Эти фигуры могли оказаться и немецкими, но что-то подсказало, что это русские. “Это наши?” – спросила я почти шепотом, но они услыхали, и один из бойцов в белом балахоне зашагал к нам через сугробы. “Немцев тут нет?” – вполголоса угрозно спросил он. Мы ответили: “Здесь только мы, две старые женщины, спрятались от боя”. – “Лежите и не двигайтесь”, – сказал он, и, точно привидения, те фигуры, что были вытянуты у забора, и он, к нам подходивший, в одно мгновение исчезли, и снова мы вверглись во вневременное. Так было от ½ 6-го до 9-ти. Уже стало светло. Крики сражения, выстрелы, посвист мин разредились и стихли. Мы осмелились подняться с земли и, уже стоя, выглянуть из двери. Навстречу нам, ковыляя в сугробах, шел невысокий с добрым русским лицом красноармеец. Мы бросились к нему, как к избавителю, и залепетали что-то старушечье: “Можно ли нам домой, можно ли войти в дом? Правда, голубчик”. – “Можно, можно, мамаша, отчего нельзя!” – ободряюще сказал он и, подхватив мой рюкзак, который валялся на снегу, донес его до дому. Как я была ему рада, как благодарна, как любила его, когда он вошел вслед за нами в нашу квартиру. Поцелуи старухи далеки от того, чтобы быть наградой за спасение, но я не могла удержаться, чтобы не обнять его и не поцеловать его милое, заветренное, подмороженное и такое родное-родное лицо. Татьяна Алексеевна поспешно разогрела для него вчерашний суп, и эта форма награды за спасение пришлась для него очень кстати. В эту боевую ночь он, по-видимому, сильно проголодался.
А не закрытая мной дверь имела вот какие последствия. Через двое суток, когда мы уже были в постелях, к нам в прихожую ввалились с топотом и бряцаньем ружей красноармейцы. Мы ожидали на ночь постоя и потому не удивились. “Проходите в большую комнату, там горит лампа, только она убавлена”, – с обычной приветливостью сказала Татьяна Алексеевна, не вставая с постели. Но вместо того, чтобы идти в другую комнату, они вошли в нашу и молча полезли щупать штыками под кроватью. Я была удивлена и задета этим. Бойцы были уже знакомые – стояли с нами рядом и не раз заходили к нам.
– Что это вы, товарищи, кажется, немцев у нас под кроватями подозреваете? – спросила я с упреком.
– Устав, мамаша, – мрачно сказал один. А другой сплюнул и пробормотал какое-то ругательство. После этого оба вышли, и через минуту мы услышали их топот на чердаке, яростные крики: “Не пускай, лови, держи!”, и слышно было сквозь выстрелы, что кого-то на дворе схватили. Мы поняли сразу, что на чердаке нашего дома спрятался немец и что для Татьяны Алексеевны это может иметь роковые последствия. Она вскочила и бросилась к ним навстречу, когда ввалились в дверь оба красноармейца в сильнейшем возбуждении (страшный это и мгновенно действующий наркоз – акт убийства, готовность к нему, необходимость его). Из благообразных, добродушных лиц глядело дикое, яростное, зверское начало, изо рта у одного вылетали хульные, непечатные слова, когда он надвигался на Татьяну Алексеевну с гранатой в одной руке и с наганом в другой.
Товарищ его вторил ему такими словами, как “расстрелять – и все тут. Дочь за немца сосватала. Как ты, сука, дочь свою воспитала. Догоним ее, достанем дочку твою. Ты не думай, такая-сякая. А ты тут немцев по чердакам прикармливаешь!”
Напрасно я старалась перекричать их, что тут, верно, моя вина, что я бежала последняя и не успела затворить дверь. Напрасно Татьяна Алексеевна клялась, что никакого немца она прятать не могла, что она русский человек, что не могла сделать такой подлости, и еще какие-то слова и клятвы. Напрасно я требовала, чтобы допросили меня, так как я знаю Татьяну Алексеевну 30 лет и могу за нее ручаться, – оба поимщика были в неукротимом состоянии и ушли, пообещав очную ставку с немцем. В это время (тоже какое-то вневременное время) к ним присоединился очень культурного вида, хорошо причесанный, с элегантно пробритой черной бородой на гипсово-белом лице и с черными глазами без взгляда молодой человек. Когда бойцы нас поносили, он, верно, допрашивал немца, как он к нам попал и чем кормился эти два дня. И когда я обвиняла себя за то, что не заперла дверь, убегая в курятник, и высказала подозрение, что, может быть, он взял тот большой кусок хлеба, которого, вернувшись, не нашли на блюде среди стола, человек с гипсовым лицом спросил мимоходом: “На круглом блюде?” – и после утвердительного ответа у него мелькнуло по лицу какое-то удовлетворение. Немец оказался честным человеком и не захотел перед смертью оклеветать нас – да и чем бы это помогло ему? Он знал, что все равно обречен через какие-то минуты умереть, что пленных в этом бою не берут.
Вся наша улица, весь перекресток усеяны в эти дни и ночи трупами павших во время боя и расстрелянных немцами. Они до сих пор лежат на тех же местах с раскинутыми, с поднятыми кверху или прижатыми к груди руками. В Рождественскую ночь сильный снегопад и вьюга милосердно прикрыли от наших глаз это зрелище.
На другой день вчерашний кровожадный ругатель вошел ко мне опять с добродушным участливым лицом:
– Ну, как, мамаша, жизня-здоровье? (У меня был, как и накануне, приступ гриппа.)
– Сами видите, какая жизнь, – сухо сказала я.
– Ничего-ничего, мамаша. Вот только жуков с чердаков, чердачных крыс этих, выгоним, все будет ладно. Перемелется – мука будет. Кто перед родиной не виноват, тому нечего бояться.
Больше я его не видела.
9 января. 8 часов вечера. У Наташи
Под скрежет зубовный ручных жерновов, на которых Маша мелет в углу ржаные зерна.
Рядом со мной – елочка в блестящих шариках – жестокий контраст с цепенящим холодом, с выбитыми и фанерой забитыми окнами, с жужжанием немецких бомбовозов и выстрелами зениток, их отпугивающих, с отсутствием хлеба, с кониной, которой так обрадовалось голодное население.
Зачем пристроилась я сейчас у моргослепой лампы среди теснящейся к ней семьи – кто с починкой валенок, кто с заплатами пальто. Дим и Ника, заткнув уши, ушли всем существом в Джека Лондона. (“Без книги было бы слишком тяжело жить в наше время”, – сказал недавно Ника в ответ на упрек, что его не оторвешь от книги.)
Зачем же, кому нужна эта тетрадь и мне зачем процесс в ней писания? Через минуту может раздаться грохот над нашей головой и от всех и от этой тетради ничего не останется.
Три моих предшествующих тетради пропали. И я это пережила как утрату чего-то и другим нужного, чем-то мне дорогого. Там были кусочки истории огромно важного момента в жизни моего народа и в моей жизни. Правдивое отражение того, что “оружием прошло”[606] через наш город и через деревню Ерденево[607], где я прожила месяц. Прошло и через мою душу.
…Три дня, как я снова здесь, под Наташиным кровом. Тот угол города, где я прожила 10 дней и пережила “военные ужасы” наступления, отодвинулся в прошлое (стремительна динамика событий в наше время).
Вчера от тети-Наташиных[608] военных узнали, что в Подольске открыты церкви, а также и несколько церквей в Москве. По словам этих сообщителей, “в связи с дружественным влиянием Англии и Америки произошел поворот вправо в вопросах религии”.
Умная, психологически необходимая в данном моменте мера. Нужно было видеть, как всколыхнулся, как ожил внутренно народ, когда при немцах пронесся слух: “открывают церкви” – и как потом, когда открыли в городе монастырскую церковь, старые и малые и молодежь толпами стекались в это единственное в годину бурь “пристанище небурное”.
13 января
Бедствия фронтового нашего быта углубляются: пришел к концу керосин, дотапливаются печи последними дровами. Моральная энергия Наташи, мужество ее – велики, но телесно она до предела истощена и так худа, что никто не пройдет мимо, не подумав: вот человек, который дошел до такого голода, таких лишений и мук, что дальше идти уже некуда.
Полдень. Мороз. Налеты, стрельба зениток. Паша вбегала с утра несколько раз к нам из кухни с перекошенным от паники лицом: “Воропланы! Сбрасывают! Что же вы сидите, как святые!” На что Маша откликалась с присущей ей беззаботностью и храбростью:
– Ну и пусть сбрасывают! – и продолжала говорить об очередных делах. Заячье чувство – приостановка жизненного пульса, ощущение зубов гончей собаки на своей плоти – все реже возвращается ко мне. В начале бомбежек его почти не было. После близких взрывов и двух боев – ерденевского и здешнего, новогоднего – оно порой овладевает мной. И как я ни стыжусь его и ни стыжу себя за него, бывали часы, когда вся душа охватывалась ожиданием “болезненной, наглой и постыдной кончины” для себя и для близких.
Бедные дети. Каким трагическим ликом обернулась жизнь к неопытным, неокрепшим их душам и какие неудобоносимые бремена возложила на юные их плечи. Со дня наступления немцев вся тяжесть и все опасности фронтовой жизни и борьбы за существование в самых тяжких условиях обрушились на них как на единственную опору их матери. Одной ей не справиться бы с кормлением и обслуживанием своей семьи и шести старух, высасывающих соки из древа Наташиной жизни и ее молодняка. Сколько было забот, возни, трудов с коровой, с добыванием сена и сколько огорчения, когда корову украли ночью за три дня до того, как ей телиться. Только высокая настроенность матери и мужественное приятие ею этого удара помогло им не пасть духом. Новогодний бой послал взамен молока, на которое было столько надежд, конину. И дети приняли это с благодарной улыбкой от судьбы. Сейчас Маша, Дим вместе с матерью, вооружившись топором, пошли (в числе многих граждан) на поиски убитой лошади. Рубят у коней кто задние, кто передние ноги, кто вырезает филе и антрекоты. Сегодня все у нас (кроме Ники и меня) на завтрак ели студень из лошадиной головы.
Если достоверен слух, что скоро начнут выдавать хлеб – и будто бы по 400 грамм (до сих пор у нас и по 200 было не каждый день), кончатся Наташины и детские экскурсии с остатками скарба по деревням в обмен на рожь, с которой столько возни дома – сушить, отсеивать, молоть на ручных жерновах, просеивать.
15 января
Земля в сугробах, небо в снеговых тучах. Потепление. Бойцы наши пошли в баню, а мы с Никой поспешили занять их комнату: Ника для уроков, я – для этой тетради. Бойцы вчера жаловались на то, что “мороз поменьше”; для войны с немцами было бы лучше, “если бы так градусов 40–50. Выморозили бы их начисто”. Ничего более кровожадного, к счастью, не прибавляли. Это просто оперативный план. Первые дни после наступления наших войск на Малоярославец – точно привкус свежей человеческой крови чувствовался в речах некоторых бойцов, когда они (с добродушнейшими лицами мирные колхозники) рассказывали друг другу, “как немчура” молил о пощаде, а ему размозжили морду и т. д. Не нужно вспоминать. Да переложится этот грех на Дракона Войны, который под всеми лозунгами прежде всего разнуздывает зверя в человеке.
Возвращалась с бидоном молока (и для себя беру через день стакан за 2 рубля). Утро было еще раннее. Густой снежный покров одел жуткие, безобразные груды развалин, окаймляющие улицы вместо домов на пространстве целых кварталов. Вокруг домов нет оград – сплошные пустыри с черными островами засохших от мороза два года тому назад яблонь. На пустырях прочищают пулеметы – не все знают, отчего они так энергично застрекотали. И среди редких прохожих встречаешь то женщину, с перепуганным видом ковыляющую через глубокий снег с ведром, то опрометью бегущего с оглядкой во все стороны подростка. Юный красноармеец кричит вслед бабе: “Шибче беги, гражданка. Немец в тебя из Медыни нацелился. За угол завернешь, он не увидит”.
18–19 января
Принес Гизелле Яковлевне красноармеец за урок немецкого языка бензину. Подсыпали в него соли и решились влить его в лампу с риском взрыва, возможность которого красноармеец не отрицал. И создалась среди занесенных снегом пустырей, пожарищ, развалин и полуразрушенных домов в одном из них при бензиновой лампе вечерняя идиллия. Наташа и мать ее пишут ответы на только что пришедшие вести из Казахстана (от Наташиной сестры Ани)[609], Дим срисовывает что-то из рисовального атласа, Лиза и Ника уткнулись в книги. Как все устали, как пресыщены фронтовой жизнью, войной, военными слухами. И как ни стараются отдохнуть от них, отдых фиктивен. Железо и кровь, обреченность страдать и умереть “наглой и постыдной смертью”, как тысячи мирных жителей под бомбами, сторожат сознание и жалят подсознание страшными образами, неправдоподобными снами.
…Как бы ни хотел человек, живущий на фронте, жить своей обособленной жизнью, или какой-то к фронту не относящейся работой, или воспоминаниями, созерцаниями и мечтаниями, ему это не удается. Вкус крови, боль ран, ужас убийства, смерть – войдут во весь его обиход. Возвращающиеся из церкви (в Кариже) люди расскажут ему, что весь луг, которым они шли, кроме одной дорожки, минирован немцами и везде череп и кости и слово “опасность” отмечают грозящие смертью места. И узнает он, что сегодня хоронят учительницу Анну Ивановну и ее мужа, которых на Новый год засыпал взорванный немцами дом. И увидит он, как дети волокут отрубленную голову и ноги коня – их почти единственную пищу, кроме мороженой картошки. И разбудят его ночью уханье зениток и жуткая музыка аэропланного гудения над его крышей. И услышит он утром, что где-то в городе или за городом сбросили две бомбы, 5, 7, 10 бомб.
20 января
Солнце. Мороз около 40. Плотной белой шубой мороза окутаны изнутри те немногие стекла, которые уцелели. Бодримся. Маша бегала и в исполком за хлебными карточками, и на почту. Дим и Лиза, как всегда, пилят в этот час дрова. Мы с Никой занимались два часа арифметикой и французским. (Возобновили регулярные занятия, прерванные наступлением.) Так бодро жили челюскинцы на льдине, прислушиваясь к новым трещинам на ней.
10-й час вечера.
Молодой месяц тоненький, острый над снегами на фоне гаснущего оранжево-розового горизонта. Что-то напомнил нежное, прекрасное, бесконечно далекое от фронта и от нашего быта.
Наташа вызывает из Казахстана Аничку (сестру). Наташа выбилась из сил. И призналась в этом. Сказала об этом громко, при детях. Она по-прежнему и даже там, где это не очень нужно, где бы могли заменить ее дети, обслуживает весь дом, в особенности – старух. Но у нее бывает иногда новая, какая-то джокондовская улыбка. Над нами. И над тем, что ей, столь нужной детям, приходится сжигать последние силы на служение обветшавшим вконец старухам, из которых две явно угасают.
21 января. Вечер
Мороз крепчает – “подбирается к 50-ти”, говорят дети. Второй раз затопили печку. Предвкушение горячего кулеша (пшено – гонорар девочкам за стирку). Как понятно опытным путем, что остались вне культуры эскимосы и другие в полярном холоде живущие народности. Еда (и – увы! самый процесс еды), тепло – потребность согреться становятся главными стимулами жизни, а там, где борьба за существование не облегчена технически, – эти стимулы, и цель, и смысл существования сводятся к вопросу питания и заботы, как бы не замерзнуть.
Мне рассказывал врач-полярник, какой праздничный подъем духа у чукчей, когда они “оборудуют” оленя. И когда поймают кита, молодежь пляшет вокруг него и на нем с кусками только что вырезанного из него жира в руках. Не могу не чувствовать аналогии с этим, видя, как дети целиком ушли в ожидание кулеша. И как радовалась я сама вчера, когда неожиданно у соседей угостили меня кофе с хлебом и с сахаром.
27 января
Лютый холод. Писать возможно, только закутавшись в шубу и прижавшись к полуостывшей печке.
Заходили в эти дни бойцы погреться на несколько часов. Однажды ночевали. Как значительна каждая встреча с ними. Теснота, духота, махорка, бытовые пертурбации, какие с их приходом связаны, – ничтожная плата за те часы причастия к их жизни, к их жертвенности и мужеству. И за то, что хоть чуточку можешь чем-то скрасить их путь материально или морально. Последняя моя встреча с ними была у соседки в Татьянин день. Татьяну Алексеевну я не застала, но у нее сидело двое бойцов, один из них командир. Зашел разговор о зимней и весенней кампании, какой грозили городу немцы, отступая. “Весенней кампании, мамаша, никакой не будет, – веско, но без всякого хвастовства сказал командир, рябоватый, задумчивый человек лет 40, с умным и твердым взглядом. – До весны мы у Гитлера всю его армию так разгромим, что он позабудет к нам дорогу”. Уходя, я низко поклонилась им обоим и сказала:
– Спасибо вам, родные, за все труды, какие несете, и за все, что терпите во имя родины.
И оба они встали и так крепко, что я чуть не вскрикнула, пожали мою руку. И один из них сказал:
– Спасибо и вам, мамаша, за то, что сочувствуете.
В последнее время бытовую сторону дней заполнил конский вопрос. Без конины для населения наступил бы голод. В частности для нас. У Наташи нет уже никаких запасов, кроме горсточки капусты на дне кадки. Картошку едим только мерзлую, выкинутую соседями, у которых есть и не мороженая (голодовка имеет свои степени). Дети прислушиваются к разговорам: где валяется убитый боевой конь. Узнавши, что в таком-то дворе, или по дороге в Карижу, или возле Красного металлиста, встают пораньше и одни или в компании с знакомыми детьми или соседками вооружаются топором, пилой и на несколько часов отправляются на добычу. Трудно рубить и пилить крепкие лошадиные кости и всю массивную тушу. Трудно выпиливать из початой уже лошади “ливер” – легкие, печенку. Иногда для этого волокут домой целую половину коня. Поистине герои труда.
6 февраля
Утром в сильном волнении вбежала в квартиру нашу Татьяна Алексеевна (Полиевктова) и громко на весь дом стала рассказывать, как в эту ночь в их районе бросили 12 бомб. Было четыре налета с 11-ти до 5-ти утра. Я была подавлена другим ощущением, и это все как-то притупленно вошло в мое сознание. Я была подавлена и морально и нервно измучена тем, что целую ночь дышала трупным запахом, который начал распространяться от флегмоны умирающей бабы Юли[610]. Все, кроме меня, хоть, конечно, и страдают от этого смрада, но могут даже есть у самых дверей ее комнаты. Я испытываю от таких запахов непрерывную мозговую тошноту и какой-то психопатический разлад во всем душевном – нервном аппарате, непреодолимо трудный и мучительный. По сравнению с ним бомбы – особенно те, которые над всеми нами уже пролетели, показались мне не заслуживающими волнений и забот. Да и как заботиться? Бежать некуда. От трупного же запаха попробую укрыться сегодня ночью у кого-нибудь из соседей, если найдется угол для ночлега. (Все переполнено военными постоями.)
Из окна комнаты тети Наташи
Из окна комнаты тети Наташи вид на обширный пустырь, который был до прихода немцев шиковским двором и садом и тем соседским садом, с которым он соединен, потому что все заборы разрушились; и видна стена из окна тети-Наташиной комнаты, кроме этого пустыря – по-военному оживленное Калужско-Медынское шоссе, которое идет параллельно нашей улицы. В сумерках, когда Николай жадно ловил остатки света, чтобы дочитать главу целиком поглотившей его книги, я стояла у окна и ждала появления гроба из шиковского дома. В нем должны были снести в бомбоубежище останки бабы Юли, туда, где уже покоились две недели останки сестры ее, бабы Клавуни[611]. Снежные сумерки были невыразимо печальны и зловеще мутны. Улица была пустынна и сугробна, как и садовые пустыри. Только изредка спешным шагом мелькали на ней один-два красноармейца или маленькие группки бойцов да согбенная под тяжестью двух ведер одинокая старушечья фигура. Я стояла у окна долго и себя начинала чувствовать уже частью этого сумеречного снежного, разоренного насквозь пустыря – “без имени, без отчества, без детей, без друга, без семьи” – в гробовом зачарованном покое, как вдруг тяжело выступила из дверей шиковского крыльца коротконогая, с головой, закутанной огромной шалью, Паша. В руках у нее была лопата; неуклюже и спешно она принялась счищать снег по дороге к убежищу. И скоро показался в этих же дверях тоненький, в ушастой шапке Дима, быстрая розовощекая Маша и на веревках, обмотанных вокруг их плеч, конец длинного, плоского ящика из грубых досок, мало похожего на гроб. Другой конец ящика хрупким своим, исхудалым плечом подпирала их мать, и на помощь ей кинулась с лопатой в руках коротконогая Паша. Шатаясь и сгибаясь от тяжести, спотыкаясь, припадая к сугробам, останавливаясь по временам, чтобы передохнуть, двинулись они в мутное, мертвенно-синеватое в гаснущих сумерках пространство, мимо черного остова высокой груши, погибшей в последние морозы, когда все плодовые деревья в городе погибли, и население связало это впоследствии с нашествием немцев. “Было нам предупреждение, – говорят старухи. – Заморозил Бог сады. А через два года, когда никто не покаялся, послал немца бомбить наши дома и нас самих. А теперь посылает голод. И мор уже идет. В Угодском заводе, говорят, сыпняк так всех подряд и косит”.
20 февраля. Утро (до чаю)
Яркий, уже по-весеннему солнечный луч в мириадах радужных пылинок тянется из окна, мимо чайного стола через две комнаты, до самой кухни. Благословенный солнечный луч. Благословенна ушедшая ночь, в которой не сбрасывали на нас бомб.
Ночные образы. Ночные мысли.
Интродукция:
Когда нет больших радостей, человеку свойственно малое превращать в большое. “Сахар, сахар выдают. И конфеты на один талон” (Ника с сияющим лицом). Радость, когда раздается в передней слово: Почта! Это, впрочем, уже из числа больших радостей.
27 февраля
Чудное хрустально-голубое утро. Мороз, но солнце светит по-весеннему.
Дается порой передышка, когда переносишься в космос, где все наши “бомбежки” – точно случайное и даже какое-то призрачное явление. И точно они совсем не в счет, не в них дело. А в том оно, что “жив Бог и жива душа моя”, – как и всякая человеческая душа. И звучит в морозном солнце и в лазури наших лесных далей сегодня “Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его”.
Бывают дни – в противоположность тем, какие в брюсовском календаре названы феральными[612], – дни, когда все идет как-то особенно складно и освещено особым, целительно обнадеживающим светом (то голубым, как сегодня, то розовым). И точно нет больше в мире аспидносерых и черных, буро-пятнистых красок.
Сейчас разговор о Юхнове[613]. До сих пор не взят, но, по словам красноармейцев, окружен. Трудно взять, потому что немцы устроили какие-то необыкновенные блиндажи, а у подступа – ледяные горы и всякие другие каверзы. “Сидят в блиндажах, и «Марья Ивановна» (нашего изобретения разрушительнейшая пушка) им нипочем. А как Марья Ивановна замолчит, они начинают в нас палить на каждый квадратный метр по ядру. И попадают ловко, мерзавцы. Народу скосили страсть сколько”.
Паша (со скорбным лицом у косяка дверей): “И нашего полу и детей покосили. Это как же они достигли? Говорят, у нас в лазарете столько женщинов лежит. И девочка десятилетняя. Зачем же их-то на фронт послали”.
Красноармеец: “Никто не посылал, мамаша. Перелет – или со зла бомбит немец прифронтовые деревни. К тому же в таких деревнях много наших бойцов. Женскому полу с ребятишками там не место. Им бы куда-нибудь податься в безопасные места”.
Паша (обиженно): “Да куда подашься-то. Вот мы за сто верст от фронта и то у нас бомбят. (Перекрестившись.) Не сглазить бы! вот уже больше недели не бомбят, слава Тебе, Господи”.
О немцах:
Красноармеец:
– Целый вагон в бараке, на станции, с отмороженными немцами. Носы, уши поотваливались, руки-ноги без действия. Который день лежат.
– Что же, их лечат?
– Как их лечить? Да и кто будет заниматься? На своих докторов не хватает. Вот вчера в лазарет 500 раненых привезли. – Прибавляет с суровой жалостью: – Оно конечно, и такого отмороженного немца по человечеству жалко. Без носу, без ушей. Мучается. Притом на холоде – сарай нетопленый. Да и кормежка плохая.
7 марта
Закат совсем не мартовский. Зимний, морозный. Сквозь уцелевшую треть оконного стекла снежная крыша напротив точно укрыта розовым пуховым одеялом, а бревенчатый домишко под ней рдеет, как маков цвет. Хочется смотреть на это и видеть только это. Но сквозь эти ласкающие и бодрящие краски просвечивает другое: Юхнов, который вчера разбомбили. “Катюша” (чудовищная пушка, которая каждым выстрелом крушит и сжигает, по легенде, чуть не сто домов). И кроме того, налетели на этот же Юхнов 120 наших самолетов. И все живое в нем погибло.
Сегодня ночью то и дело точно у самой стены нашего дома трещали пулеметы. Говорят, где-то на окраине у вокзала сброшено семь бомб. Прополз слух о возможности десанта в нашем городе. Как утомилось, как измучилось сердце от “военных ужасов”. И невольно шевелится зависть к умершей третьего дня опекаемой Наташей старушке, Софье Александровне (сестра профессора Вернадского)[614]. Поболела с неделю. Потомилась ночь перед смертью – то просила “горячей картошки”, то жаловалась на тоску и призывала имя Божье. Поела утром горячей картошки, уснула, а к часу дня уже переселилась туда, “идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание”, несть бомбовозов, пулеметов, чудовищной мясорубки, называемой войной.
21 марта. 11-й час
Хроники прифронтовой полосы за истекшие три дня. Из моего абонемента в столовой, которому так дружно радовались все домашние, отняли сначала завтрак, потом ужин и перестали отпускать обед на дом.
…И вчера и сегодня заходили греться бойцы. Ехали из Серпухова. Очень промерзли. Были рады самовару и теплому приему. Запомнился один. Еврей, интеллигент, с умными, печальными глазами. Когда, прощаясь, ему пожелали победить и вернуться невредимо, ответил вздохом и горькой улыбкой. Но горячо пожал руку и у двери еще раз оглянулся и посмотрел долгим многосодержательным взглядом. Этот вряд ли вернется. Между ними есть как бы отмеченные роком. И есть такие, за которых готова пари держать, что они в ближайшее время уцелеют.
Пришли неожиданно четыре женщины из Балабанова (20 верст). Привела их С. И., давнишняя знакомая, которая служит там больничной сестрой. Она рассчитывала застать в нашей семье гостеприимство, ночлег и пропитание дня на два. Не знала, что корова украдена. Ахнула и переглянулась со спутницами, когда узнала, что ее нет (все, у кого корова, сравнительно благоденствуют). Тут же убедилась, что и ночлег с трудом можно создать лишь для нее одной. И питание в обрез. Наташа могла предложить им только по ломтю хлеба и самовар. Отдохнув часа два-три, они пошли искать приют в одну из деревень, километров за пять, куда устремлены были еще в Балабанове их надежды обменять мануфактуру и носильные вещи на муку. В ближайшей к ним округе деревня так разорена, что из городских соблазнов ничто не может выманить у нее ни картошки, ни хлеба.
Один из наших товарищей принес пол-литра керосину и этим избавил нас дня на два от вечеров в потемках. Другой, лазаретный служащий, оторвал от своего пайка для больного Ники кусочек масла граммов в 20. Это второй уже раз за всю осень и зиму (и уже весну) появляется на нашем столе масло.
Сегодня обеденный конь так был испорчен, что от одного запаха его у меня поднялась тошнота. Остальные, выбрав некоторые куски, все же ели. Кто с отвращением, кто стоически, как Ника. Кто, в разбеге юного аппетита, не замечая и даже отрицая, что конь “с душком”.
Причащали больную Марию Николаевну. Отец Владимир, благообразный, ограниченный, добродушный человек, за чаем воскликнул, отвечая на какие-то свои мысли: “Да, настрадаемся мы, вдоволь еще настрадаемся!”
Все домашние раздражены, переутомлены физически, нервно и морально, теряют тропинки друг к другу. Помимо общих причин для всей страны в прифронтовой ее зоне требуется особое, иногда подсознательное трагическое напряжение всего существа.
23 марта
Неожиданно вырос вчера перед нами прилетевший из Москвы эльфообразный Л. Б. С.[615] – бывший учитель Леси Тарасовой[616], балетмейстер Большого театра. Хлынуло с ним московское излучение из прошлого и настоящего в нашу, такую от всей зафронтовой России отмежеванную жизнь. Впрочем, в Москве тоже все пропитано прифронтовыми трудностями. В письме Анны, где, наконец, отвечает на вопрос о пищевом благосостоянии: кипяток с хлебом два раза в день, а третий раз кипяток без хлеба. И холод от 1 до 5 градусов. А в Ленинграде выдавали до последнего времени не по 400, как в Москве, не по 300, как у нас, а по 120 грамм И от этих 120 грамм люди умирали так, что их уже не хоронили, а до весны складывали на чердаках. Недавно явилась возможность подвоза провианта с Ладоги и разрешен выезд населению.
…И все же (и это большая победа) какой терпеливый и смиренномудрый тон, каким пишет обо всех злоключениях бытовых Анна. И как просто рассказывает Л. Б. о том, как его засыпало в бомбоубежище и контузило воздушной волной.
24 марта. Раннее утро
“Затишье, снежок, полумгла”[617].
То, чем полны газеты (наши), когда пишут о немецких зверствах, и немецкие газеты, когда пишут о русских зверствах, – только подлинный, не подкрашенный, не приправленный идеологией лик войны без парадного мундира: жестокость убийств, сладострастие жестокости, разнузданный звериный лик, таящийся в недрах человеческого существа под покровом культуры. И карамазовское сладострастное насекомое. Верю, что немцы выбрасывали рожениц и новорожденных детей из родильного дома, когда было военное задание сжечь дом. Верю, что не все, но какие-нибудь Гансы и Михели испытывали при этом особое опьяняющее наслаждение разнузданности (“Все позволено! Долой цепи и замки культуры!”). Но не могу не верить также и тому, что с возмущением рассказывали соседи по дороге в Карижу, весь январь созерцавшие трупы немецких солдат, которым какие-то русские хулиганы придали бесстыжие или унизительные позы. И не могу забыть, как в дни нашего наступления наши бойцы рассказывали с хвастливым пафосом, как они “размозжили морду” немчуре, который упал на колени и руки поднял кверху. И как молил о жизни другой немчура, и подарил кольцо, и показывал фотографию жены и сына – “а я кольцо взял, и фотографию взял – он, дурак, радуется, ну – думает – купил себе жизню, руку мне трясет… Завел его к соседям вашим во двор – и почесал из пулемета. Да не сразу почему-то окочурился – как червяк какой извивался и всё по-своему лопотал”. И никогда бы не совершил этого чудовищного акта смирный, отнюдь не кровожадный русский Иван, если бы проклятая война не опьянила его вином убийства, не ослепила совесть выдумкой, что оно дозволено и даже почетно, не разнуздала зверя.
И отразилась война, по крайней мере в ближайшем тылу, среди обывателей всеобщим огрубением и снижением морального уровня. Даже аристократичная по натуре, прошедшая институтскую шлифовку Наталья Сергеевна[618] как-то сказала о себе: “Я сама знаю, что я очень огрубела. Я иногда себя не узнаю”. А я разве себя узнаю. На исключительно любимого мной Диму я однажды грубым голосом, раньше, чем успела осознать, что говорю, произнесла никогда раньше мной непроизносимые ругательные слова “негодяй (!) и… скотина” – (в ответ на его) грубость. Дети, по натуре добрые и отзывчивые, – следят за бабками, не съели бы лишнего куска, язвительно укоряют и уличают в жадности, тупости, глупости, бестолковости.
Орут на младшего брата по всякому поводу, даже когда он болен. Бабки готовы выцарапать глаза друг другу. Гизелла Яковлевна, постоянно подчеркивавшая всю жизнь свою европейскую культурность, проходя, старается толкнуть меня плечом или животом, вырывает из моих рук нужные ей предметы, а из уст ее вырвалось раз (верно, так же для нее неожиданно, как для меня “негодяй” и “скотина”), “тупица” (в мою сторону). И диаболически злое бывает у нее лицо. Не думаю, чтобы оно было светлым и у Мировича, когда он обрушился на впавшего в прострацию (и так нежно любимого) Нику потоком уничижительных слов, в глубине души его самого поразивших: макарон, лапша, вермишель, клякса, кисель гороховый, тряпичная кукла, Валериан Иннокентьич. А этот бедный Валериан Иннокентьич, чье имя стало бранным! До войны был бы он обыкновенный человеческий интеллигент, неврастеник, утонченный барин и нытик (впрочем, молчаливого десятка). Теперь он, особенно после контузии фугасом, праздношатающийся прихлебатель, который заходит в малознакомые дома, где хоть и не приглашают обедать, но скрепя сердце не гонят от стола. Он терпит это обращение, как терпят стихийные бедствия и возможность новой контузии или смерти от фугаса. Не ищет выхода из своего положения, не верит, что он есть, и просто не думает о выходе. И как снизился общий культурный уровень не только у таких бездомных и больных людей, как бедный Валериан Иннокентьич. Наши старушки, кроме Гизеллы Яковлевны, спят нераздетыми, в пальто и в валенках, никогда почти не моются, развели стада насекомых и не стесняются говорить о них как о самой обыкновенной житейской неприятности. Или отрицают, что они обовшивели. И часто видишь раньше безукоризненно чистоплотную соседку ловящей и поймавшей в своей прическе укусившее ее насекомое, которого она с озабоченным видом казнит под столом. Во время еды члены семьи заглядывают в тарелки друг друга, сравнивают уровень супа в них, с тарелки на тарелку передают во имя справедливости или демонстративной досады куски. Гложут без всяких оговорок громадные конские кости, появляющиеся на столе. Выскребывают горшки и чугуны. Едят и съедают до конца конину “с душком”. Надевают на ноги (видела у той же идеально опрятной раньше гражданки) такие перетерзанные и заношенные чулки, какие раньше внушили бы ей непобедимое отвращение. И взаимное обращение между членами семьи – я говорю не именно о нашей, но многих других, может быть обо всех прифронтовых семьях, – нетерпеливое, раздражительное, с окриком. Немало семейств (знаю это также из писем), где от претерпеваемых в связи с войной бедствий в корне изменились и даже распались отношения между близкими людьми. Точно действительно настали последние времена и исполняется пророчество: “Восстанет народ на народ и царство на царство, и брат на брата, и дети на родителей, и родители на детей, и свекровь на невестку”…[619]
31 марта
11-й час вечера – у нас ночь и повальный сон. Не сплю я одна.
Хроники текущих дней.
Улетел московский эльф со своим ансамблем в какое-то Бабичево на 20 километров ближе к фронту.
Наташа с Лизой сделали обход нескольких деревень с салазками. Возили для обмена кое-какой скарб и шубу – наследство недавно умершей, опекаемой Наташей старушки. Привезли около двух пудов картошки и ржаных зерен.
Маша вернулась из московской командировки. От Москвы тяжелое впечатление голода и холода в той степени, в какой мы здесь еще этого не испытали. Кроме того, каждую ночь воздушная тревога. Дорога трудная – ночевала в Подольске. От Подольска ехала в открытом грузовике в сильную метель. Шоссе в ухабах. Добиралась до Москвы часов 17–18. Обратно пришлось сидеть несколько часов на Киевском вокзале, в бомбоубежище. Поезд шел от 11 вечера до 12-ти дня. В московских магазинах никаких товаров. Рыночные цены баснословны (картошка 35 рублей кило, мясо – 100 рублей, молоко 50 – литр и т. д.). Суп на ужин в семье Машиного дяди варят в самоваре – дров и керосину нет.
От Аллы письмо – наконец, Иван Михайлович написал в Москву кому нужно, чтобы прислали мне разрешение на въезд в нее и на прописку. Соображение о том, что в Москве голодно и холодно, меня не останавливает, но несколько смущает. Я стала худо переносить и то и другое. Съедаю, почти не делясь ни с кем, мой гонорар за урок – ломоть хлеба грамм в 100 (итого почти 400 грамм) и два супа в день, и кисель овсяный или сколько-то пшеницы, и все мне мало, и всегда я голодна. Это случилось в последний месяц. Стала понимать, почему дети перманентно жуют овес. Если бы у меня было, чем его жевать, и я бы жевала.
Возобновили, чего я не ждала, мой абонемент в столовой (его не хотел заведующий давать, но персональная пенсия и то, что я приезжая, и также имя Ивана Михайловича и его вмешательство в пропуск возымели свое действие). В столовую по этому абонементу ходит с большой охотой Ника, хотя там ничего, кроме пшеничных зерен на первое и на второе, не дают.
Вечером заходила к Наталье Сергеевне – отдохнуть от неуюта, тесноты, темноты и многолюдства вокруг крохотной моргослепой лампы. Наталья Сергеевна угощала чаем (с сахаром и с какими-то полусдобными серыми плюшками!). Страничка из книги о мещанском счастье.
13 апреля
Серый, серый, отсырелый, мутный, зябкий день.
Сейчас была в больнице – получала справку от врача о том, что у меня холецистит и что я направляюсь в хирургическую клинику Москвы для оперативного лечения. Это начало переезда в Москву, если суждено до нее добраться. Поездом нельзя, не дают билетов, а если дают, все равно не пускают в вагоны, которые переполнены военными и командировочными. А если и пускают иногда на часок, перед отправкой поезда высаживают для того, чтобы разместить вновь прибывших командировочных. Машины, грузовики берут обывателя в качестве зайца, и нельзя ручаться, что не высадят его в Подольске. При этом необходимо запастись махоркой, чтобы шофер грузовика согласился взять пассажира на свою машину. Решиться на все это помогает царица – Необходимость – и материальная, и моральная. Не хватает сил пережить все сначала, что было пережито осенью.
Днем после обеда. Небо укутано мокрой серой попоной, откуда летит мокрый снег вперемежку с дождем.
Зашли бойцы, перебрасываемые с фронта на фронт. Пять человек. У одного умное, печальное и гордое лицо, из тех, что запоминаются. Очевидно из интеллигентов. Молчаливый. Остальные за чаем охотно перебрасывались и между собой и с нами вопросами, шутками, замечаниями о нашем разоренном городе. О наших двух самых древних старушках один паренек, с добродушной усмешкой подмигнув, спросил:
– Лет по 90 им будет?
А другой, меланхолически вздохнув, заметил:
– А жить, верно, по сю пору не расхотелось. Рады, что смерть про них забыла.
Первый, самый веселый и насмешливый, не удержался, чтобы не скопировать походку Марьи Николаевны, которая ходит как на лыжах, передвигая ноги, потому что поднять от полу их не может.
Но один из товарищей строго остановил его:
– Ты это оставь, Матюшин. Сам когда-нибудь такой же будешь. Разве она виновата, что ноги подтоптались?
– Дожить до 80 лет – всякий обветшает, – отозвался кто-то дремавший в углу, за дверью…
16 апреля
Возможно, если “так в высшем суждено совете”, я покину в воскресенье это многоскорбное место и хранительное окружение Наташиного нимба и детей, без которых, особенно без Ники, не могу представить себе содержания моих дней, вечеров, утр. Я стосковалась по некоторым московским друзьям, устаю от шума и суматохи здешнего быта, но я срослась с ним интимнейшими сердечными нитями и не знаю, как сумею прожить без этих голосов, глаз, без серебряного голоска моего комарика – Ники. А главное – без уверенности, что все, кто сидит сейчас за этим столом, где я пишу, живы и целы. Уверенность же эта дается лишь тем, что сидишь за одним столом, спишь в одной комнате и каждый час можешь проверить, что все, кого любишь, избежали пока “наглой и постыдной смерти”.
17 апреля
Получила пропуск. По больничной справке – холецистит, требующий оперативного вмешательства. Если обещание Л. Б-ча относительно машины на послезавтра исполнится, я в воскресенье уеду.
Сейчас меня подозвала Мария Николаевна и с таинственным, светлым видом указала в своих святцах, что как раз в это воскресенье празднуется память св. Евтихия (сон, в котором он благословлял меня, положив руку на голову).
Радость удачи с пропуском омрачена неудачей Татьяны Алексеевны. Ей решительно и бесповоротно отказал тот же белесый, мягколицый “сановник” с человечными нотами в голосе. Татьяна Алексеевна в душевно растерзанном состоянии. Все надежды ее сводились к тому, чтобы соединить конец своей жизни с любимым внуком, который недавно женился и уехал в Ташкент по службе и очень зовет к себе бабушку. А бабушка осталась в тяжком и ненавистном ей городе Малоярославце совершенно одинокой и без всяких средств к жизни.
19–25 апреля. Малоярославец – Москва
Отъезд и приезд. Кинофильм
Бабку Варвару (73 л.) необходимо вывезти из Малоярославца, где вместе с другими бабками она выпивала 9 месяцев все жизненные соки из семьи Шаховских. По железной дороге едут только военные и командировочные. Военным машинам запрещено брать кого бы то ни было. Бабка рисковала, как осенью уже было, надолго (а может быть, и навсегда) застрять в Малоярославце. Нашелся зам. внучек, эльфообразный, мягкосердечный юноша, балетмейстер, руководитель ансамбля. Пообещал бабке на 21-е гражданский грузовик леспромхоза. Бабку взбудили в 4 часа еще в полутемноте, помогли увязать скарб в продолговатые узлы и донести их до леспромхоза. Для этого, кроме матери семейства Наташи, поднялись заспанные, но готовые на все усилия, чтобы разгрузиться наконец от обсевших древо их жизни старых грибов (их зимой было 6, два вкушают уже с февраля покой и независимость в гробах, опущенных в бомбоубежище). Около 5 часов бабка сидела на крыльце леспромхоза, смотрела, как бледная предутренняя зелень неба перекрасилась в розоватый перламутр, потом в прозрачный янтарь, потом в глубокую, густую алость зари. Бабку не хотели брать, обещанный зам. внуком якобы всемогущий в леспромхозе некто Александр Федорович не являлся. Шли часы. Дети тоскливо метались из дому к крыльцу, придумывая, как добыть этого Александра Федоровича, и отчаиваясь при мысли, что все уже погибло и бабка застрянет у них навеки. К 9-му часу рысью вбежал Александр Федорович. И оказался маленьким в служебной иерархии человечком с носом вальдшнепа, с беспокойными, хитрыми глазами, не лишенный добродушия, но очень себе на уме. (Эльф говорил о нем как о персоне рыцарского бескорыстия.) Ему удалось как-то умаслить директора, чтобы не прогонял бабку, но уже не было речи о том, что ее посадят в кабину. Маша и Лиза каким-то чудесным образом подхватили бабку и перекинули через высокий борт грузовика на чурбаки, которыми Александр Федорович. (Его так никто не звал, кроме меня, и даже имени его не знали. Кричали просто, прибавляя непечатные слова: “Алейников! Ты что же, заснул? Где бутыли? Где бензин? А ну, живей накидывай в генератор чурбаки”.) Алейников готов был отречься от меня. Несколько раз, не глядя, пробегал мимо и вскользь говорил: “Вы только не волнуйтесь”. Когда я влезала, т. е. перекидывалась через борт грузовика, он уже был полон разными завами и замзавами, которые заняли лучшие места и застыли на них, как изваяния. Никто не шевельнулся протянуть мне руку, когда Маша и Лиза пытались подсадить меня в грузовик. Метнулся навстречу один Алейников, оторвавшись от газогенератора и чурбаков.
Дальше – пыль, столбы, веера, облака пыли по Московскому шоссе. Перед этим лучезарное появление Ники с телеграммой, только что пришедшей от Юры Тарасова из Ворошилова-Уссурийского, – поздравление с освобождением из плена. Еще в руках у Ники была бутылка с чаем и два крохотных ломтика хлеба (в доме пищевой кризис). Ника был похож на юного с крыльями на ногах Меркурия, в бронзово-золотом сиянье волос и таких же глаз (“Какой красавец мальчик”, – сказало одно из каменных изваяний с еврейским профилем). Нику чуть не задавил подавшийся назад грузовик, он едва успел отскочить за телеграфный столб, о который грузовик стукнулся.
На шоссе, когда машина забуксовала – она это делала через каждые четверть часа, к нам втиснулось трое военных с фронта. Лесопромские “завы” хотели было их высадить, но один из них – с забинтованной головой нижний чин – так ругнул их и так бесповоротно расположился в машине, что они замолчали. Против меня сел военный другой, еврей, с расстроенным, озабоченным лицом. Расспрашивал лаконично о городе, о рынке, о селах. У всех троих был голодный и измученный вид. У перевоза через Протву они сошли, чтобы перейти мост пешком – машины пропускались с большими строгостями. Нам грозил возврат, но вальдшнеп наш, он же Алейников, обегал все берега Протвы в поисках директора перевоза и добился часа через два, чтобы нас включили в длиннейшую колонну переправы по проселку на паром, по дороге с колеями чуть не в метр глубины, с лужами, ямами, ухабами, с елками толщиной в руку, набросанными сверху для исправления этого бедствия. А навстречу нам двигалась переехавшая на нашу сторону другая колонна полусломанных машин, нагруженных каким-то фантастическим ломом – туши части аэропланов и дирижаблей и какие-то треугольники из ржавого железа, и части разных машин, и жерла пушек и пулеметов. И во все это, по-видимому, нацелился германец, когда вправо от нас ахнула бомба, – он оказался неметким бомбометчиком и попал не в нашу колонну, не на перевоз, а в поле за полверсты от нас – там поднялся столб земли и облако дыма. Все поглядели в ту сторону. Одно из наших изваяний сказало: “Не попал, мерзавец”. Изваяниям надоело ждать, они взяли свои чемоданы и пошли пешком. А может быть, ввиду возможности другой бомбы сочли для себя более безопасным отделиться от скопления машин. А вокруг шли и отступали справа и слева чудесные, широкие весенние пейзажи. С первым юным изумрудом озимой ржи поля, сине-лиловые дали, лес уже в розово-лиловой дымке почек, которые завтра будут листьями, белоствольный частокол молодых нагих березок, рыже-золотая на солнце, влажная земля с каймами не до конца оттаявшего снегу. Подальше всю эту чудную картину пробуждения вешней природы омрачили и оскорбили на каждом шагу лесной опушки раскинутые поломанные автомобили и разметанные их части, и снаряды, и мины, и воронки, воронки без конца на протяжении всего шоссе, до самого Подольска.
После Подольска в ночной темноте обозначились вспышки зениток – розоватые искры девяти поясов, не пускающих вражеские самолеты в Москву. Справа вспыхивали какие-то световые знаки. А в Москве, когда мы въехали в нее, было таинственно темно. Ни одного огня в окнах. Синеватые фонарики в трамваях. Почти в полной темноте, как спустившиеся из этой же темноты, двигались человеческие силуэты – публика в 11-м часу расходилась из кино.
9 месяцев тому назад я покинула этот город, такой родной – и национально родной, и дорогой исторически, и связанный с большей половиной личной моей жизни. За эти 9 месяцев не один раз при немцах, утверждавших, что “Moskau ist aus”[620], я оплакала ее, и в моем представлении это были в увеличенном размере те руины, среди которых я жила на Свердловской ул. г. Малоярославца. Поэтому выступившие на фоне неба темные громады московских домов показались мне нерушимыми твердынями. Это чувство подчеркивали зенитки, на огни которых я насмотрелась, подъезжая к Семеновской заставе. Надежность, беззвучность этой защиты, огромность защищаемой территории передавались сознанию уверенностью в провиденциальной мощности этого города. “Нет, не могла Москва моя к нему с повинной головою”[621] – воскресла строчка, выученная в гимназические годы. Воскресло многострадальное героическое прошлое Москвы, и с детской свежестью прозвучали в душе 6о лет тому назад волновавшие в хрестоматии стихи:
Ты, как мученик, горела, белокаменная! И река в тебе кипела, бурнопламенная! И под пеплом ты лежала, полоненною, И из пепла ты восстала, неизменною…[622](довольно корявое стихотворение).
Домой вальдшнеп отказался меня везти. “Поздно уже, заплутаюсь, я вашей части города не знаю”, – сухо мотивировал он. Недогадливость моя относительно колбаски и полулитровки снимала с него первоначальное обещание доставить меня к памятнику Пушкина. “Переночуете на Абельмановской заставе. В нашей конторе”. Я была разбита и физически и нервно за дорогу, левый глаз у меня вдруг заслонился каким-то огромным мохнатым пятном, и я впала в уныние. В конторе под сильным верхним светом были раскиданы по двум диванам, на столах и на стульях спящие босоногие парни; от обуви их бродил запах лимбургского сыру по комнате. Сначала я поместилась на мешках с песком в темных сенях, но там пол был земляной, и скоро ноги так застыли, что скрепя сердце пришлось присоединиться к спящей братии соночлежников. Я нашла небольшую тень за одним из столов и там, приютившись на своих вещах, продремала до 5-ти утра. В пять вся контора уже закопошилась и пришла сердитая баба с ведром воды и с тряпкой. Из тех, кого до сих пор ранит своим существованием “недорезанный буржуй”. Она с садическим удовлетворением швыряла мои вещи с места на место, приговаривая всякие колкие вещи про “бывших” людей. Я молчала, но тут за меня нежданно и горячо заступилась другая пролетарка. Она подсела ко мне, вникла в мое положение (как доставиться с вещами домой), дала несколько дельных советов, и благодаря им я в 9 часов в сопровождении истопника села на трамвай № 15 и докатилась до Пушкинской улицы. Истопник остался равнодушен к 30 рублей за проводы, его подкупило только зыбкое обещание “хоть одной папиросочки”. Шура нашла у Александра Петровича щепотку табаку, и он тут же свернул козью ножку, а деньги скомкал и, не глядя, сунул в пиджак.
Этот первый московский день мой прошел под счастливым созвездием: звезда 1-я – искренняя радость Шуры и дочерняя внимательность ко мне (к чаю наколола сахару из своих 100 грамм, отрезала два кусочка хлеба, где-то раздобыла кусочек редьки, помня, что она входила в мой режим). Звезда 2-я – от Аллы с оказией длинное, заботливое, теплое письмо, баночка с кофе и пакетик леденцов. Третья – приезд Александра Петровича из Рязанской области с картошкой, мукой и крупой и его настойчивое, дружественное приглашение разделить эти блага и обещание все устроить с пропиской и столовой. 4-е – глаза и слова, и – уже не из пищевых средин воздух, а с горных вершин (встреча с Верой Юрьевной). И надежды. И почти уверенность, что “все будет хорошо”. И благодарность людям, Отцу. И еще одна звезда – письмо Ольги. От ее лучей задрожало и заплакало сердце.
55 тетрадь 25.4-21.7.1942
25–28 апреля. Москва
Все еще не верится, что я в Москве. Все кажется, что это сон. Сегодня ровно неделя, как я приехала. Прожита она в каком-то сомнамбулизме. Какая-то часть души отдыхает. Какая-то часть ее напряженно прислушивается к тому, что в Малоярославце: не бомбят ли город, не очень ли голодают Наташа и дети, не пронесся ли слух о близком наступлении. И так они – Наташа и дети – мучительно дороги, так нерасторжимо приросли к жизни, как это не ощущалось в днях и месяцах под одним кровом. Мешала теснота, множество мелочей, шумность, сложность, суматоха быта. И бабушки, засилье старческих и при этом чуждых и частично враждебных жизней.
Что заметилось, что удержалось и что вспомнилось гриппозными и грузовиком перетолченными мозгами:
Чище в Москве, неизмеримо опрятнее и стройнее жизнь, чем в Малоярославце. И спокойнее – не надо прислушиваться к трескотне пулеметов: с неба она или это учебная стрельба. Успокоительно помнятся охранные огни зениток, вспыхивающие, когда грузовик ехал Подольским шоссе. (9 поясов!) 9 поясов зениток. Время от времени пролетит чья-то фраза: “Но в мае уж непременно начнут бомбить”. И залетают другие – полушепот надежды (откуда они?): “В мае будет сепаратный мир”.
Странно помолодевшее и какое-то облегченное лицо Инны. Тем странно, что прошла и проходит она через голод и горе (5 мес. нет вестей от мужа с фронта).
Хорошее лицо у Анны – смягченное всем пережитым, потеплевшее, и хоть есть новые морщины, но точно помолодевшее. Работает в Книжной палате и вяжет какие-то детские кофточки и башмачки в артели.
Живу без хлебной карточки. Волокита с пропиской, несмотря на Аллино ходатайство. Из продуктов могла внести в нашу коммуну только грибы и немного овса. И две коробочки кофе – присланный Аллой мокко и Наташин дар из овса.
Из дому выхожу только на почту. Подальше – нет сил, хоть и очень хочется повидать некоторых друзей. Труднопреодолимый страх перед трамваем (перед возможным головокружением от трамвая). Когда выплываю из сомнамбулизма (в нем Малоярославец, фронт, дети, Наташа, война), есть благодарное ощущение отдыха. Передышки, потому что вряд ли май обойдется без натиска на Москву. Чаще всего такое чувство: сегодня и завтра поспим спокойно (и это огромное благо). А послезавтра, может быть, умрем.
Как благородно, просто и тепло взял меня на иждивение Александр Петрович (Алешин отец), пока не устроюсь с карточкой и столовой. Притча о милосердном самарянине.
Ночь. После ванны. Первой за 9 месяцев. (Малоярославец, Ерденево – обтирания холодной водой, раз в неделю – горсточка теплой). Предельная нега, от которой на совести неловко. Неловко потому, что вшивые бани в Малоярославце, и никогда нет теплой воды для Наташи, а холодной она боится. И когда затеют мытье голов, как это громоздко и сложно: ни удобного угла, ни нужного количества воды и часто кризис с мылом. И за всем этим – фронт, где люди вот сейчас, когда я сидела в ванне, укладывались спать, если нет ночного боя, в сырую землю окопов в ожидании, что завтра их изувечат, раскрошат, сотрут с лица земли.
Говорила сегодня с Александром Петровичем о лазарете. Если бы приняли меня без медицинской работы, как это устроили мне в мировую войну в одном частном лазарете. Раздавать лекарства, писать письма, читать вслух, беседовать, расспрашивать о доме, о детях, о детстве, успокаивать боль способом, мне данным, напутствовать умирающих…
Александр Петрович обещал похлопотать. Немногое я там смогу сделать и для немногих. Но будет точка приложения неизжитому материнскому чувству, дару слышания и понимания, дару целения. И будет, наконец, мир совести, а не эта – сквозь отдых, сквозь радость тишины и теплоту ванны колючка в подсознании – забрался за 9 поясов зениток на пружинный матрац, в ванну, на даровые, сытые хлеба.
4 мая. Раннее утро
В чудесный сад предутреннего сна ворвались грубые мажорные звуки радио, потом такая же музыка. Сад был огромный и переходил в киевские, воронежские и сергиевские окрестности. Кусты и травы серебрились от росы, и все было в нежном тумане, пронизанном вечерней зарей. По одной из дорожек навстречу мне шел Фаворский (художник) с двумя собаками. Он защитил меня от них, и они стали ко мне ласкаться. Я заговорила о необычайной красоте вечернего освещения в его саду. Потом он начал рассказывать что-то интересное о Марии Стюарт, о Мортимере, и тут “взорало” (выражение А. Белого) радио. Какая вульгаризация быта – эта звуковая “зарядка”. И сейчас же за ней последние известия. Вместо утренних молитв, вместо индусского омовения в Ганге, пифагорейских гимнов солнцу или хотя бы такой тишины, в которой человек мог бы хоть на четверть часа осознать себя как существо мыслящее, чувствующее, желающее не одного хлеба и заданий извне.
Оскорбительно и разрушительно для “внутреннего человека” это tempo rubato[623], каким зарядка утреннего радио врывается в его сознание. Вчерашний день.
Как забилось сердце в М. Левшинском переулке. В старости оно редко так бьется. (В старости эмоциональный мир как-то этеризирован и от физического отграничен.) В текущие московские дни так еще раз на днях расширилось и зазвенело слезами сердце, когда я нашла нежданную открытку от Ольги (от нее с лета не было вестей). Настоявшаяся, крепкая, как двухсотлетнее вино, дружеская любовь всколыхнулась от самого дна души в стенах этого несказанно милого, драгоценного добровского дома. Елизавета Михайловна больна (воспаление легкого). Лежит восковая, похожая на покойницу. Но это ни ей, ни мне не помешало в торжественной радости встречи. Может быть, даже усилило ее. Очень исхудали младшие члены семьи, почернела Шура, позеленел Биша от “московского сидения”. Заострились все углы в лице и фигуре Даниила. Но у всех сохранилась душевная бодрость, чувствуется внутреннее горение. Все (и похожая на покойницу мать) на вертикали, никто не сдался. То же и у Надежды Григорьевны[624], несмотря на то, что ей худо с сердцем. Очень крепко обняли эти два дома дружеским теплом старого Мировича. Никого не отпугнуло одряхление его, хоть каждый его по-своему отметил.
5 мая. 4-й час
Странно морозный день. В воздухе реют пушистые снежинки.
Хроника текущих дней.
Полчаса тому назад в Моссовете мне отказали в прописке, несмотря на поддержку заявления Тарасовой, Москвиным и на вызов Пронина[625].
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит[626].
Александр Петрович, свыше приставленный ко мне с первого московского дня как рыцарь, до сих пор думает, что еще не все потеряно, и собирается как-то бороться.
Да будет то, что будет. Верится, что будет именно то, что нужно для меня не по узкожитейской линии.
Вчера были у меня три посетителя. Тонечка К.[627], Даниил и Женя – Ирис мой лиловоглазый. От нее так же, как от Олиной открытки, от добровского дома и от лица Анны, впервые увиденного после 9-месячной разлуки, что-то затрепыхалось, как птица крыльями забилось, в самой глубине сердца. У Ириса странно помолодело, посвежело, каким-то девическим стало лицо, хотя сама она стала совсем тростиночкой. Чего– чего только не вынесли ее с виду такие хрупкие плечи за эти полгода. На них (в буквальном смысле) сколько перетащила она продуктов в свое гнездо. Однажды шла с пудовым мешком на спине 30 километров. Через два дома от них разорвалась бомба. “Аннушка, старая кормилица, и Николенька (сын) были в убежище. Сотрясение было такое сильное, что казалось, весь дом рушится. Из убежища раздался Аннушкин крик «рятуйте!» (она белоруска) и Николенькино «Мама!». Я была уверена, что это для всех нас последнее мгновение и без страха, с готовностью с нужными словами, прыгнула в убежище” (слова Ириса).
Даниил (у меня на диване, во время разговора о влиянии голода на тех или других людей) с видом трагического и чем-то стыдного признания: “Я ел собаку”. Оказывается, что и некоторые из его знакомых не только ели фокстерьеров, но и добивались этого как удачи. Где-то добывали за 5 рублей кило. Еще стыднее было Даниилу сознаться, что настал такой период, когда он “ни о чем, кроме пищи, не мог думать”. У кого же не было такого периода за эти месяцы, кроме очень немногих избранных – у кого “безотрывочная столовая”, какие-нибудь пайки, или огромные деньги, или предусмотрительные запасы. Ничтожен процент таких, попавших в ковчег сытости во время затопившей страну голодовки.
Тонечка, красивая, розовая, похожая на гортензию породистая девушка лет 23, с прекрасными манерами, с знанием английского языка, рассказывала как о большой удаче о том, что получила должность морильщика крыс – это ей дает рабочую карточку и 400 рублей в месяц.
7 мая. Глубокая ночь
Позорное увлечение хлебом, супом и кашей. Утром ела Бекову кашу из высевок, вскоре после нее манную, а когда вечером самой пришлось брать пшеничную (которая совсем не нравится), положила себе в тарелку больше, чем всегда. И суп поглотила – и тот, что из общего котла, и лапшу, сваренную у нас Ирисом для совместного завтрака; и хлеба – сверх обычной домашней дозы – от Ириса столько же, а вечером от военной шоферки, которая у нас ночует, – порядочный ломоть (она всех угощала хлебом с селедкой) уничтожила. В наказание за это и сейчас в 3 часа ночи такое сосущее желудок и гнетущее психику голодное состояние, как будто целый день ничего в рот не брала. От него не могу уснуть. Пробую писать, но уже такая слабость овладела рукой и головой, что приходится бросить перо.
Попробую записать, что всплывет в памяти из того преходящего, что прошло за эти 5 дней.
Болезнь Елизаветы Михайловны – ползучее воспаление легкого. Болеет мрачно, истерзаны нервы, ранена душа. На вопрос мой: “А под болезнью уцелело ли, не повреждено ли самое главное – то, что ни от болезни, ни от здоровья не зависит?” – она посмотрела угрюмым, ожесточенным взглядом.
– Под болезнью – кавардак, – сказала она.
По квартире, где жила дружная, крепко спаянная семья, с какого-то момента поползли флюиды недоверия, антагонизма и, наконец, разрыва. Между старыми сестрами, между теткой и племянницей, и также и мужем ее, между Шурой (дочь Елизаветы Михайловны) и братом ее Сашей и его женой. Елизавета Михайловна говорит, что все это пошло с того дня, как домработница, украинка, приснившаяся ей в виде ведьмы, наяву дала ей наперсток (наколдованный —!).
Бессознательно я употребила педагогическое дошкольное воздействие (вот она – “психогностика”) – рассказала ей свой сон, где был противоположный образ, концентрировавший в себе светлые силы, сон отнюдь не выдуманный. И действие его было неожиданно велико. В следующую встречу у Елизаветы Михайловны было совсем другое лицо; и физически она заметно окрепла. И боюсь еще этому верить – напряжение антагонизмов в семье уменьшилось. Сестра, которая от вражды не входила в ее комнату, вошла, сидела и говорила со мной, вступивши в нашу беседу с Елизаветой Михайловной.
И выходит на поверку, что тут не психогностический трюк, не психология, а реальное воздействие, “концентрация светлых сил” в образе Евтихия.
Неожиданную и яркую роль заиграла в моих днях, в судьбах моих (энергически хлопочет о прописке) Вера Федоровна. До приезда в Москву я даже имени ее не слыхала, хоть с Аллой она встречалась давно и была пламенной поклонницей. Тут произошло то, что в психиатрии называют “переносом”. Она перенесла на меня действенный энтузиазм, который в ней пробуждает Аллочка. Она даже целовала мои руки. И лицо ее сияет, когда она смотрит на меня. Зная, что я без карточки, она принесла мне однажды рис, масло, солонину, пряников – всего понемногу, и я не могла не принять этих даров – с такой горячей дружественностью они были принесены. И, может быть, значительность ее в моих днях тоже от руки Евтихия, особенно в том, что она взяла на себя хлопоты о прописке. У нее неукротимая, всепобеждающая энергия, темперамент завоевателя. И появилась она в моей орбите после той ночи, когда я, считая отказ в прописке окончательным, возложила надежду на того, кого после моего сна (еще в Малоярославце) считаю своим покровителем. Индусы сказали бы: тут карма. В каком-то существовании эта женщина была мне близка. И была в беде. И как-то я ее из беды выручила – может, жертвенно с моей стороны. И теперь карма созрела – пришли времена и сроки расплатиться. И возможность сделать это. Отсюда торжественность, праздничность и необычность темпов деятельного участия. Так сказал бы индус. Во мне уживается и этот индус рядом с образом св. Евтихия.
14 мая. Раннее утро в постели
“То, чего я боялся, то и случилось”.
Недавно ушла Зимницкая – принесла весть, что и вторая комиссия отказала мне в прописке.
Не знаю, почему я спокойна, хоть мне и очень тяжело поедать хлеб и другие продукты (их уже почти нет) и делить скудный обед, приносимый Гале из столовой Александром Петровичем. Чувство фатума – “сужденное прими, не прекословь”. И, может быть, доверие к звезде, к огромной боевой энергии Веры Федоровны, взявшей в свои руки дело моей прописки. Она уверена, что, как всегда и во всем в ее боевой жизни, победит она, как бы ни боролись с ней люди, обстоятельства и сам Рок. Малявинский[628] вихрь, роза-центифолия, казачина гребенской. Сама про себя сказала, принеся свой портрет мне в подарок: “Хотите на память физиономию Стеньки Разина?” На портрете лицо грубое без красоты. А в жизни – и внутреннее, и наружное лицо привлекательное, и победоносен пышный, богатый расцвет, зенит женского могущества (ей 30 лет).
Ночь. Перед тем, как запрятаться на ночь от всего дневного и от самой себя, с полчаса стояла на балконе. Темное небо чуть мерцало из тумана маленькими редкими звездами. Может быть, они такими казались старым глазам, старческому восприятию ночного неба. (Ночи стали холоднее, звезды меньше и бледнее. Все прощания легки, все дороги далеки – Мировичу.)
И вдруг среди них одна звезда стала увеличиваться, задвигалась. Заиграла лучами.
– Это фонарь на аэростате, – сказала Галя. Нет от тебя спасения ни на земле, ни в звездном небе, трижды проклятая Беллона[629].
Погашу лампу. Глазам хочется темноты. Душе – переселиться на какой-то срок в собачью душу Бека. Его увели сегодня в чужой дом, где будут по крайней мере его кормить. У нас он ел последнее время только навар из картофельных очисток. Он без сожаления покинул дом, в котором вырос и где раньше его так баловали.
Может быть, постранствую и по человеческим душам. Временами нарастает эта потребность и является эта возможность.
20 мая
Время предобеденное для тех, у кого есть обед.
Взята немцами Керчь. В Харькове бои у самого города. По-видимому, ожидается наступление на Кавказ: группу актеров МХАТа, которую рассчитывали отпустить только в июле, эвакуируют в начале июня, и не через Москву, как телеграфировал отцу Алеша, а через Баку, кружным путем. Проскочил слух, что враг у Мценска. Ни в Москву, ни из Москвы даже в ближайшее место не дают пропусков. У переправы на Оке художники, ездившие за продуктами, ждали своей очереди двое суток. Но все только слухи – верно лишь одно: есть напряженность в линии движения событий, и она все нарастает. А слухи разноречивы – то “Москва в опасности”, то “события передвинулись на южный фронт, Москву оставили в покое, Москву бомбить не будут”.
Даниил – высокого полета птица. Его отец “приземлился”. Всматривался в темноту и не умел рассказать, что видел в ней. Бредил ужасами, тайнами, любил неразрешимые загадки. И пьедестал своей исключительности и загадочности.
Даниил рвется в “надзвездные” края и оттуда хочет увидеть и услышать “единое на потребу”. Иногда ему удается уловить звездный луч – обетование, радость, новые силы для крыльев. Но чаще он глубоко печален и как бы пронзен раз навсегда стрелой, которая так и осталась в незаживающей ране. Последний раз – три дня тому назад мы говорили о его детской и юношеской любви (“О, моя Голубая звезда!”). Он несет ее в душе и поныне, и все в том же голубом новалисовском, дантовском значении. Она (Г. Р.)[630] замужем, овдовела, и у Даниила не было ни тени ревности к ее мужу и нет ни мечты, ни желания соединить в браке свою жизнь с нею. Судя по его последнему стихотворению, это чувство взаимное и у Г., такого же надзвездного характера. Никогда не приходило в него страстное влечение. А между тем влечение, и напряженное, не ослабело до сих пор. Но другой природы – лунный свет, надзвездные края. До чего это мне понятно. Нечто похожее, но не в таком поэтическом и обоими одинаково сознанном значении, было в моей встрече и в ряде годов после нее с Л. И. Ш.[631] (“Эпипсихидион” Шелли[632], который отражал для Л. И. его отношение ко мне, а для меня – ощущение тайного сопутничества высоко над жизнью, радость глубинного общения, радость своего отражения в его душе). Нечто подобное было целый год в отношении ко мне М. Н. К.[633] (тогда мне было 28, ему 23 г.) “Вы для меня всегда в голубом сиянии, – писал он однажды, – и плоть Ваша для меня священна. И было бы для меня неслыханным кощунством пожелать Вас как женщину, как жену”. Он был странный, сложный, юродивый человек (талантливый музыкант). Входя в мою комнату, если я была одна, становился на колени и кланялся до земли. И однажды описал все это своей невесте в искаженном, постыдно-кощунственном виде.
29 мая
Продолжение “О хлебе”.
Заходила Анна Кузьминична, приятельница Леониллы, жена д-ра. Мы с ней доныне только поклонами обменивались. Но три дня тому назад она узнала, что я второй месяц без карточки. А я узнала, что <доктор?> был ранен и в плену перенес тягчайшие лишения и голод (до пожирания умерших товарищей, которых он сам видел, хоть и не ел, – жарили на кострах обезумевшие от голода пленные). И загноившиеся, полные насекомых раны, и грязь, и морозы, и все это лицом к лицу со смертью. Когда вернулся, три дня побыл у родителей. Вышел из дому – и бесследно исчез на три месяца – был почему-то секретно увезен и запрятан в концентрационный лагерь. Там его подлечили, подкормили и снова направили на фронт. Перед этим разрешили 12 дней побыть у родителей. Когда мать пришла ко мне, это был третий день, как она с ним простилась, раны ее сердца были еще совсем свежи, открыты, и вся кровь материнской муки пролилась из них в мою душу. И вот она уже для меня не дама, “обывательница”, довольно приятного облика, но ничем не влекущая к дальнейшему знакомству и даже просто к разговору (всегда удалялась во время бесед с Леониллой). Оружие, пронзившее ее сердце, попутно задело и мое, и кровь ее раны душевной струится в моей душе. И мы уже не две обывательницы с разными интересами, а сестры, породнившиеся в таинстве страдания (это даже исходя от всей страны, от всей планеты) и в таинстве сострадания: моего к ее ранам, ее – к моей бескарточности. Она принесла такие обильные дары, которые подавили бы меня дороговизной и щедростью, если бы не тепло ее глаз, ее улыбки, ее рук, которыми она обняла меня. Кило хлеба – теперь его после усердных розысков можно приобрести только за 100–140 рублей. Стакан сметаны. И пакетик с сухими фруктами. Отсюда пойдут отчисления в сторону нашей коммуны, Анны, Инны, Жени. О, конечно, по каким-то крохам, – но это уже агапия, трапеза любви, и тут самые крохотные дозы будут насыщать в большей мере, чем гора тех же продуктов вне агапии.
6 часов вечера
В кухне теплое и яркое предзакатное освещение. Вся наша маленькая коммуна (Александр Петрович, Гали, я и художница А., часто заходящая к нам) в праздничном настроении пила кофе. Настоящее. Так приятно (и увы! так непривычно) было Мировичу внести нечто в общую трапезу (белый хлеб и минский пеклеванный и полстакана сметаны). А. принесла печенье и мелко наколотый сахар – каждому по два кусочка. А перед этим я съела чашку крапивного супу (со сметаной!) и полтарелки супу с макаронами и с хлебом, с двумя (!) кусками хлеба – дар Анны Кузьминичны. И в первый раз я настолько сыта, что не тянет меня постель, не застилает мозг дремота при попытке что-то нужное, ответственное сделать (даже белье Анне собираюсь починить и не могу собраться три дня подряд). Сегодня могу. И могу обдумать проспект санитарных скетчей (заработного характера предприятие). И недаром попался на глаза листок с началом очередной некрополисной встречи. Если буду сыта, как сегодня, еще пять-шесть дней подряд, хватит сил на все это. А желание работы, гигиеническая и моральная необходимость ее давно томит душу неудовлетворенностью.
1–4 июня. Раннее утро
Хроника 4-х дней (что вспомнится)
Вчера – первый день за 40 московских дней, когда у меня появилось на столе полкило собственного хлеба. Результат энергических неотступных хлопот Веры Федоровны. Без нее меня не прописали бы, несмотря на москвинские и тарасовские “ходатайства” (два раза комиссия отказывала в прописке).
Ни на что не хватает времени, то есть сил. Запущены все ближайшие планы, свои и чужие “дела” – давление, ушной врач, библиотека, рынок, проспекты санпьес, стирка, починка для Анны и для себя, намеченные визиты, поездка за город.
Весна пропущена. Уже отцветает сирень – видела ее поредевшие гроздья над каменным забором эрмитажного сада.
Два раза ночевала Женя. Она изнемогает от хозяйственных работ и забот (огород, очереди, вода из колодца). Кроме того – скетч – заказ на два скетча (по тысяче рублей каждый). Их пишет по ночам. Живет в изнеможении, но без отдыха и не снижает темпов. Тугая и надежная пружина энергии в таком хрупком теле, в тонких и хрупких нервах. При плохом питании.
Последние дни мы с ней ели одну крапиву. Последние две-три недели мое питание было сведено к этой крапиве и к болтушке из ржаной муки. Было еще в среднем две картофелины в день и грамм 200 хлеба.
5–8 июня. 12 часов ночи
Вечернее небо было полно сегодня пухлых серебряных рыб разнообразного вида и разной величины. Они уходили далеко в ясность тепло-розовой зари и там казались комариной стаей. У нашего подъезда стояло несколько мужчин актерского вида. “Что-то готовят нам немцы на сегодняшнюю ночь”, – сказал управдом.
Пятую ночь ночует Борис[634]. Утомил всех своим присяжным энтузиазмом. Наивным, беспочвенным. А когда перестает говорить, задумается – лицо замученное, голодное, глаза скорбные и какие-то беззащитные.
Сколько голодных глаз вокруг!
Шура привезла из снегиревских лесов ландыши – мне, Гали и себе, всем по букету.
А писать о главном – не подымается перо. Но подыму его, ведь надо поднять, для того оно и послано, чтобы его подняли: Наташина болезнь, вспышка туберкулеза и легких и, вероятно, горла.
Неотступно второй день передо мной лицо Димы, каким он смотрел давно, еще зимой на мать. Она стояла перед сном, прислонившись к печке спиной и откинутой назад головой, с руками, заложенными за спину, с закрытыми глазами. Стояла долго, не имела сил уйти. И казалась распятой на кафелях этой печки, пригвожденной к ним и готовой испустить дух. А Дим смотрел на нее из-за стола, где готовил уроки. Смотрел подолгу, неотрывно, и был у него такой мученический вид, точно и его уже начали распинать.
Алла прислала мне записочку – просьбу заведующему театральной столовой – включить меня как ее тетку в число избранников судьбы, которым будут каждый день давать вареные пшеничные зерна (или рис) с огурцовыми шкурками и те же зерна в виде каши.
Семья Добровых и больная Елизавета Михайловна в том числе пять дней питались черным кофе и пайковым хлебом.
Алла прислала нам из Саратова два объемистых каравая – серых, солоновато-кислых, непропеченных. И один из них мы вчетвером, я, Гали, Шура и Борис, съели к вечеру, не успевали даже разобрать его вкуса.
На столе нашей кухни появился утром пучок рыночных овощей – морковь одна 7 рублей 50 грамм, зеленый лук 5 рублей, щепотка укропу 3 рубля. Смотреть на них было живительно и горестно: зелень, лето, надежды и… голод. Странны такие несуразные цены. Встречаешь то и дело опухших или пергаментно пожелтевших, едва волочащих ноги людей.
Алла испугалась, что, если меня не пропишут, я приеду в Саратов под ее кров. Какая-то в ней бывает детская опрометчивость выводов и заградительный отряд там, где никакой вылазки не предполагалось.
Алеша с семейством возвращается из Тбилиси через Баку, Астрахань под материнский кров, в Саратов. В Тбилиси было голодно. И уже небезопасно.
21 июня. Утро
Наедине.
Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть: На свете мало, говорят, Мне остается жить! М. Лермонтов[635]Жизнь пододвинула мне возможность (вот уже два месяца) быть наедине с собою. И я этим худо воспользовалась. Как и во всю долгую жизнь всеми возможностями, мне предоставлявшимися, худо пользовалась. Принадлежу к “мерзавцам своей жизни” (Островский), к евангельским зарывателям таланта.
Есть добрые желания. Есть совесть. Есть тоска (увы, чеховская!) “о жизни чистой, изящной, поэтической”. Благие порывы. Но нет крепкой воли. Нет в моменте выбора “шпаги, на которой клянутся”. “Должна быть шпага, на которой клянутся!” – так, заболевая душевно, закричала однажды сестра Настя, поднявшись во весь рост на кровати: “Все насмарку, если нет шпаги, на которой клянутся!”
И это до сих пор неизжитое тяготение к легкому, к безответственному, к ребячьей игре в жизнь вместо самой жизни в ее черной работе, в повседневном усилии и преодолении трудностей и скучностей. Мировичу легче, то есть не легче, а проще, естественней, кататься полдня по метро и троллейбусам для удовольствия Ники – и пока он сидит в кино, бродить по мусорному двору у черного выхода из кинотеатра, чтобы не смотреть “Свинарку и пастуха”, и легче до упаду устать от тому подобных Никиных развлечений, чем переписать и переработать возможно скорее “Невидимого врага и дозорных” – скетч, с судьбой которого связана возможность серьезно помочь больной Наташе и ее детям. Этот скетч как живой укор лежит передо мной, не переписанный за двое суток, когда я уже совсем свободна от обязанностей Никиного чичероне и успела отдохнуть от чичеронских забот. И сейчас следовало бы раньше покончить с перепиской, а потом уже взяться за эту тетрадь. Но писать то, что я сейчас пишу – помимо того, что это для меня душевно важно (но ведь можно бы подождать!), писать и быть “наедине с собою”, а не с “холерой, тифом и туберкулезом” – действующими лицами моего скетча, – мне приятнее, интереснее, словом – легче.
22 июня. 10 часов вечера
В тот же день я была в одном из кабинетов МХАТа (засвидетельствовать подпись Москвина на бумажке, которая должна магически прикрепить меня к литерной столовой, вместо театральной, низшего разряда).
И сидел там за столом пожилой человек, который казался огромным, до червивости старым и от дождей отсыревшим грибом, с какими-то жуткими целями принявший человеческий образ. И человеческие болезни. В серой, дряхлой коже лица, шеи и рук, в набухших мешках под глазами, в том, как он дышал, кряхтел, тяжко опирался локтями на стол и брезгливо равнодушно смотрел на тех, кто к его столу подходил, и во всем его существе сквозили подагра, склероз, геморрой, кислый катар желудка. Но ясно, что себя он чувствовал центром мира. Как и хромая Рипси[636] с парализованными веками за своим столом с другой стороны кабинетика. Что такое был для них театр – Ибсен, Толстой, Чехов по сравнению с геморроидальными коликами или тем, что наполовину парализованные веки могут совсем закрыться, как у Гейне.
То и дело слышишь: у меня авитаминоз. У той или у того-то – авитаминоз. И так как у этого слова корень насыщен витаминами, это звучит иначе, чем жуткое гнилое слово “цинга”. Его, точно уговорившись, изгнали из употребления. Но про себя, например, поскольку у меня набухли десны и гортань, и трудно дышать, и побаливают глаза, я думаю не витаминным словом, просто: “У меня цинга”.
Приснился этой ночью сон: какая-то квинтэссенция ужасов войны и пожар, и бомбы сверху, и завеса из рыжего дыма – самый зловредный из губительных газов, и безвыходность – некуда бежать. И такая была готовность к смерти, такая мольба, чтобы она поспешила и увела от ужасов, что, когда вернулось дневное сознание, сердце дрогнуло от сожаления, что это был только сон. А это – жизнь, и ужасы ее впереди.
3 июля
Через четверть часа будут меня “допрашивать”, не шпион ли я. Глупая это формальность. Шпионы, конечно, стали бы при допросе “клятися и ротитися”[637], что они честные и даже ярые патриоты. А просто честным людям такие вопросы обидны и как-то ни к чему. Уж если не доверять, нужно как-нибудь выслеживать не через беседы в милиции. А впрочем, может быть, и это нужно в административном деле, в каком я ничего не понимаю. Но нет сил расхаживать по милициям и разговаривать об оккупации, когда склерозная голова отяжелела от непривычно масляной пищи и шумит, как осенний лес.
6 июля
Что было в эти три дня. Наташино горло. Поражены гланды и гортань. Глотать мучительно. Анестезирование стали применять наконец. Но все же больно – хоть и не так, как без анестезии. Температура 39.
Анна худеет, тает, теряет силы. Пресловутый авитаминоз – маскировка гнилого слова “цинга”. Боюсь пережить Анну, боюсь пережить Наташу. И не то что “боюсь”, а не умею принять этого до конца. Где-то протест, протестующая молитва “Да не будет этого, Господи”. И с трудом возвращаюсь к привычной сыновней покорности. “Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”. Л. Шестов.
Письмо от Сережи – о матери. Вряд ли поможет телеграфный мой вызов – так все складывается. И не пустят его в Москву. Немцы у Курска. Немцы бомбят Волгу.
“От глада, мора и нашествия иноплеменников избави нас, Господи!” Всё чаще, всё глубже осознаешь, что нет иного прибежища у человека, кроме молитвы.
Только она дает силу жить.
…И опять, опять, и во всем этом Наташенькино горло.
13 июля. 11 часов вечера
По Неглинному мчится поток военных машин, каких-то фургонов, грузовиков, наполненных бойцами в полном вооружении. Неглинный напоминает сегодня Малоярославец в дни германского отступления. Люди, толпящиеся у трамвайной остановки, переглядываются тревожно-вопросительно. Мелькают приглушенные слова “фронт”, “блокада”, “Ржев”, “Воронеж”. Что вы! Воронеж давно занят. А Крым – неужели он весь его себе зацапал? Так говорят. А между прочим, я ничего не знаю. – Оглядывается по сторонам и прибавляет сурово – Мало ли чего треплют языком. Лучше всего молчать. В больнице у Наташи, с Соней[638].
Соня торжественная, взволнованная. Привезла яиц, молока, сахару. Наташа на прощанье сказала ей: “Помолитесь, чтобы скорее была развязка”. То же самое сказала и мне. Я спросила: “Какая?” Она ответила: “Кому какая”. И прибавила с тоской: “Скорей бы развязка”.
Очень она томится. Температура выше 39–39,2; 39,5. Лицо стало крохотное. Глаза строгие. Ни разу не улыбнулась.
14 июля
Пасмурно. Тепло. Грибной дождик. Вчера на рынке видела смородину, землянику. Не купила – 10–15 рублей стакан. Много цветов. Расцвели и мои любимые, большие, густо-мягко-лиловые колокольчики. Принесла Наташе их и крупных белых ромашек и болотом и медом пахнущих, мохнатых, высоких, кремового цвета метелок.
Наташа любила лес. Изредка урывала какой-то час среди нескончаемых забот и работ и уходила одна часа на два, на три за грибами. Любила. Я уже говорю о ней, как будто она в прошлом. А между тем никогда я не чувствовала ее так живо, так мучительно близко, как сейчас.
Вспомнилось, как в дни общих тяжелых испытаний мы читали вот в такой же летний вечер с отцом Сережи его любимую книгу стихов. И в ней строки:
Смерть и Время царят на земле — Ты владыкою их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, Неподвижно лишь солнце любви[639].14 июля
Солнце, но возможность новых туч после недавнего дождя. Что-то сердитое в природе – холодный ветер, набеги непогоды.
Разбудил оглушительный громовой удар (в 7 часов утра). Спрашиваю Ириса (она у меня ночевала): “Бомбардировка или гром?” Она ответила сквозь сон: “Я думаю, что это гроза”. Убедившись, что это не бомбардировка, решила встать, хоть и не люблю рано начинать день. А если бы бомбы, поспала бы еще. Такая выработалась на них “защитная реакция” в Малоярославце. Проснулась с мыслью о том, что такое поэзия, что такое поэт. (Эти мысли тоже защитная реакция подсознательного от боли дневных дум о больнице, о Наташином горле, о детях, оставшихся в Малоярославце с двумя древними старухами.)
И как это часто со мной бывает, открыв “Письма” Флобера[640], натолкнулась на ответ, который до какой-то степени удовлетворяет меня: поэтическая манера – особая манера воспринимать внешний мир, спецорган, который просеивает материю и, не изменяя, преображает ее.
21 июля
“Честна перед Господом смерть преподобных его”.
Наташа в морге. Со вчерашнего дня. А послезавтра ее иссохшее, изгрызенное болезнью и голодом тело предадут земле на Ваганьковском кладбище. И никто уже не увидит на этом свете ее прозрачных глаз, из которых глядела высоко летящая, далеко устремленная, без единого пятнышка на белых ризах душа. И никто не увидит ее чудесной, животворной улыбки (светом ее она отчасти поделилась с Сережей и с Машей). Улыбкой этой и нежным пожатием (а перед этим и поцелуем руки) она простилась со мной накануне дня своей кончины.
И как всегда бывает, встает во весь рост и, как под сильным лучом прожектора, в первые дни после смерти, внутреннее существо, личность, которую мы знали, в разных фазах, в преломлениях и затемнениях. И не только мы, близкие, но и больные 38-й туберкулезной палаты, где она рассталась со своей земной оболочкой, – все почувствовали иерархический трепет: “С нами жила святая”.
В ее поколении, дочернем по отношению к моему, было, как и у нас, главным устремлением искание смысла жизни и жажда подвига – “нечеловечески величественных дел”. Но у таких людей, как я, это свелось к отдельным порывам, к мечте и к великим неудачам при попытках сделать мечту жизнью. У таких же, как Наташа, служение своей правде, которую искали и потом сочли найденной, обратилось в повседневную незаметную жертвенность и стало подвигом всей жизни. От этого ее власть – при всем смирении, при нежелании властвовать – власть “вязать и решить”, быть совестью для тех, кто запутался, забылся, изменил себе, быть поддержкой для ослабевших, быть помощью во всем, где она была нужна, и утешением и напоминанием о высших законах духа, о жизни, далекой от купли-продажи, стяжаний, и борьбой – от погони за наслаждениями и забавами.
56 тетрадь 22.7-30.9.1942
22 июля – 3 сентября
С тех пор, как я завела обычай записывать по возможности каждый день то, что во мне тянулось к перу и к бумаге, ни разу не было такого большого промежутка без записей (42 дня).
За этот промежуток ушла из моей жизни Наташа (Н. Д. Шаховская), и я назначена попечителем Димы и Лизы. Через пять дней после Наташиной кончины 25 июля закончилось борение, смятение и самоотверженные труды другой близкой души, Елизаветы Михайловны Добровой. Угас всегда приветный, никогда не угасающий огонь щедрой, деятельной любви. И ко всем, кто в ней нуждался, были наготове лучи ее бескорыстной, безоглядной доброты. И ко мне – по-особому пристально, нежно и бережно. Я уже могу писать об этом. Но весь объем утраты обоих друзей и самая боль отрыва еще не дошла до меня. Она по временам начала уже приближаться ко мне – то в образе Наташи, мечущейся в бреду на больничной койке. То раскаленной иглой сознания, что она за час до кончины звала меня. А я приехала через полчаса после ее разлуки с телесной оболочкой. И уже лежало под простыней окостенелое, нисколько на нее не похожее лицо. Прах, останки.
Наташин отрыв был понятнее, и этим легче. У самой могилы ее мы – дети и я – ощутили ее еще ближе, чем была она для нас в жизни. И форма этой близости была понятна и радостна для души, хоть ее и невозможно было бы ни обнять разумом, ни определить языком дневного сознания. Когда могильщик насыпал над прахом Наташи маленький холм и тщательно выровнял его в четырехугольное надгробие и отошел в сторону поджидать обещанной ему за работу полулитровки, за которой поехала на квартиру дяди их Маша, мы – я, Лиза и Дим – попали в светлый, белый нимб Наташиного существа, в живое, обнявшее нас, как обетование бессмертной жизни, ее присутствие. Когда Маша вернулась и вручили полулитровку могильщику, она передала детям, которые с утра ничего не ели, кусок хлеба. И тут мы вспомнили предсмертный Наташин бред (обращенный ко мне): “Дай им по кусочку хлеба. Дай им по маленькому кусочку хлеба”.
В этот час ее слова прозвучали для нас, как возглас из неведомой потусторонней литургии. Мы разделили Машин кусок хлеба на четыре маленькие кусочка, положили их на могилу под крестом, который сам сделал из свежих ободранных веток Дима, и точно причастились ими к той форме жизни, в какую перешла любимая душа. Ее присутствие в этой новой форме не покидает нас (особенно ощущаем это я и Дима). Но предстоит нам – и овладевала им уже не раз – острая, земная, ультрачеловеческая боль – невозможности прежнего, привычного общения. И боль воспоминания. Боль воспоминаний, боль невозвратимости.
А может быть, это уже плюшкинский анабиоз – “хладность бесчувственной старости” в связи с общим физическим одряхлением. За это лето храмина тела моего разрушается не по дням, а по часам. Взглянув как-то в зеркало – не на криво надетую шапку, а на лицо под ней, я изумилась недавно количеству каких-то перекрестных новых морщин и впадин на щеках и общей дряблости кожи. Печать восьмидесятилетней старости. Такие встречаются в провинции лачужки-развалюшки, в которых ни одной части не осталось целой – продырявлена крыша, выгнулись наружу и присели готовые упасть стены. Тусклые, разбитые и кое-как склеенные стекла окошек с гнилыми рамами, покосилась даже труба наверху, но идет из нее дым. Теплится еще в лачужке каким-то чудом жизнь.
Я ни разу не заплакала, как нужно и как хотела бы – облегчительно-горько, – ни о Наташе, ни о том тридцать лет державшем меня за руку теплой и крепкой дружественной опекой друге, которого звала “Лилёк” (уцелели в нашем поколении, в нашей среде до 70-ти лет такие нежные уменьшительные имена). И только теперь о них думаю и хоть издали звучат во мне их голоса. А шесть недель тому назад не соединялась с ними ни византийская царица на цветочном ложе в золотой короне, с гордо и сурово сомкнутыми веками – чтобы не глядеть на нас, чтобы уйти от нас как можно дальше. И не соединялось с лучистым обликом Наташи ни маленькое, без мускулов, из одних косточек с присохшей, как у мумий, кожей тело и с мужским лбом стриженая голова – череп с глубокими впадинами глаз, растянутый рот с губами, присохшими к деснам. И даже не было недоумения. А просто анабиоз… Его нет только в сторону Наташиных детей. Здесь наоборот, до того повышено даже физиологическое сопереживание всех телесных их потреб и ощущений, что нельзя отойти от их существования ни на минуту. Особенно если они в Москве. Когда уезжают домой, эти новые мои опекунские чувства спиваются в общий фон тревоги и желания быть с ними. Когда они в Москве, неотступна со мной деятельнейшая забота: где Лиза и Дима в такой-то час, что удалось, что не удалось в хлопотах о техникуме и прописке, что на душе у каждого из них и покормила ли их тетя Шура и чем покормить, когда приедут ко мне. За эту непрестанную, пусть для дряблых нервов утомительную работу, за это наследство Наташи я благодарна ей, как за бесценный дар сестринской любви, соединявшей нас 30 лет. Она дает смысл и оправдание моей неприличной и томительной задержки на этом свете на попечении Александра Петровича (Алешиного отца), как ни рыцарственен он по отношению ко мне. Продукты, которыми он питает мою дряхлую плоть – все равно, учитывает он это или нет, – уже не идут на одно догорание чадного огарка эгоистичной старости. Уже дающая рука его дает через поддержание моей жизни поддержку юным существам – и каким прекрасным, как много обещающим дать Жизни в ее целом, в ее высшем значении.
И облегчается Мировичу глотание чужого хлеба и горечь “приживательства”, какую подливают в его похлебку рядом стоящие с ним у стола его.
14 сентября
Осень. Осень. Дерево-узник, глядящее из каменной клетки двора в мое балконное окно, отливает бронзой. Скосили второй покос клевера на лужайке против Академии архитектуры – это крохотное, огороженное каменной каймой поле встречало меня улыбкой Лета, когда я шла мимо него в булочную! И на углу Петровки, куда последнее время ходила с летом прощаться, заметно привяли и порыжели гелиотропы и настурции чьего-то весь угол занявшего цветника.
Санаторий диетического питания. Цинготики, язвенники, печеночники, диабетики, мужчины и женщины разного возраста в полосатых пижамах переполняют приемную, толпятся на площадке лестницы, в прихожей, встречая и провожая воскресных посетителей.
Там в маленькой комнатке большого барского дома я нашла истощенную, иссохшую от недоедания, нажившую какую-то сложную желудочно-кишечную болезнь старую мою приятельницу – “сестру” Екатерину. Она бы угасла за год войны, если бы Ромен Роллан не включил ее четыре года тому назад в свою семью как бабушку его пасынка (он сын Екатерины Васильевниного покойного сына Сережи и ее овдовевшей невестки, Майи, вышедшей замуж за Р. Роллана). Имя его отверзло Екатерине Васильевне доступ к пище (даже меня котлетой и чаем с шоколадкой могла угостить). Она так худо себя чувствовала два месяца тому назад, что попросила врача “взять ее, как кролика для экспериментов, в какую-нибудь лечебницу, где больных кормят и восстанавливают их силы”. Тут подоспел какой-то француз, озабоченный французскими семьями, оставшимися в Москве, и превратившийся в легкий тонкокостный скелетик, обтянутый сморщенной старческой кожей, с одухотворенным лицом и полными мысли и жизненной энергией глазами, получил спасительную койку в Николо-Воробьинском переулке и право на жизнь. Как всегда, наши редкие встречи и эти два часа протекли в тесном духовном (и сердечном) общении, когда говорится легко и с чувством назревшей необходимости – о самом важном, о “едином на потребу”. Ее волнует и радует ощущение себя в последние годы ее жизни как таинственного существа. Я уже раз слыхала от нее об этом. Но и второй раз для меня было важно пережить с ней эту радость и это ее волнение. И тем радостнее, что сказанное ею было интимным и высоким даром, какой она хранила только для меня.
И вся “злоба дневи” моего омылась этой встречей, и “мирен сон и безмятежен” сошел на меня в 10 часов вечера вместо столь частого томления бессонницы.
15-16-17 сентября
“Погибаю, погибаю!” – врывается в сонное сознание вопль ростовской беженки – учительницы. Сразу отхлынул сон. Включаю свет. Жуткой показалась непроглядная темнота. Точно не в стенах моей комнаты она, а среди разбушевавшегося моря, где со всех сторон барахтаются и тонут потерпевшие крушение люди. Некоторые тонули молча и быстро. Так утонули в Малоярославце священник Василий Павлович (он был уже не священник, а тачечный возчик) и обнищавшая тихая благообразная “чиновница” Четыркина. Их видели дня за три до их смерти. Они еще бродили по городу. А потом слегли и погибли от голода без воплей “погибаю, погибаю”, как ростовская учительница. Она остановила меня в нашем переулке и стала излагать свое беженское “хождение по мукам”. Все было как у всех беженцев – истрачены деньги, распроданы за бесценок вещи, нет крова, нет пищи. Чужой город. Я посоветовала ей обратиться в Наркомпрос. Что еще могла я сделать? Я сама беженец, чудом держащийся на гребне волны, пока Алешин отец не столкнет меня со своего утлого суденышка.
– Что ж делать? – сказала сегодня перед обедом Алла. – Такой исторический момент – выживут сильнейшие. Остальные должны погибнуть.
Не хотелось дискутировать. Но, конечно, здесь не дарвиновский отбор, а нечто другое.
Алеша, Людмила и их пятимесячная Аленушка[641], разве сильнейшие? Выживут те, кого государство снабдило спасательными лодками, спасательными кругами. Или те, кто, как я, принят каким-нибудь милосердным самарянином (или родней, друзьями) в чужую спасательную шлюпку. Волна может захлестнуть каждую шлюпку, и немало их уже поглощено волнами. Но все же это хоть отсрочка гибели. А эту ростовскую учительницу я видела и слышала в такую минуту ее жизни, когда только одна голова ее виднелась из воды.
21 сентября. Утро. Солнце. Почти мороз
Осколочки прожитых дней. Зачем они? Кому могут понадобиться? Не знаю. Они попали мне в глаз. И если я их таким образом не извлеку на эти страницы, они будут мешать “видеть, слышать, понимать”. Вероятно, для этого и нужно их записать. Только для этого. Флобер прав (читаю его письма): пишут писатели для себя (это он говорит о себе). Но я развиваю его мысль дальше: нет писателей, пишущих не для себя. Можно делить их на три категории: грубо корыстные, пишут для денег, для славы. Проповедники (искренние), агитаторы, памфлетисты не могут не писать, если они пишут для дела их жизни – значит, для себя, это стало делом их жизни. Поэты – не могут не слагать песен, как не может не петь певчая птица. И песня их – утоление потребы их души. А за чертой писательской среды – то проникая в нее, то ни разу в нее не вступая, безымянные или приобретшие впоследствии имя – мемуаристы и авторы дневников и заметок (в типе розановских “Опавших листьев”) удачных и неудачных, художественно-ценных (Женин Андрей, Юлиан, Лис) и вне вопроса о художественности (стопа тетрадей больше пуда весом покойной Зины Денисьевской, умного и добросовестного летописца своей жизни и того, что видела и слышала в окружающей среде и в событиях общеисторического характера).
Такие авторы пишут, потому что нуждаются в четкой регистрации всего пережитого ими. Нужно, чтобы не канули в пучину забвения те камушки, из которых строятся их мосты, которыми мостят они свою дорогу от преходящего к вечному. Вот почему и нужно бывает подбирать и такие осколки.
22 сентября
Столовая. Солнце греет. Даже припекает голову. На столе осенние цветы – златоцветы. И розы – дар Зимницкой, охваченной пожаром праздничного обожания и преклонения в сторону Аллы. Я с нежностью любуюсь ею. Но мне немного грустно, что в этом аспекте снижается для меня ее образ. Становится в ряды тех подносивших цветы и безнадежно бродивших перед Аллиным подъездом поклонниц, которых Алла дальше прихожей к себе не пустила. Ни в буквальном, ни в переносном смысле. Зимницкую она впустила – по воле обстоятельств – в гостиную. И как гость – из более или менее “знатных” и с условием, чтобы он не зачастил, – для нее она терпима и в какой-то мере приятна своим обликом, некоторыми своими особенностями. Но и только. На Эрос же – на великолепный пожар его (тут как в “Утренней звезде” у меня “костер до неба” возжигается), на этот пламень и отдаленно не может быть ответа.
Каждый человек нуждается в том, чтобы его “видели” (не в кривом зеркале) и слышали, когда он нужное для него говорит или зовет на помощь. Нуждается в пище телесной и духовной. В тепле – когда ему холодно (в особенности когда он очутился на морозе без теплых одежд, в прямом или переносном смысле). Каждому нужна помощь, когда он не в силах один поднять то, что ему послано Судьбой. И простая помощь чьих-то рук, ног, той или другой формы деятельного участия в его заботах и работах, когда он физически и душевно от них изнемогает. Здесь нет границы между малым и большим в иных случаях.
(Она дала мне маленький цветок, Но он большим казался в этот час.)Оглядываюсь на жизнь двух дорогих мне людей, которые ушли из мира видимого недавно. Почти одновременно. Какое богатство любви было у обеих – у Наташи (Н. Д. Шаховской) и у Добровой Елизаветы Михайловны.
58 тетрадь 4.10-8.11.1942
4 октября
О том, что Даниил на фронте[642] (санитаром), так и не подымается до сих пор рука дать мне отчет в этом событии. Так было, когда пришла весть о Льве Исааковиче (Шестове). Только через ряд тупо-равнодушных дней добралось сознание до нее. Самозащита? Или от слабости боязнь боли, от слабости общей, духовной? Или потому, что сам живешь без завтрашнего дня, без следующего часа – образ возможной утраты не поражает душу. А про милых, любимых, про друзей в глубочайшем смысле слова, каким другом был Даниил, когда летает над ними смерть, само собой думается: Блажен, кто умер. И это же думается и сопровождается вздохом облегчения и благодарности за их судьбу – про тех, кто ушел из видимого мира. Так – о Наташе. О Елизавете Михайловне. Не так о Людмиле, о киевской сестре.
7 ноября. Ночь
…Нет, нет, нельзя спать Жучке под тремя теплыми прикрытиями как ни в чем не бывало, свернувшись клубком, когда уже зашевелилось средь ночи в разнеженной теплой Жучке ее человеческое сознание. Когда видит Жучка глазами души, как под Можайском Даниил с его больным позвоночником, с его тончайшими нервами, с мимозной душой впивает в себя все адские ужасы фронта. Как несет он под бомбами на носилках одного за другим растерзанных, изувеченных, умирающих людей. Вот в эту минуту, когда я пишу, а дописавши, опять превращусь в Жучку и свернусь клубком и забьюсь под прикрытия, – без всякого, без единого от смерти прикрытия стоит человек под летящим с неба дьявольским снарядом, и вот уже не стоит он, а распростерт на земле и отшиблена у него челюсть вместе с языком. И он не может даже окликнуть санитара. И тот проходит мимо. И самого санитара валит с ног другой осколок. Куда попал он? Вышиб глаз? Впился в легкое? Разворотил внутренности? Какой позор – эта бойня, эти подлые бомбовозы в небе, какое банкротство науки, придумавшей для этого крылья. Какое банкротство разума, не умеющего придумать способа, как прекратить войны. И какое великое-великое несчастие – лезть помимо своей воли, против своей воли в дьявольскую мясорубку. И убивать, кроме того, что самому быть убитым.
60 тетрадь 1.3–1.4.1943
1 марта. Поздний вечер
“И вот тебе больно, больно. Но жизнь больше боли” – Елена Гуро.
Всякая боль – показатель более или менее важных, угрожающих человеку событий в его организме – физическом или душевном. В обоих случаях от боли можно избавиться четырьмя способами: наркотиками, лечебным режимом, операцией (там, где она возможна) и передвижением оси сознания в ту область, которая выше боли. Опиумом, заглушающим душевную боль, служат разного рода отвлечения и развлечения: усиленная работа, увеличенный груз забот, новые впечатления, кутежи, пьянство. Ко всему этому чаще всего и прибегает так называемый средний человек. И пока он в этом круговороте пьет забвение (лишь по временам содрогаясь и безумея от боли), приходит на помощь Время и затягивает раны.
Лечебный режим в душевно-духовной области: трезвение, медитация, пост, молитва, общение с иерархически высшими личностями, живыми или умершими. Способ религиозного порядка, целиком доступный только людям, стоящим на определенной ступени духовного развития. Частично и вперемежку с другими способами – доступный всем.
Третий способ – оперативное вмешательство, вплоть до ампутации. Об этом в мудрейшей из книг: “если рука твоя соблазняет тебя, лучше без одной руки спастись, чем с двумя быть ввержену в геенну огненную”.
Доступен этот способ далеко не всем. Труден до кровавого пота в нем момент решения, неуклонно твердого и безоглядного (оглядка тотчас же может все изменить). Трудна и предшествующая решению Гефсиманская ночь с ее “да мимо идет чаша сия”. Но когда сердце решением своим уже распято, отступление невозможно. Остается только вынести распятие до конца, умереть и в “третий день воскреснуть”.
Еще менее доступен для большинства четвертый способ. Преображение боли в какие-либо образы или качественно с ней несхожие состояния сознания.
…Но все у меня перегрустнулось —
И печаль не печаль, а синий цветок[643], – пишет Елена Гуро после большого душевного ранения (мне известного).
Лично мне доступно было во время сильной зубной боли превращать ее в музыкальные созвучия. Боль прохождения камней в печени перемещалась в образ растущего, углубляющегося в каменистую почву дуба (этот же образ уже сам появлялся и при зубной боли и заступал понемногу ее место). Ушная боль и другие невралгические боли ощущались синим пространством сгущающейся тучи, прорезанной молниями, которая понемногу становилась электрическим покрывалом – голубым, влажным, спокойным. И т. д.
Боль психического ранения, кроме первых трех способов, удавалось заворожить каким-нибудь чудным воображаемым пейзажем или представлением физического страдания мучеников (тут перевод боли психической на физический план, где она этим облегчается, потому что душевная боль неизмеримо сильнее по воздействию на душу, чем боль физическая).
Этот способ и успешность его, как и чисто религиозное борение, я всецело отношу к моим предкам-художникам, а последний (религиозный) – к отшельнику-пещернику деду отца Малахии, чью фамилию ношу.
3 марта. Глубокая ночь
Приехала с фронта Алла, переполненная героическими и трогательными впечатлениями. Говорила в Калуге в штабе после концерта приветствие Красной армии. Экспромтом. Ей устроили овацию. Младшие актрисы из ее бригады, отложив зависть, бросились ее целовать. Даже стоеросовый Ершов прослезился. Весело, молодо и лукаво мимоходом она проронила: “Один, с ромбами, до потери головы влюбился. Интересный, симпатичный. Вообще хорошо было, по-моему, весело. Этого я Ивану Михайловичу, конечно, не расскажу. Ужасно он ревнивый”.
Непонятно для меня, как смеют одряхлевшие мужья ревновать исполненных жизни и красоты, не изживших своей молодости жен, какова Алла. Это все равно, что розу, цветущую на розовом кусте, сорвать и спрятать под подушку, чтобы не смели вдыхать ее аромат и любоваться ею.
12 марта. 2-й час ночи
За это время (5 дней), в какое я не брала в руки мое “Преходящее”, – взяли несколько городов и отдали несколько городов.
Лазарет переполнился ранеными. Раздавались в немногих уцелевших церквях слова чудной молитвы: Господи владыка живота моего.
Приходили из своей нахолодавшей комнаты дети, живущие впроголодь, и что-то мы тут комбинировали, чтобы обмануть их голод.
Приходила Анна и принесла с собой чистоту, трезвение, воздух катакомб (за это ей земной поклон).
Продолжала мучиться Женя[644] между истеричной матерью и буйным, раздвоенным сыном.
Разбежались глаза у Инны (на почве цинги). И сожгла (!) она карточку, на которую мы – то есть дети – могли бы получить четыре кило картошки. И сидят без продуктов.
Пришло известие, что Сергея вызвали в военкомат. А раньше – что 17-го у него последний экзамен для перехода – сверхсрочного – на 5-й курс.
Пришло известие, что скоро может приехать Ника. И что у него туберкулез. Температура каждый день, и нет аппетита.
Пришло письмо от Ольги – копия с Аничкиного письма ко мне (не отосланного), где есть жуткие слова девочки: Мама говорит: “лучше бы я умерла, чем эта потеря” (сундучка с моим “преходящим и вечным” и стихами!). Бывает же такая омраченность сознания, такое исчезновение мерила духовных ценностей. Я даже рада, что “стало как не бывшее” многое из того, что Ольга в этот сундучок заключила.
Поставили в МХАТе булгаковского “Пушкина”[645].
Одобрили в Литературном институте Алексовы[646] рассказы, и он зачислен заочником, и мы будем вместе заниматься “языкознанием”.
У Татьяны Владимировны[647] – подруги Даниила – глаза коричнево-серые, и часто выражение их (иногда ласково и горячо на меня смотрит) воскрешает между нами тень моей покойной сестры, Насти. Жозефина (приятельница в общей нашей молодости) воскрешает (вернее, откуда-то вызывает) образ Зелениной – из чего и замечаю, что за год войны она ушла из-под здешнего солнца. Или очень тоскует обо мне под здешним солнцем, не зная, жива ли я. Алла приносит нередко мне лицо – и внутреннее, и внешнее – ее отца. И касание его к моей жизни. Дима всегда приводит с собой Наташу (его мать), Евгения Сергеевна[648] – Надежду Сергеевну и сестру Жени – Таню[649], недавно умершую. Никогда еще, кажется, умершие не были так близки к нам, живым, как в этот год войны. Или это свойственно лишь мне, моя личная “навья тропа”. Навьи чары – какие так сильно чувствовал в себе и в жизни Сологуб.
61 тетрадь 2.4-26.5.1943
17–22 апреля
Годовщина приезда в Москву. Оглядываюсь на эти 12 месяцев, ради которых пощадили меня бомбовозы малоярославского неба и самолет в Ерденеве, который уже спускался на нашу крышу (где я была с Никой) и взорвался неподалеку на огородах. Что в этих 12-ти месяцах, ради чего произошла задержка для меня у порога “звездных странствий”? Они отмечены расставанием с Наташей, ее предсмертным общением со мной. Уходом другого, более тридцати лет со мной тепло и светло связанного Друга. Увы! без общения с ней в последние ее дни. Все время было поглощено умиранием Наташи. А Елизавета Михайловна (Доброва) скончалась для меня неожиданно.
За эти четыре дня пришло еще три вести об унесенных войной жизнях (на фронте). Друг и спутник Нины Тарасовой, ее последняя любовь, доктор П. А. Был тяжело ранен, скончался в госпитале. Нине 50 лет, но сердце ее молодо. Такой дружбы у нее больше уже не будет. А “прибежища небурного”, какое у нее было до поездок в Арктику, она себя лишила.
Вторая смерть – мой бывший малоярославский ученик, которого я обучала немецкому языку за стакан молока в день. Женя Давыдов, единственный сын у матери-вдовы. Тихий юноша с теплым взглядом умных глаз, с застенчиво-светлой улыбкой. Прошлой зимой, когда я заходила к ним за молоком, встречал меня приветливо, не так, как полагается молодежи мещанской среды встречать старух. Где же теперь эта улыбка, эти глаза? Если бы знать! Знать – чтобы сказать его матери, как осмеливаются это делать спириты: “сын твой улыбается тебе, только ты этого не видишь”. Я верю, что он жив, но как и где, и встретится ли с матерью… Главное же, я не могу рядом с его образом не чувствовать то, что совершается в сердце его матери и ночью, и утром, и вечером, и какой страшной и пустынной стало для нее ее существование (“прибежища небурного” у нас тоже нет).
О третьей смерти узнала сегодня от Аллочки. Убит внук Ермоловой, Коля Зеленин. Некогда член моего кружка “Радости”. Тогда был гимназистом последнего класса. Единственный мужчина в девичьем кружке – в виде исключения, по просьбе покойной Н. С. Бутовой, приятельницы его матери. Что-то он написал тогда о Тютчеве. Внешне был непривлекателен. Девочки над ним подсмеивались, особенно Нина Бальмонт.
25 апреля. На улице
Второй раз за долгий период болезни на улице. И как сегодня под весенним солнцем выступила для меня вся ущербность московской жизни (что же в других городах!). На каждом шагу изнуренные зеленоватые лица, то подпухшие, то с глубокими впадинами щек и глаз. Изношенные, вылинявшие одежды (наряду, впрочем, с нарядными и элегантными). Желтенькие, полузачахнувшие дети. Надпись – “Ателье мод” или “Пошивочная мастерская” и прибавка: “из материала заказчиков” (откуда же они этот материал возьмут?). И даже на двери уличной уборной прибавка к надписи “Туалет” – карандашом: “Закрыто, нет воды”. Во многих домах нет воды, нет газа. Лимит электричества не разрешает электропечек. “Вот тут и вертись” (Чехов).
25 апреля
Как тени во мраке Аида, двигались человеческие толпы по улицам и переулкам Москвы и тысячами осаждали те немногие церкви, какие еще не закрыты. Толпа колыхалась вокруг полутемных храмов, было видно, как в них колышется другая толпа, которая вобралась уже в церковь, но непрерывным потоком стремится из нее выбраться, спасаясь от духоты и давки. Темноту вокруг мрачного силуэта Ильи Обыденного местами на мгновение разрезает чей-нибудь электрический фонарик и пронизывает свист или вскрик хулигана-школьника. С полчаса мы, пять более или менее престарелых женщин от 35 до 75, толпились в этой тьме на ухабистой мостовой и лавировали среди черных теней Аида. Из церкви так и не донеслась к нам весть о том, что воскрес Христос и что “ангелы поют на небесах”. Но зато было слышно это с высоты звездного неба. И было сверкание звезд “торжества из торжеств”. И не я одна – ряд лиц, мне известных (Иван Михайлович, Алла, дети, Татьяна Владимировна и др.), обратили внимание на то, что “небо было необыкновенное”.
Полдня провела с утра на Зубовском. Маша и Дима приложили все усилия, чтобы “по-домашнему, как при маме” устроить пасхальный стол.
К вечеру примчалась за мной уже без шляпы и без пальто Татьяна Владимировна, подруга Даниила. С горячо обнимающими старую бабку глазами. От Рождества назначалась и отменялась почему-нибудь встреча меня с их домом, с матерью и сестрой. Трудны мне новые знакомства. Но здесь тоже встреча – через судьбу Даниила, через мост кармической и духовной связанности с ним. К 35-летию Татьяны Владимировны, привлекающей меня наружным сходством с покойной сестрой моей Настей и близостью к Даниилу, уцелела пятнадцатилетняя школьница– энтузиастка. Вот уж о ком не скажешь: не холоден ты, не горяч. Откровенно и убедительно, и подчеркнуто горяча.
28 апреля
У Надежды Григорьевны Чулковой. Из тех, кому “стукнуло 70”, но держится стойко. Большие древнееврейские глаза не потеряли улыбки, и улыбка не потеряла мягкого молодого сияния. Муж, сын – на Новодевичьем кладбище. И в тесном уголке ее – портреты в красках и мужа, и сына. Но освещено одиночество лампадой. Когда умер ее пятилетний Володя, Сологуб прислал ей стихи, в которых последние две строчки:
Душа, измученная горем, Ты безутешна, но светла[650].Вот эти просветления безутешности и стали ее жизнью с тех пор.
И… с милым привкусом тщеславия. Боже мой! У кого его нет. Ее тщеславие, по крайней мере, зиждется не на своих качествах, но на писательском облике покойного мужа и на их соприкосновении их дома с литературным миром.
29 апреля
Говорили с Надеждой Григорьевной о Тане Розановой[651].Человек хороший и незаурядно одаренный. Какая-то крупица гениальности отца досталась ей по наследству (из 3-х дочерей Розанова ей одной). Вся молодость прошла в высшей степени несчастливо, одиноко, в крайней бедности. Несчастные свойства – безудержное многословие, горький и гневный ропот на судьбу в связи с нервностью, уже до психопатии доходящей, привели ее к тому, что – по выражению Ольги: “Завидев Таню, «друзья» перебегают на другую сторону”. Не все, конечно. Как раз Ольга находила в себе достаточно человечного тепла и дружеского участия, чтобы выслушивать Таню целые часы и даже оставлять ночевать. А в последние годы, по словам Надежды Григорьевны, в Тане произошла резкая перемена. Появились сосредоточенность, спокойствие. Появился “внутренний голос”. Говорит, что “только к нему и прислушивается”. Не жалуется больше ни на одиночество, ни на бедность. Наоборот – утверждает, что с тех пор, как “научилась возлагать надежды на Бога”, ничего уже не боится и каждый день видит чудесную помощь свыше (рассказала несколько случаев – вроде 5 кило пшена, которые ей кто-то из москвичей прислал).
15 мая
По дороге из лазарета в свою квартиру – куда-то за Сокольниками – забежал Юрий. Вошел стремительно в мою комнату и положил на стол сверток в газетной бумаге.
– Что это?
– Pour manger[652], – со своей широкой великорусской улыбкой, за которую в его детстве я звала его иногда “Шаляпин”.
В свертке краюха черного хлеба, обломок серого, два каких-то блина и кусок малосольной кеты. Должно быть, узнал, что я стараюсь подкармливать Диму. Я была очень тронута. Теперь такие съедобные дары воспринимаешь и как знак милости свыше, и как братское целование.
62 тетрадь 27.5.-30.7.1943
31 мая. 2-й час ночи. После Аллиного творческого вечера
Два огромных вазона с розовыми гортензиями, несчетное количество ландышей, целые кусты последней белой сирени. Сирень и ландыши по всем комнатам. Даже возле моего Данте два стакана с цветами. За ужином шампанское. Чужих – никого, если не считать за гостя Мировича, покинувшего ради праздничного события свой изолятор. Алла в приподнятом, поэтическом ощущении своей красоты и зенита славы. С уст ее не сходит весь вечер розовая улыбка счастливого эгоцентризма и королевского благоволения к окружающим. Королевского – и в то же время детского. С таким видом трехлетние дети важно лепечут обо всем, что их касается, и притягивают для поцелуя руку. Вечер ее удался. Публика, большая публика, любит ее за искренность чувств в связи с несколько плакатным их изображением и за чистоту и очень русскую красоту ее. Отдельные поклонники – за эти же самые два свойства; и за простоту – за уменье жить на сцене. Искусство? Театр не дал ей арены для того искусства, в каком она нашла бы себя: Жанна д’Арк, Иордис[653] из “Северных богатырей”, Федра, Клеопатра, Медея. У нее мало нюансов, не хватает тонкости. Душа ее – на котурнах и в героически-трагической маске. У ее Карениной есть жесты Медеи. Из всех образов, ею созданных, самый удачный, неповторимый (никто бы так не сыграл) – Катерина (в кино). Этому помогло ее истинно русское и душевным укладом близкое к Катерине естество. Сегодня лучшим достижением была Грушенька. И в странном контрасте с основными свойствами Аллиного таланта – мотыльково крылая, кокетливая офицерская жена из булгаковской пьесы “Дни Турбиных”. И самое интересное, что в сцене обольщения этой жены, уже соглашаясь на предприимчивые домогательства, ухаживания, уже охмелевшая от шампанского героиня в Аллином изображении не теряет чистоты и девической привлекательности образа.
4 июня. 1-й час ночи
Уже раздался несколько раз по радио успокоительный голос: “Опасность воздушного нападения миновала”.
Пролетел мимо нас Азраил. На фронтовую полосу. “Помяни, Господи, во царстве своем тех, кто в эту ночь положит душу свою за други своя”.
Приехала с театральным эшелоном Лида Случевская из Свердловска (из древнего моего кружка “Радости жизни”). За истекший год она понесла великую утрату. Из тех, что потрясают жизнь до основания. Смерть взяла у нее единственного друга, опору материальную и моральную, нежно любившего спутника (М. А. Рыбникова, талантливая художница и кристальной чистоты душа). Лида Случевская одного возраста с Аллой, но до войны, когда Алла расцвела, как осенняя роза махровейшего сорта, Лида перешагнула через золотую осень в ноябре, когда “под ледяной своей корой ручей немеет, все цепенеет. Лишь ветер злой, бушуя, воет и небо кроет мглой седой”[654]. Рыже-золотые кудри ее почти сплошь поседели и поредели. Подсохла, огрубела и покраснела нежная кожа лица, потускнели глаза. И какая-то преждевременная старческая резиньяция в жестах, во всей фигуре. Но в то же время и какой-то волевой стимул – не пропасть, какая-то чуждая ей физическая энергия и деловитость – в интонациях и в планах житейского характера.
Когда я, извинившись, ушла на кухню достряпывать суп для Сергея и Сусанны[655], которые приезжают ко мне завтракать со службы, Лида осталась одна. Я предложила ей почитать что-нибудь из книг, которые лежали на моем столе. Она сказала:
– Я могла бы читать сейчас только одну книгу. Не знаю, есть ли она у вас.
У меня нашелся томик Нового Завета. Когда я вернулась из кухни, я застала Лиду склоненной над ним с лицом, залитым слезами. Она взяла мою руку и, прижимаясь к ней лицом, прошептала:
– Скажите, это всё правда, что здесь написано? Или это то, без чего жить нельзя, но что люди сами себе в утешение придумали?
Бедный неофит! Сколько еще впереди у нее таких сомнений и слез! Я ответила без педагогизма, по чистой совести, что для меня правда не в догматах, а в моем “богоощущении”, во внутреннем моем собственном касании к горнему миру. И что в этой моей правде последние годы я не сомневалась. Я не прибавила только об ожесточенной борьбе, какая возникает время от времени между верой и ratio[656] в моей душе. И которая, к великому благу моему, до сих пор кончается победой Большого Разума над Малым.
Влечет видеть ее в других ролях. Но что-то милое и затаенно-хорошее чувствуется в ее женской природе.
Пошла с Сергеем в филиал Малого, чтобы помочь, если какие-нибудь выйдут преткновения с билетами. Дорогой говорили о катализаторах, о “чудесах” химии. Дорогой любила его и рада была, что идет он так близко, слушает и говорит так мягко и внимательно. Недоразумений никаких в кассе не вышло, и он пошел домой спешным шагом – уже соскучился о маленькой Суламифи своей и хотел поскорей ее обрадовать “Стаканом воды”[657] – попасть на эту пьесу хотелось именно ей.
Узнала, что Дима на готовцевском огороде. Но в театр и он попадет. Все четверо (включая и Сусанну) они живут сейчас празднично, тепло, радостно от своей сплоченности и от женитьбы Сергея. И Дима, и Маша могли бы говорить: “Мы женимся на Сусанне, на нежной, подобной серне с «виноградников нагорных» сестре нашей Сусанне, и празднуем нашу свадьбу в театре, в кино, у Ильи Обыденного[658], в чаепитиях на Зубовском бульваре. И в общих ночлегах там”. От чистоты и полноты их приятия Сусанны в их семью, от юности их, непорочной и светлой, несмотря на все, что обрушилось на неокрепшие их плечи за эти годы, когда смотришь в их сторону, слезы подступают к горлу: в них благодарность им и матери их за красоту образа человеческого, просиявшего сквозь их лики и жизнь их.
Трамвай, в котором жестоко друг друга все мяли и давили, довез меня до Зубовской площади. Зашла к Надежде Григорьевне Чулковой – попросить адрес врача для Суламифи (у бедняжки туберкулез). С Надеждой Григорьевной – старческий разговор о важности иметь жизненную опору, когда состаришься, как мы в настоящее время – опору в молодой чьей-нибудь деятельной любви и преданности. У нее появилась в этом году такая опорная точка в лице Нади Розановой[659]. Алла больше, чем опора, – это право существовать на свете, не голодая, не скитаясь и не прося милостыню. Но это не опора в смысле моральном и сердечном. Притушилась розовая лампада, и вешнее тепло подморозилось за последние годы. Но бывает так, как сегодня было: вдруг уничтожилось расстояние биллиона верст (инопланетности), и захотелось ей рассказать мне о самом интимном и болезненном, и дорогом, когда после обеда пили чай и никого больше не было. Главное, не было Гали. Ее холодная, настойчивая воля с польской незаметной ловкостью воздействует на Аллу в смысле отчуждения ее от людей, для Гали неприемлемых. В Гали я отражаюсь с некоторых пор, вероятно, так же, как она во мне – только еще безобразнее. Ее вижу часто в образе ящерицы, и не простой, а той, какую Винчи украсил золотыми рогами, крыльями летучей мыши и какой-то гремушкой. Во мне же тому, кто не может меня полюбить, не нужно никак менять мой образ, он достаточно безобразен внешне и нескладен, противоречив и пугающе неожиданен для меня самой внутренне.
Целый день я мыла посуду – и чайную и кухонную – и что-то достряпывала. Чего-то напробовалась в стряпне понемногу и могла весь обед свой оставить на завтра для Сережи и Сусанны. И в довершение удачи (это и морально – удача) Шура прибавила к моей снеди еще какой-то вчерашний отвар – так что получится количество супа, достаточное для троих – вернулся с волоколамских огородов Дим. До июля надо продлить для него возможность подкрепляться у меня между скудным школьным обедом и скудным и поздним домашним ужином: буду делать это при помощи какой-то пищевой комбинации моего измышления, конечно тоже скудной. Но в том, что он может проглотить у меня на письменном столе, встречаются какие-то жиры и витамины, каких нет в его обиходе.
К вечеру – зеленая-зеленая трава и кудрявые, по-версальски шаровидные деревца сквера Маркса и Энгельса, где провела часа полтора. Цветов еще нет: вместо них – дети того возраста, когда они, особенно девочки, дают впечатление цветов, живых кукол, забавных зверьков и бескрылых ангелов – все вместе. Долго на них смотрела. Надо будет каждый день ходить туда на часик.
8 июля. Дождливое утро
Еще в полусонном состоянии отодвинула на окне драпировку так, что углы комнаты остались в рембрандтовской тени, и только на письменный стол упал серо-желтый свет. И от этого освещения, а может быть, и от предшествующих сновидений, которых след еще не рассеялся в сознании, ожил целый кусок жизни. Прежде всего ожили совершенно забытые и никогда не вспоминаемые стихи того, петербургского моего периода (конец века, 1897–1899 г.) – 45 лет тому назад это было! и густо засыпались пеплом последующих годов и десятилетий. И вдруг ни с того ни с сего зашевелилось, забегало искрами из-под пепла, зазвучало строками, которые даже нигде не записаны: “Я люблю полусон, полусвет, полумглу освещенных окон. В полумгле, на полу – зачарованный блеск. Нежный говор и плеск – струй ночных дождевых. И дыханье живых ароматных цветов у забытых гробниц. Улетающих птиц в небе жалобный крик. Недосказанность слов. В лицах тайны печать – и все то, что язык не умеет сказать…”
Надеждинская улица. Длинный осенний вечер. Комната освещена светом из окон противоположного дома. Он начертил в полутемноте на полу золотые четырехугольники – отображения наших оконных рам. Когда опущены шторы, сестра Настя зажигает лампадку, устанавливает ее на маленьком круглом столе посреди комнаты, а вокруг стола мы расставляем большие цветы в кадках – фикусы, латании, филодендроны. На стенах комнаты появляется волшебный, точно просвеченный луной тропический лес. Вокруг столика на каких-то низеньких пуфах и в креслах, кроме нас с сестрой, подруга моя, пианистка, нежная Эничка[660], нежно меня любившая, ее жених и ученый врач-психиатр, безмолвный “простец чистый сердцем”. Его к нам привлекала, должно быть, психиатричность нашей манеры жить, парадоксальность суждений, напряженность душевной жизни, одиночество духовное, презрение к быту, неумение приспособляться, отсутствие завтрашнего дня. Женшинами он не интересовался. Я чувствовала, что меня, моей власти над собой боится (я была в повышенно-магнитном состоянии). В тот период на даче в Репном (под Воронежем) колдун Арсений сказал обо мне: “Ты вот какая мудреная: тебе все – подай, все – мало. А самой ничего не надо. Сама ты не знаешь, чего хочешь” – прибавил с ласковым сожалением и протянул какие-то полевые цветы, которые лежали возле него. И еще сказал мне и сестре: “Без Христа вам никак невозможно” – мы были тогда в подъеме острого и мучительного ницшенианства. Он ошибся лишь в одном: я и тогда знала, чего хотела. Одна половина моего существа хотела соединения жизни с человеком, которого я полюбила и который был крепко связан с женой, хоть была у него и любовь ко мне; хотела ребенка. Хотела ответа реального, жизненного, плотского – хотя бы на один час (с тем, чтобы потом умереть вместе или мне одной). Вторая же часть моей души хотела того же, что и теперь, – праведного пути, кратчайшей, вернейшей дороги “в обители звездные”.
15 июня
Когда я шла от вокзала по линии железной дороги, ведущей “к этим скорбным и светлым местам, где со мной жили горе и грех”, прежде всего меня встретила Наташа. Наташа, чье измученное тело обрело покой на Ваганьковском кладбище год тому назад. По этой линии она шла ко мне навстречу ровно 25 лет тому назад, когда я и мать приехали к ним из Ростова. И такое же было сегодня у нее лицо, все просвеченное извнутри лучезарной улыбкой. И шитое золотом старинное боярское одеяние, которое я так на ней любила, в котором часто видела ее во сне. (“Ты во сне была царицей, вся в парче и в жемчугах, были глаз твоих зеницы как зарницы в небесах”.) На этой линии она, у которой врачи отняли надежду иметь детей, на четвертый год брака получила обетование от св. Сергия, что у нее родится сын.
Когда она шла в Лавру, где был Институт народного образования, в котором она заведовала внешкольным отделом, над лаврской стеной вспыхнуло пламя пожара. Она страшно взволновалась, что сгорят мощи преподобного, и вдруг услышала голос, который успокоил ее: “этого не будет” и прибавил: “а у тебя родится сын Сергей”.
Вифанская дорога – переход на Красюковку[661], где жили мы с матерью и с Ольгой, а рядом – Сережина семья. На Вифанку в булочную вечно пьяного Ганина любил ходить со мной четырехлетний спутник моих сергиевских лет “Сергей Михайлович” (Сережа). Раз он, желая побранить кого-то, сказал: “Он хуже Ганина (Ганин часто появлялся в магазине в пьяном виде и от природы был грубиян)”. На мосту возле Ганина, над речонкой Кончурой мы подолгу созерцали уток и лягушек, и солнечную рябь и зыбь воды, и облака, отраженные в ней. Слияние мое с жизнью Сергея было нераздельно и неразрывно. Благодаря ему я у порога старости заново пережила “первое утро мира”, какое знала в детстве. С дополнительным счастьем материнской любви.
Дом Голубцова[662]. Там слепенькая мать ухитрялась топить зимними вечерами железную печку, ожидая моего и Ольгиного прихода с поздних лекций из Лавры. В голубцовский дом слетались ко мне слушательницы моих предметов в дни, когда у меня разбаливалась ревматическая нога, а пропускать моих лекций им не хотелось. Потому что это были не лекции, а затейливые выдумки Мировича – анкеты, диспуты, экспромтные рассказы на темы, вытянутые по билетам, групповое чтение поочередно выученных наизусть кусочков (между прочим, история Иосифа и его братьев по Библии). От педагогии дошкольного возраста в тесном смысле все это было далеко. И, в общем, все было – своеволие, ересь и дилетантство. Но пробуждался самоанализ, вызывались к жизни творческие возможности, у кого они были. И было какое-то праздничное объединение вокруг самозванца-лектора, шевелилась мысль в головах, не привыкших отвлеченно мыслить, живее бился пульс душевной жизни. Как стая перелетных птиц, опускаясь отдохнуть в степи на одинокое старое дерево, тесно усеивает все его ветки и сучки, так размещались и мои слушательницы в моей крохотной комнатке плечом к плечу, на кровати, на лежанке, по двое на одном стуле, на полу на коврике и даже на столе. Из окна этого буро-желтого деревянного домика я всегда видела вот эту из красного кирпича церковь (теперь школа) под развесистыми деревьями. Безрадостен абрис смуглый темно-красной церкви во мгле, а сердце, как тлеющий уголь, догорает, припав к земле. В те годы надлежало ему, вспыхнув жертвенным пожаром, унестись в горные миры, но по дороге оно сорвалось в лужицу посада и долго тлело и шипело раскаленным жгучим угольком.
Быковский дом[663]. И здесь образ слепой матери – такой не согретый, неутоленный, одинокий, как и я в те дни, и непоправимо разъединенный со мной. И такой светлый, умиротворенный, так свято и тепло близкий с того дня, как смерть отомкнула мне дверь к ее душе и жестокая боль утраты сорвала замок на дверях моей души.
Дом, где жила рядом с нами одно время Сережина семья. Здесь из окна выглядывает двухлетняя черноглазая Лиза и спрашивает Дионисию, идущую от ранней обедни из скита: – Матушка, покажи, какие у тебя цветочки! – Она знает, что цветы эти предназначаются “старенькой бабушке” – так звали дети мою мать. А Дионисия, подойдя к постели матери, перечисляет цветы ласковым и восторженным голосом: “Вот это синенький – а как зовут его, не знаю, вот это иван-да-марья, белый – это поповник. Кто и ромашкой его зовет. А вот это духовитый, духовитый – он только тут, у Сергия Преподобного водится. У нас под Вологдой таких нет…”
Березовый бульвар. Здесь дом, где закончился земной путь моей старицы. Здесь прозвучали ее последние слова: “А Вавы еще нет? Вава не приехала?” Я приехала через полчаса после того, как Дионисия закрыла ей глаза.
В этом же доме одиноко догорает хозяйка его. Теперь ей под 50 лет. В мои сергиевские годы она была сравнительно молодая женщина – русская красавица в стиле Маковского – чернобровая, круглолицая, пышнотелая – “ходит плавно, как лебедушка, смотрит сладко, как голубушка”. Сейчас она похожа на опальную боярыню, заточенную в монастырь. Покрылась черным платком. И что-то в ней появилось жалостно-смиренное. На сергиевском языке у нее “не все дома”. Она не справляется с бытовыми и домовладельческими обязанностями. Ее жилье анекдотически запущено. Ни питания, никакого культурного обихода она не умеет наладить. Раньше до войны питалась конфетами, пряниками. А теперь одним хлебом и кипятком. Некогда она была богатая наследница обожавшей ее бабушки (мать умерла в психиатрической больнице, где и дала жизнь единственной дочери, Марии). Благодаря такой евгенике Мария выросла непохожей на других девушек. Пока бабушка была жива (до 20-летнего Марьиного возраста), внучка страстно увлекалась театром. Устроила в саду летнюю сцену, ставила шиллеровские и шекспировские вещи, сама режиссировала, сама играла главные и всегда мужские роли, несмотря на свое пышно-женское телосложение. После смерти бабушки вся ушла в писательство. Создала целый ряд драм в сумароковском и озеровском роде, в ложноклассическом роде, с талантливыми отдельными страницами, с удачными стихами (наряду с неуклюжими и безвкусными). Но замысел и пафос пьес всегда героический, всегда широкого захвата (пьесы всегда исторические). Спрашиваю на этот раз: – По-прежнему так же много пишете? – Отвечает:
– Да, ведь это же моя жизнь. Как же могу не писать? – Пишет сразу две вещи – одну из русской истории “Святополк Окаянный” и про папу Иоанна VIII. Кроме писательства живет еще снами. И встречами с единственным любившим ее человеком, с умершей бабушкой. Сны у нее замечательные: с яркой фабулой и ярче действительности. При этом – вещие, пророческие. Бабушку она видит запросто. “Вхожу вчера в сумерках к себе, вижу – бабушка перед иконами у меня стоит и молится. Я обрадовалась ей. Она к себе не подпустила, но сказала: «Помолись со мной, Манечка»[664]”.
63 тетрадь 1.7-16.7.1943
9 июля
Двадцать лет тому назад, когда я была назначена заведующей дошкольным отделом в Институте Народного образования, в Сергиевом Посаде, я начала с того, что созвала слушательниц для личного знакомства. Я вызвала их по алфавиту и с каждой вела короткую беседу. Дошло дело до буквы Р., и на мой призыв: “Зинаида Рафф!” – встала с места маленькая девушка с малиновым лицом и ярко-синими, готовыми выскочить из орбит от испуга глазами. Нижняя губа у нее была негритянски огромная и тяжелая. Но в облике ее, почти уродливом, было что-то добродушное, честное и чистое. На мой вопрос, где она училась и чем занимается в данный момент, вместо ответа я услышала какой-то лепет на непонятном языке. Потом оказалось, что больше половины звуков алфавита она выговаривает неверно, что такой у нее был недостаток с детства. Среднюю школу она все-таки кончила благодаря исключительному прилежанию. Вместо устных проверок сдавала письменные работы. И в них было все в порядке.
Для меня ясно было, что с таким дефектом речи ей нельзя быть дошкольной руководительницей. В то же время я уже знала, что она принадлежит к известной своей непокрытой бедностью огромной семье выходцев из Швейцарии, что остальные дети все младше ее, работает один отец на каком-то нищенском окладе, а мать психически больная.
Я решила во что бы то ни стало исправить дефект ее произношения. Придумала ряд упражнений на каждый звук алфавита. И благодаря швейцарской выдержке и трудоспособности этого обделенного природой существа через полгода она уже могла прочесть перед целой аудиторией какое-то свое сочинение. Занятия по фонетике у меня на дому сблизили бедную, не пригретую жизнью девочку с моей слепой, не покидавшей постели матерью. И были они друг для друга на зловеще темных окраинах их жизней чем-то вроде тех фонарей, о которых говорит Шестов – за которыми уже глухая, ничем не освещенная ночная даль. Когда через 15 лет Зина стремительно вбежала в мою комнату, узнав, что я приехала, она прежде всего горько заплакала. Спрашиваю: “Зиночка, о чем вы? Что случилось?” Отвечает, застенчиво утирая слезы: “Ничего. В том-то и дело. Все как прежде, плохо”. Случилось же многое. Умер отец. Умерла мать, братья на фронте. Сама она живет одиноко, снимает какой-то уголок, работать руководительницей уже не в состоянии – “нервы истрепались”. Служит в детдоме ночной дежурной сестрой. Голодает. “Больше всего по ночам голодаю. Но и днем всегда, всегда есть хочется”. “Но есть ли, бывают ли хоть какие-нибудь, хоть маленькие радости?” Отвечает без колебания: “Никаких, Варвара Григорьевна. Мне даже это слово кажется странным. И так всегда казалось, что это не для меня – радость”. Стало понятно, отчего она восприняла цепь утрат, за эти годы ее посетивших, как нечто естественное, “в порядке дня”, как продолжение все той же несчастливой, сужденной ей долей на такой окраине жизни, где о фонарях даже не мечтают.
11 июля
О сопутничестве
В широком смысле это общность идейных или религиозных путей, связанная с чувством дружественной близости на этой почве.
Сопутничество, для которого есть слово “сотаинность”, – явление глубинного, мистического порядка. В нем есть нечто предназначенное, есть обреченность его принять. Оно сопровождается иногда потрясением всего духовного организма, как при посвящении. Оно не похоже ни на любовь, ни на дружбу, хотя в нем есть некоторые элементы того и другого чувства. В нем главное – ощущение сверхличного значения (на моем языке “звездного” значения) такой встречи. Волнующая, ответственная уверенность, что ты в какой-то назначенный тебе срок прошел через какие-то врата (такие же опасные, как в древних мистериях символическое прохождение через огонь, мечи, полчища призраков и самый ад). Уверенность, что за этими воротами ты уже не тот, что был до них. У тебя новые права, новые обязанности. И отныне ты идешь этим путем до каких-то сужденных обоим сроков не один, а рядом с твоим сотаинником в общем духовном делании. Отсюда в духовной и в этической зависимости друг от друга. Путь ведет к цели общемирового порядка, на земной планете для свершения в исторических условиях от нас до какого-то срока сокрытого. Иррационален в этой области (ее мало кто знает) подбор спутников – двух, иногда трех; вероятно, и целой группы (так было в катакомбах). Нечеловеческого ума дело разгадать, почему те, а не другие лица вовлекаются в двойные, тройные или групповые сопутничества.
Глубокая ночь. Уже рассветно белеет балконная дверь. Поддалась вечером постыдному искушению: с негодованием осуждала (вслух!) уехавшую в мое отсутствие в Свердловск Аллу, за то что она не только не оставила никаких распоряжений о моем и Шурином питании, но сказала Шуре: “Там, кажется, есть немного крупы и муки – разделите на троих (включая Галину, у которой, между прочим, есть театральный и оставленный Москвиным кремлевский обед). Это было так несопоставимо с горами разнообразной провизии, увезенной в Свердловск, и такой уничтоженный и горестный вид был у Шуры, что у меня вырвались резко осудительные слова в сторону nouveau rich’ей[665]. Я видела, что Шура, как и я, задета не самым фактом, что придется две недели жить впроголодь, а барственным небрежением к челяди, недостатком братского тепла и даже простой хозяйской заботы, какая, наверно, проявилась бы к Беку и к коту Муру. Шура сидела, обхватив голову руками, в подавленном настроении. А я кипятила смородиновый лист, подсушивала хлеб (ужина нам с Шурой не полагалось) и думала, что самое печальное здесь – это смеющие подменить мне мою Эос образы из “Пошехонской старины”, из чеховского “Дяди Вани” (актриса Аркадина), “кружовенное варенье” из “Иванова”, прославленная анекдотической скупостью тетка моя Авдотья Терентьева, которая по воскресеньям пекла кулебяку, а для нас, “сестриных детей”, бедных родственников – игрушечно миниатюрные “пирожечки кроховенькие с пашанцом”. И пока я это думала, остывало мое негодование на то, что “не растет на терновнике виноград”. И овладело мной чувство: все существующее разумно – с прибавкой: если воспользоваться им в дальнейшем по велению нашего высшего “я”. Здесь углубление опыта псалмопевца: не надейтеся на князи, ни на сыны человеческие. Что же касается до образов, которые стали выглядывать из уплотненного лица Аллы, может быть, они овладели ею только временно. И надо помнить, что среди них есть и Негина из “Талантов…” с перстами пурпурными, с младенческой улыбкой Эос.
14 июля. Ночь
1914 год. Вечер в Петербурге накануне отъезда Михаила на фронт. Странно, что я вспомнила при этом свое платье – кустарную материю с широкими вставками двух расцветок – что-то синее и золотое, и лиловое, и немного красного и небесно-голубого. Костюм вне моды, нечто объединяющее сарафан и шушун. Может быть, потому он вспомнился, что каждый раз, когда я надевала его, Михаил говорил: – Когда ты в нем, я не могу оторвать от тебя глаз. С усмешкой думаю: “А если бы я надела его теперь, как бы оскорбился его глаз сопоставлением этого наряда и старости” (и всякий другой глаз, начиная с моего, оскорбился бы). Старость! Но ведь расцветки – основная душевных свойств, совпадающая с теми красками и рисунками, остались та же. В этом трагизм старости. Хотела бы я его изменить, исправить закон разрушения? По совести – нет, как не хотелось бы вернуть ни этого платья, ни петербургского вечера, когда и Л.[666] – знакомый писатель, смотрел на меня таким длинным, блестящим, ласкающим взглядом. Но я хотела бы, чтоб разрушение в старости было менее безобразно. Бывают же красивые, величавые руины храмов и дворцов. Бывают старческие лица, как у “Матери” Рембрандта. Но. “сужденное прими, не прекословь”. Нельзя выбирать рисунки разрушения для своей плоти, как и того рода смерти, какой сужден ей.
И странно, и нехорошо, что я об этом сегодня думаю. И сейчас поняла, что это отвод глаз моей души от фронта, ожидающего Сережу. По ассоциации сходства душа убежала от военного училища Тулы в Петербург, в тот прощальный вечер (мы забрались тогда в какие-то высокие слои мысле-чувств все трое). И, оставшись одна, я написала в записную книжку Михаила:
Звездная нить твоей жизни вплетается В мирную надзвездную ткань. Блажен, кто улыбкой с землей прощается, Он – бессмертию дань. И уста мои, жертвенной воле покорные, Не заградят Твоего пути… Врата широкие, тропинки торные И мне заказаны. Прости.Об этой чудесной, преисполненной светлой покорностью, обреченной, отреченной улыбке Михаила его приятель потом сказал: – Я был уверен тогда, что это сияние уже нездешнего порядка. Нехудожественно было со стороны Михаила Владимировича вернуться с поля сражения на Арбат, жениться и т. д.
15 июля. Под утро. В предрассветном сумраке
На этот раз не Мефистофель с его гнусной физиономией, а сам “страшный и умный дух” явился искушать меня. С печальным лицом несказанной красоты. Третий раз в моей жизни приходит он ко мне. Первый раз в 1913 году в крюковском санатории на одной из дорожек парка. Ему нужно было разрушить тройственный наш союз (Наташа, я и Михаил). Тогда ему это не удалось. Но он посеял семена, которые проросли позже и выросли колючей преградой между мной и Михаилом. Через нее нельзя было пройти друг к другу. И только временами на крыльях прошлых обетов возможно было перелететь через эту стену и повидаться лицом к лицу, а не иметь дело с теми масками, какие он надевал на нас.
В другой раз это было в Ростове-на-Дону в 19-м году, когда мы все трое решили осуществить наш союз вне личного порядка на житейском плане, и я с матерью по зову Михаила и Наташи стала собираться в Сергиев Посад, где они поселились. Здесь он принял облик еврейской девушки, легкой и хрупкой, с полумужской внешностью и чарующе ласковой и властной манерой обращения. Скоро лицо ее засверкало для меня неотразимой люциферической красотой. Об этом сложился у меня тогда цикл “Утренняя звезда”[667].
16 июля. День
Тоска и хмурость в небе сером. Когда я долго пробуду на моей “вышке” и мне хочется порой самого простого, до вульгарности простого отдыха. Так одно время мы предавались часа на два– на три игре в подкидного дурака (я, Александр Петрович и Леонилла). На деньги. Без них нет азарта. А почему-то он нужен, когда вот так устанешь.
Когда живешь среди природы – игра в дурачка не нужна. Там отдыхаешь где-нибудь, прислонясь к сосне, как в объятиях самой Матери-Земли. Бездумно следишь за облаками. Погладишь травинку, колыхающуюся рядом. Прислушиваешься к шелестам, шорохам леса – и кончаются все терзания, вся ответственность индивидуального существования. В этот июльский, но такой угрюмый и холодный день, в окружении тарасовских стен и за ними – всех каменных нагромождений Москвы – сказочно тепло вспомнилось вдруг Сенькино[668], имение на Оке, где гостили в семье Лурье одновременно я и Шестов. То, что называют “личной” жизнью, и у него, и у меня шло по отдельным руслам. Но было общее русло неизменного сопутничества душ. И каждая встреча, каждый разговор были проникнуты ощущением – теплым и нездешне праздничным. Когда он уехал, осталось общество Тани Лурье и Лили (сестры М. В. Шика) – ученически в меня влюбленных и мною нежно любимых. Лев Шестов и Лиля в загробном мире. Таня – давно в загадочной стране, называемой безумие. В Париже в какой-то лечебнице. Может быть, и она уже прошла земной предел, хотя в сновидениях моих, какими общаюсь с миром потусторонним, я встречаю только Льва Шестова и Лилю. Таню же, если и вижу – встречаю в аспекте, в каком вижусь с моими живыми друзьями. И вот – забыто почти все, о чем говорили они со мной под липами и елями огромного парка и на песчаной отмели Оки. Памятны лишь некоторые темы разговоров. Но помнится общий колорит устремленности друг к другу, бережного внимания и неослабного интереса. Помнится, как лестница, ведущая на какую-то ступень горного царства, куда мы вместе должны были войти.
И еще помнится овраг, который тянулся до самого поля через огромный, тенистый парк, где жили совы и белки. Какая-то большущая белая сова два раза прилетала к моему окну перед рассветом, садилась на соседнюю елку и стучала клювом в окно. И залетали несколько раз в мою комнату летучие мыши. Эти аксессуары средневековых ведьм дали повод девочкам и Л. Шестову и другим взрослым шутить надо мной, обвиняя меня в колдовстве.
– И эта сова, уверяю тебя, не сова, – с вдохновенным видом говорила кудрявая, пепельноволосая синеглазая Таня. – Это, может быть, аэндорская волшебница прилетает к тебе в таком виде или Рената из “Огненного ангела”[669]. И жаль, что ты не отворила ей окно. Может быть, она тут же превратилась бы в женщину и научила бы тебя разным волхованиям.
Года через три бедняжка Таня проездом за границу через Киев, где я в то время находилась, сама рассказывала мне о том, как волхвовал над ней Вячеслав Иванов в какой-то пещере, заставляя обменять свою душу на душу двоюродной сестры ее Нины, с которой у нее внутренне не было никакого контакта. И много других чудесных происшествий рассказала она мне – о романе с князем Одоевским и с Гёте, о преследовании поэта Балтрушайтиса, Игоря Северянина. И бреды эти уже не прекращались, оставляя какую-то часть души здоровой. Настолько, что в Париже могла перевести для печати на французский язык какие-то чеховские рассказы.
64 тетрадь 17.7–7.8.1943
17–18 июля. Москва
Тарасовская квартира. Глубокая ночь. Глубокая глухая тревога в тайниках души. Нельзя жить дальше, не преклонив колени под епитрахилью невидимого духовника. На этот раз у моего аналоя мудрый и кроткий учитель – друг, в Боге почивший 14 лет тому назад.
– Вы опять прегрешили против законов воплощения; вы обнаружили нетерпеливость, своеволие и дерзание не по чину, – с мягкой укоризненной улыбкой сказал он. – В орионские ваши дни[670] я это уже говорил вам: вы предваряете события, через которых должно пройти душе вашей. Вы хотите ускорить свой путь и этим удлиняете его. В нетерпеливой жажде познания вы приподнимаете завесу тайн, для которых не созрел ваш дух. Однажды я это уже говорил вам и вновь повторю: на земле наше дело маленькое, хоть значение и следствия его огромны. Вы приняли за посвящение то, что в сужденный срок вам дано было коснуться тайны внеличного, вселенского значения вашей дороги, вашей личности, вашей судьбы. Вы не всмотрелись до конца в это откровение и не сделали из него самого главного вывода: “нет такого движения в человеческой душе, которое не имело бы своей иррадиации во все точки Целого”. Миссия же, которую вы в себе ощутили в ночь у Донского монастыря, давно уже, хоть и плохо, проводится вами в жизнь, поскольку вы включили в орбиту своей души сопутников и матерински приемлете сыновние вам души. Но в том ошибка ваша и вина, что вы дерзнули иррациональное, вами пережитое, рационализировать, не подождав дальнейшего раскрытия коснувшейся вас тайны. Вы малым разумом и большим воображением своим предуказали нормы и формы душе, вам сыновней, вошедшей в орбиту вашу. И права она в смелой и честной интуиции своей, что, любя и принимая вас, не приняла до конца норм и форм своего духовного сопутствия с вами. Отныне все отношение ваше к душе, вашему попечению вверенной, сводится лишь к неусыпному вниманию к духовным запросам ее, к посильному удовлетворению их и к любви, которая “не ищет своего”. Остальное – приложится. Не нужно забывать, что дальнейший путь наш, как и его конечная в мировом масштабе цель, нам неизвестны. И что лишь постепенно и отчасти, по сколько мы можем вместить, открывается нам значение наше в тех или других свершениях, как и их значение для нас. Философ, всю жизнь посвятивший богоисканию, говорит (по поводу славянофильских утверждений: “Мы – народбогоносец”, “Москва – третий Рим”) – “Народы не то, что они о себе думают, но то, что о них думает Бог”. То же самое мне хочется сказать применительно к каждой человеческой душе: она не то, что о себе думает и что думают о ней те или другие люди, а то, что “думает” о ней Бог.
Смиренно преклоняю колени и, чувствуя на голове своей священно дорогую руку учителя и друга, слышу слова его над головой моей, склоненной под епитрахилью: “Отпускаются тебе грехи твои. Иди и впредь не греши”.
22 июля
В сознании, что ты любим, есть расслабляющая нега чувств, некое духовное сибаритство, довольство своим отражением в любящей нас душе (“любят, любуются мной, значит, я – хорош”). Настоящую внутреннюю опору и крылья дает лишь собственная любовь, поскольку она “не ищет своего”.
Когда буря гражданской войны разметала близких друг другу людей в разные стороны и отрезала возможность общения на целые месяцы, я оказалась в Ростове-на-Дону, а мать осталась там, где и жили, в Воронеже. Как только стали появляться оказии для передачи писем, я прислала Ольге в Воронеж запрос обо всех близких и получила ответ, что мать моя жива, но брат пропал без вести во время мамонтовского налета, что тетка моя, подруга матери, с которой они жили вместе, умерла, а также умерла от тифа и Олина мать. В конце письма Ольга предлагала привезти мать ко мне, так как “жить Варваре Федоровне (матери моей) не с кем и не на что. Живет она пока с Наташей” (домработница тетки). Тогда я позвала мать к себе – я была лектор в Народном университете и инструктор детских садов и в квартирном и пищевом отношении была устроена.
Если бы кто-то прочел письмо мое к матери[671], каждый подумал бы, что перед ним идеал дочерней любви – столько было в нем жалости, нежности, такие пламенные обещания быть для нее не только дочерью, но и матерью, быть ее глазами (мать ослепла к тому времени), ее другом (отношения у нас всю жизнь были нескладные, тяжелые, несмотря на так называемую “любовь”). Со стыдом вспоминаю пафос этого письма. Он осуществился лишь в том смысле, что материально я делилась с матерью чем могла, заботилась о всех ее потребах и не тяготилась этим. Но внутренний мир мой, над которым взошла в ростовские дни “Утренняя звезда”, конечно, был от матери закрыт. И все время, все горение души моей отдано блудливому мелкому бесу, представшему передо мною неотразимо-прекрасным, непобедимо влекущим образом самого Люцифера.
Был день, когда вошел могучий Ко мне сам повелитель зла[672]. Синели крылья грозной тучей, И в тучах молния цвела. И на чело его блистала Кристаллом пламени и льда, Как смерти трепетное жало, Денницы Утренней звезда.Но и через полгода, когда наваждение всесторонне и бесповоротно завершилось победой над бесовской властью (и с великим отвращением к носителю ее), никакой связи, греющей, питающей ее загнанную в слепоту и в одиночество душу, между нами не образовалось. И время я отдавала целиком моим дошкольным слушательницам, а дома – Ольге, Михаилу, Наташе. Когда родился Сережа – каждый свободный час проводила в его детской. Матери оставляла для общения один час вечером, как лектриса для чтения душеспасительных книг. Ни о чем с ней не беседовала, никакими мыслями и чувствами не делилась. И вскоре целиком передала ее попечению Дионисии, которая ангельски терпеливо и дружественно за ней ухаживала до конца. А у соседей наших в Загорске до сих пор живет легенда: “какая замечательная, какая примерная дочь В. Г. (это я!)”.
23 июля
Это было давно, лет 40 тому назад. События так называемой “личной” жизни загнали душу в застенок, из которого она долго не умела выбраться. Поздним вечером, почти ночью вернулась я после разговора, который не вывел ни меня, ни собеседника моего из заколдованного круга, ставшего для меня местом непрерывной безысходной пытки[673].
Я снимала комнату на Кудринке у жены артиста Россова[674]. Россов вечно где-то гастролировал. Жена, в сущности, была покинута, но не хотела себе в этом сознаться и с неослабной надеждой и любовью поджидала своего кумира, наезжавшего раз в полгода на несколько дней. Это была хорошенькая, изящная, очень женственная женщина, с седыми локонами и очень молодым нежно-румяным лицом, с калмыцкими вздернутыми к вискам улыбчивыми глазами. Мы не были с ней близки. Я ничего не рассказывала ей о моем тупике, но охотно выслушивала все, что она рассказывала о Россове. Это был тоже, по-моему, тупик, из которого давно нужно было бы бежать “босиком, через болото”, как советовала поступать в таких случаях моя тетка Леокадия, красавица и мужененавистница. Но жена Россова была однолюб, раба и мечтательница. Она сделала себе из своего положения сказку о единой и священной привязанности и нашла в этом какое-то устойчивое равновесие. Обо мне она слыхала – что в жизни моей “есть драма” – и расспрашивала о ней моих подруг, но меня спрашивать не решалась. В тот вечер, который мне вспомнился, я вернулась с почти до конца созревшей решимостью покончить с собой. Я отказалась от ужина – ужинали мы вместе, и долго ходила, как пантера в запертой клетке, взад и вперед по узенькой длинной комнате моей, прикрывши дверь в столовую. Потом оделась и решила побродить по улице.
Когда через час я вернулась, Россова еще не спала. Она встретила меня обрадованно.
– Ну, слава Богу, – сказала она. – Я очень беспокоилась о вас сегодня. Я поблагодарила и молча прошла к себе. На столе у меня лежало Евангелие, которого среди моих книг тогда не было. Оно было раскрыто на главе, где были слова: “Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас”.
Рассказ “Денисьевны” (Дионисии).
Он – в мужском бараке, неподалеку. Хороший-хороший такой батюшка. Тихонький, глаза добрые, светлые. Духовной жизни, отец Василий по имени. Смиренный. Назовешь его “отец Василий”, а он: “Какой я отец Василий? Я – каторжанин по грехам моим”. А какие у него грехи? С нами одна церковница из его мест, его хорошо знала. Праведной жизни батюшка, говорит. Все прихожане его как за праведника и прозорливца почитали. И семейство все – как у Натальи Дмитриевны – одни другого лучше дети, и матушка добрая, как Наталья Дмитриевна. Три года он в лагерях без них жил. И все ничего. А на четвертый год вот – заскучал, вот заскучал и есть перестал, с лица сменился, почернел, как земля. Идем мы с матерью Симфорозой с купанья, а он нам навстречу – черный весь и глаза не его. Увидал нас, как шарахнется. Мы – к нему. Говорю: “Куда это вы, отец Василий?” – “К речке”, – говорит. А сам на нас не смотрит, дальше шагает. Я хвать его за полу халата. “Да вы что это задумали? – строго ему говорю и дальше идти не пускаю. – Да разве это мысленное дело!” А Симфороза со слезами руку его целует: “Батюшка, батюшка, – говорит, – что ж нам тогда делать? На пояске удавиться, если уж «пастыри наши жизни себя решать начнут»”. Тут заплакал и он. “Ах, галочки мои дорогие, – так он монашек звал, – полгода от семьи писем нет. Не знаю, кто жив, кто мертв. Изныла душа. И точно на ухо кто по ночам шепчет: а река на что? Голову под воду – и мучений никаких, ни думы, ни каторги не будет”. Мы так и ахнули: “А на том свете-то что будет. Ведь это лукавый вам шептал”. – “Знаю, – говорит, – что лукавый, да уж очень тяжко стало”. Мы его на бугорок зеленый усадили – на купанье нам целый час давался. Сами по сторонам сели, разговорили, расспросили, поплакали с ним. Повернул с нами от реки в свой барак. Купаться его в этот раз не допустили. И что ж бы вы думали? На другой день письмо из дому получил – и все там благополучны. Как встретились через день у реки, стал на колени и в землю нам поклонился: “Без вас погубил бы я свою душу, – говорит, – вечной погибелью”. И опять мы все трое поплакали. И он нам письмо, какое получил, прочитал. И от деток, и от матушки – складно так, умильно написано. А там скоро Бог его и совсем ослобонил – ему еще семь лет оставалось мучиться, а он по осени простудился да и отдал Богу душу.
7 августа. Раннее утро
В такое же раннее утро 21 год тому назад я сидела на бревнах посреди больничного двора в Сергиевом Посаде. Михаил (Димин отец) пошел в родильное отделение, куда с вечера проводили Наташу, почувствовавшую приближение родов. Это было не только их, но и мое дитя. Так было предрешено нами в их браке.<…>
Они решили назвать его Сергием. А мне за два-три года до этого снился он среди звезд, и было во сне его имя “Астей” или “Астрей”, о чем я Наташе и написала. Она тогда с грустью ответила в Ростов, где я жила: “У меня не может быть детей”. Я примирилась с тем, что он не будет Астей (я думала наречь его Себастианом, чтобы звать “Астей”), но каково было мое радостное ощущение исполненного обета, когда я узнала, что 7-го празднуется память св. Астерия. И когда Флоренский, придававший особое, мистическое значение именам, стал на крестинах Сережи рассказывать, что Астерий и Сергий равнозначащи по смыслу. Астерий – “звездный”. А Сергий – что значит “вплетенный в земную жизнь из мира звездного”.
Михаил с бледным от волнения, светящимся, как алебастровая лампада, лицом подбежал к бревнушкам, где я его ждала, и, целуя мое лицо и руки, сказал: “Мальчик, Сергей. Наташа здорова. Все благополучно. Только боюсь, тебе Сергей не понравится – голова огурчиком, нос – большой, как у меня”.
Но он ошибся. Какая бы ни была голова, какой бы ни был нос у этого таинственного звездного пришельца, он был для меня чудесно дарованным мне сыном, еще до рождения своего знакомым и любимым.
Когда на 4-й или 5-й день мне разрешили в больнице его увидеть, он поглядел узнающим взглядом (“узнающий” – это мое восприятие, но умность и сознательность взгляда в нем отметил Флоренский, крестивший его на восьмой день; так же, как и на редкость раннюю улыбку, какой он и меня встретил).
Сергей в Туле. В пулеметном училище. Учится бросать минометки. Занятия для Астрея, для Сергия не очень подходящее. Но верю, что тем или другим способом, исходящим не от человеческой воли, хотя и через чью– нибудь человеческую волю, от руки его будет отведена необходимость убивать. Настолько верю, что не испытываю того мучительного волнения, в каком живет весь этот месяц Сусанна, его бедненькая жена. Ее письмо – сплошное затаенное рыдание раненого сердца, полного тоски разлуки и страшных предчувствий. Я не разделяю их. Верю предсмертным словам Сережиной матери: “Все будет как нужно. Все будет хорошо. Все будет в свой срок”. (Так и случилось. Сергей с октября переведен в инженерное училище на станции Болшево, под Москву. – Примечание 14 ноября 1943 г.)
65 тетрадь 9.8-25.8.1943
9 августа
Много лет тому назад покойная сестра моя Настя (она была не только поэт, но и еще и фельдшерица и мистически одаренный человек) выдвинула теорию о всяком физическом заболевании как об отражении комплекса душевных недугов.
По ее словам, больные, с какими она имела дело, подтверждали ее догадку о том, что и в какой ситуации они пережили прежде, чем заболеть канцером, спондилитом, болезнью глаз, ушей, ног и т. д.
У Гоголя в “Переписке с друзьями”[675] есть фраза: “Вся Россия больна”. Некоторые критики обвиняли его в субъективизме: заболел душевно сам и проецирует свое состояние на всю Россию.
А мне слишком понятно, что он этими словами хотел сказать. (Еще сгустишь немного это гоголевское восприятие, и сказалось бы оно так: вся Россия – мертвые души.)
15 августа. Ночь Палашевский рынок
Если бы знать заранее, что такое Палашевский рынок – да и всякий другой московский рынок в воскресенье, не погнал бы Мирович туда сегодня обветшалого “брата моего осла”. Как в церкви во время пасхального крестного хода, каждый человек на рынке обхвачен плотно с четырех сторон человеческими телами. Он идет, то и дело прижимаясь животом и грудью к чьей-то спине, наступая на чужие пятки и на своих чувствуя чьи-то носки. И справа, и слева плечи его сжаты плечами соседей по рыночному шествию. Вырваться из этой потной телесной волны можно лишь тогда, когда она доплеснет до ряда каких-нибудь лотков. Тут можно единоличными усилиями локтей занять позицию перед кучками моркови, корзинами брусники и запоздалой малины, перед огурцами, перед цветами, перед картошкой и молоком.
Тороплюсь, пока не ошеломила и не захлестнула меня до смерти покупательская волна, приобрести из моей рыночной ассигновки (30 рублей) 4 морковки, веник полыни для напоминания о душистых межах между нивами, увы! уже скошенными. И букет лилового вереска для моего Данта. Обратная волна несет меня между двумя рядами московской бедноты, отвоевавшей право безданно-беспошлинно продавать остатки своего жалкого скарба, в стоячем положении держа в обеих руках то, что может в них уместиться. Чего только не продают эти изможденные старухи в шляпах дореволюционного времени и худосочные многосемейные домхозы разного возраста, и старики, и подростки. Наскоро смастеренные из лоскутков детские платьишки, полустоптанные туфли, подошва – тоже полустоптанных мужских штиблет, альбомы, брюссельские кружева, сахарница с отбитым краем, стаканы, старые открытки, катушка ниток и коробка спичек. “Сколько просишь за нитки, гражданочка?” – “100 рублей” (кило хлеба). “Отдай за полкила, вот тебе 50. Кила никто не даст”. – “Дадут, – говорит она уверенно. – А полкило все одно, что фига с маслом”. Запонки, обручальное кольцо (с пробой! с пробой!) – зазывает молодая женщина. Еще у нее в руках вязаная салфетка под лампу и рамка для фотографии, оклеенная раковинами. Тут же красноармеец – на грязном клочке газетной бумаги у него на широкой заскорузлой ладони несколько кусков сероватого сахару и полуобтаявших соевых конфет. “Сахар – по 10, конфетка по 12-ти”, – отвечает он на вопрос домхозы. “Уж больно изгваздал ты его”, – говорит она, доставая 50 рублей бумажку. “На позиции со мной был, там чистоты не спрашивай”, – эпически замечает он, отсчитывая замусоленными корявыми пальцами пять кусков.
Благообразная старушка сложила в канарейкину клетку всю мелочь, какая у нее нашлась для продажи: красный сургуч, молитвенник, несколько футляров с очками, старый календарь, щипцы для завивки, мыльницу. Держа в объятиях клетку, она молча и приветливо улыбается тем, кто останавливается перед ее товарами.
Внезапно в конце этого ряда появляется субъект босяцкого вида, в картузе козырьком назад, опухший от пьянства. В руках у него какие-то редкие оранжерейные цветы – воздушные конические шапки, белоснежные, наверху чуть розоватые. “Цветы прямо из раю. Сам сорвал, когда был изгнан, – без улыбки рассказывает он двум молодым женщинам. – Дорого, вы говорите? 20 рублей, по-вашему, дорого! Но тогда что же дешево? Только жизнь дешева”.
Рынок, рынок, купля и продажа. Бой стяжаний, жажда обмануть. Вырываюсь из толкучки в преддверие ее, в узкий и короткий переулок с веником полыни, букетом вереска, с 8-ю морковками и с ощущением чудесного спасения от кровоизлияния в мозг.
23 августа. 12-й час ночи
Харьков взят. По радио ликующие плясовые мотивы. Прогремело 12 выстрелов победного салюта. С балкона были видны над горизонтом (то есть над крышами Пушкинской улицы), как взлетали большие зеленовато-белые шары и вслед за ними неслась к зениту разорванная на отдельные пунцовые черты длинная, изгибающаяся у зенита линия. Это было красиво и торжественно, если бы можно было забыть такие же победные огни на фронте. Ужас убийств, безобразие и беззаконность войны, военных действий, все эти оккупации, беженцы, сжигание целых сел и городов, хлебных скирд и амбаров с зерном. И метание бомб с неба на мирных жителей, на женщин и детей.
66 тетрадь 27.8-23.9.1943
10 сентября
При лампе. В ожидании Ириса. Увиденное. Услышанное. Подуманное.
Лицо Ники. Сжатое с боков, профильное лицо. С правильным красивым носом, с ясным лбом, с маленьким подбородком и с добродушным, немного чувствительным ртом. Бронзового тона волосы пытаются встать ежиком. Движения беспокойные, стремительные (когда расстанется с ленивой, лежачей позой). Плохо координированные, слабые, точно недоразвитые пальцы неловких рук. Взгляд янтарных глаз – пристальный, энергично все впечатления впитывающий и тут же их претворяющий в свое достояние. Познавательный акт на каждом шагу и жизнерадостное “да” всему, что видит. Смотрела на него, когда он выглядывал из окна в метро на пробегающие мимо станции от “Свердловской” до “Сокола”. Он видел их первый раз. Глаза стали из светло-коричневых черными от расширенных зрачков. И с таким пламенным неотрывным, всепоглощающим вниманием вперились в окно, и такую серьезную мозговую работу запечатлело на себе легкое, маленькое лицо, что казалось, может оно сгореть на этой работе. Такой горящий взгляд был у Ольгиного брата Всеволода, с детства, глядя на свет электрической лампочки, он думал: “Здесь свет такой, что сможет передвигать предметы”. Эта мысль росла в нем до 18-ти лет. На фронте в Кронштадте он смастерил какое-то самодельное сооружение, куда входила и обыкновенная электрическая лампочка. С помощью его он заставил стоящие в нескольких саженях от него автомобили двигаться на известное (небольшое) расстояние. Об этом был составлен протокол, подписанный полковым командиром. Я читала эту бумажку. Тогда был жив близко мне знакомый председатель ВЦИКа П. Г. Смидович, инженер по образованию. Я рассказала ему об изобретении Всеволода. Он заинтересовался и дал ему письмо к Жуковскому[676]. Заинтересовался и Жуковский. Он предложил Всеволоду объяснить ему принцип и технику его аппарата, но Всеволод не согласился на это. Он просил, чтобы ему оборудовали нужную лабораторию (это были годы разрухи – 1920–1921 год). И в этом случае обещал так усовершенствовать свой двигатель, что он будет действовать на расстоянии чуть ли не 500 километров. Лабораторию не дали. Дали рекомендательные письма. Он бросился в Ленинград с письмами. Там серьезно отнесся к нему один научный работник (фамилию забыла). Но в лаборатории и в поездке за границу (он просился в Америку) тоже отказали. Через два года он психически заболел и закончил свое горение в лечебнице для душевнобольных. Сестра его Ольга, которая его навещала, рассказывает, что он, разговаривая с нею, делал какие-то заклинающие и благословляющие движения правой рукой. Когда она спросила, что они означают, он ответил: “Надо воскресить митрополита Филиппа и патриарха Гермогена”. И лицо у него было одухотворенное. И глаза такие же горящие, какими он смотрел в детстве на свет электрической лампы.
“Проходит образ мира сего”[677].
Поверила бы я в воронежские и сергиевские дни, что Ольга после двухлетней разлуки может три месяца не повидаться со мной, вернувшись в город, где я живу? И поверила бы я лет 7–8 тому назад, что после двухлетней разлуки с подругой, связанной со мной шестидесятилетней дружественностью, – не тянет меня встретиться, когда она уже двое суток в Москве? И ее тоже не тянет. И если б не соединял меня с их домом Алеша и мое нищенское перепутье и Аллино обещание корма (пока не налаженного), может быть, и мы с Леониллой прожили бы (на 20 минут расстояний по метро), не повидавшись и три, и пять, и больше месяцев.
Уплывает, уходит, не возвращается… А если вернется – будет не то. Переплавляется, претворяется Уголь – в алмаз. Алмаз – в ничто. (строчки сергиевских лет)“По существу, Тарасовы равнодушны к твоей судьбе. Ты живешь на периферии их сознания и занимаешь в их сердце условное, очень незначительное место. Иначе разве они могли бы в такое грозное время сдвинуть тебя ближе к фронту, к нам, в нашу нужду, и так далеко от себя (они уехали на Кавказ). И теперь, когда Малоярославец взят обратно, если бы они вошли в твое положение, разве они не сумели бы устроить тебе вызов в Москву, как это сделала бы на их месте Женя, Людмила или Добровы. Они ограничились тем, что прислали теплые словечки и 300 рублей, на которые можно купить только горсть сухих грибов (на рынке ничего, кроме грибов, не было)”.
Эти слова вспомнились мне теперь, еще на одном этапе Аллиной опеки моей старости. Они не зачеркивают моего благодарного к Алле чувства (ведь могла бы она и совсем вычеркнуть из своего обихода эту опеку. Ведь оформленных юридических обязательств у нее по отношению ко мне нет). Но в своем всегда четком и справедливом суждении права Наташа и на этот раз. Несомненен факт равнодушия в том, что почти неделя уже, как обещанное с барского стола пропитание Мировича свелось к тазику с картошкой, с одной морковью, двумя огурцами, с тремя пирожками и блюдечком лапши и Жениного овса, не будь этого, мой режим соколиный свелся бы к хлебу и кипятку в эти дни.
(Добавлено 15 сентября)
Мирович не прав. Продукты тарасовские не дошли до него вовремя благодаря целому ряду неувязок, в которых Тарасовы не виноваты.
13 сентября
12 лет тому назад в сентябре неожиданно и непонятно для сожителей моих (семья Л. В. Крестовой) я внезапно собралась в Киев. Это было сопряжено с разными трудностями – и денежными, и квартирными, и хлебными карточками, – но ничто не могло остановить меня. Было внутреннее указание, что в Киеве произойдет нечто для меня в высшей степени важное. (Нечто подобное описано у Соловьева в его “Трех встречах”.) И важное произошло. Воздух, каким я дышала в детстве и первой юности, деревья и цветы в первозданной красе, как воспринялись они на утре дней, люди в первозданной их значительности – и вся жизнь в кольце, спаявшем в одно целое младенческое сознание со старческим.
Все это мне мог дать только Киев, где я родилась и выросла. И совершилось это в определенный день и час. Свидетелями были акации, зеленый овраг, образ умершей сестры на его склонах, где она часто уединялась в детстве с любимой собакой – Спартанцем. И синее, бархатно-синее небо и душистый воздух Украины.
Второй зов был пять лет тому назад. На этот раз призывало так властно и настойчиво море, что я все сделала – вернее, все обстоятельства так сами сгруппировались, что я могла попасть в Севастополь и в Харьков. Там кольцо, спаянное в Киеве, ощутимо включилось как звено в жизнь несчетных поколений, приняло печать их судеб и ответственность за них и перебросило меня к далям Вечности.
Третий, и, вероятно, последний, зов – ночь у Донского монастыря.
(Такую ночь, такие звезды Не видел мир уже давно. Созвездий радужные гроздья Струили новое вино…)Ощущение рубежа в своей, в общечеловеческой и в жизни всего космоса (“новое вино”). Ощущение вселенского братства с “миром видимым и невидимым”. Призвание (но потом оказалось, в пределах земных лет неосуществимое). Новая форма сознания – ощущение непрерывного излучения своего существа во все концы космоса и восприятие всех его излучений. Новое самоощущение: были в кустарном музее такие деревянные куклы, которые включались одна в другую, причем внутри этих матрешек находилась уже не раскрывающаяся, крохотная, с горошинку, кукла. Если сравнить ее с зародившимся (или впервые почувствованным) ветром нового сознания, одновременно с ним ощущаются и все 12 оболочек личности. То есть человек сразу будет чувствовать себя вокруг тайны моего лица и свой младенческий, и отроческий, и юношеский, и зрелый, и старческий – все возрастные лики сразу и все как оболочки для нераскрытой в здешнем мире своей сущности.
67 тетрадь 24.9-24.10.1943
24 сентября. Москва
В эту ночь над Москвой пронесся ураган необычной силы. Деревья в переулках Сокола и на бульварах Ленинградского шоссе сразу приняли зимний вид. На высоких тополях, кленах и березах за эту ночь не осталось ни одного листа. Зеленеют только низкорослые, стриженные по-версальски деревца. Что-то было в этом организме стихий, напоминающее о светопреставлении. У нас, в Соколе, все лампы в 11 часов потухли, и мы до двух часов ночи (я и моя квартирантка А. И.) из окон могли наблюдать этот небесный налет в течение трех часов. Сначала мы приняли непрерывные вспышки яркого электрического света на небе, темном до черноты, за отражение зенитного огня в округе Москвы. Потом сообразили, что в такую бурную погоду немец не полетит. Вспышки были безгромные, и их нельзя было объяснить как обыкновенное явление налетевшей грозы. Стрел и зигзагов молний не промелькнуло ни разу, только с одной стороны, справа от нас (если ехать по шоссе от центра), то и дело загоралось над невысокой крышей, видно из окна, ослепительно сверкающее пятно. Иногда оно подымалось выше, разрасталось до размеров экипажного колеса, и в нем появлялось вращательное движение. Ветер выл и странно гудел не переставая. Но что всего удивительнее, что казалось уже сверхъестественным, – с неба, покрытого тучами, усеянного звездами (они были видны из окна между вспышками небесного электричества), порывами хлестал дождь, ударяющий в стекла наших окон. Дом, не очень старый, дрожал мелкой дрожью до основания. Со всех стен его неслись какие-то стуки, скрипы, раздавался сухой треск. А. И. ожидала в ужасе, что огромный старый тополь, который растет рядом с домом, рухнет под напором ветра на крышу и раздавит нас. В один из подобных ураганов у кого-то из соседей было такое происшествие.
Робкая, женственная и нервная А. И. трепетала и замирала от страха. Во мне, как и всегда перед разгулом стихий, перед лицом опасности (да здесь я в опасность и не верила) жили предки, псковские ушкуйники. И несмотря на ветхую старость, что из лермонтовского “Мцыри” (как брат обняться с бурей был бы рад; рукою молнию ловил…), и с минутами ветхозаветного религиозного ощущения – “синайское откровение в грозе и буре”.
30 сентября
Под кровом Анны. День ясный, серебряно-синий, холодный.
Под этим кровом, который на определенные месяцы стал моим за время войны, “оружие прошло душу” двум матерям. Теперь третью мать ожидает такой же удар меча – в душу, в сердце, во всю дальнейшую жизнь. Пришло известие, что Анна Александровна Луначарская, жена Анатолия Васильевича, потеряла на новороссийском фронте единственного своего сына, тоже Анатолия[678]. Известие пришло стороной и до нее еще не дошло. Никто из жильцов этой к ней дружественной квартиры не решается оповестить ее об этом страшном для нее, особенно страшном горе при ее страстном и углубленном к сыну отношении. Мы стояли час тому назад в ее комнате с близкой ее подругой перед портретом ее сына и обсуждали, как, в какой форме нанести ей рану, и, может быть, смертельную (у нее кровяное давление – 250). Она вошла неслышно, когда ее не ожидали. К счастью, над портретом были две картины – какие-то лиловые цветы. Чтобы оправдать нашу позу, я, поздоровавшись, спросила ее, какой художник написал эту полусирень, полугерань. И странно было видеть ее оживленное, приветливое лицо, с каким она ответила, что это картинка Ульянова[679], а эта вот такой-то художницы. И задерживала меня, произнося какие-то любезные слова: “Всегда во всякое время рада вас видеть и т. д.” А я пятилась к двери, опасаясь, что в лице моем проскользнет ужас мысли – что говорит она о цветах и я с ней говорю, а над ней уже занесен меч, который, может быть, сегодня разрубит пополам ее сердце и всю жизнь…
Надежде Григорьевне Чулковой в день Софьи, Веры, Надежды и Любви
Премудрость, Вера и Любовь. В каком чудесном окруженье, Ваш лик среди земных сынов Надеждой назван в день крещенья. Премудрость в горний мир зовет, Любовь дорогу согревает, А вера в темноте ведет И дух надеждой окрыляет. И если дрогнет в тьме земной Сестер небесных ваших пламя Под ветром стужи ледяной, Под искусительными снами. Вам упованьем оживить Дано их меркнущие силы И нераздельно с ним жить До входа в таинство могилы. <…> Глас в Раме слышен, плач И стенание великое. Рахиль Плачет о детях своих И не хочет утешиться, ибо нет их[680].Этот “глас в Раме”, этот плач и стенание хлынули в мою жизнь последние дни через неожиданную и даже не совсем понятную для меня близость к тяжко раненной душе Анны Александровны (Луначарской).
Мы с ней совсем чужие, “разных небес”. Виделись пять-шесть раз мимоходом в общей квартире. Но когда она стала заходить в нашу комнату и молча обнимать меня и смотреть в глаза, и однажды сказала: “Я люблю вас”, других слов для общения уже было не нужно. Она знала уже, что я знаю о ее горе и понесу вместе с ней. В один из таких моментов сидения плечо с плечом, рука с рукой я сказала (и не я, а как бы кто-то более меня имеющий право говорить), что она не должна до конца верить вестям, до нее доходящим. Что надо доверяться внутреннему видению. Что и я так же вижу ее сына, как она. С тех пор при встречах мы не говорим о нем, но обмениваемся безмолвным током “Эроса”, который один вносит жизнь и смысл в человеческие отношения (в Древней Греции это “Эрос-воскреситель”). И верится мне, что я попала в квартиру Анны <Александровны> главным образом для того, чтобы пройти с этой раненой материнской душой через самую трудную ее переправу над пропастью возможного отчаяния.
Вечер.
Как распрямились лепестки “12-лепестного лотоса” моей души под здешним кровом. В квартире Тарасовой они были смяты и приморожены до неузнаваемости. В Соколе я о них забыла, но, вероятно, они уже там в ночной тишине начали расправляться. Здесь я чувствую, что они ожили (“Жив Бог, и жива душа моя”). И не от того ожили они (хотя отчасти и от того), что все окружающие встретили меня тепло и я ощутила излучение братских чувств их в мою сторону. Начиная с древнего, много раз испытанного строя дружественности нашей с “сестрой Анной”. Но распрямились лепестки, и слышу их цветение и дышу благоуханием их, главным образом оттого, что могу принять, могу любить здесь всех, кроме, может быть, одного чугунно-истуканного молодого совработника. Так было со мной семь лет тому назад на Кировской. В коридоре нашем было 14 номеров. И все живущие в них, включая кутилу и доносчика Хаджи Мурата, были мне братски дороги и свежо интересны. Я не люблю ячейки, называемой семьей.
Она пропитывается насквозь общим супом, общими постелями. Надзвездное “цветение лотоса” в ней меркнет и свертывается от бытового чада, от неосторожности и грубости прикосновения замороченных бытом членов семьи. Свежесть и тонкость восприятий друг друга стирается привычкой. Недаром Христос сказал: “И враги человеку – домашние его”.
17 октября
Алла (с видом валькирии, прилетевшей с поля битвы): “Ты знаешь, что сейчас делается в Мелитополе и в Киеве? Ожесточенные бои на улицах.
А в Киеве день и ночь бомбардировки и пожары. Хочешь послушать, какие я теперь читаю в концертах стихотворения Симонова и Суркова?”
Мы заговорились в бабушкиной комнате, и она все с тем же видом валькирии, прилетевшей с поля битвы, прочла шесть стихотворений. С искренним пафосом. Поскольку в этих стихах – лирика человеческого сердца, проходящего через огненное испытание войны, душа моя откликается на нее со всей полнотой. Но там, где мажорные ноты газетного патриотизма, я вижу груды развалин (в Смоленске, по словам Котика Тарасова, он летчик, уцелел только один дом). И над нами фейерверк салютов в Москве.
Когда я спросила Кота, не знает ли он что-нибудь о жителях Смоленска, много ли их погибло, успели ли они эвакуироваться – он беспечно пожал плечами:
– Кто же думает о жителях во время войны? Спасались, как могли. Бежали в леса. Теперь живут в землянках.
Наибольший ужас, наибольшее зло войны не на фронте. “Есть упоение в бою”… при молодом избытке сил, при авантюризме и патриотизме. Есть какие-то нормы и формы фронтовой жизни. Есть сроки разрядки напряжения душевных сил – если этот срок кладется даже смертью или тяжелым ранением.
Страшнее и позорнее для человечества то, что вынес Ленинград, его мирные жители – эти трупы, которые укладывались, как дрова, в штабели по дворам или разлагались на чердаках. Голод. Холод. Темнота. И что вынесли и вынесут те люди, которые теперь под Смоленском будут зимовать, то есть умирать от эпидемий и голоду в землянках. И то, что пережили и от чего перемерли беженцы – имена же их ты, Господи, веси – во всех городах и селах, куда гнал их бич войны. И когда салюты и ордена, и газетный патриотизм, хочется на всю планету завопить: – Положите же, наконец, на весы победы то, чего она стоила от начала мира до наших дней – все, что пережили и от чего погибли по дороге к “победе” тысячи тысяч жизней всех возрастов, от новорожденных младенцев до беспомощных, как они, стариков и старух.
19 октября. 4 часа дня. Под священным кровом Анны
Вернулась сюда после суток в тарасовском доме, как в тихую обитель с шумного торжища. Какими внешними, какими призрачными ценностями живет этот дом, где я провела минувшие сутки. Дом, все еще соединенный со мной и недозрелой кармой, и не до конца порванными, хоть и ослабевшими нитями сердца. Мой бедный старый друг Леонилла переутомлен душевно этой многоэтажной семейной сутолокой, дирижировать которой ее поставила судьба. За эти дни она несколько раз припадала к моему плечу, целовала мой висок, как бы распахивая этим внутреннюю дверь из своего заколдованного круга. У нее вырывались фразы:
– Возьмите меня с собой, когда в Загорск поедете…
– В Воронеж бы нам с тобой. Хочется мне в Воронеж к твоей маме, к Леокадии Васильевне (тетка). И просто: “Ах, Вавочка, дорогая”, – не договаривая и целуя мимоходом в щеку.
А я бы хотела не в Воронеж и не в Загорск, а в лесную избушку. Или на совсем пустынный берег моря, на башню маяка. С Денисьевной.
Мне надо отдохнуть – увы! не от жарки, а от “иллюзий и снов”.
23 октября. Люсина комната[681]. 11-й час утра
Предсмертная яркость осеннего солнца. Золотая – хоть уже безлиственная – осень.
Хроника з-х истекших дней.
Глубоко порадовал Ника тем, что по своему почину – и один – съездил к бабушке Гизелле Яковлевне, в ее психиатрическом заточении на 57-ю версту. Отвез какие-то продукты, а главное, принес огромную радость своим появлением (исключительно любимый ею внук).
С Леониллой разговор о “хлебе животнем”. Был бы указателен для меня, если бы в нем я не отнеслась к себе как к совершенно постороннему человеку. (Шла речь о том, что за этот месяц мне дали Тарасовы только 8 кило картофеля и полтора кочана капусты. Больше ничего.)
Комната, которую нашла для меня Лида Случевская и показалась Ирису необычайно привлекательной, настолько, что она пожелала оставить ее за собой, в моем впечатлении отразилась как темный, тесный, низкий каземат – с толстой решеткой на маленьком окошке. (За него просят 5 кубометров дров, то есть 5 тысяч.)
Были с Никой в зоопарке, в чудесный солнечный день. От зверей, томящихся в своих узилищах, как всегда тягостное и за человека стыдное впечатление. От Ники – радостное – столько познавательной страсти, живости и жизнерадостности. Забыл в те часы о его туберкулезе. Конец омрачился тем, что он потерял портмоне, где была моя хлебная карточка (на 10 дней). И не самой потерей, а тем, как он угнетен и расстроен своей “виной”.
68 тетрадь 25.10-6.12.1943
29 октября
Ирис пришла вчера поздно вечером в очень тяжелом настроении от переговоров с Аллой о нашем квартирном вопросе. Он уткнулся недвижимо в тупик, из которого может вернуться – для меня только в тарасовскую квартиру, для Жени – под кров подруги, где будет много трудного и чем наши пути в днях и в дружеском ежедневном сопутствии, таком важном для нас обеих, будут уже впредь до конца разделены. Если бы Алла предложила мне комнату или часть комнаты, где бы я могла затвориться на несколько часов в день, а не кусок шумной, по вечерам многолюдной, ярко освещенной столовой – это был бы для меня, хоть и ломающий “линию движения”, путь к Ирису.
3 ноября. 11 часов вечера
“Темные силы” или рука Ведущего меня очертила зачарованным кругом мое распутье? Недаром я так ощутила его в первые дни моего на этот рубеж становления.
“Направо – съест волк коня, налево – всадника, прямо – и коня, и всадника” (конь – внешний уют, удобство. Вернее, отсутствие резких внешних неудобств, какие были в Соколе. Всадник – мое “я”, мои глубинные, внутренние потребы в тишине, уединении и огражденности от суеты). Царица-необходимость поставила меня на третий путь – возврат в тарасовскую квартиру, где роковым образом будет не хватать внешних и внутренних удобств: я приняла “сужденное” – по лозунгу, который давно написан на моем знамени и которому стараюсь не изменять:
Сужденное прими, не прекословь. Так выпил цикуту Сократ, Так Данте опускался в ад, Так в оны дни на крест взошла Любовь.Но сегодня оказалось, что у Леониллы ряд возражений на предложенный Аллой проект возврата Мировича “за ширму”. И по тону, и по характеру возражений, и по тому, что их много, понимаю, что за ними стоит одно – ограждение семьи от “чужака”. По-своему они правы, но… та же Царица Необходимость заставляет меня опротестовывать (!) Леониллины возражения.
4 ноября
4 часа дня. Солнце. Бледно-бирюзовое небо. Мороз. Из окна Анниной комнаты большой кусок небосвода, уже золотисто вечереющего. Надоело метро. Час тому назад решила по дороге с Зубовского (был урок с Никой) пройти пешком всю Остоженку. Воздух от мороза уже по-зимнему бодряще свеж и чист. Впервые за долгий срок дышалось легко и не чувствовалось, что это Москва. Какой-то другой город – может быть, город прошлого, из времен молодости. Может быть, мне было сегодня 27, или нет, даже 23 года. И не поредевшие, сухие, пего-седые волосы были на моей голове, а те шелковистые русые, упругие кудри, о которых брат Николай сказал: “Золото и каштан у вас на голове, great sister (старшая сестра)” – так он звал меня. Помню тот зимний яркий день и солнечную полосу на коврике пола нашей воронежской квартиры, и как я потом посмотрела в зеркало с печальной мыслью, что некому этим золотом и каштаном любоваться, кроме брата Николая и молоденьких девушек, окружавших меня романтическим обожанием.
“Далеко то, что было, и глубоко-глубоко: кто постигнет его?” (Экклезиаст)[682].
И так целый час мне было сегодня 27 лет. И странно – ничуть не жаль, что после этого часа опять 74. То, что я увидела 27-летними глазами, я принесла с собой и подарила старухе, у которой воет в голове склероз степной вьюгой.
Я видела вокруг скверик, где был раньше Зачатьевский монастырь, свежевыкрашенную ограду из ряда железных тумб. Они блестели в золотом предзакатном свете блестящей горячо-коричневой краской. (Опять золото и каштан!) И вот опять того же цвета воспоминание “Страстной седьмицы” моей жизни в Киеве, у Братского монастыря, на Подоле[683], где я жила одна в пустой квартире в доме Л. Шестова.
Осенний день был странно яркий, И был подсолнечник высок, Под золотой деревьев аркой Каштаны пали на песок.Осенняя листва каштанов, и подсолнечник, и песок – все было золотое. Кстати: какая бедность человеческого словаря. Ну что такое в данном случае – “золото”, “золотой”. Этот предзакатный свет, который пронизывал сегодня Остоженку, сверху облитую бледной воздушной лазурью, – разве он золотой? Это условное словечко, намек на ту красоту и славу, какой озарило солнце в этот час Москву. И в этой красоте и славе было торжественное обещание далекого, невыразимо прекрасного счастья и вечной молодости.
9 ноября
Ольга четыре месяца в Москве и до сих пор не появилась на моем горизонте. Не зову ее совсем не из так называемого “самолюбия”. Боюсь прикоснуться к больному месту (пропажа 48 тетрадей, в которых она винит себя)[684]. Пожалуй, немного боюсь и того, что в ней переродилось отношение ко мне во что-то замогильное или в очень отвлеченный образ. Что я – такая реликвия, которая стоит где-то на полочке под иконами. Можно на нее взирать. Можно мысленно с ней в некоторые моменты объединяться – и этого довольно. Все остальное: видение, касание, разговоры, да еще при моей глухоте – в тягость. Может быть, бессознательно – но нервно-психологически непреодолимо.
Ирис. Близко. Плечом к плечу, рука с рукой. С великим мужеством и терпением несет свои пять крестов (муж, мать, дряхлая кормилица, нервнобольной сын и психический, несчастный дальний родственник, бездомный, безродный, неработоспособный, больной). Энергически пишет “Суворова”. И композиция, и характеры, и эпоха, и театральная сторона удачны. Во всем сквозит талантливость и высокая ступень культуры. Люблю ее приходы через день и наши завтраки – агапы – в Люсиной комнате. Ирис приносит картофель, пшено, сало – и всегда конфетку для меня. Мы вкладываем свой картофель, изредка молоко или масло, у кого оно есть. Все это согрето и празднично украшено ощущением теплой и крепкой дружественной связи.
Инна – трогательнейшая забота о моей бездомности. А у самой положение труднее моего – безденежье, отсутствие завтрашнего дня. Бедствует с легким духом. Может с юмором говорить об очередных неудачах в области заработной и хозяйственной. Всегда голодна, но угостить ее бывает иногда очень трудно. Именно тогда, верно, когда она особенно голодна (знаю по опыту это соотношение между степенью голодности и угощением). И такие хорошие, пристальные, человечные глаза, такая чарующе-добрая улыбка.
Тяжелый разговор с Леониллой. “Все снасти сердца (сердца наших отношений) сбиты и сгорели. И тот канат, что жизнь мою держал (на физическом плане), стал тонкой ниткой, волоском ничтожным”[685]. И не в том центр тяжести опустошения на мою душу, что я на “перекрестке четырех Иуд”, а в том, что “померкнул образ Красоты”, который все же был в нашей душевной связанности в течение 65 лет.
Померкнул после того, как произнесены слова, что они “ничего мне не должны за комнату на Кировской, так как я эти годы всем пользовалась у них”.
Мне ни за что не пришла бы в голову оскорбительная для них мысль, что оказалось и для Леониллы и для Аллы возможным, называя меня членом их семьи (Алла еще недавно обмолвилась этим определением), переводить мое пребывание под их кровом и тарелки съеденного у них супу на цену моей площади, уступленной Галине. Причем сброшены со счетов и мои занятия с Алексеем – от 14 до 21 года, и собственные торжественные обещания “дать приют у себя моей старости и немощи”. А Мировичу не следовало бы об этом столько разговаривать и возвращаться мыслью на эти жалкие низины обывательщины. Поскольку это испытание его смирения, терпения и любви (да, и любви – потому что “не любяй брата в смерти пребывает”). Его необходимо – с этой стороны принять, поднять и перенести тот срок, который для этого будет ему указан. А для утешения не забывать слов покойного друга: “Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”.
12 ноября. Вечер
У Ольги (не виделись ни разу после ее приезда из Ташкента – в июне. Встретились без единой перегородки, в радости и в ничем не омраченной близости). Передо мной сидит под общей лампой фарфорово-нежная, лазурноглазая, золотоволосая необычайно похорошевшая Аничка (Ольгина дочь). С сосредоточенным – до морщинки между бровями – видом вдумывается в грамматику. Прелестный овал лица, прелестные, потупленные черные ресницы на фоне нежных щек цвета яблоневого цветка; маленький, изящный ротик, маленький изящный подбородок и большой, по-мужски умный лоб. И по-мужски умный взгляд воздушно-прозрачных голубых-голубых глаз.
7 ноября. 7 часов. Под лампой Анны
Дорогая Аллочка, я знаю, как ты не любишь таких писем, где нужно вникать в чьи-нибудь жизненные затруднения, моральные или житейские. Но все же на этот раз прошу тебя, дорогая, во имя нашей прежней, ничем не омраченной душевной близости, вникнуть в исключительную тягостность создавшегося у меня положения в связи с вашим возвращением в Москву.
Ты знаешь, что незадолго до приезда твоей семьи возобновился вопрос, выдвинутый еще весной, о поселении моем в общей квартире с кем-нибудь из друзей (сначала с Александром Петровичем, Инной и Гали, потом – с Верой, осенью с Евгенией Николаевной.). Ты выразила тогда полную готовность участвовать в этом денежно и чем нужно (речь шла о ремонте и даже о каких-то тысячах). Ты подчеркнула в разговоре с Женей, а раньше и с Верой, что не отказываешься от своих обязательств, взятых при обмене комнаты, относительно меня. Не отказываюсь от них и я, как, недопоняв этого в телефонном разговоре со мной, подумала Вера (что знаю с ее слов). И меня глубоко поразило и даже ранило услышанное от других моих друзей, что, по мнению твоему и маминому, “никаких прав у меня на жилплощадь в Москве уже не существует”. Что я “продала” ее за 3 тысячи (твоя мама почему-то сказала Вере, что за 7 тысяч). И что, кроме того – так как я 4 или 5 лет у вас жила и всем пользовалась, за кировскую площадь (!) – этим самым ты со мной расплатилась. Эта фраза “всем пользовалась” причинила мне ошеломляюще-жестокую боль обиды, похожую на то, как если бы у меня на глазах была нанесена моральная пощечина самой сути наших многолетних отношений. Я знаю, что они кое в чем изменились, поблекли (я, между прочим, надеялась, что с моим переездом за ширмы они обновятся и пойдут по пути большей взаимной чуткости, а главным образом при моем вольном и невольном смирении, с каким приблизилась к этому, довольно трудному рубежу моей старости). Но я никогда не могла предположить, что может быть зачеркнуто данное тобою мне обещание (и с такой теплотой, с такой искренностью и во всеуслышание) – что я вхожу в твой дом “как член твоей семьи”. Все мои близкие друзья радовались тогда такому завершению моих бездомных скитаний на этом свете. Только покойный Филипп Александрович советовал “оформить это юридически”. “Кто может поручиться, – сказал он, – что не изменит себе и другим под давлением обстоятельств? А что значит остаться в Москве без площади и уже окончательно состарившись, сами можете вообразить, матушка, какое это будет аховое положеньице”. Он говорил о “расписочке” полусмеясь, полусерьезно, а я на него рассердилась. С таким же негодованием я отнеслась к обследовательнице из Наркомсобеза, когда она пришла ко мне с вопросом, отчего я не живу на Кировской и каким образом очутилась на жилплощади народной артистки Тарасовой. И есть ли у меня юридическое обязательство (письменное) с ее стороны, что меня не выселят из этой комнаты до конца моих дней.
Я не допускала мысли до вот этих самых последних дней, что после – у тебя сорокалетней, а у мамы шестидесятилетней связи со мной, связи, ставшей уже родственной и старинно-дружественной, несмотря на некоторые изломы и шероховатости, мной ощущаемой как нечто живое и дорогое, – настанет день, когда мне скажут, что я мое право “пользоваться” их кровом и пищей уже давно пропила и проела, так как слишком зажилась на этом свете.
Я и сейчас не до конца верю этой фразе с глаголом “пользоваться”. Я бы никогда ни за что не могла произнести его по отношению к Ольге, к Лиде Арьякас и Соне Красусской, которым имела счастье в нужные для них времена оказать дружеский приют.
Боюсь, что придаю этой фразе какое-то искаженное при передаче, тяжко обидное, грубое значение. Тем более что ела я твой хлеб и “всем пользовалась”, Аллочка, не совсем даром, не совсем только по старой дружбе, а еще и по тому, какое место занимала в жизни и в учебных делах Алеши до второго курса в университете (с 14 до 21 года – семь лет). Это сознание облегчало мне “пользование” всеми вашими благами, в такие моменты, когда что-нибудь в вашем обиходе давало мне почувствовать горький привкус приживательского положения. И я не пойму – не могу понять, почему и эта сторона нашего сопутствия последних лет, где такую важную роль для нас обоих играл Алеша, могла аннулироваться в твоем сознании, стать как не заслуживавшая в прошлом ни угла, ни пищи, ни питья.
Мне кажется сейчас, что это какое-то наваждение, что замешаны тут какие-то темные силы.
И настоящее письмо мое имеет целью – еще больше, чем вопрос, как и где еще угнездовать мне Мировича, – пролитие света в заклубившиеся вокруг нас волны мрака в этот момент нашего сопутствия.
Давай посмотрим этому моменту и друг другу в лицо прямо и ясно, может быть, в последний раз перед расставанием. А может быть – в первый раз в обновленной встрече, в доверии, в прощении, если оно требуется. И во взаимном желании идти дальше смежной тропой, не мешая, а помогая друг другу взаимным теплом и незамалчиваемой правдой там, где внутренний путь, поскольку он общий, начинает кривиться и снижаться.
Это письмо черновое, которое я оставила у себя, чтобы в случае обсуждения постылого вопроса о правах и бесправии Мировича: толочься или висеть у кого-нибудь на шее по эту сторону могилы – иметь в руках тезисы для разрешения “тяжбы” (увы – это все чем-то похоже на тяжбу и этим тошнотворно и ненавистно для меня). Но письма этого я не пошлю. И – Бог милостив – батарею этих тез не придется больше выдвигать для укрепления позиции Мировича. Дело в том, что, как только я закончила письмо, вернулась Анна от Тарасовых. Заходила туда за моей карточкой (хлебной). У нее было на эти же тезы – экспромтом – обсуждение настоящего момента в жизни моего “брата-осла”. Анна уверена после этого разговора, что глагол “пользоваться” и мысль о том, что “ни о какой жилплощади не может быть речи”, что пребывание мое под их кровом погасило все Аллины обязательства, – мысль, целиком принадлежащая Леонилле. И если Алла когда-нибудь к ней присоединилась, это лишь в результате ее внушаемости и непривычки вдумываться в неприятные для нее вещи и от желания как можно скорее поставить точку в разговоре о них. Вполне логично и даже объективно Алла живописала перед Анной мое положение у них в столовой за ширмой как очень для меня шумное, неуютное, флюидически неудобное – и тут же прибавила, что если нет ничего другого в виду – она считает эту “жилплощадь” в моем распоряжении. Более удобной ввиду Алешиной семьи и гастролей Нины и Галины в их квартире создать нельзя. Напомнила, что я первая выдвинула вопрос ранней весной о моем переселении вместе с Александром Петровичем и Гали в квартиру Инны Петровны. Вскоре после этого вопрос о переселении моем взяла в свои руки Вера. Говорила тогда, что какая-то ее знакомая (Агапитова) присоединяется к нам и “что в их дворе имеется уже такая квартира”. Потом Вера “совсем отстранилась после того, как тянула это дело до самого Сокола”. “Платить за Веру 500 рублей в месяц, как пришлось за комнату в Соколе, я не могу. Но если бы и теперь нашлась такая комната – в квартире Веры, Евгении Николаевны или кого бы то ни было из друзей Веры, платить за нее 200–250 рублей я не отказываюсь”.
Если такая позиция в этом вопросе у Аллы – определенная и стойкая, моим письмом я бы стала ломиться в открытую дверь. Анна вынесла из Аллиного разговора впечатление, что “Алла ни при чем”, что запутался в психологизмах и зашел в тупик “мой брат-осел” благодаря лишь тому, что ни Ирис, ни Вера, ни Александр Петрович не могли до сих пор подыскать подходящей квартиры.
22 ноября. 7 часов вечера
Только что вернулась от Ольги. Она проводила меня до самого подъезда. Как счастливо для меня и Ольги, что наконец открылось движение по метро между Остоженкой и Пятницкой улицей. Растрогал меня до глубины сердца Степан Борисович (Ольгин муж) своим немощно-дряхлым видом, почти полной слепотой (3 % зрения) и рыцарски-упорным сосредоточением над своей работой и ничуть не ущербленной жизнью мысли.
Промелькнувшие за день мысли.
Рыцарственное отношение Ольги к мужу: “Подчеркнуто праздную последние годы день рождения. Хочу, чтобы он чувствовал мою радость, что вот он прожил и еще год. Хочу, чтобы он видел, как я чту его старость. И как мне трогательна его беспомощность”…
Об Ольгиной Аничке: мимозно-целомудренная сжимаемость от каждого ласкового прикосновения и у самой отсутствие ласки как прикосновения. Но в глазах, в интонациях голоса много тепла и внимания. Такова же по своей природе Анна. Я и Ольга на противоположном полюсе. Для нас касание руки (особенно это для меня) – мистически важная передача центрального тока души. Отсюда невозможность коснуться руки чуждого человека больше, чем на единый миг рукопожатия. Невозможность и руку очень близкого друга держать в своей, если нет воли сердца к излучению чувства, идущего из его глубины.
30 ноября
Даниил с туберкулезом позвоночника странствует с лазаретом своей части в каких-то безвестных фронтовых пространствах. И может быть, его странствия перешли уже за грань видимого мира. Когда он был санитаром-могильщиком на фронте, могилы некоторых бойцов он убирал потом полевыми цветами. Так рассказала мне его подруга Татьяна Владимировна. И совсем неподалеку рвались снаряды. Если бы эти штрихи не прибавлялись к картинке его жизни, насколько беднее была бы она своей внутренней окраской. Недаром так благословил он, несмотря на больную спину и хрупкие нервы, тот трагический момент, когда был мобилизован.
69 тетрадь 7.12.1943-7.1.1944
9 декабря. Под кровом Ольги. Время послеполуденное
Вся квартира, как и “вся Москва”, в гриппе. Ольга с температурой носится по городу – магазин, аптека, почта и еще какие-то безотложности. Мирович тоже в гриппе – в перманентном. Приехал сюда, чтобы пожить несколько часов в Ольгином тепле – душевном и квартирном. Остался, пока вернется Ольга, в роли garde malade[686]. Когда подавал кофе в постель Степана Борисовича, его захирелый, изнеможенный старческий вид и полуслепые глаза всколыхнули в сердце горячую сестринскую нежность и покаянное чувство (не в первый уже раз) и осуждение Мировича за то прошлое, когда он не мирился с включением Степана Борисовича в Ольгину жизнь – сумасшедшая претензия матерей и зам. матерей, чтобы дочери и сыновья выходили замуж по их указке! И как хорошо, что дочери родительских указок не слушаются: иначе не явилась бы на свет эта прелестная, богато одаренная, грациозная девочка с лазурными глазами, Ольгина дочь, Аничка.
12 декабря
Покойная Елена Гуро в дни наибольшей нашей духовной и душевной близости однажды спросила меня: “Знаете ли вы то Тепло (с большой буквы), которого почти нет на этом свете и без которого порой замерзаешь, как ни притепляйся здешними способами?” Я ответила, что знаю такое Тепло как луч, падавший на меня, проходящий через чью-нибудь полюбившую меня душу. Она задумалась и со вздохом сказала: “Через людей, через их любовь ко мне ничего похожего не приходило. Но зато я знаю другое… Скажите, Вава, неужели вы никогда не ощущали на себе луч такого, совсем на человеческое излучение непохожего Тепла, прогревающего вашу душу до последней глубины и приносящего такую любовь, такую радость, которой нет имени?” Позже она приурочила это излучение к образу своего сына Вилла[687] – никогда на этом свете не существовавшего, но вступившего с ней в общение из “иных пространств иного бытия”.
Мой опыт касания к душе и к сердцу такой потусторонней “сверхлюбви” и такой “сверхрадости” я невольно соединила с излучением звездных миров, без определенного человеческого образа.
Не надо забывать, однако, что, пока не образуется в самом человеке неугасающий очаг этого “звездного” тепла, ему все будет то и дело холодно, как бы ни прогревали его лучи чужого тепла. Только тогда, когда станет он конденсатором лучей Солнца Солнц и сам безоглядно и непрерывно начнет излучать свет и тепло мирового эроса, – только тогда кончится для него ощущение своей зябкости, своего замерзания.
13 декабря
Вчера неожиданно вошла в предобеденный час к Ольге Людмила Крестова. Она недавно вернулась из эвакуации. Оказывается, Ольга боялась нашей встречи. По ее словам, Людмила считала мой обмен с Тарасовой кировской жилплощади таким вероломством, которому нет имени. (“Легче потерять человека, зарывши его в могиле, чем так…”) Я это все знала. Но, увидев Людмилу, все эти ее слова забыла и бросилась к ней с такой радостью и так горячо ее обнимала, что первое ее удивление и смущение уступило место доверчивой улыбке. “Забудем все”, – шепнула она, тоже обнимая меня. А мне и “забывать” было нечего. Как неловкость, как боль, как проступок, как вину. Это все было изжито. Все стало как в стихах Гуро – “Уже былое, уже далекое, уже не злое, уже высокое”. В памяти сердца было другое: обширная, полутемная кухня голубцовского дома (Голубцовы – семья Людмилиного мужа). Летний вечер. Мы с Людмилой ищем какие-то кухонные вещи, смеясь и наталкиваясь друг на друга. И внезапно она крепко-крепко обнимает меня и покрывает поцелуями мое лицо. И я отвечала ей. После этого мы без слов расходимся. Но когда кончились каникулы и она с мужем и грудной дочерью Лялей уехала в Москву, я получила от нее длинное письмо на тему Schwester-Seelen (о душах-сестрах), взволнованное, светлое и ласковое.
21 декабря. Позднее утро
Мороз (7 градусов). Люсина комната. Гляжу в балконное окно на крышу, где недавно еще стояли зенитки. С месяц тому назад их сволокли со всех московских крыш. С тоской думаю: а Киев еще будут и будут бомбить.
Во вчерашнем письме Татьяны Алексеевны из Малоярославца – весть: убит Лаврик, сын художника Бруни. Лаврик, изуродованный бездомным и беспризорным детством. Мать, Нина Бальмонт, не умела и не хотела уметь возиться с детьми, и росли они даже в другом городе, на чужих руках. И все трое росли криво, ущербно и несчастно. С Лавриком я прожила под одним кровом у Татьяны Алексеевны недели две, в конце декабря, перед освобождением Малоярославца. Ему было 17 лет. Он из авантюризма убежал, чуть ли не тайно от родителей, на фронт. Потом бежал с фронта в Малоярославец в родственную семью Бруни. Чувствовал себя в ней изгоем – был у него вид затравленного, но каждую минуту готового ощетиниться и куснуть волчонка. Вращался больше с хулиганскими подростками и парнями, по временам что-то притаскивал, что-то прятал в соломе. Татьяна Алексеевна находила и была в ужасе. Он уверял, что такие-то продукты ему “дали партизаны, а они отбили этот кофе и консервы у немцев”. Лгал он охотно и много, даже там, где это было ни на что ему не нужно. У него было жуткое лицо – удалое, мрачное и насквозь лживое. Лицо мальчика, выросшего в каторжанской среде. Ко мне он относился двойственно: то с открытой и циничной оскорбительностью, как к “приживалке” (два раза выкрикнул на всю квартиру этот термин). А уходя пешком в Москву по опасной дороге, вдруг подошел, поцеловал руку и сказал: “Хотя я вас называл приживалкой, вы все-таки благословите меня”. И однажды, когда вечером мы остались с ним вдвоем и я стала его расспрашивать о детстве, подошел ко мне, прижался к моему плечу и горько заплакал, повторяя: “Тяжело, Варвара Григорьевна. Все шпыняют. И всегда так. Я никому не нужен. Меня никто не любит. Все против меня”. Так окончилась эта короткая трагическая жизнь. Хочется верить, что немецкая пуля, освободившая его так рано от уз плоти, бальмонтовской наследственности и кривой линии судеб на этом свете, была вестником божественной любви к нему. Что он сейчас где-нибудь в других “обителях Отца”, там, где жизнь чище и милосерднее, где нет уже ни “приживальщиков” (он и себя таким же приживальщиком, кажется, считал), ни бездомности, ни злой наследственности, ни старости. Мир тебе, милый, бедный Лаврик.
23 декабря. Вечер
Кончила вчера “Пушкин в селе Михайловском” (Новикова). Читала вслух Анне. В слишком для нас молодое общество попали мы, старицы, в с. Михайловское. И слишком недозрелый писатель для наших внуков Новиков. Результат чтения был лишь тот, что захотелось перечесть “Бориса Годунова”, которого и ввела сегодня в нашу вечернюю идиллию. И захотелось ввести в нее “Невидимую брань”[688], которой питала нас в малоярославские бомбежные вечера Наташа.
Познакомилась сегодня с Игоревой женой, Катей (Игорь Бируков – брат Ириса). Хорошая жена досталась Игорю. Недаром Ирис так ее хвалила. И так легко переносит телесное устроение в одной комнате с братом, с Катей и с ее матерью. И так трудно было выносить ей жизнь, когда вместо них была одна собственная мать, которая недавно устроилась в Серебряном Бору. То и дело подтверждается горькое евангельское изречение: “И враги человеку домашние его”.
24 декабря
…Ранним утром бредут в полутемноте на синий огонек Ильи Обыденного нищие на костылях. Сгорбленные старухи с клюками. Большинство в лохмотьях, в опорках. Где они ночуют? В какой грязи, в какой темноте, в каком смраде? В каком холоде? Я среди нищих – привилегированный нищий, и то мне тоскливо и трудно порой. Каково же им, когда “паперть” не в переносном смысле их удел, как у меня, – а в самом-самом буквальном: встать так, чтобы не запоздать к ранней обедне. Поспешать на костылях по скользкой мостовой к Илье Обыденному; выстоять, волнуясь, завидуя, как кому-нибудь рубль, а тебе полтинник. Что на него можно купить?
Может быть, потому что я так стара и так устала, когда слышу о чьих– нибудь мучительно трудных обстоятельствах, о запутанности, о безысходной нужде, о болезни, я, прежде всего, малодушно думаю о смерти для таких лиц как о единственно верном и милосердном исходе. Думаю так с того времени, как попала на “паперть”, начиная с себя. Думаю так о Гизелле Яковлевне, о матери Ириса, о Москвине, о Нине (Аллиной сестре, заболевшей канцером). Я знаю, что это ультрамалодушие – мечтать о таком выходе. От этого уже – по отношению к себе – один шаг до решения на самоубийство.
Чистая, тихая комната. Шкаф карельской березы. Старинный, красного дерева секретер. В окно – гибкое высокое дерево, опушенное снегом – пирус. На нем красногрудые снегири. Снег переливается радугой алмазов на заре. Через комнату мать. Живая. С ней Дионисия. Дионисия входит и ко мне – вносит чай и просфору. Я ничего не могу есть второй месяц. Второй месяц не встаю с постели. Но мне легко и ничего не нужно. Рождаются стихи. Я записываю их. И не замечаю, как день бежит за днем. Но замечаю, как в освещении окна и снежного дерева и куска неба плывут перемены от розово-золотой утренней зари до оранжево-красной вечерней по алмазным радугам на мягко изогнутых ветвях пируса. Так было 15 лет тому назад в такие же предрождественские, как сейчас, дни. А в ночь под Новый год мать скончалась. Без меня.
28 декабря. 5-й час вечера. Морозы Хроники 3-х дней
Воскресенье у Ольги. Варила щи и картошку. Играла с Аничкой в дурака. Ольга носилась целый день по городу: рынок, магазин, “хлопоты” о перевозке вещей из Новогиреева. (Хлопоты чуть не каждый день почти полгода из-за машины.) Была рада в чем-то заменить Ольгу и чем-то позабавить Аннель – она еще не выздоровела. Встретилась с Наташей, бывшей женой Бориса[689], Ольгиного брата. Ей под 50, но в ней уцелела та же свежесть и крепость яблока “добрый крестьянин”, то же впечатление от ее существа, что и 20 лет тому назад, в сергиевские дни. Хорошо поговорили. О ней, о ее безмужности, которой она, кажется, искренне довольна. “Останкино, мама и керамика – вот и вся моя жизнь”.
Делает лепные танцующие фигуры народов СССР на глиняной утвари. В ярких серых глазах еще не отгорела молодость. Натура безудержная, свободолюбивая, на все дерзающая. Этим она на много лет приковала к себе Ольгиного брата, а сама к нему нисколько себя прикованной не чувствовала. Он с ней очень мучился (ревностью). Но, пожалуй, из всех женщин, какие до нее и после нее у него были, по-настоящему только одну ее и любил (“с таким тяжелым напряжением, с такою нежною, безумною тоской, с таким блаженством и мученьем”)[690]. Да разве еще в первой юности Марину Цветаеву, поэтессу.
Встреча была настолько приятна, что я пообещала Наташе приехать к ней в Останкино с ночлегом. Вдобавок там Останкинский парк: хоть подгородным, ущербным способом, хоть на несколько часов коснешься зимней природы.
От Гизеллы Яковлевны письмо – предложение, с ней сложившись, купить Нике (ее любимцу) колоду карт для раскладывания пасьянса, чтобы отвлечь от излишнего чтения. Она боится для него менингита, от которого умерла ее дочь 12 лет тому назад. Гизелла Яковлевна в свои 78 лет находит еще возможность давать уроки немецкого языка в семье больничного врача. И нет в письме ни единой жалобы. Есть только строчка: “В семье моего ученика отдыхаю от общества, в каком нахожусь остальное время (общества душевнобольных женщин всех возрастов). Нету буйных. Но немало таких, у каких истерические припадки не только днем, но и по ночам…
70 тетрадь 9.1-29.2.1944
16 января. 8 часов вечера
“Жизнь взывает к героизму тыла, соразмерному героизму фронта” (газетная фраза).
С 1 января у обывателя отнимается то свет на какие-то часы, то газ на почти целые сутки, то отопление – то все это одновременно.
27 января
Ирис вчера сказала: “Да-а…встретила Лундберга! вернулся из эвакуации. Постарел, но вид бодрый. Очень расспрашивал о вас. Ужасался над вашим положением, негодовал на Тарасовых. Просил передать вам привет”.
Ни он, ни я не поверили бы 30–40 лет тому назад, что будет некогда день, в котором, не видевшись около десяти лет и очутившись на расстоянии 10 минут ходьбы, Лундберг спокойно и просто передает мне привет. И что я спокойно и просто отнесусь к этому, хоть и задумаюсь, как сегодня, о преходящести всего, что живет в области наших чувств. Но прошлое в таких случаях для меня на время оживает и как бы вытесняет настоящее. Шестидесятилетний, обрюзгший, вероятно, и облысевший старичок, который передал мне привет через Ириса, встал передо мной сначала, каким был в Киеве и на берегах Злодиевки у Днепра, двадцатилетним юношей с печатью трагической отваги и острой, беспокойной мысли на высоком лбу и в светлых северных глазах. Лундберг по отцу – швед. Мы его звали “варяг”. У него было искреннее отвращение к рамкам быта, к обыденности. Его томила искренняя (хоть и со стороны наблюдаемая и лелеемая им) жажда “нечеловечески великого страданья, нечеловечески величественных дел”. <…> В нем с отроческих лет пробудился писательский взгляд на себя как на объект наблюдений и литературно-философическая оценка всего с ним и вокруг него совершающегося.
Потом, когда вышел в свет “Апофеоз беспочвенности”, он решил от полноты восхищения этой книгой предпринять паломничество к ее автору – пешком из Крыма – не то в Киев, не то в Петербург – не помню. Впоследствии бродил он пешком, с котомкой за спиной и без паломнических целей из любви к одиночеству, к природе, к странничеству как к освобождению от бытовых уз. В это время он напечатал 3–4 рассказика в “Новом пути”. Они отворили ему дверь в литературную среду. Завязались личные отношения с Сологубом, Вячеславом Ивановым, с Мережковским и Гиппиус. И теснее, горячее всего завязалась коленопреклоненная дружба к Льву Шестову. Ко мне – сначала через Льва Шестова и Тарасовых, которые “ласкали” его, а потом независимо от них протянулась на целый ряд лет нить, сплетенная из повышенного романтического интереса к моей личности, из напряженного братски-теплого участия к моей судьбе и деспотического навязчивого желания удалить меня из жизни. Были две летние ночи на берегу Днепра, когда он до зари пылко и красноречиво склонял меня на самоубийство (я переживала тогда крушение надежд узколичного порядка). И другой раз он добыл для меня запечатанный тюбик с цианистым калием “на всякий случай”. Я возила его с собой по свету, пока не затеряла – не помню, в каком городе. Может быть, он и сослужил кому-нибудь ту службу, для какой Лундберг назначил его мне. Расставаясь даже ненадолго, мы писали друг другу чуть не каждый день. А когда он пошел в революцию и попал в Шлиссельбург, я приобрела полсотни открыток – видов и репродукций с картин различных музеев, и посылала ему даже по 2, по з открытки сразу. И когда я провела часть зимы в Воронеже с матерью, в намерениях отказаться от литературной работы и столичной суеты, смириться и “пойти в народ” в роли сельской учительницы – почтальон приносил мне каждый день письмо Германа, которое начиналось: “Откажитесь! Откажитесь! Откажитесь!” – с разными вариантами доказательств, почему мой план “нелеп, жесток не только к себе, но и к другим, бессмыслен, гибелен в смысле духовном, непрактичен, комичен и т. д.”.
Я забыла сказать, что кроме прозвища “варяг” он носил у нас еще имя Германа, которое было, собственно, именем его отца (он Евгений Германович). Это имя к нему подходило по какому-то внутреннему его родственному сходству с пушкинским Германном. И, пожалуй, с музыкальной окраской “Пиковой дамы”. (У Тарасовых его так и до сих пор зовут.) На литературной дороге Герману не повезло. Он был из тех литераторов, которые в разговоре, в личном общении, в рисунке жизненного пути талантливее, значительнее, выше ростом, чем в творчестве писательском. Может быть, он не нашел своей формы. От беллетристики он скоро отказался. Пошел по пути автора “Апофеоза беспочвенности” и впал в невольное подражание любимому писателю и старшему другу. В первые годы революции издал нечто вроде дневника, где есть две-три страницы, в которых я почувствовала и особенность его мысли, и его рост (о, гораздо выше среднего литераторства). Остальное в этих “записках писателя” все злободневное и довольно тусклое.
После революции он жил некоторое время за границей, во главе берлинского издательства “Скифы”. С Львом Шестовым он в это время окончательно разошелся на идеологической почве[691]. Со мной переписка продолжалась, но уже утратила свой идейно горячий и повышенно дружественный характер. Но были за последние 10–15 лет две личные встречи в том бесперегородочном общении души и творческом подъеме мысли, как в первые годы нашей дружбы, “как будто нас ничто не разлучало”. И было 5 лет тому назад от него письмо в Малоярославец, где я жила на даче. Письмо весеннее, благоуханное – точно внесли в спальню старухи зимой букет именно тех редких причудливых цветов, которые подносил он в годы молодости, как рыцарь, собираясь в Святую землю.
9 февраля
Между длинными промежутками ночного бдения короткий прерывистый сон. В нем тот же образ, тот же вокруг него комплекс – крутой обрыв, на который надо взобраться. Боль сердца. Боль совести.
Неотступная мысль: где, как, от какой причины пришла к Михаилу смерть-узорешительница. Чья рука закрыла ему глаза. Велики ли были его последние муки. До конца ли он принял их, не похулил ли, как Иов, предначертание судеб своих. Какова была его последняя мысль, последнее слово. Больше пяти лет прошло с того дня, как успокоила мать-земля его измученное тело. Напрасно прошу его в эти ночи, когда в сознании моем он уже не только в предчувствии, но в определенных земных сроках – по ту сторону. Напрасно прошу ответить мне, как было во сне в 1938 году, где он и как перешагнул рубеж мученической кончины[692]. Ответа пока нет. За это время он, может быть, уже в тех далеких, недосягаемых для моего грешного зова обителях. И по грехам моим нарушена между нами связь.
11 февраля. 2-й час ночи
Кому, как, чем и что “перевернуло жизнь”.
Мировичу – чечевичная похлебка (обмен кировской площади на жилплощадь с полным пансионом у Тарасовых). Поделом. Наказательно. Назидательно.
Алле – трижды перевернула жизнь:
а) атака влюбленного Москвина;
в) Анна Каренина, лавры и Сталинская премия;
с) случайная встреча на фронте (все три раза трагическая);
Анне – измена Романова (переворот тяжкий, но душе полезный); Ирису – продажа дома. Наличность некоторых средств. Иллюзорное благосостояние (переворот искусительный и вразумительный);
Михаилу – час решения стать священником (выбор мученического венца);
Сергею – встреча с Сусанной (переворот сладостный, но суживающий круг самосознания);
матери моей – слепота с 60 – переворот длительный – до 79 лет, тяжкий и в высшей степени благодетельный в духовном смысле.
20 февраля
Ольга (на станции Новокузнецкого метро) горячо и громко из-за моей глухоты: “Как вы можете так говорить! (Я сказала, что с тех пор, как Алла отказалась от своего обета заботиться о моем крове и пище, стала “побирушкой”.) Как вы могли это сказать! То, что вам дают, – дары. Вы – царица. И тот, кто их подносит, должен быть счастлив, что вы их принимаете”. Подумала, скатываясь на эскалаторе с Ольгиной краюшкой хлеба и с мешочком муки в сумке: “Конечно, есть во мне побирушка. Иначе я бы легла лицом к стене, как это сделала в Малоярославце чиновница Четыркина и священник Василий Павлович. И умерла бы от слабости после месяца “карточного” питания. Побирушка не согласен на этот способ развоплощения. Может быть, потому, что нет такого «своего» угла, где бы он мог лечь лицом к стене и, не будоража ничьей совести и ничьего участия, непостыдно и мирно развоплотиться. И кроме того, это не совсем паперть, и не у первых встречных дары взимаются, а у «зам. дочери» – у Ольги и у зам. внуков в Зубове (там овсяным киселем)”.
А кроме того, в многосложности моего “я” есть на самом деле “царица”, которая не удивляется, когда ей подносят дары, когда ей служат, ее слушаются. И “побирушка” у нее “хлебодар”, который куда-то идет за хлебом и подносит их на золотом блюдце. И кроме этой царицы есть еще некто, помнящий, как в Эдеме все питались плодами с Древа жизни, всем одинаково принадлежащего.
22 февраля. Утро
Та степень слабости и нездоровья, когда уже легко отменить все другие предназначения, для себя и для других чем-то нужные. Легко, естественно и сострадательно к своему “брату-ослу” уложить его на кушетку, притеплить, чем можно, пользуясь тем, что на какой-то срок он в комнате один, дать ему в руки эту тетрадь.
Сейчас ушла Анна Александровна Луначарская. Решила пойти к Алле поговорить о моих жилплощадных делах. Сначала я просила ее отменить это решение. Стало горестно за наши полувековые (слишком даже – 67 лет со дня встречи с Леониллой) отношения. Стало жалко нанести Алле хотя бы и небольшую рану вторжением в этот вопрос чужого человека. И окончательно стало неприемлемо вступить во что-то похожее на тяжбу с Тарасовыми. Анна Александровна предлагала написать Сталину (минуя казус с тарасовской площадью) о том, что я “на улице”. Но ведь все равно и до него бы дошло, и другие бы узнали, почему я “на улице”.
Анна Александровна обещала выяснить с Аллой злополучный этот жилплощадный вопрос в дружественных тонах, не судить и не осуждать ее. Практически же выдвинуть лишь мою кандидатуру на Смоленский каземат, – чтобы ее поддержал Иван Михайлович и чтобы сделали там необходимый (небольшой) ремонт, привезли бы печку и дрова, а затем пусть забыли бы меня на веки вечные. И я бы сказала: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка, с миром”. Главное – с миром. Если я чем истерзана за эти три-четыре месяца и нервами, и душой – это лишь отсутствием мира, высшего душевного равновесия, призраком тяжбы и мучительным отвращением к ней.
25 февраля
Не успели высохнуть чернила, которыми Мирович начертал почти уже в форме обвинительного приговора строки о жестоковыйности и несправедливости к нему Тарасовых – матери и дочери, как принес Ирис от Аллы дружески-теплую и между строк покаянную записку. И рассказал Ирис о ее тревожной, искренней заботе о моем положении. И о том, что она впредь не собирается отречься от взятых на себя обетов в связи с обменом жилплощадей – Галины у них с моей на Кировской. Принято решение определить Мировича в санаторий. И не этот конкретнейший вывод сам по себе важен. Гораздо важнее моральный сдвиг в Аллочкиной душе и волна теплых чувств, всколыхнувшихся в Мировичевом сердце к образу Аллы и к ее жизни. Волна, закованная всем пережитым в лед, который уже казался навеки нерастаянным.
71 тетрадь 1.3-13.4.1944
8 марта
Бабушке Анне Николаевне Шаховской рождение. 84 года. Сияла от подарков – Вернадский прислал коробку конфет, консерв камбалы, два крупных горьких гибрида, джемпер. Кто-то – наволочку. Аничка (дочь, а теперь приемная мать Димы и Ники, которые стали Шаховскими) написала поздравительное стихотворение. Не только бабушка, но и все присутствующие были растроганы искренностью, теплом и возвышенностью его содержания. Там были слова “живи, живи!”, особенно трогательные тем, что всю жизнь бабушка с ее эгоцентризмом и безудержно темпераментной “агрессией” была тяжелым крестом беззаветно-кроткой Анички. А. Н. считала, что дочь, не вышедшая замуж, отдана самим Богом в полное и бесконтрольное пользование, как бы в рабство, своей матери. Она изводила ее многословием, скупостью, энергетической требовательностью и гневливостью…
26 марта
Вчера до галлюцинации ясно, когда открыла глаза после сумеречной дремоты (из экономии длительные сумерки), увидала – наклоненное над собой, страшно пристально в меня всматривающееся лицо Леониллы. Было такое чувство, что она измеряет пропасть, разверзшуюся между нами, хочет перейти ко мне, позвать меня – и не может. Не могу и я – вот уже пять месяцев переступить порог их дома. Но увидеть и обнять, молча обнять ее – хотела бы. Только не под ее кровом, откуда она изгнала меня в поздний, непогожий час моей старости.
28 марта. 8 часов утра. Замоскворечье
Третьего дня Аннеличкин отец (С. Б. Веселовский) упал на скользком тротуаре, сломал руку, и пока он в больнице, я в его комнате. В мозаике скитания моего прибавился еще один камушек. Голубая комната, высокое, близкое к земле окно; из него вид на огромный черный двор, очерченный большими отсырелыми, закоптелыми домами – справа темно-желтый, слева – темно-красный. Что-то петербургское, достоевских времен в этом виде. Обширный кабинет, где я пишу и где провела ночь, выдержан в ригористично-строгом профессионально-ученом стиле. Ничего, кроме шкафов с книгами по стенам и большущего письменного стола; впрочем, у одной из стен приютилась кровать с ночным столиком и низкое плетеное кресло. У входной двери – часы в футляре красного дерева, с мелодическим и звучным старинным боем. Все это, и личность самого Степана Борисовича, и достоевское сочетание его с диаметрально ему противоположной Ольгой, окунуло меня на всю ночь в какой-то сложный, петербургского периода роман. Как это бывает в таких случаях, роман самостоятельно и причудливо развивался в прерывистых сновидениях, а в бессонные промежутки мешал спать продолжением своих сцен и вопросами, загадками, психологического, эротического и философического порядка. И тем особым ночным возгоранием любви к близким душам и тайным слиянием с их судьбами. Ольга. Аннель. Не все время, не во всей мере осознаешь, путаясь в петлях своей бытовой сети, насколько тебе дороги те, кого любишь. И как их любишь. И чтобы описать правдиво и на достаточной глубине каждую нашу любовь с ее особенным смыслом, с ее звучанием (и ее текучестью при этом), нужно достоевское перо. А может быть, и мое – если бы я писала вот такой роман, который сам во мне писался этой ночью.
Профессор, от “младых ногтей” бесповоротно погрузившийся в определенное историческое изыскание, всем умом, всем сердцем и всем помышлением своим. Женился чуть не в 19 лет на очень красивой и очень богатой девушке – француженке. Женился по смутному тяготению темперамента и по романтически-эстетическому влечению, принятому по неопытности за любовь. Никакого духовно-душевного симбиоза в этом браке не произошло – напротив, вскоре после брака обнаружилось и стало расти внутреннее отчуждение – у мужа, и безмолвная, бесправная привязанность жены. Муж все теснее и глубже врастал в задачи истории, понемногу и незаметно иссушая нити, соединявшие его с живой жизнью. И почти незаметно для себя народил шесть сыновей с чуждой ему женщиной – изящной и нарядной наложницей, до конца оставшейся верной своему султану одалиской. Так прошло полвека. К 50-ти годам назрел душевный кризис у профессора. Ощутилось одиночество, потребность в чувстве, оформляющем и заполняющем все существо. Стало нестерпимо омашиненное однообразие семейных отношений, не согретых живым огнем. Сюда вошел и целый комплекс внешних и внутренних условий (в нем необходим тонкий анализ и перевоплощение в сущность его существа). Дальше встреча – случайная – на Петровке с девушкой, 10 лет тому назад под его начальством работавшей в архиве и нравившейся ему всем своим обликом, оригинальностью, мягкостью и свободой обращения. Девушка в этот момент была сильно уязвлена нерешительностью (как ей показалось) шагов человека, предложившего ей “руку и сердце” (он был женат, но обещал развестись с женой). В з дня (вот где он, Достоевский!) профессор и девушка решают соединить свои судьбы. Через несколько дней профессор разводится и расписывается в ЗАГСе. Через две недели они уже вступают в “законный брак”. В это же время возвращается (он был где-то на курорте) запоздавший претендент, но слышит от девушки, которой серьезно увлечен, что “она другому отдана и будет век ему верна”. Такому татьяновскому обету и выполнению до глубин и в глубокой старости профессора содействует достоевски-психиатрический момент переноса всех чувств, зачинавшихся и предназначавшихся для первого жениха, который был на 15 лет моложе 50-летнего профессора, на малознакомого старого мужа[693]. Восторженная идеализация его личности. Дальше все крепнущая привязанность жены, служение мужу и его науке наряду с сознанием своего духовного одиночества. Оно компенсируется повышенно лирическими отношениями с друзьями-женщинами. Интимнее всего с одной из них, старой поэтессой, которая полюбила в девочке “общие небеса” и личное обаяние ее, когда той было 8 лет – а поэтессе около 30-ти (тут опять не без Достоевского). Когда после трех лет брака рождается ребенок, а профессор всецело уходит в свои фолианты, впрочем, проявляя отцовскую нежность временами и уделяя некоторое внимание единственной “дочери старости своей”. Жена все богатство сердца изливает на свое первое и уже навсегда единственное дитя. Но богатств у сердца жены непочатый край – и даров его хватает на всех попутчиков ее дороги.
72 тетрадь 15.4-30.4.1944
15 апреля. Замоскворечье
Радость жизни. Посвящается О. А. Веселовской, несущей в себе неисчерпаемый родник Радости и щедро поившей меня его струями в течение 40 лет (от ее семилетнего возраста до сегодняшнего дня).
I
“Радость жизни”. Такое название придумала восемнадцатилетняя Оля Бессарабова для кружка, собравшегося возле меня тридцать лет тому назад. Собирались в Москве, в Борисоглебском переулке, в моей квартире. Или в семье кого-нибудь из юных членов кружка. Все они были очень юны. Не знаю, было ли кому-нибудь 20 лет. А самой младшей, Нине Бальмонт, – было 15. В центре их – по крайней мере так ощущалось это мною – цвела переполненная “радостью жизни” Ольга (Лис – воронежское, домашнее прозвище) – “мед, огонь и соль собрания” – уцелела в памяти она из моего шуточного стихотворения тех времен, посвященного Ольге.
II
Зачем я их собирала? Зачем так серьезно и так радостно были нужны мне эти Шуры, Нины, Тани раз в неделю за моим столом с их цветочными лицами и жаворонковыми голосами. Возможно, что было здесь и то, что П. Романов остро и умно назвал однажды “возмещением отсутствия собственных детей” (у одиноких женщин). Но было и то, что всю жизнь влекло меня (в 23 г. был первый “кружок” мой в Киеве): чувствовать себя кормчим корабля “Юность”. Я лично почти не проявлялась вовне, горя напряженно и переживая горение юных душ в их поисках истины, в дружной мысли и в любовном общении друг с другом. Между нами председательствовал, кроме меня, Эрос звездного порядка, и вечерние наши чаепития были похожи на агапы (трапезы любви) катакомбных времен.
III
У Ольги были тогда золото-рыжие, пышные, длинные косы и карие глаза, то преисполненные радостью жизни, как солнечный блеск на речной глади, то ушедшие в себя, строгие и скорбные (какие я знала и любила у ее матери, одной из самых обаятельных женщин). С обоих этих лиц можно было бы писать и Фрейю – языческую богиню Радости, и Mater doloros’у. Но гораздо чаще она была Фрейей, чем скорбящей Богоматерью. У нее был редкий дар – воля к радости. В то время, когда Блок писал: “Здесь никто понять не смеет, что Весна плывет уж в вышине. И любить никто здесь не умеет – все живут как бы во сне”, в Воронеже был семилетний ребенок, Лис, который принял в свое сердце луч этой “плывущей в вышине” космической весны.
IV
Когда я однажды приехала в Воронеж к матери (мне было около 35 л.), я узнала, что дальний родственник наш женится на овдовевшей Аничке Косцовой, наружность которой пленила меня 12 лет тому назад, когда ей было 18 лет. Хороша была она и в 30 лет, чему не помешали пятеро детей, рожденных за это время, – 4-х сыновей и одной дочери – Ольги.
Девочка эта с пышной золотой рыжей косой и прекрасными темными глазами была удочерена мной с первого взгляда. И как посвященный мист – сразу мистериально по-дочернему вошла в мою орбиту. И не выходила из нее, хоть иногда можно было подумать, что это случилось. Дочернего отношения ее к матери это ничуть не уменьшило. Там был свой культ иконы – Всех скорбящих радости, ее омофор. И Фрейя – лики, унаследованные Ольгой. Ко мне был “звездный Эрос” (и есть) двухстороннего, матерински-дочернего порядка.
V
Ольге и братьям ее я всегда привозила из Москвы, когда приезжала в Воронеж, какие-нибудь незатейливые подарки – шоколадки, маски, цветные карандаши, открытки. В число открыток случайно попала одна совсем недетского содержания – какая-то полураздетая красавица спит, а над ней вьется и осыпает ее цветами множество амуров. Я не хотела ее дарить детям, но Ольга смотрела на нее с таким восхищением и с такой невинностью, что я решила поступить непедагогично и подарить ей это “чудо красоты” (она так об этой даме выразилась). На первый день Пасхи, присоединив к ней желтенького гарусного черноглазого цыпленка и моей кистью распестренное яйцо, положила все это в Ольгин белый фартучек. Она прижала открытку к сердцу, а цыпленка поцеловала и воскликнула торжественно, вся засияв до последней каштановой реснички над солнцами глаз: “Теперь я – счастливейшая”.
VI
Ее друг (это не шутя было дружбой) Мирович был в то время несчастнейшим из смертных. Была сделана ставка всей жизни (так тогда казалось) на одно мужское сердце. И ставка эта была проиграна.
Однажды в обычной вечерней прогулке с Ольгой по железнодорожной линии я облекла истории своей жизни в сказочный сюжет о “Крылатом принце” и увидела по скорбному выражению глаз, по осторожной ласковости ребенка, что она поняла биографичность моей сказки. И прикоснулась к моему, тогда сильно раненному, сердцу так, как это было еще раз, через пятнадцать лет, в сергиевские дни, когда об этом сложились строки:
Легкой поступью Оэлла К изголовью моему Подошла в одеждах белых, Разгоняя в сердце тьму… [694]и т. д.
VII
Оэллой была Ольга по отношению ко мне не только в чрезвычайно трудных перевалах моего жизненного пути. Когда мы жили вместе, вся мягкость этого имени, каким окрестила ее моя творческая фантазия (или воспоминание?), изливалась на все мои раны, как целительный елей,
…и были благостные руки В касаньях сердца так нежны, Что утихали злые муки И улетали злые сны. (из того же стихотворения).Как никто, маленький Лис – и позже, когда стал большим, и сейчас, знал мою глубокую ранимость – отсутствие кожного покрова на душевной оболочке, отчего такие души, беззащитные по существу, надевают на себя иногда панцирь грубости, неприступности или притворяются божьими коровками, сожмутся, омертвеют, когда приблизится жук-рогач. Или умилостивляюще улыбаются. Или надевают какую-нибудь другую обезоруживающую “врага” личину.
VIII
Еще с большей, чем у меня, ранимостью пришла в этот мир Ольгина душа. Но она рано с детских лет научилась залечивать свои раны присущим ей целебным елеем доброты к тем, кто нанес их, и все приятием, лежащим в основе ее миросозерцания. И еще редкостным даром претворения воды в вино, песка в золото, колючек терна в цветы. Когда однажды я предостерегла ее: “От этой радости (речь шла об одной важной для нее жизненной встрече) тебя ждет, может быть, большое горе, Лисик”. Она ответила мне: “Э, Вавочка! мне и горе все равно как счастье” (от него). Так и было. Она сумела вырастить с райскими цветами целый куст высокой и стойкой радости над отношениями, где для другой девичьей души было бы крушение всей личной жизни.
IX
Запомнился мне в начале империалистической войны один майский день – бурный, холодный, даже со снегом. Мы жили тогда с Ольгой вместе на Борисоглебском переулке. Мой брат и Михаил Владимирович, с которым была связана моя жизнь, были оба мобилизованы. Я чувствовала себя как захваченная водоворотом вихрей с подбитым крылом птица (тогда я хуже справлялась с бытовыми и душевными бурями, чем сейчас). Только одна Ольга могла вдохновенно решиться сделать из всего этого праздник. Она сбегала в магазин, принесла какие-то консервы, сделала из поджаренного сахару конфеты, завесила плотно окно, чтобы я не видела, что делается на улице, стол накрыла белой скатертью, водрузила цветы на него, которые стояли на окне, и, сияя счастливой улыбкой, усадила меня в кресло. Раздался звонок – вошла неожиданно Чита. Бедная, бесприютная девушка, член кружка “Радость”. “Вот и благословенный гость на нашем пиру”, – вскрикнула Ольга, обнимая ее. И это было то, что в катакомбах называлось агапой, “трапезой любви”.
X
Однажды, в сергиевские дни, возвращаясь домой после моей лекции, я поскользнулась у калитки и попала в глубокую канаву, выкопанную у забора. Тут же была и Ольга, в непроглядной дождливой октябрьской тьме для меня невидимая. “Лисик! Дай мне руку, я не могу выбраться из канавы”, – позвала я на помощь. И услышала успокоительное: “Ничего, ничего, Вавочка. Стойте смирно. Я сейчас”. Стою. Слышу какое-то барахтанье и плеск по другую сторону мостка. “Лисик! Что же ты?” – “Сейчас, сейчас. Ничего. Все будет хорошо” (обычная в Ольгином обиходе фраза). Еще через какой-то срок протягивается ко мне Ольгина рука и вытягивает меня на мосток. Входим в комнату, и я вижу, что Ольга, как и я, по пояс мокрая. “Вавочка, я ведь тоже упала в канаву, – поясняет она со смехом, – но не хотела вам, когда вы звали на помощь, этого говорить. Вам это могло бы показаться уж каким-то безысходным положением. И вы начали бы сами карабкаться на мост. А так вы стояли смирно”.
XI
Другой раз – тоже октябрьской непроглядной ночью – к нам забрался в Сергиеве на балкон вор. Балконная дверь была еще не заклеена. Ольга сидела близко от нее и что-то шила.
Было около 12 часов ночи, и у меня был грипп, и я уже собралась в постель. Слышу какой-то топот по железной обшивке балконного пола. “Лисик, мне кажется, на балконе кто-то есть”. Лис, не переставая шить, спокойным голосом отвечает:
– Да, это вор. Он сейчас уйдет. Не пугайтесь.
И, обернувшись к двери, она погрозила в темноту пальцем, сказав строго и громко, но в высшей степени спокойно:
– Не надо, не надо… Уходите. Нехорошо. – И постучала наперстком в стекло. После чего наклонилась над шитьем и продолжала шить.
Я же вышла на площадку мезонинной лестницы и стала звать несуществующего в доме “Ивана Васильевича”, прибавляя: “Кто-то забрался на балкон”. Все вместе, может быть своей необычностью, так подействовало на бандита (грабежи были нередки. Дом стоял в пустынной усадьбе), что он протопотал по нашей крыше и больше не появлялся…
И еще бы я могла многое написать об Ольге. Но отложу – нет сил больше. Прибавлю только, что, как в этих двух случаях, вносила она в мою и в окружающие жизни не только радость, но и помощь и еще в школьные годы мечтала основать вместе со мной “Лигу радости и помощи”.
15 апреля. Замоскворечье
Сей день, его же сотворил Господь.
Все дни “сотворил Господь”. Вся Жизнь – дыхание уст Его. И если бы мы всегда могли помнить это первоосновное знание нашей души о Первоисточнике своем, жизнь наша – со всеми ее ущербностями – была бы похожа на Эдем. На Эдем было похоже мое сегодняшнее пребывание у Ольги. Ангелически-нежное и не по-человечески щедрое тепло объятий ее, встретившее меня на пороге ее дома, сразу вырвало меня из “хладного мира” и моего эгоцентризма и отворило “зеленую калитку” в Эдем.
Когда поют в церкви: “сей день его же сотворил Господь”, имеют в виду это дуновение из распахнувшейся “зеленой калитки” (“Зеленая калитка” Уэллса, дверь в Эдемский сад), воздух эдемски невинной, райски блаженной жизни.
Я шла Пятницкой улицей, на которой родилась и до 9-ти лет жила моя мать. И шло со мной рядом по залитому эдемским солнцем тротуару, мимо трепещущих голубым и золотым блеском луж, детство матери моей, чудесно расцветшее над ее старческой слепотой, многоскорбной жизнью. В плеске бегущего рядом с тротуаром ручья я слышала детский смех Вареньки Полянской, которую няня вела гулять в Александровский сад. Няня несла за ней палки и обручи серсо и вязанье в круглой глубокой плетеной корзинке. Там лежали и пироги, и орехи, и яблоки, заботливо приготовленные ее матерью для последней из 12-ти детей, маленькой, любимой, балованной дочери. На Вареньке была шляпа пастушки с ярко-голубыми лентами и бриллиантиновое платье – ее любимое с красными и зелеными мушками – о нем упоминалось порой в ее скудных редких рассказах о своем детстве. И все было хорошо, все было “добро зело” тогда, когда Вареньке было 5–6 лет (как сегодня мне, когда я шла вдоль ручья, играющего между мостовой и тротуаром Пятницкой). Варенька любила повышенной, восхищенной любовью свою мать, как потом самое Вареньку любила из всех ее детей одна Маруся, моя младшая сестра. И душой, и наружностью одна Маруся была похожа на нашу мать. У нее были такие же прекрасные темно-серые глаза с бархатистыми черными ресницами и тонко очерченными черными бровями под золотисто-белокурой “челкой”. Маруся была так хороша собой, что прогулки с ней (я была старше ее на 14 лет) доставляли мне особое тщеславное удовольствие, так как прохожие при встрече с ней нередко восклицали: какая хорошенькая девочка!
У Вареньки Полянской в Марусином возрасте были красивы только чудесные глаза, оставшиеся красивыми и до самой старости, до слепоты, и благородный рисунок черных бархатных бровей. Никто в ее детстве не останавливался перед ней с восклицанием: какая хорошенькая девочка! Но в ней совсем не было моего тщеславия, как и в Марусе, и такие замечания ничего не прибавили бы к полноте ее Эдема. Он до краев наполнял ее существо – и тело, и душу – радостью дышать, катить по Александровскому саду желтый обруч, подпрыгивать на упругих ножках, гоняясь за упругим мячиком. Потом, запыхавшись от бега, питаться под тенью развесистой липы на зеленой скамье плодами древа Жизни – яблоками, пряниками, орехами, винными ягодами, уложенными в знакомую корзинку с такой любовью милыми руками матери. А главная радость, все восполняющая и все озаряющая, была – самой любить эту мать непрерывной, доверчивой, ничем не омраченной любовью. Любить старую няню, отца (он был всегда занят, всегда вдали от детей). Любить кондуктора Рожкова – он сопровождал дилижансы, принадлежащие Варенькиному отцу, и умел рассказывать всякую быль и небывальщину о своих поездках в Киев. Оттуда он привозил сушеные фрукты – чернослив, мелкие абрикосы – марели, глиняные куклы и кукольную посуду межигорского производства и с ярмарки, которая называлась “Контракты”, пряники всех форм, всех цветов, всех запахов, какие существовали в Эдеме. В Эдеме, на Пятницкой же улице, существовало таинственное, возглавляющее его дары и блюдущее его Тайну здание – Церковь во имя Параскевы Пятницы (Параскева – так звали также и Варенькину мать). В этом здании нельзя было ни прыгать, ни смеяться, ни грызть орехи. Нельзя было разговаривать. Нельзя было даже приносить с собой любимую куклу, Пашеньку, хоть она вела себя в Церкви лучше, чем иные дети. Но никогда не было в этом здании Вареньке скучно. Было нечто глубоко и сладко завораживающее в непонятных возгласах священнослужителей, в трепетных огоньках бесчисленных свеч, в их отражениях на золотых ризах икон и на парчовом одеянии священника, в пении невидимых ангельских и человеческих голосов (певчие помещались на хорах). Была совсем иная жизнь, чем в Александровском саду: без веселой до упаду беготни, без куклы, без няниной корзинки с пряниками и яблоками, без птичьего и ребячьего гомона, без облаков, белых, как огромные гуси и голуби, плывущих по синему небу неведомо откуда неведомо куда и тоже, и не менее сладко, завораживающих своей тайной. И там и здесь была тайна Эдема в каких-то своих двух сторонах, равно человеческой душе близких и необходимых, но до каких-то сроков неслитных. Мыслей об этой неслитности не было у Вареньки ни тогда, ни после. Но они стали томлением и борьбой – в душах ее дочерей. И сегодня душа моя поняла, что на этом свете томление и борьба эта до конца неразрешима, пока она живет “под этой грубой и тленной одеждой”. И что такое чувство жизни, такое ощущение ручьев, неба, встречных людей, воробьиного чириканья и детства для умершей матери, какое дано мне в этот день, – лишь намек и как бы залог и прообраз того слияния двух сторон расколотой души человеческой, какое совершится в “мирах иных”.
29 апреля
Денисьевна: “У нас, в Загорске, на рабочей карточке тое все написано: будто и того, и другого по килу, по два выдают. А всем – только хлеб. По служащей – 450, по рабочей – 550. Что же сделаешь? Не с кого спрашивать. И то – слава Богу. Хоть он и никудышный, хлеб-то – намнут картошки гнилой в него почем зря, а ржаной мучицы на кило, говорят с полфунта – а чего не хватает – горох, отруби. И все бы хорошо, и за это спасибо, если бы вовремя выдавали. Трудно за ним стоять, в том главная беда. Часов по 5-ти и больше выстоишь, пока дождешься. То с 2-х-3-х часов ночи стоишь до утра, то с 7 часов вечера до полуночи. Ни тебе посидеть, ни тебе поработать, все время идет на стоянку да на усталь…”
Социальные контрасты. Дионисия живет в семье, где все на “хлебных” должностях (одна сестра – контролер продуктов в ларьке, муж другой где-то “ответственный работник”). Дионисия: чего-чего у них только нет! Масло кирпичами. И мука, и крупа. Без сахару, без конфет никогда чаю не пьют.
– А вас когда-нибудь угощали?
(Она у них “домовничает”, привязана к дому, должна стеречь, когда они выходят.)
– Меня-то? Раз как-то угощали. Варвара (одна из сестер) когда-никогда конфетку сунет. Бог с ними. Я не завидую.
Тарасовская кухарка (шепотом, с оглядкой, когда я на кухне кончаю второе блюдо и на тарелке остается кусочек засушенной печенки, которая мне не по зубам): – Печенку эту вы кушать не станете? – Не могу. Нечем есть, Ульяна Никитична. – Так дозвольте мне.
Берет рукой кусок с тарелки и с жадностью поспешно прожевывает.
– Несытно вам живется?
– Прямо скажу, голодно. Супу – тарелка. От второго – мясо, рыба – молодым. Нам с няней картошка, что возле мяса. Понемножку. А то и вовсе нет. И хлеба не вволю. (У нее мрачный, заробевший от суровой судьбы вид. Причина проголода тут главная в бесхозяйственности и многолюдстве.)
Депутат Верховного Совета запирает в шкаф от услуживающей ему знакомой и подчеркнуто честной женщины свои “лимиты”. Черствеют батоны так, что их нужно раскалывать. Накапливается сладкое (ему нельзя сахару, у него сахарная болезнь). А женщина пьет “голый” чай. Не жалуется. Привыкли все к социальным контрастам.
Ирис. Брат и невестка перестали “угощать” Ириса, когда она на полсуток приезжает из Серебряного Бора, где поселилась с матерью, уступившей им комнату. И брат, и жена его – “хорошие” люди, далеки от скупости. Но “ожестели”. Это случилось и с Ирисом в сторону некоторых близких друзей. Исторический момент создал богатейшую почву для “невидения, забвения и окамененного нечувствия”.
73 тетрадь 1.5-7.6.1944
5 мая
“Тяжела работа Господня” – это была одна из предсмертных фраз Вл. Соловьева. Он нес эту работу изо дня в день всю жизнь. И, умирая, не смел сказать, что сделал все, что нужно. Упомянул только, что она – тяжела. Тяжела. Это и есть – узкий путь и тесные врата, о которых в Евангелии. И крестоношение. У каждого свой крест, и выбирать крестов нельзя. Они очень индивидуальны. (Об этом хорошо у Жуковского – “Выбор креста”.)[695]
“Велика и кропотлива работа Господня” Л. Толстого. Начиная с дневников пятнадцатилетнего возраста, где отмечены и такие грехи, как “ударил кошку”, “валялся на кровати”, кончая теми строками, какие он дал прочесть мне в своем дневнике, о том, что он снова в тупике, в состоянии, близком к отчаянию. Он прибавил тогда, что вся разница между такими состояниями его в молодости и тем, о котором он записал вчера, сводится вот к чему: тогда я считал его безвыходным и начинал думать о самоубийстве. А теперь я знаю, что это закон духовного движения, закон волны – ее ложбинка и ее гребень. Точной редакции не помню, помню мысль и эти образы. И слезы на глазах Толстого, и теплое, доверчивое выражение в них. И его близость. (Он стоял за моим плечом, когда я сидя читала его тетрадь, и, почти обнимая меня, прикрывал рукой те строки, каких не хотел дать мне прочесть.)
Не всем дана возможность работы Господней в соловьевском, в толстовском смысле, но каждый обыкновеннейший человек из своей суетной и эгоистичной жизни может сделать отправную точку к этой работе. Каждый отрезок такой жизни, каждый день и любой час ее – моральной оценкой этой жизни, тоской об иных, непохожих на нее областях, устремлением к ним и таинственным внутренним деланием, которое называется “покаянием”, – отсюда и всю жизнь в конечном итоге можно сделать работой Господней.
Длинно пишу (гриппозная сегодня голова и даже температура). И похоже на какую-то пропись, давно знакомую. Но для меня она вечно нова – по тревожному смыслу, по принудительности.
9 мая. Зубово
Ужасная погода – сырость “пронзительная”. Мрак на небесах, грязь на земле. Грипп.
Хроника истекших дней.
Открытка из Симферополя от М. И. Кореневой, которую все друзья считали умершей. Муж ее за эти два года (зав. музеем в Ялте) умер. Она, слабенькая, плохо приспособленная к жизни, как-то выжила. В открытке: “постоянная мысль о смерти”. Внутреннего убежища нет. И внешняя поддержка в чужом городе случайна, ненадежна. Хотела обрадовать ее вестью, что дочь освобождена (попала в ежовское время в Няндому). Телеграммы в Крым не принимают. Но удалось телеграфировать дочери, что “мать жива” и адрес ее. “Какие тяжелые испытания” (из Наташиных предсмертных фраз).
74 тетрадь 9.6-13.7.1944
1–5 июля
Дни моей жизни проходят бесследно, И больше жить я недостоин. Мендельсон Оратория “Илья-пророк”[696]Ежедневное, с марта месяца начавшееся поджидание путевки в Ховрино[697]. Телефонное обещание, что она будет завтра. Распинающийся перед телефоном бедный профессор Сынопалов, растерявшийся от бесплодности трехмесячных “проталкиваний”; его пояснения, утешения, обетования, извинения и благодарность за терпение. Общий интерес к тому, когда же стрелка путей Мировича передвинется с улицы Немировича-Данченко на Октябрьский вокзал. Уже признаки нетерпения сотрапезников. Леонилла, удрученная перспективой как-то устраивать меня в Снегирях при отсутствии со стороны Аллы какой– нибудь на это ассигновки. Кадриль общей толкотни из столовой в кухню до обеда. Тоска предвечерних и вечерних часов, как всегда летом, если оно вдали от природы. Убегание пешком по бульвару или по Чугунному мосту под разными предлогами (к Ольге, к Затеплинским, в Зубово и к Анне).
11–12 июля. Ховрино
Ехала сюда вчерашним утром, как в застенок (для нервов и для души). Бывает так: без оговорок принимаешь “сужденное”. А что-то в душе твоей отталкивает принятое, и воля не до конца утверждает его. И точно на аркане тебя тащут, а не своей охотой идешь. И, пожалуй, если бы не доброта, с какой Таня (Усова) предложила меня сопровождать, я бы воспользовалась тем, что “некому проводить”, и осталась бы и заговорила бы с Тарасовыми о комнате в Снегирях, которую они на лето обещали мне. Я видела, что улаживать это им трудно и не хочется. Леонилла так наивно и неприкровенно радовалась ховринскому моему устроению, хоть ясно было, до чего мне непереносна мысль о больнице. Проверив за сутки на опыте, что нервы не помирятся с пребыванием – особенно с ночлегом – в палате, в которой есть и умирающие, и неопрятные больные – и все на расстоянии полуметра друг от друга, я решила, что в этой форме Ховрино уже не может быть сужденным, и сказала врачу. Врач, в локонах медового цвета, с блестящими карими глазами, с умело накрашенными губками и в “модельных” туфельках, вдруг прониклась ко мне участием и предложила не выписываться, а поговорить с директором. Но вполне согласилась, что пребывание в больнице для меня не только неполезно, а даже вредно, а санаторий же, по ее мнению, очень нужен. И она тоже поговорит с директором. И хотя я нисколько не прибегала к просьбам, а просто изложила “как все было то, что было” – с заявления, “почему я не в раю” до сих пор, директор пообещал через два дня перевести меня в санаторий. Для меня, конечно, деревня, снегиревские леса и горизонты неизмеримо более желанны, но от санатория не имею права отказаться, имея в виду Аллин кошелек. Наберусь терпения до 15-го числа.
75 тетрадь 17.7-28.8.1944
21 июля. Ховринская больница. Докторский кабинет
10 часов вечера
До слез трогает меня тепло и внимательность отношения нашей палаты к старому Мировичу. Все то, над чем раскатисто хохочет Нина, что кажется “выдумками и баловством” Леонилле и Алле, здесь вызывает только участливое обсуждение, как уладить те или другие болезненно действующие на меня вещи. Они понимают, почему я бегу из палаты, когда появляется няня с “гитарой” для тяжелобольного. Почему при запахах уборной не могу ничего проглотить. Не сплю, когда на меня светит солнце, просыпаюсь, как от трубного звука, когда включат верхний свет, не принимаю явно непромытого, пахнущего потом халата, отвергаю пижаму и не могу ни спать, ни отдыхать, когда вокруг меня перекрещиваются флюиды с десяти кроватей. Как радовались все за меня, когда Роз-Мари устроила меня на ночь в докторском кабинете. И как шумно и горячо приветствовали некоторые из соседок мое решение не уходить вниз, остаться с ними, пока не дадут мне санаторного устроения, чего, теперь уже ясно понимаю, не будет. Вижу такие же палатищи, только еще большая толчея – но парадней, чище, культурней и не так однообразен стол.
25 июля. 11-й час
При жалком желтом полусвете занавешенной густой марлей лампы. Не гасим свет, потому что соночлежницы мои хотят дождаться последних известий по радио. За окном темнота. Прерывистый дождь. Репетиция осенней непогоды. Начались томительные вечера под ярким верхним светом, все время на людях. Много молодежи. Добыли откуда-то гармониста и под его баян пляшут и фокстрот, и вальсы, и польку. Домой бы, в тишину, к своему столу, к своей лампе. Но нет такой лампы, нет на земле такого стола. Нет дома.
26 июля. 8 часов вечера
Столовая, превращенная в концертно-танцевальный зал. Молодежь сбилась в одном углу, у патефона, который ревет истошным голосом фокстроты, чарльстоны, тустепы, танго. Отодвинули столы к стенам, и на освобожденном куске зала лихо вертятся пары. Кавказско-еврейского вида юноши и девушки разных национальностей. Есть миловидные, оживлением напоминающие Наташу Ростову и ее первый бал, подростки – на них приятно смотреть – если бы не так грубо орал патефон.
В окно, перед которым пишу, видно длинную водянисто-желтую поляну под пепельной серой шапкой дождевых туч. Целый день был дождь, но эта негаснущая шафранная желтизна на западе подает надежду на солнце к завтрашнему утру.
Заболели уши, заболела голова от патефонного рева. Перекочевала со своей чернильницей в салон, куда веселье молодежи не доносится. Здесь в углу примостилась компания игроков – каждый вечер тут с глубокомысленными лицами собираются любители “винтить”. На другом конце салона флиртуют несколько не умеющих танцевать девушек с двумя болезненными юношами. Люстры еще не зажигали. На маленький мой стол падает грустный зеленоватый свет дождливых сумерек.
Нет-нет и пронесется тоскливая мысль об Ольге. И не мысль, а желание посидеть рядом с ней. Почувствовать через нее Воронеж, мать, брата Николая. Никогда я не ощущала (моментами) безродности своей на этом свете так остро, как последние месяцы. И это грех. Инертное следствие вкоренившегося предрассудка, что одиночество разбивается только о кровное родство или длительную “дружбу”.
Кто из родных, кроме покойной сестры моей, и кто из существующих ныне друзей моих встречал бы меня так радостно и с такой открытой душой и готовностью слушать и понимать, как 4 женщины из прежней, больничной моей палаты, к которым я прихожу в гости?
И кому из друзей могла бы сегодня я оказаться настолько нужной – и настолько обогреть жизнь, как оперированному старичку, чьего даже имени не знаю. Ему снимали катаракт. Не совсем удачно. Впереди еще одна операция. Он очень подавлен и все бродит один. Я предложила ему почитать что-нибудь. Оказалось, что Лесков, которого я случайно захватила (с боя, как всякая книга в день раздачи), – его любимый писатель. Нашла уютный уголок на антресолях и начала читать ему вслух “Запечатленного ангела”. А сейчас, пока не зажгли люстру и дневной свет обратился в зеленый сумрак, надо подняться наверх к параличной, которая ждет меня каждый день с верой, что мои руки восстановят омертвевшую половину ее тела. Ей лучше – но я нисколько не приписываю это себе. Если и есть тут нечто от меня идущее – это лишь мое появление и мое желание, чтобы она выздоровела. Остальное – ее вера. И воля, и сила – отнюдь не моя.
Конец длинного вечера. В салоне. Странное ощущение. Как будто оборвался с крутой песчаной горы (в Киеве в детстве нарочно свергались иногда с таких гор). Съезжаешь вниз с минутными остановками на каком-нибудь твердом выступе – но он тоже срывается с места, и чем дальше, тем свержение твое все быстрее, все неудержимее. Такой остановкой – и очень важной – было сегодняшнее посещение параличной. Как обнимала она меня той рукой, которая ее слушалась, когда я прижала к себе ее мертвую руку. Она притянула мою голову к своему лицу, и я не знала, уходя, чьи слезы на моем лице – мои или ее. Знаю только, что это было то, что нужно, что нужнее всего было в этот час моей и ее жизни. Я спросила, как ее зовут. Она сказала “Анна”.
30 июля
Свежее, прохладное, солнечное, пахнущее сенокосом утро. (10-й час.)
Однажды – это было в Генуе – лет около 50-ти тому назад – в такое же утро мы шли к палаццо Дориа[698] – я и родственница той миллионерской семьи, где я была гувернанткой, бонной, компаньонкой и как бы даже другом (так они считали). Родственница эта была еще молодая, унизительно несчастная, несмотря на свои миллионы, женщина. Ее выдали замуж через “шатхана” – свата (это до сих пор водится у “знатных” евреев). Муж был анекдотически глуп и безразличен. Лучшего ей не старались подобрать, так как она была некрасивая и нелюбимая дочь. В ее некрасивости было что-то милое, застенчивое и приветливое. Она несла ее и судьбу свою терпеливо и с достоинством. Мне нравилась ее тихость, скромность, отсутствие суетности. Со мной она обращалась, как с равной ей личностью, – линия, с которой нередко сбивались остальные члены семьи – то подымая ее до интимной и даже экзальтированной “дружбы”, то низвергая туда, где я была бонна и притом гоя и “оборванка”. Так аттестовала меня бабка этой семьи, узнав, что сын ее “влюбился” в гувернантку: “Так что же из того, что она красавица? Она же бонна, гоя, оборванка! Это же срам на весь свет!” С этой милой, сухопарой, веснушчатой, по-английски одетой Т. Г. Б.[699], для которой я была просто симпатичной ей спутницей ее лет и с судьбой, тоже нерадостной, мы шли над сияющим, таким же неправдоподобно синим, как и летнее итальянское небо, Генуэзским заливом. Не спеша, покупая по дороге цветы и бананы. Я впивала всеми порами души и тела красоту и свежесть этого утра и наслаждалась отсутствием двух малышей, которых очень любила, но которые стали меня сильно утомлять. И вот тогда, взяв меня под руку, Т. Г. застенчиво сказала:
– А ведь бывают такие утра, когда хочется жить!
25 августа
Заболел Дима. Стоматит. Болезнь, требующая усиленного питания, витаминов – причем процесс еды мучителен. У этого драгоценного мне полуотрока, полуюноши плохая защищенность от страданий – и физических и душевных. Он сдержан, замкнут, совсем не жалуется. Но как-то истаивает в болевом процессе. Когда он проглотил последнюю ложку протертого гороху, отодвинул тарелку и лег на спину, уйдя головой в подушку, закрыл глаза и руки протянул вдоль тела, он напомнил мне плащаницу. Такое свойство уходить в свою боль и сразу иметь в ней распятый, замученный вид было у его отца. В годы нашей неразрывной душевной связанности довольно было с моей стороны какого-нибудь резкого слова или неласкового взгляда, чтобы он через пять минут имел такой вид, какой сегодня был у Димы после страдальческого глотания гороху.
Сон. (?) Не знаю, можно ли назвать это сном. Скорей это джемсовское “присутствие”, соединившееся с зрительной и осязательной галлюцинацией. (Тут я поняла всю неуместность и даже кощунственность этого психиатрического термина там, где речь идет о встрече с Наташей.) На рассвете, когда в нашей занавешенной комнате так темно, что не отличишь одного лица от другого, кто-то легко раза три дотронулся до моего плеча, как это делают, когда будят очень осторожно. Я подумала, что это Нина. И спросила, открывши глаза: “Что ты, Нина?” – И услышала ответ: “Это я”. И увидела Наташу, окутанную во что-то легкое, дымчато-серое, похожее на облако. Лицо же было очень светлое, озаренное ее чудесной улыбкой. И на целый день хватило благодарного и освежающего душу впечатления этой встречи. И то местечко на плече, где коснулась ее пробуждающая меня рука, до сих пор хранит как бы печать ее прикосновения.
76 тетрадь 29.8-17.9.1944
1 сентября. Тарасовская квартира
Небо точно в перьях голубиных, В сизых неподвижных облаках Мирович (томилинского года)Сейчас спросила себя, зачем нужно мне отмечать место, где я пишу, кусочек природы, какой я вижу из окна, а в последнее время – еще эпиграфы. Вероятно, это попытки зашифровать (конечно, только для себя) весь комплекс того мгновения, в какое берешься за тетрадь. Перечитывая эти строки, в соответствующем комплексе вдруг оживляешь все содержание зафиксированного в двух-трех аспектах жизненного потока, который несет тебя через преходящее к вечному.
Как ангелы-хранители, перенесли в эти дни мою ослабевшую душу через “огненную реку” искусительного стремления к небытию три человека: Ольга – тем, что изо дня в день встречала мою мрачную фигуру с распростертыми объятиями. Таня (Усова) – вместе с ее матерью, окружившие мой ночлег у них таким теплом, такой детальной заботливостью, которая напомнила мне далекие годы моих приездов в Воронеж, в материнский дом, где мать не давала мне самой постелить мою постель и крестила мою подушку и ставила на ночь сифон с содовой водой. И наливала чернила в чернильницу (“Вава любит содовую воду”, “Вава любит по ночам писать”, “Вава любит, чтобы подушки были высоко”). Впервые за много ночей последнего времени в эту ночь под усовским кровом я засыпала вне власти беса, заведующего жилплощадными мыслями и чувствами. Третий мой ангел-хранитель над огненным потоком этих дней была Е. П. Калмыкова, которая “проплакала” весь день, получивши письмо о том, что я закончу мои дни в инвалидном доме. При свидании она согласилась со мной, что это будет для меня лучше, чем насильственное, то есть через силу для Тарасовых, водворение мое в их быт, за ширмы их столовой. Но слезы ее упали целебным бальзамом на места, обожженные морозом междупланетных пространств. А на одном из хрупких мостков через огненный поток Юра (Тарасов), которого я попросила приехать по поводу все той же гнусной жилплощади, протянул мне руку, и я крепко оперлась на нее и благополучно перешла через мосток. И он снял с меня непосильное бремя переговоров с Аллой.
3 сентября. 11 часов вечера. Детская комната
Прилетела Алла. С фронта. Какое огромное обаяние у этой женщины! Стоит ей выйти из круга “невидения, забвения и окаменелого нечувствия”, снять с себя ледяную броню – все те, кто был подморожен, задет, обращен в камень ее отношением, уже забывают все от нее перенесенное и в розовой улыбке “младой, с перстами пурпурными Эос” причащаются ее олимпийской юности. Я не знаю ни одной женщины, которая в 46 лет так дышала бы свежестью, чистотой и простотой, свойственными только первой, нетронутой, полураспустившейся юности. Двадцатисемилетняя племянница ее, Галина, в такие часы кажется ее теткой по возрасту, ее очень старшей наперсницей – дуэньей.
С облегченным сердцем я взяла назад где-то записанную об Алле мысль, что для ее духовного роста ей полезнее были бы серьезные испытания, чем “дороги цветов”. От 20-ти дней счастья с “милым рая в шалаше” (или в палатке) она так посвежела, похорошела внешне и внутренно, так потеплела ко всем домочадцам – в том числе и к Мировичу, что ясно стало для него, что он ошибался здесь в своем диагнозе, в прогнозе и в лечении.
15–16 сентября
Невольно вспоминаются здесь, с тех пор, как настали холода, те непреодолимо суровые изгнаннические края, где окончилась подвижническая жизнь Михаила. Те повседневные лишения – огня, воды, хлеба, света (если не считать коптилок), примитивных удобств, такая ночь, когда пришлось спать, не раздеваясь и от холода укрывшись матрацем; дым, который ест глаза и дурманит голову, все время, пока топишь полуразвалившуюся плиту; отсутствие сил и прав изменить это состояние (потому что старость – “лишение всех прав и состояния и ссылка на пожизненную каторгу”, как вырвалось о ней с горьким юмором однажды у Льва Шестова) – все это, вместе взятое, представляет собой – о, я это слишком помню – лишь слабое и бледное отражение того, что прошло за последний год жизни Михаила. И знаю, что лишения, которые он не мог перенести, от которых умер, были в сто крат тяжелее и страшны своей безысходностью, но в меру слабых моих сил эти условия, в каких я здесь существую, недаром напоминают мне те края, где 6 лет тому назад изнемогал и вконец изнемог спутник (12 лет сопутничества в высшем смысле слова – дальше уже потускневшего и снизившегося). Думаю, что этот сентябрь оттого и дан мне в таком колорите, в таких – моментами – суровых непреодолимостях, чтобы я могла внутренно воспроизвести в себе священномученический отрывок пути бывшего сопутника. Когда-то мы верили, что путь наш неразрываемо един. Это оказалось преувеличением неопытных сердец. Но сопутничество тех лет, когда оно шло на мученической глубине обеих душ, наложило свои обязательства навсегда.
17 сентября. 1 час дня
Солнце выглядывает украдкой из тяжелых облаков синевато-серо-перламутрового цвета. По-осеннему холодно. От сильного ветра высокие березы над забором машут во все стороны тонкими ветвями. На длинном гребне Жевневского холма какие-то военные приспособления вроде ветряных мельниц вращаются с бешеной энергией.
Сегодняшняя ночь и сон, и промежутки томительного бдения – посвящены Тебе, последнему дню Твоей жизни, мой бедный Друг, которого жалеть я не смею, хотя сердце у меня захлебнулось непролитыми слезами о Тебе.
Во сне Ты не раз подходил ко мне, в Твоем юношеском облике и в тех из последующих лет, когда душа Твоя горела такой великой, такой трагической и возвышенной любовью. Ты что-то говорил мне волнующе важное, куда-то звал меня, о чем-то расспрашивал. Но дневная память не сохранила ничего из сказанного Тобой. Остался только, как всегда от таких снов, какой-то иероглиф в сознании, который будет разгадан в сужденный срок. Важно, что мы были сегодня в тесном общении, после которого я могу заглянуть в Твой последний час на этом свете.
…Скрипнула дверь. Тебе не хватало воздуху – в бараке было душно и смрадно, и Ты попытался выйти на воздух.
– Куда ты, куда тебя несет? – закричал дремавший у дверей караульный. – По нужде, что ли?
Ты ничего не ответил и, шатаясь, перешагнул через порог, голова у тебя туманилась от жара. Сердце билось быстро-прерывисто.
– А двери почему такое не затворяешь? Лето, что ли, приснилось? – сердито отозвался часовой.
Ты с трудом притворил дверь. Рука Твоя ослабела и плохо слушалась Тебя. И если бы Ты не прислонился к дощатым перилам лесенки, ведущей в барак, Ты бы упал от слабости. Последний перегон пешком, голодовка, грипп, осложнившийся на сердце, и все, что пережито было Тобою за этот страшный ежовский год, приблизили Тебя к выходу на свободу, который иначе отсрочился бы на девять лет. Была звездная ночь с начинающимися крепкими заморозками. Ты поднял глаза к черному небу, сверкающему мириадами светил. И Ты увидел, что каждое из них смотрит на Тебя с трепетной любовью – и чего-то ждет и радуется на Тебя.
И были среди них две близкие одна к другой голубоватые звезды, напоминавшие ангелический взор Наташиных очей.
– Вы, звезды, – сказал Ты громко, как возглашал на литургии “Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся. – Вы, духи Престолов, Господствий, Начал, Сил и Власти, пролейте на нее и на детей наших мою любовь, умноженную на вашу, и вашу любовь, умноженную на мою, да познают истину о душах человеческих, вверивших свою волю Воле создавшего их, как и Вас, Престолы Господствия, Начала, Силы и Власти: как в мире звездном, все в судьбах человеческих. Все будет, как нужно. Все бывает в свой срок. Все – хорошо – добро-зело.
– Что он там бормочет? – с досадой проворчал задремавший было караульный, отворяя дверь. – Иди, что ли, в барак. И так еле дышишь. Застудишься.
Но тут он увидел, что больной оседает на месте, склоняясь всем телом на перила крыльца.
– Эге-ге, да ты, батя, помирать, как видно, задумал. Эй вы, шпана! – крикнул он во всю мочь. – Кто там не спит, помогите батю в барак снести. – Сию минуту, чичас, – отозвался угрюмый пожилой арестант, осужденный за убийство и поджог.
Он привязался еще в тюрьме к добродушно-шутливому, участливому ко всем, кроткому попу, от улыбки которого становилось теплее и легче жить. И у него захолонуло сердце от мысли, что он уже не увидит ни его улыбки, ни этих глаз, какие только на иконе Спасителя в детстве он видел, когда водили в церковь говеть. “Ничего, ничего, батюшка, Бог милостив”, – говорил он, помогая караульному тащить безжизненно обвисшее тело в угол нар, где было его место. Когда его положили, караульный потрогал его руку, голову и сурово сказал арестанту: “Беги, Прохор, за дежурным фельдшером. Кажется, твой батя помёр”. Арестант всхлипнул по-детски и рысью кинулся в медицинский барак. Когда заспанный фельдшер пришел со стетоскопом, с лампочкой и куском зеркала, которое подносил к губам умирающих арестантов, он недолго провозился возле Тебя. “Волею Божьей помре, – важно сказал он. – А жалко, видать, хороший был человек, хоть и поп”.
77 тетрадь 18.9–1.11.1944
22 сентября
На эдемской террасе Денисьевны.
Пригласили к обеду Марию Виссарионовну, одну из бывших наших домохозяек в сергиевские дни. С тех пор как умерла ее бабушка (у которой она воспитывалась), она тридцать лет не обедает, то есть живет без горячей пищи. Исключением был год, когда при жизни матери мы у нее квартировали и в счет квартиры – за 5 рублей в месяц делились с ней нашим незатейливым варевом. Идея приглашения ее к обеду возникла у нас с Денисьевной от воспоминаний, как за 2–3 часа до кончины мать озабоченно спрашивала Денисьевну: а Марию Виссарионовну не забыли покормить? (я в это время была в Москве). Мария Виссарионовна пришла с торжественно праздничным видом, переодевшись в черное суконное платье и крепкие “модельные” туфли. Голову окутала – она всегда кутается, даже в июльскую жару – в черный шелковый платок. Война отрезала от нее отца (он – профессор в Дерпте). Теперь ее спасает от голода и дает возможность купить дров, чтобы не замерзнуть, “барахолка”. Так называют на местном жаргоне ту часть рынка, где безданно-беспошлинно население продает всякий хлам (барахло). Там поэтесса проводит три раза в неделю, в рыночные дни по нескольку часов, торгуя поясами, галстуками, воротничками, детскими фартуками, сшитыми из остатков полуистлевшего обширного бабушкиного гардероба. Меняет на хлеб, на молоко, на какой-нибудь картофельный блин.
24 сентября Навьи тропы
Одна – к домику, в котором жили Михаил и Наташа. Теперь он пуст и оброс кругом высоким шиповником. Сорные травы раскустились по всему двору. На этой тропинке меня поджидает Наташа с ее светозарной улыбкой, Михаил в скуфье и черной ряске. Когда четырехлетний Сережа увидел его впервые в этом наряде, он пророчески сказал со слезами в голосе: “Теперь у меня не будет папы”. (Он подумал, вероятно, что папа превратился в женщину.) По этой тропе не раз проходили друзья Михаила, чьи останки, как и его, покоятся где-то за Уралом в безвестных могилах. Из этих ворот выходили тогда и замерзшие во флигельке этого дома во время войны брат и сестра, истощенные голодом до того, что, когда хоронили их, по словам соседа, были оба “легкие, как птички, – тела на костях нисколько нет, и косточки иссохли…”.
Мир вам, безвестные, безобидные, безответные мученики Истории, невинные жертвы безумия, охватившего планету, на которой вы пришли в мир. Горестны, таинственны и важны в путях вселенной ваши судьбы, не менее, чем судьбы героев, вождей, мучеников, исповедников и гениев человечества.
29 сентября. 2-й час ночи. В доме Аллы
И утро, и день, и ночь эта насыщены излучением братской любви, очищенной от мусора эгоистических придатков, действенной и благотворно пролившейся в душу мою и в жизнь, в общие с Аллой пути. Утро у Е. П. (Калмыковой), чье сестрински горячее чувство согрело меня и укрепило во мне надежду на выход из тупика. День – Ваганьковское кладбище. Могила Ирисовой матери (40-й день ее кончины). Почувствовала душу ее в образе шестилетней девочки в белом причастном платье. Вечером разговор с Аллой (ею начатый): “не нужно больше недоговоренностей”. Перехожу за ширмы, как на мою жилплощадь. Проведут мне штепсель, поставят стол, сделают полку для книг и тетрадей. В разговоре обе стороны стремились уладить все частности, вникая в интересы друг друга больше, чем в свои. Обнялись в заключение – что высшая редкость в наших отношениях с Аллой. Иду спать. Слава в вышних Богу, на земле мир и в человецех благоволение.
2 октября. Москва
Давно не испытанное чувство “своего угла”. По новой тарасовской конституции уже признанного моим, уже по праву, а не из милости (было такое освещение прошлой зимой). И как это бывало в детстве, когда облекался в новое платье или в башмаки, – и радость новизны, ощущение обновленности, и неловкость от настороженного внимания, как бы не испачкать, не разорвать, не запылить чистоту одеяния. И опытное знание, что это неизбежно случится. Детская молитва: сохрани, Господи, незапятнанной эту мою обнову…
11 октября. 1-й час. Звездная ночь. В своем углу
Пока в моем апартаменте допивали чай и разговаривали о посещении Аллой Черчилля, довольно долго пробыла во дворе под звездами. Так, по рассказам матери, отец мой еще до моего рождения любил долго сидеть по ночам на балконе – особенно под звездным небом, а летом в грозу. Матери были чужды такие созерцательные настроения. “Спросишь его, бывало: и тебе не скучно? Битых два часа один, в темноте! А он ответит: какая же скука? Ведь недаром царь Давид сказал: Небеса поведают славу Божию”. Надо будет сделать обычаем в звездные и вообще в бездождные ночи ходить по двору, пока не разойдутся из столовой (часть ее – моя спальня) все домочадцы с Аллой во главе.
13 октября. Ночь. Вероятно, около часу
По заведенному Леониллой обычаю до сна еще часа 1½, а то и два. Шумит в голове мозельвейн (Алеша уговорил выпить пол второй рюмки в добавление к ¾-м первой). Вино для меня – соблазн. Сказываются предки-кутилы – графы Орловы по материнской линии и родной дедушка – страдавший запоем дегустатор, тоже сын какого-то титулованного помещика и крестьянки. Если бы не было непосредственного вреда для головы (всю жизнь) от вина, я бы, верно, сделалась пьяницей. А впрочем, я, может быть, и клевещу на себя. И говорит во мне в этом случае больше мозельвейн, чем Я с большой буквы. Между прочим, от портвейна, от шампанского (всегда от одной рюмки) какое-то другое, головокружительное и горячительное опьянение, чем от этого белого легкого, ароматного вина: слегка повышенный тонус восприятий – постель, лампа, умиляет Аничкина фотография, шум волн в склерозной голове приятен, как гул прибоя.
Мучительное сознание, что Ирис со своим Николкой скитается без пристанища. Какое бездушное отношение, какая, по существу, нелепость, что ей отказывают в прописке. И какое еще более мучительное равнодушием своим отношение к этим скитаниям тех “друзей”, у которых есть лишняя комната или свободная постель и к которым нечего и думать постучаться в дверь для ночлега.
18 октября. 12-й час. Под кровом Анны
Чудный осенний день. Голубое, посеребренное мелкими подвижными облачками небо. Кроткое, задумчивое, чуть затуманенное солнце. Все листья на деревьях бульваров отлетели.
Путь от Тверской до Остоженки (не хочется называть их новыми, такими неудачными именами). Я понимаю еще: “Площадь революции” или ул. Коминтерна – часть целой эпохи. Но, вообще говоря, новыми именами следовало бы называть вновь проложенные в городе улицы, вновь строящиеся города, а не обесцвечивать историю, лишая ее Петербурга (имя Ленина достойно нового, в память его основанного города).
Вышла в том настроении, когда не могу перестать мысленно зарисовывать встречных прохожих, здания, перспективы и повороты улиц. В проходном дворе против нашего дома полукругом, опираясь на лопаты, стоят чернорабочие, землекопы, пожилой народ, а какие бодрые, мужественные лица. Перед ними, что-то им объясняя (верно, в обширном дворе, уже обращаемом в сквер, будут насаждать деревья), жестикулирует плутовато и не чернорабочего вида – еврей-распорядитель. Вспомнила вчерашнее письмо “сестры Людмилы”, где она описывает, как вели на расстрел немцы в морозный день полураздетых матросов, которые пели про войну, про победу – их били прикладами ружей, но они замолчали лишь тогда, когда один за другим упали под ружейными залпами.
И вспомнились слова одного умного молоденького прокурора: “Среди моих дел ни одного о рабочем. И целая гора о растратчиках, заведующих и замзавах, о распорядителях, распределителях и т. п. Чуть оторвется человек от физического труда, чуть пододвинется к деньгам или к продуктам, не может удержаться, чтобы не воровать”.
Дальше – бегущие на службу молодые женщины, изуродованные головными уборами – береты в виде куриных хохолков, надвинутые на линию носа, береты, лихо вздернутые кверху, донкихотски, шлем Мамбрина[700], целые жбаны на голове, нелепые громоздкие тюрбаны, кокошники (фетровые!), шапочки с зачатками рогов или торчащими вверх кошачьими ушами. И у всех накрашены губы, пробриты брови – так, чтобы оставалась только тоненькая линия их верхнего края, а ресницы густо наваксены и кукольно отогнуты кверху. Невольно приходит на ум гамлетовское: “Бог дает вам лицо, а вы делаете себе другое” (не нужно прибавлять шутовски-претенциозное, вызывающее в памяти другое шекспировское восклицание: О, женщины! Ничтожество вам имя).
На почте у оконца с марками очередь коллекционеров – больше подростки, но есть и солидные люди, и женщины. Появились ярко-зеленые и мрачно-коричневые изображения Чапаева, Щорса. Небесно-голубые 20-копеечные марки, густо-розовые пятикопеечные – шофер с очками, сдвинутыми на лоб. Во мне отсутствует коллекционерская страсть, но сопережить ее с теми, кто ею охвачен, мне легко, как и всякое состояние страсти. Так, в свое время я не ленилась выстаивать длинную очередь в главном почтамте за новыми марками, потому что ими увлекался Сергей.
А затем пошли навьи тропы: бывший Ваганьковский, Ленинская библиотека (бывший Румянцевский музей), ул. Фрунзе (прежде Знаменка и на ней Александровское училище (военное). В этих краях жили две престарелые красавицы – Варвара Андреевна и Мария Андреевна. Из разоренной дворянской фамилии авантюристически дошедшие до demi-топd’а[701], не сумевшие к старости составить никакого состояния, расточительные, добрые, каким-то чудом спасающиеся от голода и пригревавшие молодых филармоничек и студиек (жили главным образом на то, что сдавали комнаты со столом). В Румянцевском музее любила заниматься покойная сестра Настя. И я одно лето ходила туда читать с подстрочником по-итальянски дантовские Ад, Чистилище и Рай… (Это было 45 лет тому назад.) С этой навьей тропы я повернула на ул. Фрунзе с досадой, зачем переименовали ее в такое не идущее к Москве слово из старинно-уютного московского названия – Знаменка. На этой, ныне Фрунзенской, ул. было Александровское военное училище, куда в годы мировой войны был закинут мой брат Николай, оторванный (как теперь Сергей от возлюбленной геологии) от блестящей перспективы ехать в Рим после дипломной работы на латинском языке (он знал 7 языков, не считая разных диалектов). И лежала перед ним уже вместо Рима навья тропа (он погиб под Воронежем во время мамонтовского набега). На углу Пречистенского – теперь Гоголевского – бульвара сидел сгорбившийся и уткнувшийся – не носом, а клювом в землю, в земляное, в страшное царство Вия похожий на больную птицу – Гоголь. Возле него между ассирийскими бронзовыми львами беспечно копошились трех-четырехлетние дети. И еще я видела на бульваре женщину с орлиным профилем, в полной военной обмундировке, с 4-мя ромбами на эполетах, с полуседыми, стриженными в скобку волосами. Лицо ее, поза, с какой она курила, заложив ногу на ногу, глаза, сосредоточенно-мрачно глядевшие куда-то далеко – может быть, на фронт, а может быть, и в “страну безвестную, откуда не возвращался ни один путник”, все было так значительно и так просилось на полотно, что я невольно загляделась на нее, опустившись на ту же скамью, где она сидела. Вдруг она обернулась и спросила: “Что вам?” – “Вы, верно, только что с фронта?” – робко спросила я, с невольным почтением и с тепло прихлынувшим участием. Она стряхнула пепел с папиросы и, презрительно смерив меня боковым взглядом, сказала резко: “Оставьте меня”. – “Странно, что вы со мной так говорите”, – проговорила я в раздумье, подымаясь с места, чтобы уйти. Она повернула ко мне лицо, и в глазах ее я прочитала смерть. Свою ли, на которую она решилась, или ту, многоликую, за которую получила 4 ромба, или ту, которая вырвала из ее жизни того, кто был дороже самой жизни. И, обменявшись со мной взглядом, она поняла, что я прочла в ее глазах. Она грозно нахмурилась и без ледяного презрения, а скорее просительно, как бы вынужденная просить пощады, голосом, в котором прозвучало отчаяние, глухо повторила, опустив ресницы: “Оставьте меня”.
21 октября. 12 часов ночи. За ширмой
Судьба нередко ставила меня в положение арбитра между людьми более или менее мне близкими. Это болезненная – как душевный процесс – и трудная по своей моральной ответственности роль. На этот раз я почувствовала большое облегчение, что “вина” Даниила по отношению к Татьяне совсем не так велика, как ей (и мне) казалось. Вся вина сводится к тому, что “сбился с тона” – не тем голосом сказал то, что имел право сказать. А сбился потому, что был переутомлен фронтом и ошеломлен нахлынувшим чувством к женщине, которая давно влекла его и красотой, и своей унисонностью в вопросах искусства, и влюбленностью в его личность и творчество.
25 октября. 11-й час вечера
Тишина и простор: Алла и Леонилла у Нины. Она очень больна. По-видимому, рецидив канцера. Отрадное в этом неожиданное для меня мужество и душевное сосредоточение Нины. Как это было, начиная с самой ранней юности, меня тянет к людям, к которым так близка великая загадка, называемая смертью. Тянет и их ко мне.
Малознакомая молодая женщина (дачное соседство) перед концом (она умирала от туберкулеза) попросила меня – лет 6 или 7 тому назад – навестить ее. И когда я вошла в комнату, где она лежала, спросила с детским доверием: – Как по-вашему, страшно умирать? – И прибавила: – Поговорите со мной о смерти.
От этого разговора нам обеим тогда стало легко и светло на душе.
Но не всегда так бывало. Однажды, еще в молодости – было мне 2425, – я вошла к умирающей старушке Асафье Антоновне, матери моих приятельниц Маши и Полины Урвачевых… и она испугалась меня, точно скелет с косой вошел. И с большим усилием, нехотя, расстроенно вздыхая и морщась, слушала Евангелие, которое я предложила ей прочесть (“Я воскресение и жизнь. Верующий в меня если и умрет, будет жив” и т. д.).
Вчера я вспомнила об этом, когда прочла в биографии Сурикова, как он встретил Толстого, приходившего к его жене, неизлечимо больной и близкой к смерти, – говорить “о Боге, о смерти, о душе и духе”. “Уходи, злой старик, – закричал он с верхней площадки, когда Толстой показался – уже в третий раз – внизу лестницы. – Уходи, и чтобы ноги твоей больше у нас не было”.
Нина приглашала меня. И есть у меня для нее набросок о жизни и кончине Наташи. Я думаю, что ей это будет внутренно по дороге. Но не удивлюсь, если Галина встретит или проводит меня по-суриковски.
31 октября
Ходила – напрягши все останки энергии – три раза к Павлович[702]. Искать через нее “труда и хлеба” (переводов и энэровского пайка[703]). Она была добра и приветлива. Но остался какой-то комичный и жалкий оттенок появления собственной фигуры на ее пороге. У нас с ней были три-четыре разговорных встречи. Она рассказывала о себе много и охотно. Но близости не создалось, и мы обе к ней не стремились. Комизм сегодняшней встречи в том, что я вошла как близкий человек. Не знаю, почему. Возможно, что меня подкупило и заинтересовало то, что она живет, по-видимому, бедно, несмотря на ее госиздатский пост, пайки, литературные заработки и т. п. И еще заранее я слыхала, как охотно она идет навстречу всем прибегающим к ее заступничеству. Поэтессу Мочалову, бесправную, как и я, провела в группком, создала возможность рецензентской работы, выхлопотала “венец, достойный желаний жарких” – энэровский паек.
78 тетрадь 3.11.31-12.1944
3 ноября. Москва
Нет более растяжимого понятия, чем глагол “любить” (особенно на русском языке). Любят гречневую кашу, такой-то сорт колбасы, любят кататься на коньках, любят симфонии Шостаковича, стихотворения того или другого поэта, театр или цирк… Любят родину, красоту, правду. Любят невесту, жену, ребенка, друга. И когда этот глагол прилагается к чувствам нашим по отношению к человеку – он выражает нечто до того в каждом случае индивидуальное, до того многогранное и переливчатое из момента в момент, что для ознакомления с ним читателя иному романисту приходится исписать несколько дестей бумаги.
Но все же попытаюсь для выяснения этого слова, так часто мелькающего в человеческом обиходе, размежевать его на несколько категорий.
Я оставлю в стороне Тристана и Изольду, Ромео и Джульетту, достоевскую Грушеньку с Митей (“грянула гроза, ударила чума, цикл времен завершился”). Не затрону грозового царства страстей пола и Дон Кихота с Дульцинеей. И Левина с Кити оставлю в покое. Пройду и мимо Данте и Беатриче, и мимо тех альковов, которыми заведует гений рода или мопассановская героиня и карамазовское “сладострастное насекомое”.
Я исхожу из письма сестры Людмилы, где она второй уже раз пишет, как она рада и как благодарна Алле за то, что “она любит меня”.
Вот тут я и натолкнулась на необходимость разобраться в том, что люди вкладывают в это – такое солнечное, такое высокое и такое ответственное слово. Беру его в приложении к Мировичу оттого, что ближе всего и полнее всего чувствую и постигаю точки его приложения в данном случае.
О том, что такое любовь – вне области пола, в ее обиходном, связующем и греющем человеческую жизнь значении, думается, каждый знает интуитивно. Только ее не надо смешивать с ходячей монетой благожелательности, человечности, приязни. Любовь, о которой я говорю, неразменный фонд. В отношениях между людьми пускаются в ход только проценты с нее и сопутствующая в днях, в каждом часе дня подсознательная уверенность, что фонд помещен в надежном, крепко и свято охраняемом месте.
Любовь, о которой я сейчас думаю, близка к понятию дружбы – но не всегда с ней сливается. Не может быть речи о дружбе между мной и безграмотной Денисьевной – но нет лучшего примера для иллюстрации отношений любви, как ее чувство ко мне и мой на него ответ. У меня другой комплекс, другие оттенки, но есть четыре признака одинаковых, по которым можно установить, что любовь здесь взаимна.
Вслушиваюсь, вглядываюсь в область, из которой черпаю свои мысли. И вижу там пространство, освещенное, как весенним солнцем, радостной улыбкой. Да, Радость. Вот он, первый признак – луч “звездного Эроса”. Когда люди разных возрастов, вкусов, привычек, темпераментов, разного уровня развития, но любящие друг друга слишком трутся друг о друга в тесных бытовых условиях, их чувство меркнет в чаду быта и фальшиво дребезжит от вибрации невыносливых нервов. Но довольно им попасть в более сносные условия или пространственно раздвинуться, как радость встреч не замедлит их удостоверить, что фонд их цел и невредим. Задерживались в обиходе – порой и надолго – только проценты. Таков характерный случай нашего прошлогоднего сожительства с Анной. Но и в эти трудные для нас обеих семь месяцев не переставал звучать второй признак – обоюдное вникание в то, как живется другу, и отсюда удвоенная трудность переносить сложившийся обиход.
Итак – вторым признаком слова “любить”, если оно заслуживает этого определения, является мимовольное внимание, неотрывное ощущение – каково живется другому. И неослабевающий к этому интерес. При сознании, что живется плохо именно из-за твоего присутствия, – болезненное ощущение обидной неестественности этого факта – но рядом с ним понимание, что Друг в этом нисколько не виноват. И фонды наши целы – только перестали отчисляться нам проценты. Временно: вот тут-то и появляется на сцену третий признак: глубинное сознание прочности, неизменности по существу отношения к тому, кого любишь. Потому что любишь в нем не доброго знакомого, приятеля, родственника, а данную, неповторимую Личность, сокровенное человеческое Лицо, однажды (или постепенно) принятое Тобою в ту степень близости, когда его радость повышает твое мироощущение в сторону радости, а горе его омрачает твою жизнь почти как свое. В последние строки, пожалуй, проскользнул и четвертый признак – расширения чувства своей жизни до постоянного сопереживания жизни любимых.
К этому нужно прибавить – следствие этого же признака – живое, действенное желание реально, а не только в душе, быть на страже материальных и духовных нужд Друга и жизненно реализовать эту свою дружескую потребность. Самая реализация, ее степень, ее возможность и невозможность тут не в счет. Слишком много вокруг нее преград, иногда не устранимых – недостаток сил, времени, материальных средств, собственные бытовые условия и т. д. Потенция реализации тут заменяет самый факт ее – как в наших отношениях с Ольгой, как в моем отношении в данный период к детям. Люблю их самой настоящей любовью – и радостью встреч, и вниканием в их жизнь, и сопереживанием всего, чем они живут, и сознанием глубинности и важности для себя моей к ним близости. При полной невозможности вносить в их жизнь какую-то реальную помощь, облегчение их нужд, ответ на их духовные и эстетические потребы (если не считать посещений раз-два в год Художественного театра). Но потенция моя в этой области, при всей крохотной ее осуществимости, велика и настоятельна. Как и потенция Ольги подкормить меня в прошлом, голодном моем году. Если потребность реализации совсем выпадает из комплекса, называемого любовью, – это признак заболевания чувства или временного анабиоза его. Если она совсем из него выпадает – это аномалия – безногая лошадь, бескрылая птица. Или же свидетельство о бедности.
И есть еще Любовь – опека, материнское чувство. У меня оно бывало (и есть) лишь к духовной области моих “детей”.
Ко мне оно было у Добровых Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны много лет, до самого конца их жизни. Было (и посильно есть сейчас) у Анны, у Н. С. Бутовой, у покойных памяти Михаила и Наташи, у “сестры Людмилы”, сейчас – у Т. В. Усовой. Была, несомненно (а за нее низкий поклон), такая любовь-опека у Леониллы к худо приспособленному для жизни другу юности. Была и прошла. Заменилась волею судеб безрадостной опекой без любви. Была и со стороны Аллы и любовь-идеализация, и теплое (!) участие, и потребность выявить его действенно, желание облегчить мою жизнь. Была и радость (взаимная) встреч, когда я не жила у них, встреч, где был нужен мой душевный опыт, моральная поддержка и понимание, и вера в ее чистоту, в ее творческий путь и косвенное участие в нем. Все это исказила, затемнила, изуродовала до неузнаваемости жилплощадь. Быт, бытовая зависимость, “приживательский ранг”. И старость со всеми ее печальными атрибутами. В результате Алла не может, не в ее это натуре, любить меня. Она меня терпит, и это уже для нее много.
7 ноября
Ночлег под кровом Усовых. В моем будуаре (он же на 3/4 столовая) праздничное пиршество молодежи, ужин “на 20 кувертов”. За мной в 8 часов прибежала, прилетела на крыльях раскаленной преданности Таня Усова. Фрейд непременно отыскал бы в градусах и темных ее отношениях “перенос” с Даниила, после разрыва с ним, на меня комплекса чувств, лишившихся привычного приложения их. Особенно доказательным такой перенос показался бы Фрейду после Таниного сна, где я ее спросила: “неужели она не знает, что Даниил мой сын?” Мне это было почему-то особенно приятно и очень важно. Я как будто и удивилась, но стала припоминать, что “уже догадывалась об этом” (Танины слова).
От 8 до 11 – три часа, неумолчно разбирали втроем – Таня, ее мать[704], я состав преступления Даниила. Обе думают, что “ему надо на коленях просить у них прощения” и за факт “измены” (это мысль матери), и за недружественную, небрежную, безответственно легкомысленную всю линию поведения с Таней начиная с весны. Мать больше потрясена этим событием. У нее поднялась температура – и растерянный вид человека, на которого свалилась скала и так его искалечила, что он лишен возможности выползти из-под нее и идти дальше. Был у меня около 30 лет тому назад такой момент – “Остеклевшим взором из-под камня рухнувшей скалы на свет гляжу и на всем, что было жизнь недавно, – знак иного царства нахожу”…[705] Такой мертвенный “остеклевший взор” появился у Таниной матери после того, как Даниил отошел от нее и от Тани. Но можно ли Даниилу считать себя ее убийцей, если она умрет в этом крушении своих надежды, веры и любви? Виноват ли Даниил, что олицетворял для нее Монсальват? Скорей, это ее вина, теперь его образ гнусной и страшной – бесовской харей, она потеряла доверие к Монсальвату (“он – обманщик и Монсальват его «обман»). Это мне знакомо (“Безрадостны вечности дали. А прошлое стало, как сон, где строила Горний Сион (он же Монсальват), где арфы Давида звучали”. Строчки, вызванные “изменой” Михаила, и еще: и трубный глас гремит из вечности и разверзлася земля. А происходит здесь то, что понимаешь потом, через годы и годы: измеряя лотом своих мук глубину свою (на это понадобилась “измена”), душа из ультраженской становится отнюдь не мужской! – а человеческой. Судя по силе, смелости и решительности самопреодоления – даже иерархически несколько больше, чем человеческой.
Таня, преодолевая боль своей очень глубокой раны, еще не вполне понимает, что это работа скульптора над своей формой, “чтоб мрамор начал жить в рождении втором”. С радостью вижу, что на лице у Тани нет печати разоренности, напротив – мужественное преодоление боли и даже торжество освобождения от цепей – нечто напоминающее микеланджеловского “Раба”. И когда мать произносит: “Неужели он не понимает, какое ужасное зло он нам принес”, – я все же чувствую, что для Тани отход Даниила не зло, а добро и необходимое условие ее духовного роста.
21 ноября
Позднее утро. Вьюга. Непреодолимая слабость (“старческое угасание”). Не знаю, жива ли Екатерина Васильевна, и с удивлением не нахожу стимула преодолеть слабость и вьюгу и добраться до Сивцева Вражка.
Нельзя заранее предвидеть, что пройдет через душу мою, “какое оружие” – если сейчас позвонят мне по телефону, что Екатерина Васильевна скончалась, но в течение этих двух суток я жду звонка не как горестного, а как торжественного за Друга моего – радостного известия. Томление предсмертных часов, когда они уже превратились в дни и ночи, как у нее, – великое испытание для каждой души. И я поняла, что в нем человеку лучше быть наедине со своей душой, быть во святая святых ее при встрече с Тайной смерти. Об этом мне сказало безмолвное, долгое пожатие руки сестры Екатерины, каким она простилась со мной и как бы отпускала меня от себя в мир, откуда раздались для нее такие чуждые ей мои слова: “Не уходите. Побудьте еще с нами”. На них она ответила укоризненным, строгим взглядом. И когда я еще какое-то время оставалась с ней и она открыла глаза и вдруг увидела меня, во взгляде ее была удаленность и недоумение. Вопрос, почему же я здесь, когда она со мной простилась. Из окружающих ей нужна была только близкая ей по сердцу, а не духовно племянница, к уходу которой она привыкла. И нужна ей была на этом отрезке ее земного пути от людей только их физическая помощь – подогреть кофе, передать чайник, из которого она утоляла свою предсмертную жажду, поправить постель. И больше ничего. В эти минуты, как на прежде освященной обедне, в душе совершается нечто, облекшееся в гимн. Да молчит всякая плоть и стоит со страхом и трепетом. И ничто же земное в себе да не помышляет – своим “не уходите” я нарушила эту потустороннюю тишину и справедливо была выключена из литургии смертного часа.
23 ноября. 9 часов вечера
Воздух “одиночества звездного”. Все куда-то ушли. Дитя уложили спать.
Сегодня выбралась наконец навестить Екатерину Васильевну. Мороз. Солнце. Мне сразу стало легче дышать. И умолкли все гриппозные и попутные им недуги. Шла и не знала, жива ли моя подруженька. Жива, но со слов Юлии (племянницы), а у нее со слов врача, безнадежна. Юлия спросила, можно ли мне зайти к ней. Она ответила: “В другой раз”. Я не удивилась. Я верно истолковала ее долгое рукопожатие в прошлом свидании: она со мной уже простилась.
Вышла из ее квартиры, как всегда, с ощущением облегченного дыхания души. Воздух горных вершин. Перевал – близость перевала. Прозрачные, лилово-голубые дали, как в Константинополе, с горы Булгурлу[706], откуда с Михаилом некогда смотрели на жизнь Христа, на Его земные дни. Такой же прозрачной и далекой была Москва, когда я шла по Садовой в Зубово. Там вспомнила, что вчера приехал Сережа. Что он сдал экзамены и теперь – младший лейтенант, военный инженер, строитель аэродромов. И вспомнилось с улыбкой, что проснулась сегодня из-за этого с радостным чувством. (Из-за того, что повидалась с ним, причем половины не расслышала из того, что он говорил со своей невнятной дикцией.) Забавны по бессодержательности своей некоторые наши радости. Никакой роли в Сережиной жизни баб Вав не играет; это реликвия прошлого, детские воспоминания и бабушкинская теплота, прибавленная к субботним угощениям и к билетам в театр в университетские годы. “Столп и утверждение” его жизни, его уют и душевный приют и больше, чем это – его Эдем – в узенькой комнате Петровского переулка, где греет его своей влюбленностью и заботой и обволакивает все его существо и душу, и плоть красотой Суламифь (так он ощущает ее наружность, для Тарасовых “местечковую”). Я вижу в ней и тот и другой аспект. Но когда смотрю глазами Сергея, вижу только Суламифь и в глазах его читаю строфы “Песни Песней”: “Ты прекрасна, прекрасна, подруга, голубка моя! Глаза твои голубиные”… И слава Богу, что это так. Но сопереживать это с ним мне не по дороге. Тут между нами “железный занавес”, который я всегда подыму, если услышу оттуда зов Сергея Михайловича (“Баб Вав, ади си” – так звал он меня в годовалом возрасте, когда был болен).
7 декабря. Утро
Уехал вчера Сергеюшка. В Барановичи. В неуютную, грубую военную колею, чуждую для него, кабинетного ученого или странствующего геолога с рюкзаком за спиной. Болит о нем последние дни сердце. Но я благодарна ему за эту материнскую боль, которую впервые он дал мне познать (потом его братья и сестры).
Однажды по поводу моих материнских прав на Сережу, дарованных мне Наташей, кто-то (кажется, С. Ал. С.[707]) спросил: “Но может ли это быть? Две матери? Мать – понятие мистическое”. Отец Сережин сказал: “Именно потому, что оно мистическое. Если оно не узурпация, а дар, как в Сережином случае”. Я думаю, что для этого нужно было слияние душ моей и Наташиной в одно, мистическое тоже, лицо – сестры-жены, с которого началось триединство Михаилова и Наташиного брака. Как жена – даже и в духовном смысле – я в брак этот не вошла. Это была утопия Михаила, в которую и я, и Наташа недолго верили, и он скоро от нее отказался. Но как мать их детей я в этом браке осталась навсегда. И предсмертные Наташины слова: “Дай им по маленькому кусочку хлеба” – прозвучали для меня как “Я ухожу. Возьми на себя заботу о них. Не смущайся твоей старостью и твоей нищетой. Заботься, поскольку хватит твоих малых сил”.
Сейчас позвонила Таня Усова. Как сблизило меня с нею ее горе. Даниил, пожалуй, прав, упрекая меня, что я в их cour d’amour[708] – средневековый суд для романтических историй – на Таниной стороне.
Тут общеженский блок – вековечный протест против мужской нечуткости к сердцу женщины и брезгливый протест против полигамии.
10 декабря
На черную доску имена тех ученых, которые придумывают такую дьявольщину, как по газетному сообщению – ФАУ-2 – тонны каких-то химических мерзостей, которые будут взмывать на самолете в стратосферу и оттуда обрушиваться на землю так, чтобы от зданий и от всех живых существ на целые километры вокруг оставалось только ровное, начисто выжженное пространство.
Черную доску с именем такого ученого изобретателя прибить к дому, где он родился. И такой дом должен быть лишен обитателей. В нем может существовать лишь паноптикум восковых ужасов, панорамы с изображениями боев, батальные картины. И у входа в особой нише – большой портрет изобретателя в рамке человеческих костей – с подписью “Такой-то, опозоривший этот дом, свою страну и свою эпоху”.
79 тетрадь 1.1–8.2.1945
10 января
О старости.
Пока не дошла старость до страшной черты, за которой начинается маразм, снижение личности, выпадение из нее высших ее свойств, – она отличается от других возрастов только нервно-психической, все нарастающей слабостью. Духовной стороны, религиозного и морального центров внутреннего мира в старике она не смеет затрагивать. Но ослабевший нервно-психический аппарат, с помощью которого человек приспосабливается к данной среде (или ее к себе приспосабливает), часто делает старика беспомощным, сиротливым, нуждающимся в опеке и отсюда – зависимым.
Вытекающая из зависимости, затрудненная и временами ошибочная ориентация в бытовом процессе дней и для старика, и для окружающих почти безболезненна там, где достаточно и вокруг него, и в нем самом любви. Той, которая, по словам апостольским, “все покрывает” и “долготерпит”. В хорошей (религиозной или внутренно окультуренной) семье ослабление памяти, упадок трудоспособности и старческая “бестолковость” и некоторые инфантильные свойства бабушек и дедушек переносятся терпеливо и ласково – так моя мать относилась к бабушке даже тогда, когда она окончательно впала в маразм. Так Валя Затеплинская относится к своей матери. Так относилась Денисьевна (но, увы, не я!) к моей матери.
Одинокой старости может быть пощада и равное с другими членами человеческой семьи место в жизни лишь в таких коллективах, как первохристианские общины. И одинокая старость обязана нести (во имя человеческого достоинства) все трудности своего жребия молча и терпеливо. Это мысль Ольги, и я по существу вопроса согласна с ней.
Но когда у старости ослабеет терпение (как и все в ее нервно-психическом аппарате слабеет), ей разрешается пойти к другой старухе или к старику (но никоим образом не к друзьям помоложе ее) и с ними поделиться сообщениями и от них узнать – как и через какие терновые кусты они продирались. И как болезненны, и как глубоки царапины, и чем их лечить. И после таких бесед старики, если они друзья, уходят умиротворенными, утепленными и готовыми ползти вновь по своим тернистым тропинкам на крутую гору Старости.
(Так беседуем мы – уже который год! с Анной. И так, по ошибке, я вздумала беседовать с Ольгой, которая на тридцать лет моложе меня.)
Тут я вспомнила, с какой горечью в сергиевские дни однажды воскликнула мать: “Ты говоришь (это ко мне) – я ворчу, брюзжу, а того не подумаешь, что нет у меня моей Ани (это была давно умершая ее подруга). Или хоть какого-нибудь по возрасту подходящего человека, с кем бы я могла поговорить о том, как живется на старости лет, когда себе и другим в тягость”.
11 января
“Я знаю только одно, что ничего этого уже не нужно” (Леонилла в ночь Нового года с невеселым, усталым лицом, убирая со стола бокалы и бутылки шампанского, остатки тортов, мандаринную кожицу и ореховую скорлупу).
Ульяна[709] (мне): “Погадайте и мне, Варвара Григорьевна, по вашим записочкам”.
– Ну, тащите записку, – говорю нерешительно, вспоминая, что среди билетов на каждом шагу “литература и философия”. (В чем упрекнул меня 50 лет тому назад гимназист, подосланный шпионить за мной и Львом Шестовым, когда я бродила с ним и с детьми его сестры в парке. Я была гувернанткой в этом доме, и родным Льва Шестова хотелось дознаться, на какие темы может брат хозяйки, философ и богатый жених беседовать часами с “бонной, гоей, оборванкой”…)
Но я очень отвлеклась от новогоднего гаданья в мемуарную даль. Что поделаешь! “Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей”[710]. Но вот передо мной Ульяна, вытащившая билет. Читаю:
Тоню тяни, Рыбу лови, Уху вари, Гостей корми.Она подозрительно смотрит на меня: “Как это так вынулось? Вы ведь не выбирали”.
– На то гаданье.
Тащит билет из другого мешка: “Холоден снег, да озимь от мороза укрывает”.
– Снег – это наш холодный дом, – неожиданно поясняет Леонилла. – Но без него было бы еще хуже. Нечего было бы есть, и не дотянули бы до лучших времен.
– Правда, правда, – соглашается Ульяна, тяжело вздыхая и подпирая ладонью щеку.
– Еще билетик! (Тянет людей всех возрастов, всех классов, всех уровней развития к святочному гаданью!)
Достает “Гадкий утенок”. Рассказываю ей вкратце сказку Андерсена. Как просияло угрюмое гориллоподобное лицо из каменного века!
– Это значит, я как будто теперь гаже всех и меньше всех, а придет время, лебедью полечу, высоко летать буду.
Она не пыталась расшифровать, как и почему это может случиться, но в этот момент она вдохновенно верила, что будет летать лебедью над тарасовским холодным домом и над своей участью, варить в нем изо дня в день “уху” для них и для их гостей.
Рассказала сегодня Ольге, как я и дети встречали Новый год у Гизеллы Яковлевны. Как умеет Ольга слушать – она из той редкой породы, которая рождена, чтобы “видеть, слышать и понимать”. Слушание и слышание людей – того, что они говорят, что пишут и о чем молчат – естественное состояние ее души. Она сразу поняла, хоть я и не подчеркивала этого, что тут была какая-то тройственная жертвенность – праздник попрания эгоизмов и поклона каждого “Я” в сторону каждого “Ты”. Детям, всем, приятнее было бы отпраздновать приход Нового года где-нибудь среди молодежи. Я была дальше от Гизеллы Яковлевны, чем от всех других людей на земном шаре. И ей тоже было трудно не спать до 2-го часа – она привыкла ложиться в 10. Но ей так хотелось и угостить детей вином, семгой и пельменями, и, хоть символически объединившись с ними в одну семью, любить их со всей полнотой бабушкиного чувства в эту ночь. И Дима не поленился прийти за мной. И я не поленилась пойти, хоть очень устала к вечеру. И все удалось.
“Старому человеку ничего нет дороже ласкового слова” – фраза матери в сергиевские дни вслед Сергею Павловичу и Марии Федоровне[711], которые оба всегда были ласковы с ней.
12 января
Из радости рождается[712] все живущее, радостью сохраняется, к радости стремится и в Радость возвращается. Упанишады (любимая цитата Тагора)В другой цитате слово “Радость” заменено словом “Любовь”.
Тридцать лет тому назад, в дни, озаренные кружком “Радость” (название, данное ему Ольгой), у Мировича сложился (когда он шел по Арбату в Борисоглебский пер.) созвучный с Упанишадами экспромт. Он, кажется, нигде не записан, так как остался в самом сыром виде в моей голове, но память удержала его. И сегодня, сейчас, он ожил, слившись с тем, что принес вчерашний день.
О Радость! Никто не умеет В очи твои поглядеть, Душа робеет, немеет, Не смеет к Тебе взлететь. Но уж в дальних твоих Гималаях Несутся твои ручьи, И встречи с Тобою мы чаем, И миру служить обещаем Под солнцем Твоей Любви.Корявое, нескладное стихотворение, но для меня исполненное действенным содержанием. Мне сказалось в нем, пожалуй, нечто близкое к тому, что хочет сказать Блок в “Розе и Кресте”, говоря о “Радости-страданье”. И нечто, приближающееся к обетованию Христа: “Но печаль ваша в радости будет. И радость ваша будет совершенна”.
27 января
Вчера около 10 вечера Таня Усова зашла за мной, как было условлено, и повела сквозь снег и мороз к ним праздновать “черствые именины” и ночевать. Душевное тепло Усовых (матери и дочери) странным образом согревает меня и физически. И не первый уже раз я оттаиваю у них, когда начинаю обмерзать в нашем “Холодном доме”. Час тому назад заходил Дима с мешком картофеля для М. В. Янушевской[713], старинной знакомой Тарасовых и моей. Два года тому назад она, зная, что Дима “сиротка” и нуждается в бумаге для рисования, подарила ему рублей на 300 прекрасной ватмановской бумаги, оставшейся от сына, “пропавшего без вести”[714]. И я, и Дима преисполнились благодарностью, но только через два года раскачались для действенного доказательства ее. Очень ценю, что Дима в последнее время сам стал напоминать: “Когда же мы, баб Вав, соберемся, наконец, к Марии Васильевне с картошкой?”
80 тетрадь 9.2-24.3.1945
11–12 февраля Люди. Судьбы. Разговоры
Болезнь Ольги (грипп и нервное переутомление от бытового жернова. Замученный вид, как у загнанных лошадей, вращающих мельничный жернов, – видела таких в юности в Полтавской губернии). Стыд и горечь от невозможности деятельного вмешательства. Кое-чем я могла бы ее облегчить – но парализует общее предубеждение (основание для которого есть), что я ни на что не гожусь в очередных заботах дня. Разве только в чрезвычайных. И самой Ольге как будто бы легче, чтобы я в такие моменты была подальше. Тут нечто неизбывно кармическое. Так было со мной начиная с двенадцатилетнего возраста, когда, несмотря на нужду в рабочих руках, мать отстранила меня от судомойных, горничных и других домашних обязанностей. Оставили за мной только роль посыльных (бабушка такую роль называла “мальчик-казачок” – сбегать в аптеку, на рынок или к родственникам – по делу).
17 февраля. 5 часов дня
Только что вспыхнуло за моей ширмой электричество.
Теневая сторона, как в пейзаже, так и в человеческой психике, необходима для повышенного восприятия светлой стороны.
Не будь так нескладно-неладно и так ненужно для тех, кто вокруг, мое существование за ширмой – не было бы и такого светлого чувства взаимного тепла, взаимной ценности под кровом Анны и Люси. После того как насмотришься в здешних зеркалах на свое нелепое, дряхлое, надоедное отражение, точно Сандрильоной на балу у принца почувствуешь себя в Анниной квартире. С кем из живущих там ни столкнешься в коридоре, в передней или на кухне – это всегда объятие, добрая улыбка, братские слова – все, без чего старик, если не ушел в джунгли, не затворился в пещеру, рискует замерзнуть.
10-й час вечера.
Бродила в полутемноте, отыскивая гомеопатическую аптеку. Не нашла. Зато во время поисков надышалась чудесным предвесенним морозным воздухом, который и душа и тело пьют как обет вечной молодости.
В газетах отголоски Крымской конференции. Во мне живой отклик находит в ней международная комиссия для улаживания впредь всяких вопросов на нашей планете без ужасов и мерзостей войны. Но удастся ли это – Бог весть.
У громадного большинства – боюсь сказать – у всего человечества, за исключением ничтожного процента – и в личной, и в общественной жизни для разрешения всех столкновений наготове зубы, когти, копыта, рога. Почему же в государственном, в международном масштабе это будет иначе.
И не понравилось мне на фотографии лицо Черчилля. Недружественно и как-то свысока смотрит он в сторону дружелюбно обернувшегося к нему Сталина. Да и может ли быть в политике дружба, кроме крыловской, собачьей, которая лишь до того момента прочна, пока история не бросит между Полканом и Барбосом кость, которая для обоих покажется равно привлекательной.
18 февраля. 10 часов вечера. Мороз (градусов 8-10)
Над нашим переулком, когда час тому назад возвращалась с Крымской площади, хмуро глянул на меня из облаков грустный молодой месяц.
Если бы я умела обижаться на Ольгу, следовало бы на нее обидеться: не позвонила, что с ней и с Анели. Третьего дня обе внезапно заболели, и я очень просила сегодня позвонить. Если болезнь заразная, я не имею права навещать их ввиду того, что в нашей квартире есть малыш (Алешина дочь, трехлетняя). Как тяжелы в житейском сопутничестве эти больные, эгоцентричные, якобы непреоборимые “не могу” (как Ольгино “не могу” говорить по телефону). Я сама им подвержена (“не могу стоять в очереди”), но как я презираю их и в себе, и в других. Настолько же, насколько невольно уважаешь тех, кто “все может” (Анна, покойная Наташа, ее сестра, А. Д. Калмыкова, Таня Усова).
В этих наших “не могу”, помимо расписки нашей воли в своем банкротстве, почти всегда есть еще нечто задевающее (иногда и очень сильно) интересы того, кто хотел и надеялся услышать от нас “хочу” там, где прозвучало наше “не могу” (так завтра мне через силу надо ехать в Замоскворечье, чтобы узнать об Ольге то, что я сегодня уже знала бы по телефону).
22 февраля
Очаровательное существо Нина Яковлевна (Ефимова). И ее 65 лет нисколько не уменьшают ее очарования. В глазах цветет вечная весна творческой мысли, и тепло и тонко излучается чувство красоты – основа ее души.
Так празднично отдохнула в беседе с ней от всего грубого, чем переполнена жизнь наша. Я и не подозревала, как велик мой голод по такому общению, какое возможно только с людьми, воспринимающими мир и свою жизнь в нем через призму Красоты.
Итак – удалась мне мечта этого года – ввести Диму в круг “жрецов искусства”. И найти в нем для него покровителя и руководителя. Нина Яковлевна отнеслась к нему с простотой, свойственной детям и художникам высококультурной марки. И с оттенком материнского тепла. О рисунках его не сказала ничего хорошего, но и ничего дурного. Только о том, что нужно посещать музеи, всматриваться в чужое творчество крупных мастеров. По-моему, это вторичный момент ученического пути. Первый – всматриваться в натуру и схватывать, зарисовывать, жить так, чтобы работа (самостоятельная, творческая, помимо школьных занятий) была ритмом жизни, необходимым, как дыхание, пища. Нина Яковлевна со мной не согласилась, хотя по биографиям я знаю, что так в Димином возрасте жили и Серов, и Врубель, и Саврасов. И даже Петров-Водкин. Для Димы было неблагоприятно, что рисунки его рассматривались после юношеских набросков Серова, которые хранятся у Нины Яковлевны (она родственница Серова, у нее уцелел ее младенческий карандашный портрет, им сделанный).
23 февраля. 5-й час дня. Сильный мороз. Солнце
Лет 30 тому назад мы как-то вели с И. А. Новиковым (писатель) длинный разговор об отношениях человеческих. Сегодня вспомнился этот уютный, для обоих занимательный разговор в Гнездниковском переулке, где в окно моей комнаты глядело тремя четвертями алтарное окно соседней церкви. И мерцали в сумерках оттуда церковные лампады. И моя комната была освещена по вечерам лампадными огнями из выдолбленных апельсинов, которые светились насквозь, как шары из прозрачного золота. Это был период моих “монастырских” обедов, которые нередко посещал Иван Алексеевич, друживший со мной в те годы, начинающий писатель (а я была секретарь и рецензент в “Русской мысли”). За обедами этими никогда не было мяса – когда я жила своим хозяйством, оно исключалось из моего стола. Жарила навагу или судака, пекла яблочные оладьи. И всегда какой-нибудь изысканный винегрет. Стряпуха – милая старая женщина с круглым, как луна, добрым лицом – сочувствовала такому меню и очень умело его выполняла. Кофе тоже был в то время с барскими выдумками. У каждой “кофейницы” была своя комбинация сортов – “мокко менада – ливанский”, “мокко – турецкий” и тому подобное. И были к кофе излюбленные в каждом доме печенья. В одном – вафли, в другом – имбирные прянички, в третьем – соленые кроки, в четвертом – яблочные слойки, в пятом – ванильные сухари… Теперь и смешным, и сказочным кажется этот быт.
Вообще – и комната с лампадами, и кофе, и печенье, и длинные уютные разговоры возникли, вероятно, по закону контрастных ассоциаций с тем, как живется всем близким мне людям. Я не говорю о Мировиче. Ему перепадают крохи с лауреатского стола. Сегодня, например, по случаю дня Красной армии Леонилла сама предложила ему “настоящий кофе” (не “опивки”, как мы с ней называем остатки от Аллиного завтрака) и без моего воззвания – кусочек сливочного масла, и кусочек сахару, и ломтик очень белого хлеба. А вечером получил от Аллы полмандарина. Это краски эпохи для правнуков или будущего исторического романиста.
26 февраля. 1 час ночи
Алла пришла из театра со следами слез на лице, выражением печали и сосредоточенной серьезности, напомнившими ее отца, его душу, его отношение к жизни и смерти. Умер Сахновский. Режиссер МХАТа. Говорят, что умер от удара, не перенес обиды; без всяких объяснений отклонили “Гамлета”, над которым он усиленно работал с труппой. Слезы Аллы относятся и к тому, как бездушно и эгоистично отнесся театр к его смерти. Отсюда, от мыслей об этом – такое хорошее, такое отцовское выражение лица у нее сейчас.
А у меня всегда в подсознании живущая мысль: когда же моя очередь? Каждый раз, когда слышу о смерти кого-нибудь из знакомых лиц, думаю: – А теперь, верно, мой черед. И так странно, что меня перегоняют те, кто моложе. Сахновскому не больше 60-ти. И мать Ириса на 10 лет была моложе меня[715]. И Вера Евгеньевна Беклемишева[716] – обе получили билет на Корабль дальнего плавания. А я все топчусь на эскалаторах. Или сижу и лежу на предельно тесном, символически тесном пространстве за ширмами.
11 марта. 5 часов дня. 21 градус. Снежные крыши в розовом солнце
Из старого архива.
Вынырнула тетрадь от 1917 года с записями, из которых кое-что оказалось созвучным с настоящей полосой жизни.
Выпал из бумаг также акростих Марии Виссарионовны Алексеевой, присланный мне ко дню Ангела. При нем рисунок – детски-наивно вырисованные горы, ущелья и поток.
Великую тайну предгорий и скал, Глубоких и узких лощин Могучий неведомый дух начертал И, сам повинуясь веленью Начал, Родник низвергает с вершин. Окутано тайной впаденье, исток Воды, источенной из гор, И то, что несет нам с вершины поток, Чертя многогранный узор.Мне дороги высокопарные строки его, где я чувствую искреннюю попытку выразить признание в Мировиче значительности, какой-то “многогранной” роли его в мироздании. Дар, еще тем больше трогательный, что сама Мария Виссарионовна смиренно сказала однажды: “Я знаю, что все, что я пишу, никому не нужно”. Знает она, что и я из числа “непризнанных”, и захотелось ей сказать Мировичу ради дня его именин нечто неожиданно его возвеличивающее.
18 марта. 12-й час ночи. Мороз, ветер
Вернулась из больницы Алла. Я не ждала, что с такой живой радостью и простотой встречусь с ней. Она еще похорошела, утоньшилась. С короткими своими локонами медового цвета, в синем халатике сидела передо мной на ручке дивана и с застенчивой улыбкой четырнадцатилетнего подростка рассказывала мне, как гимназическому учителю литературы, о книгах, какие перечла во время 18-дневного постельного режима. Ал. Толстой, Лавренев, Щедрин – “Пошехонская старина”. Выражение уверенного, глубокого счастья светилось в ее глазах, когда она сообщила, как ее муж[717] по три раза в день звонил из Германии в больницу через своего маршала и других посредников, волнуясь о ее болезни
Ночь.
Ей, Господи Царю, даждь ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего[718].
О, если бы послана мне была в “красные” дни поста благодатная помощь замечать и убивать мои прегрешения в самом зачатке их. И впредь не судить и не осуждать никого. Устала душа моя от “бремени тяжкого греховного”, от “духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия” и многого множества “огрехов” (кривых борозд) на одичалой ниве души моей – “яже словом, яже делом, яже ведением и неведением”. “Волю имею каяться”.
С такими словами в страстную седмицу нашего сопутничества вошел ко мне в комнату много лет тому назад Михаил. И мы поехали с ним каяться в Зосимову пустынь. Долгая ночная служба. Длинная исповедь. Суровый отец Иннокентий – епитимья, 300 поклонов. И не доросла душа моя тогда до настоящего покаяния. Вернулась я в Сергиево все с тою же мучительной тоской о здании, построенном на песке, где мы трое – Михаил, Наташа и я – готовились жить до смерти в тройственном ангелическом (!) брачном союзе. И только через 4 года уразумели, что здание это давно рухнуло. Осталась вместо него глубокая кармическая связь (“сужденное”) с разными перипетиями, уцелевшая до конца, но тогда не казавшаяся ценной по сравнению со зданием на песке.
19 марта. Полночь
Закончился первый день поста. Навеки священная мистерия детства. И не только детства. Киев – “Малый Николай” – в страстную седмицу уже преклонного возраста (50 лет). И Сергиево. Да и сейчас, если бы я не была глуха, не пропустила бы этой мистерии – вкладывая в нее все новый и новый смысл, как во всем, что входит теперь в душу. Это смиренное, неустанное, рыдающее “помилуй мя, Боже, помилуй мя!” звучит сегодня во мне даже сквозь домашнюю сутолоку – увы! такую далекую от того, что в каноне Андрея Критского.
Блины. Обилие масла и сметаны. С фронта Алле прислал муж целый сундук с дарами – там и поросенок, величиной с покойного Бека[719]. Его ноги уже кипят в кухне. Какие-то блузки шелковые, белье, огромная лампа и такая же ваза с лебедями, крупа, конфеты, консервы, рыба. Аллочка в детски-оживленном и в добром настроении. Но все же это чуждо мне, как лихорадочный кошмар, когда сквозь эти вещи надвигаются на Душу танки, бомбометы (дары фронта), пожары, артиллерия. Помилуй мя, Боже, Помилуй мя!
81 тетрадь 25.3-23.4.1945
10 апреля. Загорск
Обвеянный апрельской пургою – точно где-то уже близко к Нарыму или Колыме, – крепко к земле прижатый и цепко за убогий свой земной быт держащийся – город. Но нет-нет и в глазах его “насельников”, и в жизни их мелькнет радонежское небо, какое смотрит на меня здесь из прозрачно голубеющих глаз Денисьевны…
В вагоне. Только что уселась хлынувшая с платформы московского вокзала серо-бурая, заплатанная кое-каким “барахлом”, по-зимнему укутанная толпа в вагоны электрички. Тесно. У всех какая-то поклажа – меновой и не меновой – из-под полы торг Москвы с Посадом. У молочниц бидоны. Головы их шарообразно обвязаны толстыми платками.
На кряжистых телах ватные, засаленные кацавейки. Среди этого люда какими-то знатными чужеземцами кажутся молодые, стройные, в элегантных шинелях с поблескивающими эполетами военные. Их много. И, не смущаясь их присутствием, стоит в вагоне бабий говор о войне.
“Что же это за глупость, – мрачно говорит троглодитского вида старуха, откусывая от черствой краюхи кусок хлеба с треском, как в древности сокрушал кости мамонта ее пращур, – где же это слыхано, чтобы от одной войны не передохнувши, эдакую муку принявши, на другую людей гнать”.
– Да, все говорят, к 1-му маю с немцами замирение – по-немецки это “капут”, – весело подхватывает обросший седой щетиной, весь в разноцветных заплатах старичок, тоже завтракающий краюхой хлеба.
Молодая, смирного вида женщина говорит вполголоса со вздохом:
– Неужели же правда с немцами 1-го замирение, а второго мая погонят на японца?
– И очень просто, – говорит старичок внушительно. – Это не бабьего ума дело. Потому, если на японца нам не идти, так он сюда, на нас попрет.
Другая мещанка, постарше, как и первая одетая сравнительно чисто, в рыжем, но не залатанном пальто и в большом ковровом платке, бойко и колюче присматривается ко всем смышлеными, бегающими глазами.
– У меня и бабий ум, – громко и авторитетно вмешивается она в разговор, – а я понимаю, что идти надо. Не идти нельзя, раз сверху прикажут. Там лучше нас понимают, что к чему. Только я думаю, что в Сибири леса и солдатам война надоела. Они расположились уже отдохнуть, с женами пожить, а тут тебе: к японцу на штыки. Сиганут в леса, до Владивостока не доберутся.
– Вот и вышло, что бабий ум, – укоризненно говорит старик. – А что они в лесах есть будут, как там жить будут, ты это подумала?
– А вот и подумала, – с торжествующей улыбкой отвечает мещанка. – Сибирь велика, городов, сел много. Из лесов в города, в деревни переберутся. Кто каким ремеслом займется – проживут. А там и замирение с японцами выйдет.
Старик с негодованием плюет в сторону и качает головой:
– А за дезертирство их, по-твоему, в городе или, скажем, в селе по головке погладят?
– Войной все недовольны и теперь. А там, если развал пойдет, никто на них и внимания не обратит.
– А уж это похоже на контрреволюцию, – замечает, обернувшись к собеседникам, чинно сидевший и молча прислушивавшийся к ним старший военный с черной повязкой на изнуренном желтом лице. – Про какой это вы развал говорите, хотелось бы узнать?
– Да ни про какой, – смущается заболтавшаяся гражданка. – Так, промеж себя, что молва, то и мы. А что от войны все устали, разве не правда? И вас, кто воюет, разве нам, бабам не жалко? Сколько сыновей, мужей проклятый немец с землей смешат. У меня у самой зять на фронте.
– Так на то и война, – веско произносит щетинистый старичок. – Разве война тебе забава? Так было испокон века, а ты своим умом…
Но тут его речь заглушается неистовым, похожим на вопль романсом молодого баритона. Юноша на двух костылях, с подергивающейся шеей и тиком, от которого красивое тонкое лицо становится сразу пугающе безобразным, втискивается в проход, занятый стоячими пассажирами, с романсом на тему о какой-то “блондиночке-картиночке”. И после каждого куплета надрывно, изо всех сил, точно желая перекричать приговор ужасной судьбы своей, бросает ей в лицо одни и те же слова: “Моя любимая, незаменимая.” У молодой мещанки на глазах слезы:
– Я его знаю, – говорит она, доставая рубль. – Он по соседству, с нашей улицы. Какой красавец был. Барышни за ним бегали. Только– только десятилетку кончил – пошел на фронт. И невеста у него была. А вернулся – и ног нету, и на самого смотреть страшно. Невеста, как увидала, сейчас же за заводского инженера замуж выскочила. А пока не вернулся – как добрая ждала. И переписывались.
Еще не замолкли в конце вагона припевы романса – то похожие на рыдание, то горько-насмешливые, то робко ласкающие “Моя блондиночка. Моя любимая, незаменимая”, – предстал перед нами молодой слепец (тоже, по-видимому, инвалид войны) с мальчиком-поводырем и с клеткой в руках, где сидело какое-то маленькое животное, не то крыса, не то морская свинка. Инвалид громким речитативом рекомендовал его вагонной публике как предсказателя, который “все вперед на десять лет видит и всем верно судьбу разгадывает, подает самолучшие советы и вытаскивает счастье”. Зверек тащит зубами судьбу из одного ящичка, советы из другого и счастье из третьего, где только счастье, без советов и сомнительных предначертаний Рока. И судьбе, и совету, и счастью – одинаковая цена, один рубль.
– Там, где советы или судьба, по-моему, не стоит тащить, – резонерствует бойкая мещанка в ковровом платке. – Судьбу все равно не перебьешь, какая будет, такая и будет. И советы, какие же может крыса преподать, если она моей нужды не знает. А вот счастье стоит за рубль вытащить. Оно и не сбудется, а всякому прочитать приятно, что и у него будет счастье. Я прошлый раз з-х рублей не пожалела и вытащила: исполнение желаний, червонный интерес с поздней дорогой и третье – избежать большой опасности.
– А я раз 10-ти рублей не пожалела, – краснея, созналась молоденькая девушка в лихо заломленной набекрень папахе поверх желтых, стружками развешанных по плечам локонов. – Так что же вы думаете: по три раза стало одно и то же выходить: исполнение желания да исполнение желания.
– А ты бы, дочка, на 25 рублей еще счастья накупила – тогда бы и по пяти раз вышло исполнение желаний, – ворчливо отозвался старик. – И откуда деньги вы, молодежь, достаете на глупости…
– Не на глупости, а слепому на хлеб, – басом отзывается троглодитского вида, с профилем гориллы старуха. И прибавляет озабоченно, с человеческим умилением в мрачных карих глазах: – А вон и мать Ератида. – Навстречу этой Ератиде она достает замусоленное полурастерзанное портмоне и, порывшись в нем, достает два истрепанных рубля.
Мать Ератида – маленькая монахиня лет под 6о, в скуфейке. Она двигается смиренно, но уверенно, с полуопущенными над тарелочкой глазами.
– С праздником, граждане, с праздником, гражданочки, – говорит она, кланяясь на обе стороны. На тарелке икона Благовещенья и перед ней целая куча рублей и трехрублевиков. Двугривенные, их мало, отодвинуты в сторонку. И с обеих сторон протягиваются к ней руки с рублями. Кое-кто из женщин прикладывается к иконке. Приложился и один военный и положил десятирублевую бумажку. Она поклонилась ему в пояс и сделала нечто вроде благословляющего движения.
– Это она его на фронт благословила с японцем проклятым воевать, – стирая слезы, растроганно шепчет троглодитного вида старуха.
13 апреля. 9 часов вечера. За ширмой
“Рузвельт умер”. Этим горестным вскриком разбудила меня сегодня Люся (ночевала у нее, чтобы избежать вчерашнего пиршества по случаю приезда Аллы). Рузвельт умер. Как ни мало понимает Мирович в международной политике, как ни далеко от нее пролегает главная ось его интересов (и моих), осозналось сразу большое и, может быть, трагическое значение этого для нашей страны – да и для других стран. Для меня здесь все, конечно, сводится к тому, чтобы не затянул как-нибудь уход Рузвельта войны, этой раковой опухоли на организме человечества.
Множественность вещей, с детства меня пугающая. И сегодня утром нечто вроде мозговой (и моральной) тошноты при виде множества чашек, рюмок, бокалов, тарелочек – прилетевших на самолете вместе с Аллой с фронта. Отдельные вещи (да и все) были красивы, изящны, каждой было бы можно любоваться, если бы она вошла одна (или хоть оформленная сервизом) в поле сознания. А “неправда” была в том, что я этого-то и не могла сказать. (Леонилла сказала бы “вечно выдумки”, Аллочка же просто бы огорчилась. Когда ей что-нибудь привозится, ей важно, чтобы другие разделяли ее вкус, ее удовольствие.) И была минутка (уж совсем нелепая), когда мне захотелось, чтобы Алла, которая подарила всем домашним по чашке и соответственно тарелочке – подарила и мне ту, которая мне понравилась: туманно-синяя с чуть заметной россыпью мелких тусклых звезд и с темноватой каймой. Впрочем, я быстро уличила в ребячливости этого желания. И когда Леонилла сказала: “Аллочка распечатает еще один ящик и достанет и для тебя какую-нибудь хорошенькую чашечку”, – я ответила, что для меня эти вещи слишком хрупки, я буду бояться ту чашку мыть и вытирать. И я привыкла пить из своей, у которой моя любимая форма полушария. К тому же эта чашка – подарок Инны. Словом, вкренилась лодка Мировича в тину мелочишек. И поневоле в последнее время попадает в такой же тинистый затон: а) из-за театральных билетов, в) из-за стирки,
с) и из-за того, что не на что сменить единственного платья, которое ношу, и нет ничего комнатно-теплого. В квартире холодно, наши дамы ходят в стеганых шелковых душегрейках или в халатах. Мирович же поневоле шокирует всех истрепанным шерстяным плащом, которому 30 лет и который уже 10 лет тому назад был прозван “диогеновским” за свой рубищный вид. И как ни стыдно сознаться в этом – безысходные заботы об одеянии и о стирке нет-нет – как гарпии,<влетят> в столовую души и осквернят ее пищу.
17 апреля
Опять триптих (разделенный рамой).
На одной картине Леонилла в карикатуре наседки с круглыми беспощадными глазами курицы, выводку которой грозит опасность. Энергическим воинственным движением прячет она детей под своими крыльями. По другую сторону – она в теплой стеганой атласной кофте, с красивой прической, так же энергично – со всей полнотой чувств отдается жареному поросенку (обгладывает кости), рядом кофейник, бутерброды, раскрытый портсигар с папиросами. А посредине триптиха она, одетая, лежит, съежившись на диване, в глубоком сне, с беспредельно усталым и скорбным выражением мертвенно-белого, как у покойницы, лица.
Ирис. С энергическим лицом, со взглядом, устремленным на вершину горы, взбирается на крутизну по узкой тропинке над пропастью. На спине огромный рюкзак, от которого она пригнулась к земле. В руках чернильница, перо и рукопись.
Алла в комфортном кресле на самолете, летящем выше облаков. В руках фотография генерала. Вокруг кресла разные трофеи (поросенок, ваза, лампа, разнообразная – чайная посуда, шоколад). Гиацинты и тюльпаны.
Даниил – санитар на фронте, убирающий цветами убитого бойца, для которого вырыл могилу. Сумерки. Багровое зарево пожара. Неподалеку клубится дым только что упавшей бомбы.
Алеша – в оранжерее за столом, уставленным винами и закусками. Экзотический хилый вид. За окнами война, беженцы.
Сергей – в землянке, перед ним чучело колибри.
Анна Дмитриевна <Шаховская> – причастница, в белых одеждах.
19 апреля
Двое суток живу в теснейшем контакте с Ермоловой[720]. Не ожидала, что эту возможность (эту очень нужную мне встречу) так неожиданно подарит такой розовый мотылек, как “Таня” Щепкина-Куперник. Очевидно, старость перевела ее из мотылькового состояния туда, где другие масштабы, другие задания, другая ответственность. И это было мне за нее радостно. И вообще за то, что так бывает. Она казалась мне в годы наших встреч легкомысленнейшим существом, и меня удивляла дружба ее (с моим другом) Н. С. Бутовой. Оказывается, и Ермоловой она так же была близка душевно. И в тоне ее книги, и в выборе материала, каким она пользуется (видно, что это была оценка Ермоловой не с чужих слов, что было понимание, было сопутничество). Для меня в Ермоловой главное – не талант (его воспринимали как “гениальность” и зрители, и критика), а душа ее и “линия движения”.
23 апреля
Ночь. Салюты: наши вошли в Берлин. Страшно подумать, что может быть это все-таки не конец всемирной бойни. Что придется еще воевать с Японией. “Да мимо идет чаша сия”.
Верую, Господи, и исповедую – какая прекрасная молитва. Прекрасное сопоставление этих двух слов, их близость. Вспомнилась латинская пословица: “Вера обязывает к мученичеству”. Самый завидный жребий на земле – мученики. Вообще победа духа над плотью. Узнала о <докторе>Покровском, у которого рак языка, – он уже близок к концу страданий своих (под конец они стали невыносимыми). И не возроптал, не омрачился, не пал духом. Надо помнить: “не бывает непосильных крестов, каждому – по его силам. И такой именно, очень индивидуальный, который ему нужен. Сегодня день рождения Ники – 14 л.
Будь же светел и крылат,
Будь познанием богат – родной комарик мой. На многие, многие лета.
82 тетрадь 24.4–2.6.1945
24 апреля. 1-й час ночи
Часть вечера у Тани Усовой. Как всегда, Таня провожала меня. Как всегда, говорила о своей ране, которая все еще болит и долго будет болеть. И все трое – Таня, ее мать и Мирович – говорили то же самое, что и 9 месяцев назад. Слова в этих случаях почти не играют никакой роли – их уже заранее предугадывают. Но важна возможность говорить.
“Одинокой тропой среди сугробов непонимания”[721] – поделилась этой фразой Андрея Белого с Леониллой и вызвала в ней неожиданный восторг.
– То, что видят во мне, – только четверть меня, – с блеснувшими на потеплевшей голубизне глаз слезами воскликнула она. – Трех четвертей моих никто не видит. Отсюда – сугробы непонимания.
Мирович призадумался над этими словами. Он всю жизнь, с ранней юности воспринимал подругу свою Нилу как живущую на поверхности (в области мысли, в области моральных и религиозных установок и в мироощущении). Это огорчало иногда и вызывало какие-то диспуты. Но не мешало живому пульсу крепко сросшихся подружьих отношений. Так было до злосчастного “жилплощадного” момента.
И сегодня я окончательно поняла, что все дело тут в неслиянности потоков, в невозможности и ненужности общей жизни.
28 апреля. Замоскворечье
Вчера Алла, бледная от волнения, прерывающимся голосом возвестила мне за ширму о том, что “мы соединились уже вокруг Берлина с союзниками”. И повлекла меня к своему заграничному радио. И впервые за очень-очень долгий срок (точно отверзлись мои уши от этого известия) я услышала тоже взволнованный голос диктора, который торжественно доканчивал сообщение. После этого сообщения, которое сильно всколыхнуло и меня надеждой на скорый конец войны, я вышла на улицу – по дороге на почту. Из всех громкоговорителей гремела победная музыка. Стаи ребятишек возле нашего скверика кричали “ура”, бухали салюты, и в заревом туманно-золотистом небе расцветали взлетающие над крышами неяркие, нежные, призрачные звезды салютных ракет. Чувство общего праздника, чувство принадлежности к народу, после великих испытаний и героических побед, одолевшего апокалипсически жуткого врага, овладело мной с неожиданной силой. Но это слепое, карамзинское чувство “любви к отечеству и народной гордости” и “славы, купленною кровью”, недолго владело мной. Для того, кто хоть раз испытал – реально – как я, что он “гражданин вселенной”, этот газетный патриотизм – преходящее и уже как бы атавистическое явление в его душевном мире. Все, купленное кровью, ужасами войны, все, где попраны братские чувства народов и рас, как только осознается это сквозь нахлынувший стадный подъем, превращается в простое, строгое, уже без салютов и победоносных маршей, чувство важного исторического момента. В нем, как главное, ощущается не то, что “наша взяла” и “вот какие мы – чудо-богатыри”, – а надежда, что этот час приблизил к нам “мир всего мира”. И жутко было думать и чувствовать и зрительно ощущать: здесь музыка, салюты, ура, а в Берлине – ад кромешный. И каждая взлетевшая в заревое наше московское, мирное небо звездочка салютной ракеты покупается в этот же миг тысячами ран, гибелью молодых жизней, тяжкими увечьями, пожизненной судьбой инвалидства.
1 мая. 1-й час ночи
Вчера с 12-ти часов была снята с Москвы светомаскировка. Волнующий предвестник, что близок конец войны. И насколько противоестественно такому большому городу, как Москва, погружаться ночью в полутемноту, которой заменялось до сих пор ночное освещение, это ощутительно по тому облегчительному вздоху, какой вызвали вчера засиявшие забытым уже полным светом цепи фонарей.
Случайно, возвращаясь в 10 часов утра от Анны (у нее ночевала), я попала в праздничную толпу на Пушкинской улице. Ее сдерживала цепь с обеих сторон мостовой – почти плечом к плечу стоящие в новеньких мундирах военные разного возраста. А по мостовой время от времени гарцевали на красивых золотистых, по-английски подстриженных лошадях еще более нарядные воины. Мне показалось, что это англичане. Над парадом во всю майскую мощь свою сияло, но почти не грело солнце. Радио ревело в мажорных тонах что-то победное или разнузданно частушечно-веселое. Толпа – больше всего школьной молодежи – вела себя чинно.
Но не так было вечером. В десять часов мне захотелось посмотреть на освещенную праздничную Москву и подышать ночной прохладой. Но в переулке нашем и со стороны Пушкинской улицы неслись такие безобразные пьяные вопли и ругательства, что захотелось за ширмы.
– И хорошо, что никуда не пошли, Варвара Григорьевна. Что это вы надумали! Тут засветло еще человека подкололи, – сказала лифтерша. – Ведь сегодня 1-е Мая. Пьяных не оберешься.
5 мая. Замоскворечье – Остоженка – Зубово
Даждь ми Сего странного Иже не имеет где главы подклонити.Так просит Иосиф Аримафейский Понтия Пилата выдать ему для погребения тело казненного Христа. Слилось сегодня для меня с судьбою “странника” Мировича это любимое мое песнопение Страстной пятницы. С утра после грубого выпада со стороны Аллы Мирович, преисполненный обиды – неожиданно острой от боли ее, бросился из-под Аллиного крова куда глаза глядят. И пустился в странствие по дружеским очагам, чтобы эти три дня, с детства для него священные, провести “в мире и покаянии”, без искушений и “обид” тарасовского крова.
Прежде всего потянуло к Ольге (дочь и мать – в веках, Воронеж, по временам “alter ego”). Но здесь ночлег оказался невозможным (“Степан Борисович так хрупок и так нервен последнее время, что для него, если бы вы остались ночевать, показалось бы это чем-то сложным и трудным”).
Здесь “обиды” никакой не было. Степан Борисович человек больной, своеобычный, Ольгой избалованный и со мной в дружественный контакт не вступавший по обоюдной нашей “вине”. И если уж искать непременно вину, ее больше с моей стороны, чем с его.
От Ольги же за все 40 лет нашего сопутничества – огорчения были, обид же не было и быть не могло. Так и на этот раз, конечно, я знала, что, если бы не “привходящие обстоятельства” – останься я ночевать у них, для нее это душевно-духовно и сердечно было бы только приятно. Но тут возникло ощущение, которое потом оказалось Мировичу “на пользу” (ободрительный лозунг отца Порфирия)[722]. Чувство гонимости роком, рокового “сиротства под солнцем здешних стран”. С этим чувством двойник мой Мирович направился со мной в Зубово. Там оказалось, что болен Ника (нечто вроде аппендицита). И что все старшие эту ночь будут дома. Раньше, чем я заговорила о ночлеге, дети сами стали упрашивать меня “никуда не уходить” (особенно Лиза. С той ласковостью, которая у нее была ко мне в ее 4–5 лет, она обнимала и целовала дряхлые мои щеки и уговаривала остаться на ночь). Но ей пришлось бы из-за меня спать на полу. И я решила продолжить странствие Мировича до Остоженки. Там Люси и Анна встретили его братским целованием. И бугристая от сломанных пружин кушетка, и зияющая сплошными дырами простыня, и скользкое одеяло, которое всю ночь надо ловить, чтобы оно не очутилось на полу, – все показалось Мировичу таким удобным и благостным, что тут и произошло окончательно то, о чем сказал бы отец Порфирий, что и все раньше сегодня бывшее – чувство обиды, сиротливость и гонимость – “на пользу”. А польза – вот какой духовный опыт, каким хочу поделиться с моими детьми (ради этого так подробно и предшествующие этапы к нему сейчас перечислял).
…Грубый окрик Аллы возле буфета, где я искала свою редьку и морковь: “Что тебе здесь нужно, что ты ищешь?” – острой унизительной обидой всколыхнул глубины души и всю ее духовную энергию в таком размахе, что вынес меня за пределы малого круга сознания, личных счетов с Аллой, далеко от самого лица ее и от моего места за ширмой в ее жизни. Почувствовала себя душа бескрайно широкой, безмерно глубокой, способной вместить в себя (вытеснив обиду и судьбу Мировича) судьбы всякой, подобной его, старости. И все жребии одиночества, беспомощности, нищеты, бесправности и всех видов унижения. Точно подана была ему в этот день ангелом Скорби чаша, которую в его власти было оттолкнуть, расплескать и даже совсем разбить – или поднять и, отпив из нее, сказать: “Да будет так – приемлю. В этой жизни, в том коротком и дряхлом отрезке ее, который мне причитается, ничего не суждено мне сделать ни для кого из “труждающихся и обремененных”. Но да будет мне, Господи, пережитое мною залогом того, что даны мне будут силы вносить радость и помощь в мир Твой в последующих моих жизнях. Аминь”.
9 мая. Остоженка
Вчера, 8-го мая, в 11 часов вечера – “безоговорочная капитуляция”. Сообщено об этом всему миру ночью, в 2 часа, по радио.
Слава в вышних Богу и на земле мир.
До сегодняшнего утра я не верила, что мир так близок. О нем толковали уже целые сутки, но мне все казалось, что это слухи – то “желаемое и ожидаемое”, что молва нередко передает как уже совершившееся. Еще не могу обнять и поднять всего значения этого события для человечества и для себя. В трех руслах протекает в моей душе значение этой “безоговорочной капитуляции”. В одном русле – родина, нация, народ. Здесь карамзинское “О любви к отечеству и народной гордости” – “Славься, славься, наш русский народ!” – как поют в гимне, долетевшем до глухих ушей, когда шла в метро. Мы победили! В метро нежно обняла молоденького грязного, курносого солдата, который широко улыбался мне и другим, стоя над нашей скамьей. Победа! Отстояли свою культуру от германского сапога. Положили предел кровавому бреду Гитлера. “На земле мир”. Но за него заплачено кровью стольких молодых, жизнью, ужасом и гибелью стольких жертв.
Здесь второе русло, где уже не плеск и блеск и рокот волн победы. Здесь кровь Авеля вопиет к небу. Эту кровь (ни во имя чего, даже самого Бога) я не могу принять и поднять чашу с ней. Поскольку она льется через мое сердце как в погребальном плаче Богоматери в Страстную пятницу: “Увы мне, сыне мой возлюбленный и Свете!” Поскольку я знаю – и по временам ощущаю реально скорбь миллионов тех сердец, через которые “оружие пришло”, – в траурных ризах для меня и самая Победа. Тут нет места логике Истории, ее перспективам. И не моего ума дело разбираться во всех этих агрессиях и экспансиях народов. Я знаю, что они не прикончатся на нашей планете ни от каких конференций, пока не умрет зверь в человеке, не перейдет он в ту стадию, где будет невозможно “сумасшествие эгоизма” личного, семейного, классового, партийного, государственного.
Целым и невредимым возвращается с фронта Сережа, мой зам. сын, “опора дряхлых дней”. И велика благодарность моя Руке, не допустившей его до ужаса и до гибели в адском горне войны. Но не могу я забыть, с особенной остротой сегодня помню, что не вернутся к матерям товарищи его – Леня Смородина, Женя Давыдов. Не вернется к Инне ее муж – замученный сыпняком, пленом, туберкулезом и нашедший избавление в братской могиле где-то в Польше. (Видела сегодня Инну и Лену.)
10 мая. 1 час ночи. За ширмой
Целый день в каком-то сомнамбулизме, и все не верится, что кончилась война. Такое чувство, что вот-вот кто-то разбудит тебя – и опять газета: “после ожесточенных боев взят город такой-то…” и героические подвиги, и столько-то пленных, и тяжелая артиллерия, самолеты, танки, истребители. Все это еще гудит в оглохшей голове и… “противны мне дела, совершающиеся под солнцем” (Экклезиаст). “Улететь бы за этою птицей в осиянную глубь вышины, где лазурная даль серебрится первозданной весны”. (Это из Мировича киевского периода, 1918 год.)
11–13 мая
Письмо Ириса (дорогой дар, особенно в эти дни).
“Баобик родной! Х<ристос> В<оскресе>! Хоть бы звук вашего голоса! Хоть бы строчку! Понимаю – гриппа Вы боитесь, а у меня он злой. Но ведь писать не заразно. Умоляю, черкните. Я не обижена, но горько без ощутимого с Вами контакта в эти великие дни.
Поздравляю Вас с двумя великими праздниками, знаменательно слившимися в датах. С духовной победой над смертью и с земной победой над ней! Вот и дожили мы с Вами до конца войны. Его ждали, но налетел он, как радостный вихрь. И с сердца сразу свалились пудовые вериги (хоть и не все, но пресекся ток крови). Ведь, и Вы его чувствовали и все страдания и ужасы таинственной глубины сверхсознания там, где мы слиты с жизнью народа нашего, нашей родины и всего человечества. Чем ближе мы к нашему верховному “я”, тем ближе к человечеству, к космосу, к Богу. Отъединение, закоснение в данной бытовой форме происходит на периферии. Это примитивная самость. Или это люциферическое обожествление, когда внутренние силы развиваются эксцентрично”.
Произошло недоразумение. Я была уверена, что Ирис уже две недели вне Москвы и что, уезжая спешно, она не успела мне позвонить. Оказывается, она никуда не уехала, тяжело заболела гриппом и сейчас еще не выходит. После ее письма я в тот же час (сегодня) навестила ее. Но что мое навещение! Ни в очередях постоять, ни по учреждениям вместо нее походить, ни вплотную с мальчиком заняться Мирович не способен, как если бы он был без рук, без ног и без головы.
20 мая. Зубово
Никино ложе (узкий высокий сундук с тоненьким матрасом, который уступлен мне, обладатель же его перебрался с сияющим лицом спать на полу). Сумерки. Чуть просвечивает желтая заря сквозь толстые дождливые облака. Все, кроме нас, двух глухих бабок, разошлись по делам. Ультраделовитая жизнь у молодежи (и у служилых людей). Тетя Аня уехала куда-то по своим огородным делам. Маша на огороде. У Лизы геологическая экскурсия на Воробьевых горах. Дима в Малоярославце – с огородно-картошечными целями. Ника пошел заниматься алгеброй с Арсением (двоюродный брат, математик). Они ушли, но жилище их проникнуто двойным ароматом “благоволения”, высшей культуры христианизированного духа. Недаром о дедушке их Д. И. Шаховском в книге о народном образовании в СССР упоминается репутация “христосика” в земстве, где он служил. И кроме этого наследственного флюида сильно идущее их жизни очаровательное благоухание чистой, богатой внутренними силами энергической юности (от 14 до 20-ти лет). Точно распахнуты окна из камеры старческого моего изолятора (за ширмами) в чудесный, обширный сад, переходящий без всяких заборов в поля и леса всей страны. И общий всей стране свежий ветер приносит и запах садовых нарциссов (Дима), роз (Маша), лилий (Лиза), молодой березки (Ника) и необъятного пространства весенних русских равнин, предгорий и гор.
83 тетрадь 3.6-30.6.1945
3 июня
За ширмою тарасовской столовой. Сквозь открытую балконную дверь догорающая полоска темно-алой зари и свежая, пахнущая ранней весной прохлада.
Жаль пропускать весну. Жаль не только каждого дня, жаль каждого часа весны, прожитого вдали от природы. Об этом сказала утром Леонилле. После моей пиявочной процедуры у нас появилась прощальная потребность общения. Мы с ней одинаково близки к дверям крематория, и есть соревнование – прийти первому. В ответ на мои слова о весне она сказала: “Как хорошо, когда занят по горло с утра до вечера: некогда ни жалеть, ни хотеть ничего”.
Мне показалось это худшим из человеческих жребиев. Если такая занятость в области религиозно или идейно освещенной или вытекает из творческих импульсов – другое дело, и этот жребий завиден. Но если это безостановное вращение в колесе узкосемейственного быта и до того, что все помыслы и желания устремлены на чередование обедов, ужинов, завтраков и некогда “остановиться и задуматься” (к чему так горестно, и страстно, и тщетно призывал Л. Толстой “мучеников мира сего”) – такой жребий поистине плачевен. Одна из форм бессрочной каторжной работы.
5 июня
У открытой балконной двери. Позднее утро. Туманная лазурь. Много пышных разорванных облаков, бледное солнце. Апрельская свежесть. “Весной и счастливых тянет вдаль”. Тургенев[723].
И счастливых, и несчастных, – а больше всего тянет вдаль Весна таких бродяг, как Мирович. И голова дурманная, и правая нога плоховато слушается, и даже в Измайловский лес никак не соберусь – а в душе все та же тяга в синие вешние волшебные дали. Вскрывается ненасытность души к “Преходящему”, к чудесам и красотам здешнего мира. Так тянуло весной моих пращуров-кудесников бродить по дремучим лесам и побережьям светлых озер псковской земли. Я знаю, что мне давно больше сродни те дали, какие сулит смертный час. Но… не соприкасается ли с ними и синева весенних, замыкающих горизонты лесов, и лазурь степей и моря, там, где небо сходится с землею. Странствия мои на этом свете, по-видимому, пришли к концу (и пора, пора уже!). Но не случайно ненасытимость мою бродяжью утоляют одна за другой появляющиеся на моем столе книги (я не ищу их) – и добрые спутники – Нансен, Пинегин, Соколов, Шредер (Япония) – уводят меня с собою в те края, где побывали их души. А теперь – Андрей Белый. Его “Ветер с Кавказа”[724]. Преодолевая его истеричность и порой излишнюю затейливость стиля (до кривляния), побродила с ним вчера по Аджарии в “обстоянии красот”, среди павлоний и рододендронов (и точно оттуда, а не из Германии те лиловые букеты их, которые генерал прислал Алле на самолете), среди гигантских красных лилий, и бананов, и драцен. И в зарослях бамбука. Показал он мне на морском берегу, как “скачут через камни хрипящие хляби, взбеляясь расхлопами пены”. Показал из “плещущих сыростей встрепеты пальмы. И разломы камней, разбросы утесов”. И был вчера вечер, благодаря его “Ветру с Кавказа”, когда
Как прибой отступило дневное волненье Одиночество встало как месяц над часом моим.[725]И не помешали этому все столовые шумы за моей ширмой, хотя после пиявок они звучат для меня ярче и надоеднее. И сейчас с удовольствием думаю о том ночном часе, когда поставлю лампу на чемодан поближе к подушке и поеду с А. Белым в Тифлис, в Боржом, Цихис-Дзири.
13 июня. 10-й час вечера
Столовая. Впрочем, столовую уже с неделю назад перенесли в детскую (дети и няня – на даче). Ширмы раздвинуты. И комната, где я пишу сейчас, – временное обиталище двух старых старух, с семи лет – подруг, в последние семь лет поцарапавших и покусавших друг друга и самую Дружбу – впервые за 70 лет ее существования.
Здесь наша опочивальня, штопальня, писальня и читальня. И я много здесь бываю совсем одна, и обедаю, и чаю пью в одиночестве, что для меня и для других к лучшему, и для всех, понятно, ввиду своей глухоты. Бедненькая подружка моя почти весь день и большую часть ночи в домашних работах на кухне, в ванной, в Аллиной комнате.
Измайловский лес.
Здесь состоялась, наконец, моя первая в этом году встреча с Матерью-Землей, еще не сбросившей с себя весеннего убранства, полной свежести и могучих сил. Сегодня она делилась ими щедро со мной и с Никой, и со всех сторон трепетали ее улыбки – золотые, изумрудные, таинственный полусвет теней на липах, на ольхе, на березах, на ярко-зеленых полянах, на болотинках канав и пруда. 30 лет тому назад было нечто похожее в моей встрече с Природой – на Оке, в громадном, заглохшем парке, в имении, где гостил и Лев Шестов, где однажды “ель мохнатою рукою открыла свой приветный лик, и с высоты дремучей хвои смеялся старый лесовик – и вся извечная, родная, мной позабытая семья ко мне теснилась, узнавая, лишь я не знала, кто же я…”. И вот разница: тогда было растворение в Целом. Завороженность (“земной буйностью оврага заворожен дремотный дух”). И в центре моего сознания не было “я – есмь” – “есть только свет и трепетанье, и голоса, и тишина и жизнь без лика и названья на грани бдения и сна”.
В Измайлове было иначе. За 30 лет отгранился во мне тот, кто посмел, наконец, в объятьях Космоса, сливаясь, но не растворяясь в нем, – узнать свой лик и сказать “Я – есмь”. Недаром, как 12 лет тому назад, устремилась я в Киев и 7 лет тому назад к морю для важного душевного опыта, который и был там пережит, так и теперь, этой весной, с такой же принудительной силой устремления я собиралась именно в Измайлово. С этим “измайловским” сдвигом в душе, и с Никой, и с его двумя учебниками географии я попала прямо из лесу к Фаворским и к Ефимовым. И моим лесным состоянием объясняется неожиданный пафос нашей встречи, ее сила взаимопроникновения. И то, что я говорила о себе, и о них, и слезы на глазах Нины Яковлевны и больного (он в депрессии) Ивана Семеновича. И ток братского тепла и широко раскрытых глаз понимания Владимира Андреевича и Марии Владимировны. И то, как раскрыто и доверчиво прильнула ко мне раненая душа ее сестры. Никогда не бывший со мной в близком общении Владимир Андреевич (чудесное и уже совсем стариковское у него лицо) спросил: “Можно мне показать вам то, что я писал в Самарканде?” – после чего я прошла рука об руку с ним через душу Азии и через его мироощущение и через то неопределимо таинственное, что называется Красотой.
16 июня. 12 часов ночи
Тепло почти летнее. Раскрыта балконная дверь. Огни Пушкинской улицы из ночной темноты напоминают о том, что кончилась война (с 8-го мая снято затемнение). Сегодня видела, как выволокли с Никитского бульвара серебристое чудовище – аэростат. Но… не раздаются в душе победительные фанфары. Ненадежным кажется мир (вот уже не хочет Черчилль выводить свои войска из советской части Германии). Внушаю себе: Радуйся! Ведь это же тот мир, которого не чаяла ты дождаться. Уже больше месяца не летают бомбовозы над городами и селами, не гремит канонада. Мир. Но кто-то во мне отвечает: Дорога цена его. И я слышу, как плачет Рахиль и у нас, и в Германии о детях своих “и не хочет утешиться, ибо нет их”.
Эту ночь я одна в комнате. Леонилла в Снегирях. Пешком 4 версты после вагонной давки, если останется жива со своим больным сердцем. Герой труда (повезла с Шурой капустную рассаду).
У меня день переклички с попутчиками в немерече (Трубчевское название невылазной лесной чащи) мира сего. С сестрой Людмилой, с Ирисом, с Анной. “Ау! Не провалились ли в зеленое окно трясины? Не съел ли волк коня? Не подкосились ли ноги от усталости? Не мучает ли голод? Не томит ли жажда? Не покинула ли надежда найти прямую тропинку?” Сестру Людмилу больше не мучает голод. Счастлива, что позвала к себе на работу невестку, находятся силы обслуживать любимую внучку. Ирис мужественно выкарабкивается из трясины Рока и обстоятельств. Анна отвечает: “Никак не прорублю просеку в немерече сердца моего к людям. Там, где их грубость, жадность, наглость, – не умею их любить”. Отвечаю на их “ау!”: совсем недавно выбралась на тропинку, которая, если не потеряю ее, может вывести меня из немеречи. Но двигаюсь плохо. На ходу засыпаю. На мягкой мураве полеживаю-полеживаю.
18 июня
Таня. Геолог. Дочернего по отношению к Мировичу возраста (40 лет). Близко подошедший ко мне за эти два года человек. Особенно тесно сблизила нас и в днях трагедия в личной ее жизни. Таня крепко стоит на ногах. Много у нее мужества, и вся она из породы монолитов, но “оружие прошло через душу ее” от измены человека, которому на служение, веря в его гениальность и высокое призвание, отдала жизнь и шестилетним подвигом служения ему закрепила общность пути – “навсегда”. Так она думала. Так верила.
С Таней мы разные люди. И по натуре, и по жизненным интересам, и вкусам, и по душевному складу. Но у нее высокий культурный уровень, она знает 4 языка, и читала в подлиннике, и знает цену того, что писали на этих языках корифеи четырех европейских литератур. Я очень ценю в ней духовную культурность наряду с моральной высотой и монолитной цельностью характера. И очень дорожу тем, что нужна ей на этом голгофском отрезке ее пути, как Симон Киринеянин был нужен богочеловеку.
Таня забегает на минутку по дороге к обеду. Берет на дом свой и материнский “энэровский” обед (они обе научные работники. Мать – стихотворный переводчик с трех языков). Она заменяет мне глухие мои уши в деловом разговоре по телефону. Таня энергично и радостно устремляется на помощь всем, кто вошел в ее орбиту. В частности – на помощь Мировичу.
Потом Инна, Лека. Мать и сын (11 л.) – на игрушечном кораблике без руля и без ветрил носятся по бурному океану со времени объявления войны. Глава семьи – художник – призван на фронт, и пришла весть, что он не вернется. Инна хватается за всякую случайную работу. Недавно удалось найти нечто по своей линии (Инна была актрисой до замужества). Теперь она руководит кружком самодеятельности в рабочем клубе завода “Калибр”, 500 рублей ставка, около 200 вычеты.
К вечеру прилетел с фронта ящик с клубникой и колоссальными огурцами – с полметра штука. Трофеи войны. Генеральские дары влюбленного мужа лауреатке-жене (Алле). Так же, как и феерические букеты роз в свежайшем виде долетают из Дрездена до Аллиного будуара в 6 час. Когда проложили кабель между Америкой и Европой, Торо с горькой иронией спрашивал: о чем сообщать? Такая же торовско-толстовская мысль мелькнула у меня перед столом, заваленным клубникой. Вот для чего самолеты 4 года разрушали города, убивали и калечили людей. Но умеют еще доставлять и волшебные удовольствия “сильным мира сего” – розы, клубнику (и сахар к ней) – варенья можно наварить на всю зиму. Историческая справка: “служащие получают в это время 300 грамм сахара”.
20 июня. 1-й час ночи
Думала посидеть ночь с Ромен Ролланом – конспектировать ряд его вещей для Людмилы[726] к экзамену, но “не осталось пороху в пороховнице”. Могу записать лишь сегодняшний день. До 4-х у Тани с ее матерью. Таня встречала в своем институте (где она служит) какого-то знатного иностранца. Я промочила ноги. Мария Васильевна (мать) сушила мою обувь, а меня укутала на кушетке каким-то огромным плюшевым пальто и дала мне толстый фолиант со стихами Даниила. Есть не просто хорошая, а прекрасная лирика. Потом Мария Васильевна показала мне много семейных фотографий. Есть замечательный портрет, где она и младшая дочь Ирина стоят, а Таня сидит, поставив локоть на колени и опершись головой на руку. Это уже не фотография, а картина, под которой можно бы подписать “Неотвратимое”[727]. Трагично красивое лицо Ирины, отшатнувшееся назад. Нечто крылатое, поверх событий в скорбном лице матери. И полная собранной энергии и спокойной решимости все перенести – в позе и в огромных глазах Тани.
Вечер у Шаховских. Взапуски чинили носки уезжающему завтра Нике. Едет в лесную школу во Владимир на два месяца. Настроен радостно. И все за него радуются. С ним едет тетя Аня.
24 июня
В столовой освещение à giorno[728]. Букеты. Ужины “с гостями”. Настя Зуева и еще кто-то. Настя только что приехала из Берлина, где в рейхстаге плясала “русскую” с маршалом Жуковым. Из раскрытых дверей Мирович видит простецкое, доброе, милое для него сходством с Н. С. Бутовой, ярко оживленное лицо Насти. Она что-то рассказывает со смехом и комическими жестами. Не будь я глуха, не будь оборванцем, прошел бы для меня этот вечер с Настиными рассказами, с сардинками, конфетами и вареньем.
Вот для того и нужна мне глухота и оборванство: без них еще больше нежилась бы в “приятном”, расплескивалась бы из главного своего русла душа – у самого впадения в океан вечности. “Слишком многое прояснилось для меня и как мало в нем того, что меня касается”. Из поглощенных мною за две недели ради Людмилиных экзаменов книг коснулись меня только детство Козетты (“Отверженные”)[729], предсмертное одиночество Жана Вальжана и фаустовское “Здесь знанья нет! Здесь счастья нет!”. С остальными корифеями всемирной литературы могла бы в эти дни не встречаться без всякого сожаления об этом. Но зато Судьба посылает мне в индивидуальном порядке только нужных в данный момент собеседников. С тех пор, как я питаюсь отдельно в моем изоляторе, мои обеды, ужины, завтраки протекают (пока не изменило зрение) в самом избранном обществе – именно в таком, где со мною одинаково или созвучно “видят, слышат, понимают” жизнь. Чего не было бы за столом с дрезденскими розами. Порой мне хотелось бы послушать 1/4 часа, что рассказывает (в лицах) о театре Алла – она делает это очень живо и своеобразно. Эти замечания и вопросы Аллины нередко умные и тонкие. Но – и это суета. А если есть в такие минуты чувство лишения, обделенности, выключенности из человеческой семьи в изолятор – это стимул на линии возрастания смирения, которого не хватало всю жизнь Мировичу.
84 тетрадь 3.7-11.9.1945
15 июля
Вернулась Ирис от мужа. Радуется, и я за них обоих радуюсь, что сохранил он “душу живу” в тягчайших условиях (больше 4-х лет)[730].
25 августа. Утро. Калистово
“Такое утро в мире было” – Мирович (сергиевского периода).
Солнце, только что всплывшее над лесным горизонтом, косыми еще розовыми, как заря, лучами расстилало по деревне густые длинные тени от строений, частоколов высоких лип, осеняющих кое-где низкие домишки деревенской улицы. Плотный матово-серебряный покров еще не начинавшей просыхать ночной росы одевал огородную зелень за частоколами и обширные картофельные плантации за пределами деревни по одну сторону моей дороги. А по другую сторону до самой опушки леса радужными огнями вспыхивали миллионы капель росы на концах коротких соломинок недавно сжатой нивы. Это была моя дорога, мой день, мой час в Истории мира. В такой час Петр, Иаков и любимый ученик Христа Иоанн взошли с ним на гору Фавор и увидели там лицо учителя “сиявшим как солнце и одежды его белыми как снег”. И весь мир увидели таким, каким видела его в это утро я.
8 сентября
Интересная мысль о поэтах у Даниила. Он говорит устами одного из своих героев[731], что поэт ему представляется таким растением в саду, именуемом человечеством, чьи корни в отличие от всех других растений (не поэтов) находятся в ином плане бытия, не на этом свете. В нашу человеческую жизнь он как бы спускается цветами, по виду похожими на окрестные цветы, но с иным, нездешним, ароматом, с иным значением своих цветов. В них всегда есть зов ввысь, в потустороннее, весть о нем и обаяние встречи с неведомым, высшим миром (речь идет не о личности поэтов, но о их поэзии).
11 сентября
За ширмой, в комнате, превращенной в склад чемоданов, мешков, ящиков, приехавших вместе с Аллой и ее мужем из Дрездена. В числе “трофеев” бочка вина и огромный разборный гардероб. (Ничего похожего на реквизицию в этом, конечно, нет. Просто была возможность, то есть ехали на машине и был в их распоряжении грузовик, сделать дорогой по удешевленным ценам покупки). Алла, еще помолодевшая, похорошевшая, легкая, счастливая. Рассказывала с детским одушевлением про голубой грот, где-то в Чехословакии. В муже хороша совсем не генеральская скромность и застенчивость. И какой-то раз и навсегда осчастливленный вид у него… Но реет для меня над всем этим – и надо мной – видение внутри атомной бомбы. И тот день, и час, когда в апокалипсических ужасах погибли от нее Нагасаки и еще[732] (не помню какой город). Страшная и позорная концовка в истории цивилизации человечества. А может быть, и самого человечества, и самой планеты. Поработает если какой-нибудь ученый над этим изобретением и додумается до того, как единым мгновением своей воли дематериализовать всю планету, как это случилось со всеми людьми и зданиями в Нагасаки. И поскольку это касается всей планеты, даже естественным, мудрым и справедливым кажется мне такой конец всей этой вавилонской башни, которую нагромоздил на земле человек. И невольно вспоминаются из Книги Бытия грозные слова – “и раскаялся Бог, что сотворил человека”.
85 тетрадь 17.9-23.11.1945
19 сентября. 4-й час желто-серого дня
У Склифосовского.
“Роковые мгновения”[733], как хорошо у Цвейга. Там Наполеон, Гёте, Роберт Скотт[734]. Мы здесь – все безымянные. Но каждый из нас волей рока (подставное название – по привычке употребляемое) был из обыденности переброшен в Трагическое. “Во единем миге”.
Шесть дней тому назад на платформе метро в Охотном Ряду должен был налететь на Мировича некто ему неведомый, кому заграждал Мирович дорогу, – и так его грянуть затылком о мрамор мозаичных плит, что переменились ближайшие планы и все содержание дней моего двойника. Если бы он стоял немного вправо или влево, этого бы не случилось.
Но так было суждено, и я стала там, где нужно, и попала из обыденности в Трагическое. Оно для меня не в том, что встряхнулись (слегка) мозги в склерозной голове и было нечто вроде бреда и всякие болезненные ощущения, а в том, что я провела вот эти сутки с 18-го по 19-е в этом доме, насыщенном нежданными-негаданными несчастиями, болью, раздирающей плоть, увечьем, перерезающим обыденную жизнь пополам и другую – оторванную от прежней целой нити часть ее, бросающей в Трагическое. И в Смерть, – но это уже “олива мира, а не губящая коса”[735], и трагическое здесь лишь для тех, кто понес утрату близкого существа.
Рядом со мной всю ночь умирал пожилой человек с желтым лицом, застывшим в смертном упокоении. Он дышал тяжело и несколько хрипло. И его мне совсем не было жалко. Он не мучился. Он был уже за гранью жизни, хоть и дышал. От смертного ложа его излучался мир. Смерть пришла к нему в милосердной форме, даже не исказив черт лица его агонией. Но “оружие” прошло душу его маленькой жены, растерянной до изумления, до того, что она не находила у себя слез. Она металась то к одной, то к другой сестре, то просила меня “послушать” его ночью, как будет отходить. И то и дело наклонялась к нему и громко целовала его лицо со всех сторон, как будто надеясь этим его оживить. И что-то на ухо ему шептала. И с диким взглядом пожимала плечами, не умея понять, что он уже замолчал навсегда. Она ушла домой. Я подходила к нему три раза. Но умер он без меня, в те полчаса, какие я в эту ночь подремала. Умер – и завещал он – и еще двое других в эту ночь в нашем коридоре умерших завещали мне не забывать о них. И те, кого провезли мимо моей постели из операционной в глубь коридора, – все эти окровавленные, изувеченные люди потребовали от меня обещания не отходить от них, поднять и принять за них то, что с ними случилось. И не только в этой тетради быть с ними. И в сжимании и трепыхании сердца по ночам, но реально, действенно, жертвенно (словами этой женщины, просившей меня “побыть ночью с ее мужем, когда он будет отходить”). И личная моя трагедия здесь в том, что нет уже, по правде нет никаких сил. Останется от этих дней для Мировича важный опыт и напоминание, расширяющий заширменный круг дня. Для людей же только эти строки. И в мире те благие желания, какими “вымощен ад”. А я ведь через всю жизнь знала, что могла осуществиться эта неосуществленная моя миссия: лечение телесных и духовных недугов человеческих и напутствие душ, разлучающихся с телом.
30 сентября – 5 октября. 11 часов. За ширмой
Что подумается. Что вспомнится. Что позволит вспомнить и оформить склероз мозга.
Сегодня Ирис сказала, когда зашла речь о дряхлости моей и моих сверстников: “Ваша дряхлость только телесная. И поразителен контраст между ею и свежестью и крепостью духовной стороны”. И прибавила с улыбкой: “Как будто нарочно для того, чтобы подчеркнуть независимость духа от тела”.
Нет, милый Ирис мой. Хотела бы я так думать о Мировиче. Но не могу обольщаться. Не могу не видеть, как заторможены колеса психического механизма души. Не случайно шесть дней подряд ничего не вписывалось в страницы этой тетради. И был на днях чудесный сон, для которого во сне же родилось название “кристаллизация алмаза” – и до сих пор не хватает слов и сил записать его. Пыталась рассказать его Анне и Тане Усовой, но сомневаюсь, что это удалось мне. Да и как “поведать несказанное?”. Это могла бы сделать музыка, с которой и начался сон.
Музыка тихая, но вполне внятная, таинственная и литургически-торжественная, говорящая о чем-то доселе неслыханном, о потрясающе новом. Ее слушали в гостинице, у подножия горы я и несколько близких мне лиц. В центре их – моя мать, помолодевшая и какого-то воздушного, бестелесного облика, в белом покрывале, наброшенном на голову и плечи.
“Слушайте! Слушайте! – говорили они строго, когда кто-нибудь двигался или вставал, чтобы уйти. – Это – из горних стран”.
– Это – кристаллизация алмаза, – сказала Ирис с вдохновенным лицом. – Великий праздник.
Во сне я глубже, подробнее, полнее знала и ощущала (как в детстве пасхальную заутреню), в чем этот праздник состоит. (И будто уже не первый раз я на нем присутствую.) Попытаюсь рассказать дневными словами то, что в ночном сверхсознании прозвучало мне.
Все, что делается в человеческих душах в духовном отношении важного, что Христос называл “единым на потребу”, “алкание и жажда правды”, все преодоления низшего “я”, все проявления любви (о каких в павловском послании к коринфянам), все живые движения веры и упований, все акты смирения, терпения, молитва, жертвенное горение творчества – все активное живое, творческое в жизни духа на земле копится и хранится в горнем мире в некоем вместилище, пока не наполнится оно до краев. Когда же совершится это, появляется в мироздании кристалл, уже навеки просветленный, неподвластный силам тьмы. В нем залог и уже начало Новой земли и Нового неба. И первое в небесной литургии поминовение имен тех, кто внес в него дары своей души.
23 октября
Другой сон (в 10-м часу утра)
Голос Леониллы:
– Вставай поскорее. В кухне Толстой. Ждет тебя.
– Лев Николаевич?
– А то кто же? Алексей – “Хождение по мукам”? Так ведь он умер. Через минуту я уже на кухне. Ничуть не удивляюсь приходу Толстого, но очень радуюсь ему.
Он задает мне ряд вопросов – о моих отношениях с Тарасовыми, о детях, об атомной бомбе, о возможной войне с Америкой через год. И сам по этим вопросам говорит что-то очень яркое, очень значительное, очень толстовское. Помню только физиономию его мысли, но ни отдельных выражений, ни связи между ними не помню. Но очень жива та часть его речи, где он тихо, очень интимно, с блеснувшими на глазах слезами говорит:
– В вашем возрасте вы, верно, тоже знаете это: когда вспоминаешь порой всю жизнь – не те события, не те чувства вспоминаются, какие мы считали самыми важными – счастливыми или несчастными, а какие-нибудь слова, стихотворные строчки, встречи со слепой нищей, раздавленная собака, первая апрельская трава, чей-нибудь осудительный взгляд или побежденное тобой низменное желание. Словом – вехи, направления, дороги. А то, что на ней, – преходящие тени.
– А люди? По-вашему, тоже тени?
– Люди – спутники, попутчики. А если нет – тени. Или молот, которым выковывается в душе терпение и смирение. Все вместе – нагромождение лесов вокруг строящегося здания. Его не видно нам. Но оно продолжает строиться. А леса у нас с вами наполовину рухнули.
(Тут опять голос Леониллы на расстоянии одной-двух минут после первого предложения вставать: – Вставай же скорее! А то не будет горячей воды.)
27 октября. 2-й час ночи
Отголоски “военных ужасов”.
Аллочка Бруни и три сестры ее и мать возвращены на родину “по месту жительства”[736].
Мать в тот же день, как заявила о своем прибытии, не вернулась к дочерям. Им не дают о ней никаких сведений. Аллочка прожила три года (от 17-ти до 20-ти лет) в прислугах в немецкой семье. “Не обижали. Но заваливали работой – и чтобы все минута в минуту. И никто не знает, кто этого не испытал, что значит прожить три года в подчинении людям, с которыми твоя страна воюет. И когда вокруг ни одного своего человека, никого, с кем бы душу отвести”. Когда говорила, ее полудетское подвижное итальянское личико стало строгим и почти мрачным. Дима не сводил с нее восхищенных, преданных глаз. Весь, без остатка отдался ее обаянию. И за одну неделю после встречи с ней – переродился из брюквы в цветущее персиковое дерево.
Старшая сестра Аллочки, Агния, по словам младшей, “пережила – и в концлагере, и в прислугах – что-то до того ужасное, о чем не может рассказывать. И вся изменилась. Мы ее не узнаем. И вы не узнаете”.
Второй отголос – письмо моей двоюродной племянницы Маруси Каревой. Она тоже только что возвращена из Германии, куда ее угнали немцы вместе с ее четырнадцатилетним сыном Юрой. Она пишет: “Пока не нахожу сил рассказать, что такое немецкая каторга”. Просит Аллу (она в школьные годы была в числе подруг А. К. Тарасовой) сообщить, все ли в ее семье уцелели, справляется также обо мне, единственной своей родственнице. Киевскую комнату свою она нашла занятой кем-то. Ее же с сыном отправили на ближайшие торфоразработки. Жалоб и просьб никаких. Узнаю Марусин гордый нрав. Но все ясно, без комментарий. Осень. Болото. Ничего теплого. Все вещи пропали.
29 октября. 1 час ночи
Хроника текущих дней.
Дни моей жизни проходят бесследно, и больше жить я недостоин. МендельсонОратория “Илья-пророк”Судомойство. Горы посуды три-четыре раза в день. Вся стряпня на Леонилле. (Домрабы исчезли – одна уехала в Ленинград, другая заболела.) Герой труда – Леонилла (без кавычек). Колоссальная энергия, огромная воля к работе, никакого самосожаления (75 лет!). Помогаю ей, чем могу, – но если она по количеству энергии – Крез, я – нищий. Она не может не презирать меня. И недавно на кухне был такой диалог. Леонилла (давая выход накопившемуся презрению):
– Все-таки почему так могло выйти, что у тебя во всю жизнь не было ни мужа, ни детей – при таком успехе головокружительном у мужчин, ни дома, никакого имущества?
– Вышло – значит, иначе не могло быть.
Леонилла:
– Плохо! Плохо! – размахивая разливательной ложкой.
– Разве домом и детьми определяется хорошее и плохое в человеческих судьбах? Или мужем – общественное положение, имуществом.
– Философствовать можно сколько угодно, но всякий знает, что если нет у него дома, имущества, семьи, детей – это плохо, плохо.
– Но вот передо мной твоя судьба – всю жизнь с семьей, с каким-то имуществом. А теперь с домом дочери, у которой имущества хоть отбавляй, – неужели ты думаешь, что я хотела бы быть на твоем месте?
Леонилла с минуту молчит. Еще так недавно был у нас разговор о непосильной трудности ее роли в дочернем хозяйстве. Но она не сдается. И когда я уже выхожу из кухни, вслед мне раздается громкий крик:
– У меня уже не хватает сил. Но я родила и вырастила пятерых детей. А ты – ни одного. Всю жизнь прожила бобылем. И это плохо, плохо, плохо.
1 ноября. 2 часа ночи
Несколько часов тому назад (между 8-ю и 9-ю часами) умер от удара Хмелев[737]. Во время репетиции, в одеждах Иоанна Грозного, в гриме. Как и в этой смерти, что-то есть жуткое в актерской жизни. Хроническая подмена своей личности чьей-то, иногда по существу чуждой или низменной, порочной, преступной.
2 ноября. 11 часов утра
Смерть Хмелева переполошила вчера всех в нашей квартире. Алла одевалась, чтобы идти в театр, к праху своего Каренина, заплаканная, испуганная, потрясенная так, как будто никогда, подобно царевичу Сиддхартхе[738], не слыхала, что есть в мире Смерть. Она панически боится ее призрака для себя и для близких. И всего, что о ней напоминает, боится. Леонилла, с трясущимися руками собираясь в театр, приговаривала скорбно:
– Какое несчастье! Нужно же случиться такому несчастью! Всего 41 год. И такой замечательный артист.
Меня потянуло из моего закоулка на простор, на свежий воздух. Я вспомнила, что дети ждут меня в этот вечер, чтобы поговорить о вчерашнем спектакле, несмотря на то, что был уже десятый час, поехала в Зубово.
На обратном пути с каким-то завистливо-радостным чувством к Хмелеву думала: вот этого пьяного человека, который спит в грязи на камнях у входа в метро, Хмелев уже не увидит. И не увидит избитого, в синяках и кровоподтеках, распухшего беспризорника, мимо которого я прошла сейчас, мимо которого прошел бы и Хмелев, мимо которого нельзя проходить ни одному взрослому человеку. И не будет там цыганки, к которой потянула мужская безудержная плоть, не будет вставать жалостный образ покинутой жены (я ее встречаю в лифте и в вестибюле, она живет против нас). И не будет больше ни лжи, ни компромиссов, ни власти низменных страстей, ни погони за деньгами. А то, что в нем было “не от плоти, не от крови”, – его чудесный творческий дар нужен во вселенной не для одного московского в Камергерском переулке театра. И может быть, в “иных краях иного бытия”, – там, где нет Ляли Черной и всех болотистых испарений МХАТа, возрастет и раскроется в новых формах таинственное зерно, которое в человеческих душах называется талантом. Аминь.
А пока это осуществится – упокой, Господи, душу усопшего новопреставленного раба Твоего Николая “в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном”…
3 ноября. 1-й час ночи
На той же сцене МХАТа, где в 3 часа дня стоял гроб с телом Хмелева и Алла обращалась к нему с прощальной речью, в 8 часов она была уже Машей из “Трех сестер”. До чего же мне чуждо и каким противоестественным кажется актерское творчество. Чиновничья пригвожденность к дням и часам (в таком-то часу, такого-то дня гримируйся и “твори”). Не то, что тебе сегодня хочется, чем ты полон, что в тебе само “творится”, – но то, что помечено в афише. И можно ли что-нибудь “творить”, когда в сотый или двухсотый раз играешь Анну Каренину и она уже до тошноты надоела. И что бы ты в этот вечер ни думала, чем ни горела бы твоя душа – “ты наряжайся и лицо смажь мукой” – смейся, паяц (или плачь), – как это написано в твоей роли, и каждый раз одно и то же, слова в слово.
Вчера много говорили о театральном искусстве с Инной. Она, по-видимому, прирожденная актриса. “Все равно, что играть, и ничего, что в заранее определенный и безотменный день и час – все равно это упоительный процесс, с которым ничего не сравнится”.
– Но если нужно изображать (из себя, из своей личности! из своего лица!) личность преступную или пошлую, ничтожную?
– Все равно. В Semperanto один раз мне досталось сыграть проститутку, развратную, грубую, циничную, – и мне, по словам товарищей, роль эта замечательно удалась. Тут все равно кого играть, Жанну д'Арк или проститутку, – важно и упоительно то состояние, когда это удается.
– Что удается? Перевоплощение?
– О нет! Перевоплощение – это как будто какое-то одержание. Тебя совсем нет, а на твоем месте то лицо, которое ты изображаешь по пьесе.
8 ноября
(У Ириса. Нашла у нее на ночь пристанище, так как в нашей комнате ожидались гости.)
Сон – после вчерашних вечерних разговоров с Ирисом и с Николкой об атомной энергии, Ирис передавала мнение дяди (профессора), что в числе результатов этого открытия (при неосторожном или злоумышленном применении его) весь наш шарик разделит участь Нагасаки. Ириса это ничуть не ужаснуло (“у Отца есть обереги многие”), но Николка расстроился и уснул в слезах. А мне приснилось, что из атомной энергии удалось добыть такой луч (очень похожий на луч сегодняшних прожекторов), который переносил корабль, попавший в сферу этого прожектора, на любую планету нашей Солнечной системы. Вместе с Ирисом и с Николкой наблюдали (с торжественным и радостным чувством) отплытие такого (первого) корабля вверх по лучу прожектора. Стройный, небольшой многопарусный корабль.
86 тетрадь 5.11–29.12.1945
26 ноября
За ширмой, в ожидании 9-ти <часов>, когда генерал покушает, заботливо огражденный Леониллой от встречи с Мировичем, и отбудет на службу.
Недавно очень дружественно ко мне расположенные две женщины с изумлением и почти с завистью слушали, как объективно-юмористически отзываюсь я о моем приживательском жребии.
– И вы его приняли совсем, до конца? – с засветившимися глазами спросила младшая из них. – Не сердитесь, не обижаетесь на них?
– Бывают такие движения. Но скоро гаснут, и нового следа уже не оставляют.
– И вы можете любить их, как прежде? (Они знали, что это мои старые, многолетние друзья.)
Я должна была сознаться, что прежней, ничем не омраченной радостной любви у меня нет. Но есть жалость, участие, сорадование. И сопечалование. А когда им этого от меня не нужно, есть крепкая раковина, в которую я прячусь от них с головой.
22 декабря. 4-й час (ночи? утра?)
Наверху лежит в параличе Иван Михайлович (Москвин). Кровоизлияние в мозг. В 1-м часу дня. Отнялась левая половина тела. Мне хотелось пойти к нему. Мой “астральный массаж” помогал ему, когда он болел невралгией. Но там вокруг, по словам его экономки Марии Алексеевны, чуть ли не четыре доктора. И, верно, кто-нибудь из театра. И родственники. Ужасно грустно мне от полного безучастия, проявленного к этому событию в нашей квартире. Ведь он, может быть, уже у самой-самой грани таинства смерти. Не говоря уже о великом несчастии – сознавать себя паралитиком. Алла в мужских штанах, в голубой шали, в золотых локонах пленительно улыбалась генералу. На кухне, когда я заговорила об Иване Михайловиче с Леониллой, о том, как хотелось бы быть к нему ближе и как он, по существу, одинок, ответила с обычным лицом: “Это что! А вот Шуры нет до сих пор, она в Снегирях”, – и прибавила еще с авторитетным легкомыслием, которое всю жизнь ранило меня в ней: “Там родные… и вообще – удар в старости – тут ничего нет удивительного”.
23 декабря. 3 часа дня
Иван Михайлович жив. Ночью не могла отойти от него внутренно. И так остро тревожно было за него. А может быть, отчасти и за себя. Никак не примет параличного удела Мирович, ни для себя, ни для других. Леонилла как будто сумела это сделать. Помогает ей, кроме нравственного мужества, отсутствие воображения, и мотыльковая легкость, и алогичность суждений, и колоссальная энергия (“и с одной половиной можно великолепно управиться”). И отсутствие “саможаления”.
Алла сегодня совсем другая. Веяние близкой смерти из москвинской квартиры коснулось тех струн ее души, которым она не дает, боится дать звучать. А между тем, когда они звучат, весь облик ее – и внутренний и наружный – становится неотразимо прекрасным.
24 декабря. 11-й час
Иван Михайлович безнадежен. Был консилиум. И сейчас вокруг него доктора, жена, невестка. Я не хотела вмешиваться в их окружение, если бы меня и пустили. Вчера это имело смысл – он был в сознании. Но все-таки хотела быть к нему и пространственно, а не только душою поближе, и я с полчаса простояла на площадке у косяка его двери. Мимо меня проходили какие-то актерского вида лица, входя без звонка. Из прихожей выглянул администратор Федор Николаевич[739]. На бритом, алкоголически оплывшем лице его было хорошее выражение участливости и печали. Он что-то спросил меня, чего я не расслышала. Может быть, пригласил войти. Может быть, пояснил, что здесь только родственники и театр. Я сказала: – Мне хочется побыть поближе к Ивану Михайловичу, но в то же время остаться одной. Я не собираюсь входить в квартиру.
87 тетрадь 1.1-28.2.1946
5 января. 11 часов вечера
Около суток недвижимого пребывания в постели с холодным пузырем на голове, с горячей бутылкой у ног. Неукротимая пульсация мозга – сверх обычных шумов в голове ожесточенно стучащий молот в тот или другой участок под черепом. Сегодня вокруг правого уха. Ночью приснилось (в полудреме – настоящего сна в такие ночи не бывает) – Филипп Александрович Добров, мой врач и друг в течение 35 лет, умерший за год до войны[740]. Во сне он вбежал в мою комнату – как во всех почти снах моих я нахожусь в гостинице. “Вы стучали? Вы звали меня? Что у вас такое здесь делается?” Я понимаю, что это стук прилива крови к правой стороне головы, но отвечаю: это падали какие-то коробки со стола. Тут же и Н. С. Бутова (актриса МХАТа, лет 25 тому назад умершая). И как было однажды в действительности, когда он уходит, – мы шутя обнимаем с двух сторон и целуем в правую и левую щеку. Он смеясь отбивается и убегает. Проснувшись, я вспоминаю, что он советовал от пульсации и шума в ушах смазывать за ушами медом. К вечеру прибегаю к этому средству, и, может быть, от этого мне сейчас гораздо легче.
12 Января. 2-й час ночи
В эту ночь мне приснился краткий, но тревожный сон: Елизавета Михайловна Доброва, где в последних снах моих – в гостинице живет и она, и я, и много других моих друзей и знакомых. Встреча с ней, как всегда при жизни ее, мне приятна, хотя вид у нее чем-то недовольный. Я спрашиваю: – Где же Ника? Во сне он живет в семье Добровых и как-то отождествляется с их племянником, теперь уже сорокалетним, Даниилом Андреевым. – Что-то с ним поделалось, – расстроенно говорит Елизавета Михайловна. – Не слушается, да и только. Я уложила его в постель. Он еще не спит, войди к нему, если хочешь, – но я никуда его не пущу.
Я вхожу, и печальный голосок из-под одеяла говорит мне: “Баб Вав, я не совсем здоров. Тетя Аня меня на елку не пускает”.
Таким же точно голосом он ответил мне сегодня наяву по телефону на мое приглашение пойти со мной на елку к Инне.
19 Января
Реквием. (Старанием милой Тани Усовой пошла в консерваторию.) Не узнала Моцарта, которого слышала несколько раз здесь же и раньше в Петербургской консерватории. Может быть, потому что forte оглушали, а piano не долетали до слуха. А главное, после той музыки, которую теперь слышу иногда во сне (в Калистове и наяву два раза, в поле), особенно после сна, где о “кристаллизации алмаза”, человеческие голоса и все исполнение кажутся такими грубыми, такими далекими от того, что я привыкла соединять со словом “Моцарт” и с темой реквиема.
В антракте, когда Таня и Ефимовы ушли в фойе, сидевший рядом с нами человек средних лет полуеврейского типа обратился ко мне с вопросом: “Какой нации Моцарт?” Я ответила. “А на каком языке они поют?” Он так хорошо, всем существом слушал, и глаза у него были глубокие, глядящие внутрь. Я невольно удивилась его неосведомленности и сказала:
– А я подумала, что вы музыкант.
– Нет, – сказал он грустно. – Я простой советский служащий. Но музыка – моя жизнь. Я не пропускаю ни одного хорошего концерта.
Тогда я спросила его:
– А что вам нравится в музыке – то, что она дает забыть все домашнее, житейское и себя самого? Или еще то, что она вас делает другим, уводит в свой мир, где другие законы жизни, другие чувства, все другое?
Он, верно, не думал на эту тему, но по лицу его я увидела, что он сразу понял мой вопрос, когда ответил с блеснувшими глазами:
– Да, и то, и это. И забываешь всякую чепуху и неприятности. И сам становишься лучше.
– А согласились бы вы, если бы это было в сказке – жить только этой жизнью в симфониях, в Чайковском, в Рахманинове. И вы бы не уставали и не хотели бы ни есть, ни пить, и не нужно было бы ни службы, ничего другого – только музыка.
Он несколько минут всматривался внутрь себя и, тряхнув энергично головой, ответил:
– Согласился бы.
И через минуту, обернувшись ко мне с улыбкой, еще тверже прибавил:
– Почему же не согласиться?
21 января. Ночь
Последняя встреча с Ефимовым (скульптор) всколыхнула глуби и волны далеких морей Былого. В фойе консерватории мы внутренно (и для меня, да, верно, и для него нежданно) устремились друг к другу, точно по мановению самого Эроса, бога богов и человека. Иван Семенович со всей своей безудержностью и безоглядностью, к изумлению публики, целовал мои руки и лицо и не выпускал из своих объятий целую минуту. И на улице, провожая меня домой, несколько раз, не переставая что-то возбужденно и поспешно рассказывать (к поцелуям никакого отношения не имевшее), наклонялся с поцелуями. Тут же, на расстоянии шага за нами шли его сын, невестка и Таня Усова.
– Охота вам целовать старуху, – сказала я.
И спутники наши, верно, что-нибудь на эту тему удерживающее его сказали, потому что он, обернувшись в их сторону, почти грозно прокричал:
– Я человека целую!
А я тогда понимала, а теперь еще больше понимаю, что Эрос, в чьей власти мы прожили около часа, относился не к нему, не ко мне, а к близкой мне девушке, которую он в этом куске общего прошлого, в сергиевские дни любил романтичнейшей, фантастичнейшей, очень страстной и очень платонической любовью[741].
7 февраля
Не спится. Захотелось писать даже о том, как вдруг показалось, когда шла полчаса тому назад из ванной, что все – сон. И вспорхнула в душе радостная мысль – близко пробуждение (29 марта 77 лет мне).
И вспомнилось, как много-много лет тому назад мы ехали с Львом Исааковичем из Тарусы в имение (забыла, чье), где снял на лето барский дом С. В. Лурье. Помню мост, его арки. Голубое, в перистых облаках небо, голубой простор Оки, лиловые дали. Стройные сосны по берегу. Щедрая, полнозвучная красота солнечного летнего дня. И вдруг Лев Исаакович спросил меня:
– А вам не кажется, что все это сон?
– Что – сон?
– Все, что вокруг. И то, что мы с вами едем к Лурье. И все, что с нами совершается. Вся наша жизнь на этом свете.
Тогда я лишь отчасти поняла, что он хотел мне сказать. Но после, в такие минуты, как сегодня на пороге ванной, понимаю ясно – исходя от ощущения близкого пробуждения.
12-й час дня
Лизино рождение. 20 лет. Прекрасные отцовские глаза, с выражением, какое мистики-художники придавали глазам Мадонны – “Ave vera virginitas”[742].
Вошел в мой закоулок Лев Исаакович после вчерашней, заключительной – торжествующе-живой строфы мертвенного дня. Строфы, прозвучавшей с тех берегов, куда отплыл он. Припомнился его сон, который он взволнованно мне рассказывал тогда же, по дороге из Тарусы в имение Челищевой[743]: “В ночь после того дня, когда я ездил в Ясную Поляну[744], после двухчасового разговора с Толстым – об «Анне Карениной» и о «Воскресении», и о рассказах для народа – снится мне, что я опять в кабинете Толстого, но это другой кабинет. И тоже – Ясная Поляна – только другая, настоящая. И он сам другой – настоящий. И говорим мы о том же, что вчера, но без слов – и тоже по-настоящему”. Как он любил говорить со мной. Как я любила его слушать.
11 февраля. 12 часов дня. Мороз
Встреча с Другом (Львом Шестовым) в уцелевших остатках малоярославского архива.
“Верующих много на свете, а веры мало”.
“Когда я с Вячеславом Ивановым, с Булгаковым, я чувствую, что я по сравнению с ними уже верующий”.
“Я не могу надивиться, как они, неверующие, могут тешиться словами, ничего не имея за ними. Не ищут, не мучаются… Как им не страшно оставаться наедине с собой”.
Стою с ним у подножия горы Синая. Вижу его лицо ветхозаветного пророка, озаренного блеском тех молний, вслед за которыми раздалось “Аз есмь Господь Бог Твой”. И вижу мучительную складку скепсиса в морщинах около рта, жадно ловящего как дыхание Жизни, вместе с настороженным ухом, те слова, каких он ждет с вершины Синая и о которых проносится уже мысль: “А где же доказательство, что это не мой бред?”
12 февраля. Вечер. 12-й час
Был сегодня Даниил. Последние три года видимся не больше двух раз в году. Но внутренняя связь, надорвавшаяся было года полтора тому назад, восстановилась в прежней, с его детских лет, живой силе и правде. Но как постарел он, бедняжка! Изнурение и опустошение – точно по безводным пустыням среди миражей прошел эти годы.
16 февраля
Сейчас узнала, что сегодня в полчетвертого дня скончался в Кремлевской больнице Иван Михайлович Москвин. Вспомнилось его искаженное нестерпимой мукой, залитое слезами лицо, с компрессом на темени три зимы тому назад, когда ломалась его связь с Аллочкой. Вспомнилось терпеливое, внимательное, участливое выражение лица, с каким он выслушивал просьбы людей, искавших у него помощи в беде (это было в короткий период моего секретарства – тогда я звала его “печальником земли русской”). И вспоминаю, когда удавалось исполнить чью-то просьбу, радость, заливавшую, как солнечный свет, его старческое лицо и делавшую его младенческим. Так смеются обрадованные желанной игрушкой дети. И собственная мука и сострадание, и братски любовное сорадование чужой радости – да облегчат путь его душе на той дороге, куда открыл его врата смертный час. Вечная память его доброте, с какой он выслушивал меня, когда я говорила ему о чьем-нибудь горе.
Ночь.
Таким облегчением было сейчас узнать, что Иван Михайлович умирал в больнице не одиноко. Он позвал священника, и были родные, с которыми он захотел проститься. Принял смерть мужественно, спокойно и в духовном просветлении. Милый, милый Иван Михайлович. Недаром при встречах с ним, когда он говорил о театральных или житейских вещах, всегда для меня звучало то, что роднит людей с пробужденным самосознанием души. И никогда я не верила его “неверию”, о котором мне иногда говорили. И разве мог бы неверующий человек так перевоплотиться в царя Федора, как он? <…>
17 февраля. Около 3-х часов ночи
Напрасно вчера я так радовалась за Ивана Михайловича, что исполнили его последнюю волю, пригласили священника. Оказалось – для того, чтобы причастить умирающего в Кремлевской больнице депутата Верховного Совета и артиста с мировым именем, нужно было с утра до 4-х часов добиваться (или делать вид, что этого добиваются) разрешения Калинина (!). Разрешение последовало тогда, когда душа умирающего уже покинула его тело. Алеша рассказывал об этом с негодованием, и было ясно, что ему до боли жаль Ивана Михайловича. Леонилла защищала кремлевские порядки, как всегда, – “значит, так нужно было сделать, ну и сделали”. У Людмилы было гневное и печальное лицо. Она молчала.
18 февраля. 3-й час ночи
Иван Михайлович (тело его) эту ночь будет стоять в фойе МХАТа. Не исполнили и эту его последнюю волю – переночевать накануне погребения в церкви, и вообще, быть похороненным по православному обряду. Мне хотелось отдать ему “последнее целование”, но очередь была так громадна, что для этого пришлось бы часа полтора-два простоять на морозе.
Где он теперь? Кто он теперь, тот, кто был еще недавно артист, депутат, директор МХАТа – Иван Михайлович Москвин. “В месте светле, в месте злачне, в месте покойне” упокой, Господи, его душу после тех бурь, какие разразились над его старостью.
88 тетрадь 1.3-31.3.1946
(Блокнотик, самоотверженно подаренный Кисой Ильинской[745], ввиду невозможности для автора записок приобрести тетрадь в Мосторге (оказалось, она стоит 50 рублей).)
Мое предложение нашим детям делиться друг с другом и со старшими поколениями той умственной или творческой работой, какой они заняты, мое желание объединиться с ними в общем интересе к миру идей – научных, этических, философских, эстетических – возникло во мне после чтения работы тети Ани над биографией Вернадского. Все, чем жили в первой молодости он и его ближайшие друзья – Д. И. Шаховской, Ольденбург, Гревс, – сильно всколыхнуло в душе память и о нашей (моей и Леониллиной) молодости. Такое же, как и в этом вернадско-шаховском кружке, искание смысла жизни, жажда подвига, горение вопросами этического порядка. Много было в этом наивного, несбыточного, но так сильно бился пульс жизни, так высоко над личными интересами парила мечта, что по сравнению с этим то, чем и как живет современная молодежь (не партийная, которой я не знаю), показалось мне такой суженной, бедной, бескрылой долей, что захотелось разбудить, растормошить их, втолкнуть в круговорот идей, приучить мыслить, хотя бы в пределах их биологии или геологии – но загореться мыслью, полюбить горение.
10 марта. 2-й час ночи
Две мысли живут сегодня со мной. Одна не моя, но ставшая моею лет сорок тому назад, когда Лев Исаакович (“Апофеоз беспочвенности”) однажды сообщил мне ее. Мысль о людях (к ним причислил он и себя, и меня), которые не умеют (не хотят? не могут?), вернее, которым не суждено жить целями, задачами, интересами, какими живут вокруг те, кто прочно с сознанием прав и обязанностей в этой области населяют землю, делают Историю человечества. Эти отщепенцы, о которых он говорил, “прикасаются к общей жизни и к истории своей эпохи лишь в одной точке, откуда с первых моментов сознания душа их движется дальше по касательной линии”.
Из великих имен называл он Ибсена, Байрона. Я прибавила Лермонтова: “Как в ночь звезды падучей пламень, / Не нужен в мире я”[746].
И немало других с меньшими именами поэтов в этой плеяде. И много безумцев, странников, “лишних” людей. Типичнейший из них – Аполлон Григорьев, книга которого и о котором – спутник моих последних ночей. Он так же, как и Лермонтов, называет себя “ненужным человеком”.
11 часов. Ватагин, крупный художник, анималист, читал вчера для очень тесного кружка статью свою “О звере в искусстве”[747]. Таня Усова, у которой мы собрались, несколько раз говорила мне о привлекательных сторонах его личности. Их я почувствовала и до встречи с Ватагиным в его чудесных иллюстрациях к Киплингову “Маугли”.
Таким он оказался и при встрече нашей – влюбленный в братский человеку лик “Зверя”, в тайну его красоты и силы; мягкий в обращении, простодушный, открытый и в то же время (и по статье, и по глазам, и по интонациям голоса, и по тому, как и что говорит) видно и слышно, что прежде всего он из той горсточки “единого прекрасного жрецов”, которые не живут лишь в искусстве и для искусства. И в то же время он философ и поэт – его рисунки – поэмы о Звере.
Я сказала ему: “Ваши звери не те, какие созданы Творцом в шестой день творения, и не дарвиновские. Ваши сотворены в седьмой день, и творец их – Ватагин”. Он улыбнулся мягкой, застенчивой улыбкой и показал нам целую серию великолепных и фантастических и в то же время реальных диких и домашних животных – красоты невыразимой. В линиях, в ритме их звучит музыка.
В разговоре на тему “о звере” я призналась, что мир животных – и диких, и домашних, самый факт существования их отражается во мне с раннего детства как нечто чуждое, непонятное и мистически страшное. Ватагин поглядел на меня вопросительным, любопытствующим взглядом. Я постаралась уточнить, что во мне будит жуткое чувство в самой форме животного – четвероногость, рога, копыта, хвосты. Не говоря уже о гадах и насекомых – перед ними я испытываю и физическое, и душевное содрогание, при этом я упомянула, что был ряд случаев, когда животные ко мне относились, наоборот, с дружественным устремлением, и что это меня пугало и волновало. Ватагин убеждал меня, провожая домой, написать об этих случаях.
17 марта. 2-й час
В Зубово живое (такое редкое) общение с Димой. Его взволновало то, что я ему рассказывала о лекции Ватагина и его рисунках.
Очень жалел, что не мог в тот вечер быть у Татьяны Владимировны. Я обещала съездить с ним к Ватагину в Масловку, когда повезу к нему то, что пишу о моих встречах с животными. Сегодня Дим приглашен к Бруни, где Шергин[748] будет рассказывать, а может быть, и “сказывать” (он сказитель) о Севере. Наконец сын мой начал вращаться в среде, отсутствие которой так огорчало материнское мое сердце. Так же тепло и живо встретилась с девочками, в частности с Машей. Разбирали вместе с ней на Арбате книги Вернадского[749]. Как я благодарна Машеньке за доступ к этой библиотеке. Не умею жить без книг, испытываю чувство томительной голодовки, когда нет того автора, который делился бы со мной своими творческими дарами. Знаю, что это плохой признак – не вообще, а для меня. Мое чтение, кроме немногих книг, каков, например, сопутствующий мне “Смысл творчества”[750], – чтение тех книг, которые допускаю, в которых нуждаюсь рядом с такими спутниками, как Толстой, Достоевский, или книги по философии и по истории – мне всякое другое чтение не более чем отдых, средство уйти от себя, от своего и окружающего. И гурманское (в ином случае) наслаждение.
25 марта. Замоскворечье
Крайнее переутомление Ольги. Мрачные, депрессивные мысли о своей ненужности для Анелички и ее отца, так как с апреля положение материальное их настолько улучшится, что можно будет иметь работницу. “Я знаю, что скоро умру. И ничуть не боюсь, и хочу умереть”. Пояснила потом, что о самоубийстве не думает, но просто близость смерти ощущает, и ничто ее не держит на свете.
– Как? Анеличка не держит?
– И Анеличка обойдется без меня. Это только кажется нам, что кто-то без нас не сможет обойтись. Отлично обойдется. И довольно уже… Я двадцать лет работала без одного выходного дня.
В этой нежданно вырвавшейся фразе не ропот, не упрек – но столько помимо глубокого нервного переутомления затаенной, терпеливо выносимой, повседневной горечи, осаждавшейся на душу, в колее, где не было воздуха для расцвета творческих возможностей ее и… то, что мне хотелось видеть на памятнике Лили (Шик-Елагиной): “Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю”[751].
И все же я твердо уверена, что этот мрак и мысль о смерти не из самых недр души, а от ее переутомленного метания. Да и у самой Ольги мелькнула фраза: “Мне только хотя бы три дня отдохнуть, совсем отойти от хозяйства, уйти куда-нибудь из дому – и все стало бы по-иному”.
А тут еще крыса опрокинула постное масло на альбом и залила фотографии Ольгиной матери так, что и лица нельзя узнать. И это переполнило чашу мрака душевного и переживается как предвестник конца. Тут нужно было бы категорическое и энергическое в смысле распорядительности вмешательство (если бы, например, жива была мать Лиса) – отправить немедленно Ольгу в Старую Руссу, где подновила бы сердце (у нее чувствуется еще особый оттенок “предсердечной” физической тоски), где подлечили бы ревматизмы. И дали бы чарами тишины, природы, каких-то ванн выскочить из убогих одежд домхозы этой навеки юной душе и, как Сандрильоне от волшебства феи, из кухонного одеяния в бальный наряд.
31 марта. 12 часов ночи
Прохожу сейчас мимо раскрытых дверей Аллиной комнаты, и оттуда врывается в мое сознание, омраченное и озабоченное отсутствием сахару к вечернему чаю, – знакомая мелодия. И не из Аллиной комнаты она, а из киевской госпитальной тарасовской квартиры. И поет ее не Лемешев по радио, а Л. И. Шестов (тогда Леля Шварцман). И слушает ее, остановившись с чайником кипятку, с апельсиновыми корками в руках не в клетчатом лапсердаке пего-седая, полуглухая старуха Мирович, а двадцатишестилетняя кудрявоволосая, цветущая женщина под ласкающе-влюбленным взглядом певца:
Отчего побледнела весной Пышноцветная роза сама? Отчего под росистой травой Голубая фиалка нема…[752]И чувствует себя эта в киевской сводчатой тарасовской гостиной стоящая у рояля молодая женщина пышно цветущей розой, о которой поется в романсе, а не беззубой старухой в клетчатой кофте, прислонившейся к косяку дверей так, чтобы Алла и генерал ее не увидели и прозаически плачевным memento mori в ее образе не испортили себе настроения, порожденного романсом.
И вот уже выпит чай с сахаром. Алла, пока я была в кухне, положила на мой стол 4 куска сахару. Должно быть, от кого-нибудь из домашних услыхав, что я три дня не могу пробиться в коммерческом магазине к кондитерскому прилавку и три дня уже пью апельсиновые корки и толокно без сахару.
И вот уже нет во мне обеих этих слушательниц чайковской любовной жалобы. Вместо них водит моим пером некто, через кого они скользят, как преходящие тени, в то время как он остается вне молодости и вне старости, свидетель пережитого ими, несущий их опыт в дальнейшие свои воплощения.
И пробудилось в памяти пятьдесят лет тому назад в киевские дни родившееся стихотворение.
И звучит как романс (голосом Л. И.) под чайковско-мировичевскую музыку. Жалею, что не знаю нот и не могу поэтому его записать с его мелодией. А слова вот какие:
О, тишина воспоминаний дальних, Могил затерянных высокая трава, Вечерний перезвон колоколов печальных, Надгробных камней стертые слова. О сны минувшие! Порой милее счастья, Чуть уловимый тихий ваш привет, Где бурные огни любви, страданий страсти Слились в туманно-звездный полусвет. Душа, задумавшись, свой жребий постигает, И в звездных письменах, неведомой рукой Над нею в вышине начертанных, читает: Прощенье и покой.89 тетрадь 3.4-10.5.1946
20 апреля. Время предобеденное
Дождь, осенняя пасмурность. Похолодание. Как видно, оправдывается народная примета: “Какая погода на Благовещенье, такая будет и на Пасху”. Жалко. Собиралась с Инной и Лёкой к полуночи подойти к церкви Брюсова переулка. Там, по словам Москвина, священник в последние годы выходил с троекратным “Христос воскресе” и огромная толпа вокруг церкви отвечала: “Воистину воскресе” и сквозь открытые двери храма слышала древнюю (еще катакомбных времен) песнь победы над смертью. Торжественные слова “смертью смерть поправ” не только к жизни Христа, но к каждому в духе родившемуся относящиеся. – “Даждь кровь, приимешь Дух”. Закон выбора. Закон распятия, погребения и воскресения в каждой человеческой жизни.
…Важное из внутреннего пути земного.
Даниил – просил на коленях прощения у Тани за грубую форму, с какой отошел от ее жизни 2 года тому назад. Назвал свои письма и все поведение того периода “гнусными”. Это уже равносильно покаянию Никиты в толстовской “Власти тьмы”.
25 апреля. Ночь
Радость: письмо Даниила к Тане, прекрасное по искренности и силе покаянного чувства.
“Был мертв – и ожил. Пропадал и нашелся”[753].
5 мая
Был вчера Даниил. Разговор на эсхатологическую тему, как недавно с Анной, хоть и в разной окраске: там – “да будет воля Твоя”, у Даниила – “пока я не любил, я не боялся смерти. Теперь меня страшит разлука”. И не Тристан и Изольда прозвучали в этом, а что-то очень “от мира сего”. У Вагнера (в великолепной “Смерти Изольды”) – торжество двух душ, разрушивших любовью пределы свои, слившихся в одну – для беспредельной устремленности к “мирам иным”. Апофеоз бессмертия. У бедного Даниила в руках новая игрушка, новая игра[754]. Все время, пока он был у меня, щемила сердце материнская жалость.
Mein armes Kind, was man hat der getan![755] Дай Бог, чтобы я на этот раз ошиблась.
90 тетрадь 11.5-31.5.1946
11 мая
По-октябрьски холодная ночь. Днем было солнце, но светило как-то неуверенно. На закате дымно-желтые клочковатые облака.
Несколько часов в Замоскворечье. Сильно нездоровилось, даже пришлось полежать на Ольгиной кровати. Ольга кружится в хозяйственных делах и заботах из последних сил. Я видела, какого ей стоит напряжения не порвать себе туго натянутую узду воли. Держится “в струне”. Выработалось образцовое самообладание. Анеличка проглотила в один присест уэллсовскую “Машину времени”, которую я принесла ей для прочтения. Таких читательных темпов я еще не видела. Впрочем, так же читает Ника. Но его я всегда подозревала, что он пропускает страницы. Не знаю, зачем я обо всем этом болтаю. Захотелось сегодня обновить тетрадь (Ольгин дар вместе с кусочком сливочного масла, горстью сахару и двумя яйцами – это все дефицитные элементы в питании Мировича).
К утру явилась мне в сонном видении Наташа. Молодая, похорошевшая. Волосы по плечам, вьющиеся, как рисуют ангелов (по эту сторону могилы волосы были прямые, тоненькие, как самый тонкий шелк, гладко причесанные всегда). Она мне что-то важное говорила, искала глазами какое-то место на длинной песчаной косе, обросшей по краям низкими вербами. Когда я вышла из сна, я сразу решила, что она хотела мне показать, где похоронен “Миша” – его имя как будто не раз прозвучало в ее речи.
22 мая. 11-й час вечера. За письменным столом Ириса
День Ангела Ники. Он первый раз в жизни надел мужской галстук – синий с разводами. И приколол к блузе цветок черемухи. Ему подарили много черемухи, букетик купав, а я привезла из Загорска зеленых веточек с первыми душистыми листками – привет мая апрельской его Весне. И традиционный билет в театр (вернее – обещание этого билета – Ирис не могла его раздобыть во вторник, отложила на пятницу).
5 часов. За письменным столом Танечки Усовой
У Тарасовых нафталин. Укладка мехов и ковров. Предремонтный “тарарам” (Леониллино словцо). Ни писать, ни читать, ни уснуть негде. По телефону Танин, всегда ярко обрадованный голос. Поспала полчаса на гостеприимной ее кушетке. Рада их видеть – и ее, и мать. Я неподатлива на новые дружественные связи, но для меня ясно, что они своим редкостно активным, редкостно теплым отношением завоевали мое сердце. И не только этим – но (и может быть, это главное) четким и надежным – неспособным снижаться – моральным уровнем.
Дорогой нежданная встреча с художницей О. М. (Чернышевой)[756]. Нежданная созвучность возле мыслей Льва Шестова, которых коснулись в разговоре. (Главная из них: “Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть”.) У Ольги Михайловны сильно близорукие, а может быть, и от базедовой болезни, сильно выпуклые глаза. Легкое, с золотистым загаром лицо – но старше ее лет (ей около 50). Худощавая, высокая фигура. Что-то английское, какая-то свобода и высокая культурность в манерах. Несомненный дар “видения, слышания, понимания”. Будет удачей для меня, если проведу часть лета под ее кровом. Она этого хочет, но комната, которая в ее доме сдается, уже кому-то обещана. Через три дня выяснится, окончательно или нет решила моя конкурентка в этом вопросе переехать к Ольге Михайловне.
28 мая. 1-й час ночи
В открытую дверь балкона влажная свежесть после грозы и обильного летнего дождя.
Обломки, осколки, брызги, искры и капли живой воды в последних трех днях.
Письмо от Сережи. Открытка: сына еще не видел. И к Сусанне в родильный дом не пускают. У нее температура. Была телеграмма: скоро все втроем приедут… Вероятно, для лечения Сусанны.
Елена[757] (поэт и художник, близкая мне душа, ушедшая из видимого мира лет 30 тому назад) однажды, в Сагамилье, под Ораниенбаумом, сказала: “Вы заметили, Вава, что по временам (и здесь свой какой-то законный, музыкальный ритм) – хотите или нет, вы в пустыне, совсем одна, и от вас точно бегут даже самые близкие. А по временам вы превращаетесь в воронку, которая втягивает в себя людей – и тех, которые убегали, и новых, и прежних, уже забытых знакомцев и друзей. И всем– всем что-то от вас нужно”.
В такой воронке сейчас моя душа, мои дни. И, как всегда, у меня в таких воронках толпятся и те, кто уже по ту сторону могилы. Как поредели, опрозрачнились – совсем исчезли, наконец, стены тарасовской комнаты, где я пишу (на бабушкиной половине нашей старческой полуопочивальни, полувещевого склада).
Сагамилье – угрюмые косматые ели, покрытые мхом каменные глыбы – граниты и мениты ледникового периода, лоси из соседнего заповедника, воздушные видения – миражи – корабли над горизонтом Финского залива.
Елена:
Два озера лесных – глаза. В них мудрость вещего ребенка. Порой – нежданная слеза, Порою смех, пленительный и звонкий[758].Скрипка ее мужа[759], чувственная и колдовская, всегда переносившая меня в какую-то лоджию Венеции
…и вижу темную гондолу, Мостов венецианских взлет, И голос сладостной виолы Меня томительно зовет[760],(как было еще раз в жизни, в Ростове-на-Дону). Ренессанс. Поясные портреты мои в костюмах Ренессанса и рядом “ваза с отравленными фруктами” (по замыслу художника[761]. Муж Елены был не только скрипач, но и художник). Исчезнувшая грань между реальностью и тем, что за гранью ее. Сны, видения, воспоминания прежних жизней. И потом целый каскад лиц, хлынувших в мою (и в Еленины) воронку в Петербурге. И всем было что-то от нас нужно. Каждому – свое. Невместимое в слова. Ирреальное (этим, конечно, родственное безумию).
30 мая. 11-й час утра
Дождь. С балкона осенняя сырость (пишу за ширмой, при лампе).
Продолжение брызг жития, уцелевших на клочках (занесены для записи на случай, если тетрадь найдется. Она пропала на сутки – третьего дня нашлась в Зубове).
…Значительный с Таней разговор (краткий). С ней, впрочем, все, что касается не периферии, действенно значительно.
Мирович (после одной небольшой, но очень нужной для других людей услуги, за которую взялся “мой брат-осел” и не мог выполнить и передал Тане):
– Не знаю, Танюша, как бы я обошлась в этот период моего одряхления без вашей опоры. Фактической и моральной. И больше всего мне дорого в ней сознание ее надежности, действенности. Душевной нужности и для того, на кого опираешься.
Таня (со свойственной ей прямизной и простотой):
– А для меня вы разве не опора? В тот момент, когда ушел (трагически непонятно, невероятно грубо) Даниил, только вы сумели наполнить ту зияющую пустоту, куда я провалилась.
Этими словами о “действенности”, проявленной мной в моем одряхлевшем состоянии, Таня точно подставила мне какие-то драгоценные костыли на колесиках (видела такие у инвалидов), необходимые для предстоящей мне активности в сторону окружавших меня “трудящихся, обремененных”, в темницах (духовных) заключенных, жестоко раненных жизнью или за окраину ее, на пустоши и на свалку “отбросов истории” изгнанных.
91 тетрадь 1.6–2.7.1946
11 июня. 7 часов вечера. Кабинет Тани У.
(бывший Даниилов!)
Серо-белое, мягкое небо, без высоты. Лампадным светом чуть мерцающее поближе к горизонту. Два дерева-узника на каменистом четырехугольнике двора. Дети, девочки. Одна и та же – полвека ее вижу – игра: прыгать из одного квадрата в другой – всех квадратов шесть. Прыгают с вдохновенным видом то на одной ноге, то на двух. “Батюшки, как мне ску-у-ушно”. Скучно, может быть, оттого, что очень болит ухо и нечем его полечить. И оттого, что слишком застряла на перепутье от Тани в мой загорский овраг. Димок самоотреченно (очень ему не хотелось) повез к Денисьевне мои вещи. Если завтра не будет так болеть ухо и вернется пропавший голос – двинусь, наконец, в путь одна.
“Ску-у-ушно” еще оттого, что ехать в овраг, а не в леса-дубравы, не на Влахернский холм, откуда, по словам Е. С. (Готовцевой, снявшей там дачу), виден и восход солнца, и закат, и север, и юг. Уныло и обиженно шевельнула на сердце змея зависти, когда она это рассказывала.
Таня, моя Turris eburnea, turris castitatis[762], надежнейшая опора моей – уже не старости, а дряхлости, – неожиданно ушла в театр: достала билет на “Идеального мужа”[763]. И точно от грудного младенца выскользнула из двери его детской мать, матерински успокаивающие, все улаживающие глаза, улыбка, протянутые руки. И встало какое-то колыбельных времен воспоминание, колыбельные слезы, призывные крики… Теперь это тихо. Но это – то же самое.
92–93 тетради 3.7-31.7.1946
3 июля. Загорск. Бульвар
Осеннее, сплошь затянутое тучами небо. Осенний дождь. 10 часов утра.
“…То, что мы называем видимой природой или этим миром, – простой покров, внешняя оболочка, настоящий смысл которой может заключаться лишь в ином, незримом мире”. Джемс (“Зависимость веры от воли”)[764].
Иной мир. Незримый. Мне отрадно было встретить в дни моего загорского томления эти слова, эту мысль у Джемса. Ими он, мыслитель, чуждый пристрастия к мистике, но добросовестно и упорно стремящийся понять путем размышлений, что такое вера, говорит то, что всякий сколько-нибудь мистически одаренный человек ощущает, чувствует, знает вне всякой аргументации. И я благодарна ему за эту книгу, за умное сопутничество в некрополисе, где я ощутила с трагической стороны двойное одиночество Мировича: в области житейской и в области духовной. На физическом плане благодаря некоторым обстоятельствам моего переселения мне пришлось убедиться, что реальной, действенной пружиной выявления ценности человеческих отношений являются, как и сто, и тысячу лет тому назад, – узы крови, закон родового быта, семьи. Отсюда – vae soli[765]. И, как всегда, в таких посылаемых судьбой опытах переживаешь их не за одного себя. Горе одиноким! – этот каким-то римлянином возглашенный приговор, проткнув в какой-то незащищенной части мою душу, пронесся для меня по всей нашей планете. Зелеными искрами вспыхнул в глазах Сони[766], раздался над старой, “предоставленной самой себе” (так ее отрекомендовали) сиделкой Сониной матери. Он надписан над садовым флигелем Марии Виссарионовны, отнятым у нее, и на ее лице, когда идет на “барахолку” продавать остатки бабушкиного тряпья, чтобы купить хлеба. От него сжимается порой детским страхом мужественное сердце Анны с тех пор, как она потеряла работоспособность. Осудил этот клич на предельную нищету и сестру Людмилу, и сестру Елену (Акопенко), хотя есть на свете Биша и есть знающая сорокалетняя близость с Еленой у Тарасовых.
Второй познавательный опыт – духовное одиночество Мировича. Оно особенно отгранилось в моем сознании со времени открытия здешней Лавры и перенесения мощей Сергия Преподобного из музея в Храм[767]. Тогда, перебрав всех близких мне людей по вопросам: Веруешь? Не веруешь? И во что? И как? – я увидала, что у меня нет спутников на пути моей веры в ее динамике, в ее творчестве. И что если бы я поделилась с окружающими меня людьми некоторыми этапами на дороге становления моего духа в данном воплощении, самые близкие и дорогие мне люди сочли бы меня или еретиком, или фантазером и безумцем. Или же, как у Чехова в одном рассказе и как было не раз, когда в квартире Тарасовых я решалась поделиться какой-нибудь мыслью моей, опытом моей души, подумали бы: “Они хочут ученость свою показать и всегда говорят о непонятном” – таков был смысл возражений. Такое выражение лиц. Впрочем, не всегда. Чаще просто недоумение или равнодушие.
5 июля
Какое жуткое лицо на последнем портрете Аллы в “Красной звезде”. Из “Пошехонской старины”[768]. Лицо раскормленное и уже с оплывами надвигающейся старости. Самодовольное, недоброе. И жесткие “твердокаменные” (по выражению Инны) глаза. Может быть, тут виноват и фотограф, и плохая перепечатка фотографии в газете. Но страшнее всего здесь то, что я не удивилась, не подумала: до чего же искажен ее лик! А точно такого именно портрета и ждала. И пронеслись эти два слова, которые уже пробегали в уме в этом году: “Пошехонская старина”. Боже мой! Конечно, не это одно у нее лицо, как у большинства лиц, их – два, три и еще больше. И это, из “Красной звезды” портрет, может быть, лишь ко мне одной обращено. Из-за “тяжбы”. И мой грех есть в том, что уже никогда не встречу я, верно, “ее заревую улыбку, ее крылатые глаза”…
Батюшки, как мне ску-у-шно!
20 июля. Москва, Зубово
День Наташиной кончины. Весь день прошел под знаком ее имени, ее жития, с нею. У Ильи Обыденного на панихиде мешал (мне) священник. Не умею отделять личности свершающих богослужение и внешнего впечатления и флюидов от самого ритуала.
На кладбище было хорошо. И над могилкой Наташи не чувствовалось, что ее прах под землей. Праха совсем не чувствовалось. Была земля – холмик с бледно-синими цветками и с небольшим восьмиконечным крестом – как символ того, что вот здесь прощались мы, я и дети, с земным обликом священного и драгоценного существа. Могуче и пышно, как это бывает только на кладбищах, разрослись вокруг какие-то кусты, травы. Пробилось на свет маленькое деревцо туи. Неумолчно щебетали малиновки.
Была с нами Мария Владимировна Фаворская. Удалось вырвать ее из состояния нестерпимой боли (от гибели двух сыновей на фронте[769]). Отвлеклась в сторону Наташи, которую любила при жизни. Дошло до нее (была такая минутка) Наташино предсмертное исповедание: “Все будет, как нужно. Все будет в свой срок. Все будет хорошо” (потому что все по воле Божьей). Аничка (сестра Наташи) решила вырезать на мраморной доске эти слова и утвердить ее над Наташиной могилой.
27 июля. 1-й час дня
“Зачарованный сад”. Влажный зной. Затуманенное солнце. Затуманенная и от этого серая синева неба. Много облаков – серых, белых и синеватых. Они плывут над вершинами берез и на моих глазах сгущаются в обложную пасмурность.
Ночлег у Софьи Романовны. Убежала к ней, так как ночью должны были чистить нашу клоаку. В большой, зловредно сырой комнате живет она со своими ревматизмами. И не может расстаться с насиженным гнездом. Так и говорит: “Нет, это для меня невозможно”. Проявила трогательную внимательность и даже с оттенком нежности к моему ночлежному устроению. В 10 часов уже темно. Освещения Марья Виссарионовна по своей болезненной трусости (боится пожара от проводов) квартирантов лишает. Больше часа сидели при лампадном освещении. Софья Романовна рассказывала свою биографию. Из нее узнала, что она родом из “западного края” – вот откуда тонкая лепка ее лица и особая утонченность всего существа – и некоторая – над искренностью – искусственность. Самое заметное в ее биографии – год потери мужа, по словам ее близких знакомых – “до безумия ее любившего и служившего ей, как верный раб на каждом шагу”. Он умер 25 лет тому назад – с днями его смерти она слила и встречу со мной, утверждая, что эта встреча, как это ни странно, помогла ей принять эту потерю “как должно”. Удивительно здесь то, что Мирович сам был в те времена беспутен. И наряду с утешительным стихотворным посвящением “сестре Софии” писал о себе:
Кто я? – Не знаю. Где я? Нигде. В бездне беззвездной, В мертвой воде…что-то в этом роде. К счастью, теперь и это состояние души не умею припомнить. И строчки стихотворения дальше забыла.
29 июля. 2-й час свежего матово-голубого солнечного дня
Зачарованный сад.
Утром – волны всеобъемлющей жизни. Единое, неразделимое. Целое. (“И я, и мир, и Бог – одно” – предчувствие сегодняшнего мироощущения, вылившееся в эту строчку лет 20–25 тому назад.)
Этому чувству не только не мешал, но даже как-то помогал носившийся поверх космических волн разговор с Денисьевной о подогревке щей, о починке сандалий. Может быть, потому, что это Денисьевна, которая умеет творить “Иисусову молитву” во время кухонных переговоров.
После этого беседа с Карпентером “О любви и смерти”[770]. Ее мы вели с ним и с доктором Каннабихом[771] в крюковском санатории больше 30 лет тому назад. Каннабих подарил мне тогда эту книгу с дружественным участием к “раненой душе” в целях расширения сознания, которое должно помочь ее выздоровлению. Там немного было для меня нового. Но и тогда, как и теперь, отрадна и “душе полезна” эта встреча с мыслями попутчика[772], отстоянными в тесной близости к Природе, в безмолвии и ненарушимой духовной сосредоточенности. Когда он создавал эту книгу, он жил в шалаше (счастливец!), в лесу, один, вдали от города, почти не встречаясь с людьми.
11 часов вечера
Грипп не грипп – но далекое от нормальности состояние. “Шум в голове, и возня, и тревога – точно рассудок сбирается в путь” (плохой перевод из Гейне, из великолепного его стихотворения “Смерть”).
31 июля – 1 августа
1-й час дня. Белые раскосмаченные, быстро плывущие над бульваром облака. Анна со своей приятельницей и с Денисьевной в Лавре (торжественное богослужение в память св. Серафима). Лавра, должно быть, переполнена, как и в день преподобного Сергия. Серафим Саровский и Сергий Радонежский – равно любимые народом “угодники”, воплотившие исконный русский идеал личности одухотворенной, высоко поднявшейся над бытом, но не ушедшей в затвор, а с любовью и жалостью (особая русская жалость) протянувшей руку каждому из “малых сих” – кто увяз в тине быта и в собственной греховности и мучается и не умеет найти тропинку к жизни “чистой, изящной, поэтической” (да, и поэтической – оба угодника в высшей степени чувствовали красоту мироздания и красоту Лика человеческого в замысле о нем Творца).
“Правило веры – то есть постигший, что такое вера, и могущий научить исповедыванию ее, образ кротости, воздержания учителю” (ограничение власти плоти над духовной областью, ограничение со всей суровой аскезой наших древних монастырей, необходимое народу, о котором князь Владимир 10 веков тому назад откровенно заявил: “Руси есть веселие пити. Не можем мы без того быти…”).
94 тетрадь 19.8-14.9.1946
19 августа. 11 часов вечера
Праздник Преображения, с большей яркостью и углубленностью, чем все другие праздники, пережитый в годы сопутничества моего с Михаилом Владимировичем Шиком. Обручальное кольцо, где были вырезаны слова: “Свете Радости. Свете Любви. Свете Преображения”. Когда вошла в нашу жизнь Н. Д. Шаховская, я передала это кольцо ей, и оно было на руке ее в день ее венчания с Михаилом Владимировичем. А у него на руке было два кольца: одно с ее именем, другое, серебряное, – с моим (такие продавались у мощей великомученицы Варвары)[773].
С наивным и слепым дерзновением мы вообразили, что это наш путь на Фавор, где ждет нас чудо преображения греховного нашего существа в иное, высшее. Тройственный союз наш и наше взаимное, в ту пору самоотреченное горение Любви казались нам лестницей, по которой мы чуть ли не достигли уже самой вершины Фавора. Но очень скоро стало ясно, что никто из нас не созрел до представшего перед нами повседневного подвига самоотречения (ближе всех к нему была в Боге почившая “мать Наталия”). И начался для нас путь великих искушений и тяжелых испытаний – главным образом для меня и Михаила. Наташа была уже на высшей тропинке, и ее они задевали только отчасти, как отражение переживаемого ее спутниками.
Сейчас записываю это для детей наших, чтобы стал понятен для них смысл дальнейшего сопутничества моего с их родителями. Через какие-то сроки оно превратилось в крепкую, родственно-дружескую связь, но у меня уже был свой одинокий внутренний путь.
1 сентября. 7-й час
Дождь. Я одна. Денисьевна и Анна в Лавре. Последнее в Загорске богослужение Гурия[774].
Он только что посвящен в епископы и завтра уезжает в Ташкент. То, что говорят о нем люди разного уровня развития, разных возрастов и профессий и даже разной идеологии. О нем говорят со слезами, с просветленными лицами, с напрасным поиском нужных слов (потому что неизреченно то, что он пробудил в их душах, к чему приобщил их, и тоже не словами). Темы и слова, по отзывам слышавших, его проповеди “обыкновенные” и много раз слышанные. Но голос, но власть давать их не как слова, а как хлеб жизни и то, что называется “флюидом”, создали вокруг него нимб великого притяжения, я чувствую его на расстоянии, и хотя мне жаль, что я сегодня в том изнеможении, когда нечего и думать дойти до Лавры (сегодня прощальный акафист, прощальная речь к прихожанам), я не чувствую себя обездоленной. Он для меня наряду с Сергием Радонежским, и лучи нимба его коснулись бы меня и тех, кто к ним чувствителен, если бы мы были в Москве или в Америке сегодня. Я счастлива за Анну и понимаю, почему он “задержал на ней взор”, когда ее благословлял на прощанье. Не только в глазах Анны, но и во всех ее чертах в последнее время разлито устремление сконцентрированной воли к горним мирам и к подвигу в дальнем мире.
4 сентября. 5 часов утра
Зеленовато-синий рассвет пробивается сквозь щель оконной занавески.
Разбудила до осязаемости реальная встреча во сне с покойным Львом Исааковичем. Волнующим было то, что он как будто не заметил, ничем не выделил меня из среды моих домашних. Потом ушел в другую комнату с каким-то незнакомцем и там пил чай у стола, заставленного фруктами и пирожными, и никого из нас не приобщил к этому пиршеству. Потом вышел к нам и начал быстро прощаться. Сказал, что спешит в Лондон. Меня охватило чувство покинутости, огромного одиночества, обиды – физическая боль сердца, как будто Лев Исаакович, проходя, ранил меня сбоку в левую грудь каким-то “астральным” кинжалом. Обо всем этом и о том, как мне нужно было говорить с ним об очень важных вещах внутреннего пути моего, я сказала ему, отведя его в сторону. Он стоял передо мной в том виде, какой был у него 50 лет тому назад (ему теперь было бы 80 лет), – молодой и несравненно более красивый, чем был при жизни. Смотрел на меня снисходительно-равнодушно и, когда я кончила несвязно-страстные свои укоры, стал поспешно прощаться и, открывши бумажник, протянул сторублевую бумажку, которую я с негодованием разорвала и бросила на пол.
Сейчас мне даже странно, что я записываю так подробно это сновидение. В нем нет встречи, нет того духовного контакта, который был у меня всегда и теперь бывает во сне с Л. И. Это очень комплексный сон, очень искусно построенный из отражений разных “обид” в прошлом, отчасти и в настоящем. Л. И. в нем совсем не он, а только его образ, наиболее ярко оттенивший несоответствие того, что люди ждут от своих спутников и что не могут дать им.
95 тетрадь 15.9-25.10.1946
27 сентября
Все такое же, сулящее непогоды небо и суровый холод поздней осени. Уже три ночлега под кровом Анны. Со вчерашнего вечера она в Загорске. Вот уже сутки (сейчас половина 6-го), как я одна в ее комнате. Погрузившись в уединение, как рыба из ведра с водой, доверху набитого рыбами, выплеснутая нежданно в глубокое, в широкое озеро. Пью одиночество, как воду из источника Вечной молодости. И не потому, что могла сколько-нибудь за эти трое суток наскучить мне Анна. Наоборот – милый ее образ (50 лет уже милый и с каждым годом все более ценимый и чтимый) в часы, когда я одна, все равно со мною. Как и все, кого люблю. И я огорчилась бы, если б она сегодня не вернулась из Загорска.
Но по всем свойствам натуры моей мне нужны часы неприкосновенного одиночества. И ночь наедине со своей душой. В этом Анна до конца понимает меня. Ей самой, хоть несколько по другому комплексу причин, необходима “своя” комната, несколько часов и чем больше, тем лучше – ненарушимого в ней одиночества. Когда она пускает к себе кого-нибудь из друзей ночевать или гостить на какие-то сроки (меня два года тому назад впустила на 8 месяцев) – это для нее всегда жертва. А на длинный срок – уже подвиг.
Вот почему, как мне в ее комнате ни удобно морально и житейски – по сравнению с другими возможными для меня пристанищами, завтра я буду уже ночевать где-то в другом месте.
Вчера забежала поздно вечером ко мне сияющая Таня. Конкретный друг. До того конкретный, что даже остались от него два кило муки на диване – обычный дар ее в это лето, без которого я и Денисьевна жили бы уж совсем впроголодь. (Время от времени щедро – и свыше своих возможностей – приходит нам на помощь тетя Аня и в какой-то мере Ольга.)
У Тани труднейшие обстоятельства. Протекает потолок. Сырость в квартире губительна для матери в ее болезни (обезображивающий ревматизм), нет средств для ремонта. Нет времени для работы по дому, собственное нездоровье, температура, гайморит. Но велико ее нравственное мужество, велик запас энергии в борьбе за свое и материно существование. О своем личном сказала (и тут слезы блеснули на ее гордых глазах): “Я строила вместе с ним храм. Наш храм. И встречаться с ним могла бы только в храме. Встречаться с ним за чайным столом, говорить на газетные темы – это мне ни на что не нужно. И оскорбительно”. Что-то в Тане ибсеновское. Брандовское – “все или ничего”. И прямолинейная, жестокая к себе и к другому последовательность. Она имела право сказать о себе тем голосом и с таким лицом, с каким сказала однажды: “Я – непреклонна”.
Милая, милая, так нежно обо мне заботливая, такая снисходительная к слабостям Мировича, “непреклонная” Таня.
28 сентября
Маша. Диплом. Аспирантура. Перспектива новой работы (над той же медуницей). В личных делах все еще не могут разобраться оба (она и возможный в будущем спутник ее). Но, к великой радости моей, никакого трагического или обидного для Маши оттенка, как мне это однажды показалось, здесь нет. Их дело.
Лиза – “лилейный мой цветик, Елизавета” – все еще на Урале. О ней очень соскучилась. Ее неразлучная подруга Эдя успела там выйти замуж за руководителя экскурсии, и Лиза (“парная птица”, по выражению тети Ани) осталась одинокой. Когда думаю о ее грядущих судьбах, так же, как и в вопросе Машиного устроения, не смею, не хочу хотеть какой-то определенной линии. Вместе с покойной матерью их вручаю их пути высшей Воле, Отчей Любви.
Дима. Нежнейшая мимоза в тесной ограде из колючей проволоки. Тонкий, свето-звуко-термочувствительный прибор в тяжелом, грубо сколоченном ящике. Отцовское наследие – вялость воли, недостаток инициативы, активности. Нужны сильные эмоциональные или духовные стимулы, чтобы заработал мотор воли. (Так было у отца.) К общему удовольствию близких, недавно как будто по-настоящему увлекся скульптурой. Ревностно лепит двух козлят с пастушком. Фаворский думает, что у него есть данные сделаться скульптором, не только анималистом, но и портретистом.
Ника, Вениамин мой, огорчает меня сильным похуданием. Но радует энергией, сознательной и уже юношески глядящей вдаль. “Хочу быть физиком-астрономом. Для этого нужно в университет. Для поступления в университет нужна золотая или хоть серебряная медаль. Хочу учиться и буду учиться на пятерку в этом году”. С этого начал учебный сезон. Жизнерадостно оживлен.
29 сентября. Утро. Под кровом Ириса
Солнце заглянуло искоса даже в Ирисову комнату, заслоненную от неба громадой пятиэтажных домов, окруживших двор-колодец, на который выходят окна всех квартир. Небо видно только на верхушке окна. Сегодня оно мутно-голубоватое.
Жизнь Ириса идет через “узкие врата”. При огромном напряжении энергии, при большой одаренности и германской (потомок Миллеров) работоспособности – цепь неудач. А может быть, и деловая неумелость. В результате – долги. Не сводятся концы с концами. Говорит: “Такое чувство, что под ногами трясина. Вот-вот провалишься”. К тому же с недавнего времени жизнь так вздорожала, что эта трясина, наверно, ощущается десятками миллионов в нашей стране. Цены на многое – например, на транспорт, на товары – начиная с хлеба (по карточкам) – утроены. В населении сдавленный вопль – лицом в подушку. За последние дни целый ряд прошел передо мной растерянных женских хозяйских глаз и вопросов, вернее, восклицаний – очень робких и с оглядкой по сторонам: “Что же теперь делать?!”
7 октября
Есть глагол “погрузиться”, и есть глагол “погрязнуть”. Погрузившись во что-нибудь очень свое, очень узколичное, и особенно если это в области материального благополучия, человек неизбежно “погрязает” в конце концов в непролазной глине бытия. Страшно воспоминание из детских лет: глубокий овраг, наполненный на три четверти полужидким оползнем его высокого, очень крутого края. И выглядывающая из глины голова лошади. Вот-вот она погрузится (погрязнет) в глине, опустится на самое дно оврага. Это стало образом быта. Его засасывающих свойств.
11 октября. 1 час дня. Зубово
О странниках
Есть люди оседлые. Такие оседлые, что их страшит даже перемена квартиры, переезд в другую часть города. Такова была моя мать. И противоположен был ей мой отец, передавший мне свою бродяжью кровь и свойства своей души – не прикрепляться к вещному миру, не пускать в нем корней. Отсюда странничество его. И странноприимство: женившись, он поселил жену с ее подругой и с любимым братом на мезонине своего живописного голубого домика над Днепром – на окраине Киева, в Выдубицке[775]. А всю нижнюю половину сделал странноприимницей. Там находили кров и пищу богомольцы, заходившие из Лавры в Выдубицкий Георгиевский монастырь[776]. Мать со смехом рассказывала: “Целые кульки привозил на нижнюю половину с разными закусками. Нам же, верхним, иногда не доставалось ни одной копчушки с нижнего стола. Тогда он извинялся: «Другой раз, прости, Варенька, душенька, буду помнить. Все не привыкну к тому, что я женатый человек».
Мой бег могли бы приостановить только дети, если бы они у меня были. Или вот эти, зубовские “мои” дети, если бы они остались целиком с раннего возраста на моем попечении. Сейчас мой бег остановила в какой-то мере старость с ее недугами, с безработностью и отсутствием средств для передвижения. Будь их достаточно, и недуги не удержали бы меня от пребывания в летние месяцы на Кавказе, на Балтике, на Мурмане – мало ли где.
Обо всем этом я задумалась ночью, потому что, отдохнувши под кровом Анны и Люси, ощутила тоскливую тягу, ну, конечно, не на другие чужие кровати и диваны в дружественной Москве. Куда-то дальше, гораздо дальше, чем города и веси нашей планеты. Перемена местонахождения на ней только символ, только показатель (как и в жизни отца, и в странничестве вообще) устремленности душевной к “иных пространств иному бытию”.
8 часов. Люсина комната
О мемуарах я думаю, что они нужны, если они стоят на такой художественной высоте, как мемуарные вещи Герцена, – нужны как чтение только самому мемуаристу. Я исключаю тех читателей, кто подходит к мемуарам для изучения эпики.
Короче – я говорю сейчас вот об этих моих 95-ти тетрадях. Они нужны, по-настоящему нужны только мне. Как вехи моего внутреннего пути. Как воскресение отошедших в вечность часов и мгновений моей жизни и тех лиц, какие были моими спутниками в прошлом (длительными и однодневными).
Ника, тепло и действенно дружащий со мною, готовый всячески облегчить мою жизнь, охотно делящийся со мной каждым событием в его днях, абсолютно не заинтересован моим прошлым. Дня два тому назад мы шли с ним по набережной и повернули в переулок, на который смотрит своим кустарным Даждьбогом и другими орнаментами дом Перцова. Вид его всколыхнул во мне волну за волной воспоминания.
Начало 20-го века, когда мы с артисткой МХАТа Н. С. Бутовой жили в этом доме. Мне захотелось рассказать юному спутнику моему о том периоде моей жизни, о личности Надежды Сергеевны, о круге моих знакомств, о колорите наших взаимоотношений, о том, чем и как мы питались духовно. Но едва я начала говорить, по рассеянному виду Ники я увидала, что продолжение не нужно. И он даже не заметил, что его нет, что я заговорила о чем-то другом. Может быть, таков уклад, таково распределение внимания в психике современной молодежи. Или, может быть, и в мои, в старинные времена, не все наши знакомые юноши и девушки заинтересовались бы прошлым близкого им старика или старухи, как это было свойственно нам с раннего возраста (мне, двоюродной сестре Маше Каревой, сестре Насте, брату Мише).
13 октября. Ночь, 2-й час
Днем. Замоскворечье. Хорошо повидались с Ольгой и с Анеличкой – светло, тепло. Нигде я не бываю в такой степени собой – без перегородки и до самой-самой глубины, как с Ольгой. Хотя бы встреча прошла без всяких разговоров. Так было с ее восьмилетнего возраста (теперь ей 50). От Анелички – аромат фиалки, весенние зори, трехпланные дали. Показала доверчиво и просто два или три новых стихотворения. Уже есть свой звук, свой колорит. И уже – девичесть, недетское выражение лица у Музы. 19-го октября 16 лет! Так хотелось бы подарить какую-нибудь прекрасную книгу, картину, много цветов… Ничего этого не будет. Нищета. Но, может быть, что-нибудь придумаю.
Вечером – Ирис. Пили чай втроем – она, я и Анна. Затеялся разговор о роли красоты возрастов и физической целости – в любви. Пришли к согласию (после дебатов), что, хотя наружность в смысле красоты (понимаемой очень растяжимо) и отсутствия заметных физических ущербов (горбатость, безрукость, безногость и т. д.) и границы возраста (явно старческого) играют несомненную и в большинстве случаев решающую роль в вопросе влюбленности как страстного тяготения и любви (брачной), – не исключены случаи любви полной и безответной (главным образом с женской стороны) к старикам, к отталкивающе некрасивым людям, к уродам, калекам. Анна утверждала (мне кажется, не вполне разбираясь в ощущениях и настроениях далекой от нее молодости), что все эти препоны несущественны, что главное “душа, ум, гениальность”. Мы с Ирисом сознались, что для нас это иначе, что прекрасная душа, ум и даже гениальность при наличии старости или физической ущербности не пробудили бы у нас любви в ее брачном аспекте.
96 тетрадь 26. 10.1946-4.1.1947
Мимолеты.
1. Вернувшись в вагон трамвая с книжкой билетов метро в руках, бессмысленно смотрела на эту книжку, не понимая, что же мне с ней делать. Между тем тут же в бумажнике лежали заготовленные на всякий случай 15 копеек. Но должно быть, я забыла в эту минуту, сколько стоит трамвайный билет, – и мелькал вопрос, не предложить ли 40 на тот билет кондукторше. И еще хуже: некоторое время не вполне сознавала, еду ли я на метро или на трамвае. И куда именно еду. Потом это прошло. Здесь уже проблески маразма. Разжижение мозга, которое, говорят, начиналось у бедного Москвина незадолго до смерти.
2. Москвин вовремя ушел со сцены мира сего в Миры иные. С какой неослабной нежностью я вспоминаю его каждый раз, подходя к лифту дома, где он жил, в последний год его жизни я нередко встречалась с ним в вестибюле перед лифтом. У него была прекрасная улыбка, полная доброты, душевной ясности и какого-то совсем нерусского джентльменства.
3. Алла сказала при нашем последнем свидании: “Вчера было 48-летие нашего театра. Я прошла по фойе и остановилась перед портретом Надежды Сергеевны (Бутовой, у которой она жила на квартире в свои ученические театральные годы). Перед Муратовой – какое у нее хорошее лицо”. Я ожидала, что она скажет: “Перед портретом Ивана Михайловича Москвина”. Но его имени не было произнесено.
2 ноября. 9 часов вечера. Замоскворечье
Передо мною месяц определенного, условленного ночлега. Со мною ласковая дружественность Вали и ее горе. Виделись близко, как сейчас, только временами и с большими промежутками. Но знаю Валю с ее гимназических лет (теперь ей под 50), и внутренняя и душевная связь не прекращалась. Высоко ценю надежную доброту и безупречную чистоту и благородство ее внутреннего облика.
Продолжаю “Мимолеты” (накопились в памяти и требуют разгрузки, отчетливости и регистрации).
Об андрогинах.
Почему, когда узнаешь о какой-нибудь очень “интересной”, умной, культурной, даже талантливой женщине, что у нее есть или были романы андрогинного порядка – Гиппиус, Соловьева[777], Манасеина[778]и другие, – испытываешь неловкость, точно здесь подразумевается непременно одна из форм разврата, а не единение душ в той области, где “не женятся и не выходят замуж”, где перестали рождать, прекратилась жизнь пола (то, о чем пишет Бальзак в “Серафите”). Почему нужно в каждом отдельном случае подозревать извращенные ухищрения парижской проституции, а не то, что увидел в “Серафите” Бальзак. Уклон к низменной стороне страсти – тот “плотский припай” (термин Григория Нисского) у души, которая, несомненно, может грозить андрогинным встречам, особенно в ранней молодости (у Достоевского в “Неточке Незвановой”) – но не это суть мистической загадки чувств андрогинного порядка. И все же такова сила многовековых традиций: что-то мешает простоте и ясности отношений наших к женщине, о которой мы знаем, что ей свойственна влюбленность в женские души, в женскую красоту, наружную и внутреннюю. Esprit mal Tourne[779]. Как нельзя смешивать Сократа и Чайковского с рядовыми содомитянами, каких много, говорят, было в немецкой армии, так нельзя и Гиппиус, и Поликсену Соловьеву ставить на одну доску с профессиональными распутницами из Монмартра, о которых упоминает Мопассан.
5 ноября
Зыбь угрюмого канала Задрожала вереницей фонарей, Желтый свет их заструился И под ним зашевелился Беспокойный и нестройный мир теней…Эти строчки Мировича, написанные 50 лет тому назад, когда он впервые попал в Петербург, всплыли в памяти сейчас, когда постояла у темного окна и загляделась на отражения фонарных огней в черной, быстрой, беспокойной зыби нашей Канавки.
Встал в памяти петербургский период. “Былое – уже далекое – уже незлое – уже высокое” (Елена Гуро). В “патетическом” его звучании, какое выразить было бы доступно только музыке. Словами же что можно рассказать о душе, рванувшейся из оков несчастной любви в разгаре безумной жажды того завершительного мига, какой Вагнер запечатлел в эпилоге “Тристана и Изольды”. Умереть. И даже не в объятиях Тристана, даже отдельно от него, но зная, что и он отвечает той же силой пламени и не поколеблется сжечь на нем в едином “Да” всю молодость, все другие надежды, всю жизнь. Я не знаю, зачем это было мне в такой мучительной, в такой неотступной мере нужно в тот, петербургский, период. “Быть может, так любить, как я, – порок. Но я слабей любить не мог” (это у Лермонтова). Тот, чей образ тогда несла в себе душа как свою наивысшую святыню, как муку ежедневного, еженощного распятия на кресте безнадежности, не подозревал, какое место он занимал 4 года в моей жизни. Потом, через много лет он сказал однажды: “Разве вы не видели, как велика ваша власть надо мной? У вас была репутация хищницы, царицы Тамары. Я боялся встреч, потому что каждый раз я был выбит из колеи, становился невменяемым, одержимым. Для женатого человека был страшный риск видеться с вами. И если бы я не был тогда женат, не был отцом моей любимой Инуси, я все равно бежал бы от вас, так как не верил, что у вас могут быть другие чувства к нашему брату кроме завоевания, порабощения, а потом разочарованности и презрительного отвращения”. Не знаю, прав ли был этот красавец, молодой психиатр, в своих домыслах о сути такого типа чувства, какое владело тогда мною (и похоже ли оно было чем-нибудь на царицы-Тамарино, Клеопатрино – (и с ней меня сравнивали!)). Возможно, в браке, особенно после появления ребенка, превозобладало бы на всем библейское проклятие: “К мужу твоему влечение твое”, и была бы до конца дней “верная супруга и добродетельная мать”. Но это уже особая, не вагнеровская тема петербургского моего периода. В него надо было Вагнеру вместить нашу “дружбу, большую, чем любовь” с философом из “богоискателей” Львом Шестовым – и потом его письмо, начинающееся словами “Эпипсихидиона” Шелли: “О дух, небесным призракам родной, сверхчувственная нежность серафима![780] Ты скрыта в форме женщины земной, все, что в тебе для глаз невыносимо, подобно яркости любви и чистоте и пламенно-бессмертной красоте”. И то, что мне было нечем на это письмо ответить.
9 ноября
Перечла строчки из Шелли в одной из прошлых записей. Те строки, какими Л. Шестов начал одно из своих писем ко мне: “О дух, небесным призракам родной, сверхчувственная нежность серафима…” и т. д. И стало совестно перед неведомым посмертным читателем, если он мне сужден. Знаю я эту конфузливую неловкость за другого, когда он рассказывает или описывает что-нибудь из своей жизни так, что является перед нами в каком-то лучезарном нимбе. Захотелось помочь неведомому читателю исправить досадное впечатление хвастливого, самовлюбленного авторского любования несуществующими качествами его души и тела.
Экстаз Шелли, влюбленного безнадежно в Эмилию Вивиани, понадобился в какой-то момент Л. Шестову как музыкальное оформление его большой, действительно платонической, высоко романтической и безнадежной любви к женщине, которая была одержима такой же любовью (он знал это) к другому человеку. Это было только поэтически– музыкальное оформление своих чувств, а не личности, на какую они были направлены. Мне он вскоре надписал на подаренной им книге: Belle sorciere, aimes tu les damnes? Dis moi, connais tu l’irremissible?[781]
11 ноября
Без 5 минут 4 ч., но желто-бурая муть за окном так сумрачна (и так печальна), что нет от нее света ни в буквальном, ни в переносном смысле. Как там, за окном, от нее оживают недуги телесные, так здесь начинают зудеть и болеть “язвы старых ран” души. Включаю свет в унылую, тонкую черную деревянную лампу с полинявшей розой (такие в детстве розы я любила на так называемых “переводных” картинках и украшала ими школьные тетради и учебники). Как хорошо, что перекинул меня этот синюшный букет роз на лампе в детство! – в Киев, на Печерск, на Рыбальскую[782], на Шияновскую улицу. Когда так невылазно нездоровится, как мне в последние дни, человеку нужен не урострепцин (от одного названия усиливается склеротическая головная тошнота и какие-то иголочные уханья по всему телу). Нужно человеку стать – иметь право стать ребенком, забыть всё свое взрослое и старческое, укутаться в мамину шаль – в моем детстве у всякой мамы была шаль, или в низших общественных слоях – полушалок, выпить малины и, если не очень болит голова, приуютившись на постели поближе к лампе, уйти в “Сказки Кота Мурлыки” или в другую любимую и от этого много раз читанную книгу. Итак – я в Киеве, на Шияновской улице, в доме “дяди Саши” – здесь мне было 8-9-10-11 лет. А от 12-ти до 16-ти был собственный наш дом и сад на Рыбальской. Там было три яблони – антоновка, крымская и белый налив. Три груши: цыганка (румяная, темно-зеленая груша, очень жесткая), лимонка и мускатка – мелкая, но душистая; и слаще, и вкуснее всех других плодов нашего сада. В углу ютились две “марели” – мелкий сорт абрикосов. У забора царил громадного роста грецкий орех (как я любила запах его листьев). На нем было мое “гнездо” почти на самой вершине развесистого дерева. Там я готовилась к экзаменам весной, там “сочиняла стихи”. Встал в памяти один “стих”.
Если кубок жгучим ядом
Через край налит, Жидкость смертная каскадом За края бежит. Если дождь с небес суровых Льет на грудь земли, Значит, тяжесть слез свинцовых Тучи не снесли. Если этот стих слагаю, Это значит: все мечты До конца погибли. Знаю, Что не любишь ты.Был еще посреди сада плотный венок из молодых невысоких слив с темно-синими осенними плодами, созревавшими чуть не в октябре, от них осталось впечатление, что они были очень плотные, немного терпкие и точно принесенные с ледника – так они были холодны, когда мы распределяли их, сидя вечером перед затопленной в “зале” (довольно убогая была эта “зала”) голландкой.
И были в нашем саду обширные заросли малины и смородины. Среди высоких и густых смородинных кустов летом была у нас тайная от взрослых молельня, где мы в летние сумерки молились до слез, таких обильных и таких сладких, что даже было досадно и жалко, что они прекращались и приходилось выползать из-под кустов по зову: “Чай пить!”
В эти наши печерские сады зову я моих подружек, живых и умерших, в сады на Рыбальской и на Шияновской улице, где в 8-9-летнем возрасте посетило меня дивное видение неземной Красоты, окруженное сиянием, схожее ликом и одеждой на изображение юной Богоматери в куполе Церкви Общины Красного Креста. (Но это не была Богоматерь.)
25 ноября. Около 5 часов вечера
Дымно-золотой, неяркий закат. Пепельно-серое, к горизонту чуть зеленоватое небо. На фоне заката длинные недвижные сероватые тучки.
Полдня в Зубово. У Ники что-то непонятное и очень меня встревожившее в сердце. Назначен постельный режим. Температура – вот уже 5-й день то вскакивает до 38,4, то падает до 36,8. Повезла ему алма-атинский “апорт” и “Черное море” Паустовского. Когда он болеет, мне странно быть не возле его постели. Рядом с огорчением от Никиной болезни ждала меня радость: приезд Алеши Залесского (зам. сын). Я видела, что и он обрадовался мне со всей полнотой искренности внезапно пробужденного ребенка. Я вспомнила потом встречу Анны Карениной в МХАТе, которая очень удалась Алле. Он, когда я разбудила его поцелуем в голову, как Сережа Каренин к своей матери, прижимался ко мне и плечом, и головой, и губами, и полусонно лепетал ласковые слова, – чаще всего свое любимое “родненькая, родненькая”. И лазурные глаза его спросонья были совсем без выражения, как у новорожденного. Смотрели на меня кусочки неба, весенне-теплого, бездонного и безоблачного. И мне было странно и жаль сквозь ответную матерински-бабушкинскую ласковость, что он такой большой, длинный и нельзя его взять на руки и убаюкать какой-нибудь песенкой – он намучился дорогой (дорога ужасная, с легендарной теснотой и неудобствами). Алеша мучился целую осень в чужой ему, хозяйственной, с утра до вечера заботе и работе, заменяя главного врача в психиатрической больнице.
29 ноября. 11-й час вечера
Комната Ириса. Застала ее в недрах постели. Переутомление – нервнопсихическое. Доктор велел лежать и даже чтение запретил. Прописал полный покой не меньше чем на неделю. Бедный Ирис загнан историческим моментом в тупик: не печатается ни одна из ее пьес, нет заказов на перевод, несмотря на исключительно удачный перевод (в стихах) шекспировской хроники, нет вообще никакой литературной работы. Нечем выкупить декабрьский паек. Состояние души, близкое к отчаянию.
Таня Усова – мой рыцарь sans peur ni reproche – извлекла меня с моими пожитками из Замоскворечья. Жаль мне Канавки и ее фонарей… ну да все равно, ведь скоро замерзнет, заснежится. Не сегодня завтра – зима “брега с недвижною рекой сравняет пухлой пеленой”.
Как будто бы начинает сбываться сон, в котором Ф. А. Добров звал меня к себе с подоконника, где я пыталась устроиться на ночлег в какой-то зловещей гостинице: мелькнула возможность устроиться в одной из комнат Даниила в добровской квартире. Боюсь еще верить в эту возможность.
2 декабря
Комната Анны. 8-й час вечера.
“В приюте и в смерти Отказано мне”.(Все из того же, полвека тому назад слышанного в селе Гнездиловка романса об Агасфере.)
От скитаний и нескладиц дня, от восхождений на пятые этажи, от суеты и густой злободневности два раза принималось болеть сердце. Это не моя болезнь. Я привыкла ощущать сердце в духовной и в эмоциональной области. И мне странно и точно обидно за него, что оно может болеть и физически.
5 декабря. 7 часов вечера
Люсина комната. Живу сегодня с утра почти без движения: таково состояние сердца. В 11 часов Таня (Усова) привезла от Тарасовых хлеб, кусок грубой прочесноченной насквозь колбасы, напомнившей малоярославскую конину 42-го года, 100 грамм кофе и от себя кулек с геркулесом. И еще остатки Олиного масла. Ну что же?
Я – нищий. Стою у дороги. Неверен и горек мой хлеб. Но краше судьба моя многих Богатых и знатных судеб. (из “танков” этого лета)И свою семидесятисемилетнюю “судьбу” ни за какие блага в мире, ни на Аллину, ни на Ольгину судьбу я бы не променяла.
Да и вряд ли кто-нибудь, осознавший, в чем для меня тут суть вопроса, согласился бы переменить Лик своей души на самый лучезарный – и своей судьбы на самую (по внешним и внутренним усилиям) счастливую.
10 декабря. 2 часа дня. Ул. Станиславского. Солнце
“О приближающихся ко гробу, да отхлынут от них искушения призраки, суета и обманы. И да продолжат они путь очищения и самосозидания по неисповедимым дорогам мира Твоего”.
Господу помолилась из ектеньи, Даниилом записанной в тетради 67 от 31 июля 1943 года.
8 часов вечера. Комнатушка, превращенная в хранилище картошки и других овощей (теперь это не редкость во многих квартирах). Я сижу на тахте, ноги мои окружены картофелинами. В стекло окна глядят поставленные между рамами банки с кислой капустой и другими жизненными припасами. Между банок светится красным абажур чьей-то лампы из далекого окна во флигеле на этом же Танином дворе.
Час назад залетала “беззаконная комета в кругу расчисленном светил”[783], Ольга. На минутку.
Когда потом поговорила по телефону, просила восторженно-горячо передать Тане, что она “красивая, что она – царевна”. (У Тани парчовая конфедератка, отороченная черным мехом.)
У Ольги в распоряжении машина – в связи с избранием в академики С. Б. (мужа). В этом что-то сказочное после почти двадцатилетней нужды, в какой Ольга и С. Б. и их Аннеличка жили. И тем это сказочнее, что все, кто Ольгу близко знают, с улыбкой говорят: все равно рисунок жизни тот же. О, совсем не от “прибеднения” или от скупости, наоборот, оттого, что живет в сказке…
14 декабря. Ул. Станиславского
В непроницаемом серебряно-парчовом покрове окна. 9 часов утра.
Предутреннее раздумье.
О старости: сначала, когда зашла речь о доме для престарелых пенсионеров для Мировича, меня очень смутила перспектива вращаться исключительно среди старческих жизней. Душной, скучной, омрачающей и раздражающей предощутилась атмосфера скопления стариков и старух, не органически потянувшихся друг к другу, как в монастырях, но принудительно объединенных. И не в духовной области – а в своих ущербных сторонах, в слабостях, инфантильностях, немощах телесных и во всех проявлениях старческого эгоизма. Одно время я определенно хотела попасть в Дом инвалидов Отечественной войны, вспомнив 0 том моральном удовлетворении, какое давали мне часы в лазарете, где нужно было читать вслух раненым, беседовать с ними, писать им письма и давать возможность рассказывать о себе, о своей жизни до войны, о близких им людях. И обо всем на свете.
Третьего дня, когда Леонилла передала мне со слов генерала, ездившего на разведку в дом престарелых большевиков, что они (престарелые большевики), по отзыву заведующего домом, “сущие малые дети”, я вдруг почувствовала то, что давно нащупываю в себе и в окружающих меня старых людях, – возможность и даже необходимость наличия в каждой старости “ростков иного бытия”. То, что они появились у старика или у старухи, может не доходить до их сознания – как не осознает в себе своей ангелической чистоты, своей такой близкой к нему потусторонности семимесячный младенец. Не осознают ее в нем, может быть, и те взрослые, кто умиляется непорочным светлым обликом грудных детей, просвечивающим сквозь животную плоть, куда заключена их душа. Для меня Вовик (Сережин сын, 7-ми мес.) – вестник “иных пространств, иного бытия”. И я надеюсь таких же вестников встретить в стариках инвалидного дома, таких уже близких к развоплощению, что превратились они в “малых детей”.
23 декабря
Вечер с Бахом и Вагнером – в плохом исполнении Гедике[784]. Может быть, не столько он виноват, сколько неудачна затея соединить с органом что– нибудь другое, кроме реквиемов и месс. Все прозвучало утомительнооднообразно, и все в какой-то одной окраске – тускло-розовой (для меня) воздушной волны. Жаль было Нику, который очень радовался, что услышит орган и познакомится с новыми композиторами. Он стал серьезно относиться к музыке. Слушал терпеливо, хоть и с выражением напряженного недоумения на усталой мордочке. После каждого номера аплодировал из почтения к именам композиторов и величавой фигуре органа. В раздевальном вестибюле, когда ожидала его на скамейке (я не стала дослушивать заключительных номеров на бис), в меня впилась взглядом присевшая неподалеку старушка. Серенькая, тощая, с отпечатком хронического испуга во всем существе и с чем-то похожим на ужас в зеленоватых глазах с лиловатыми припухлостями под ними. Ужас оказался ко мне относящимся, когда она несмело от меня отодвинулась, тихо произнесла:
– Вы ли это, Варвара Григорьевна? – И по голосу и по чему-то знакомому, в чертах лица ее промелькнувшему, я сразу вспомнила ее и ответила вопросительно в невольно юмористическом духе:
– Вы ли это, Александра Павловна? – Татаринова[785]. Секретарь “Русской мысли” – 35 лет тому назад. Стройная, моложавая, энергическая женщина. Делец, но в женственно мягкой форме. Очень ко мне доброжелательная, опекавшая мои интересы в редакции. Когда мы с Михаилом Владимировичем жили под Петербургом (недолго) в 1915 году, она приезжала к нам на дачу. И Лундберг к нам приезжал. Tempi passati…
24 декабря. 10 часов вечера. За ширмой
Лампа светит темно-желтым светом, не ярче мрачной памяти малоярославских моргасиков.
Виноградов[786] (писатель – “Три цвета времени”), разойдясь с женой, должен был по суду отделить в своей пятикомнатной квартире для нее и двух детей две комнаты. Тогда в припадке ярости он врывается к ней с револьвером в руках – стреляет в нее, в обоих детей и, наконец, в себя, наповал. Остальные живы, но более или менее тяжело ранены. Психиатрия говорит: припадок безумия. Но знамение времени здесь в том, что причина – жилплощадь. И что легко поднялась рука для убийства – после кровавых последних трех лет. А то, что убил себя, – хоть и безумие, но довольно логическое.
26 декабря
Продавала в чистой баночке чистенькая девушка сахар на углу Кузнецкого. Я купила 10 кусков сахару. Тут же на углу стояла очень бедно одетая старушка, не с протянутой рукой, но с кроткой просительной улыбкой на миловидном, в приятных морщинах лице. Я поискала и не нашла рубля для нее в моей сумке и, сообразив, что кусок сахару – тот же рубль, предложила ей – к стыду моему, всего один кусок. И нужно было видеть сияние радостной умиленной благодарности, каким засветились ее глаза. И каким теплом озарил меня их взгляд.
– Ах ты, моя милая, ах ты, моя хорошая, – лепетала она, разглядывая сахар, белевший на ее ладони, и как будто не веря своим глазам. – Как же ты догадалась? Бог тебя благослови, доченька (она не разобралась, что я старше ее).
И я пошла от нее обласканная, и от ее голоса и глаз до слез счастливая – но такова сила привычного эгоцентризма, – только повернув в наш переулок, сообразила, что надо было бы из десяти кусочков отдать пять, что дать один – было скупостью. Пережила острый стыд и неуважение к себе.
1-й час ночи.
Мысли дня.
Что такое мой страх перед Аллой – до замирания сердца, до боязни пройти слишком близко. Сесть рядом или ехать в тесном пространстве авто бок о бок было бы патологически невозможно (для меня, а может быть, и для нее?).
Но чего же я боюсь? Боли от контраста ее уплотненного существа с тем образом, какой жил во мне до жилплощадного нашего соединения. Сумасшедшего представления души ее – как (это приснилось мне однажды) – лошадиного крупа и сильных ног с серебряными подковами на копытах.
Procul recedant somnia ed omnia phantasmata[787].
27 декабря. 8 часов утра
Проснулась рано. Когда стала понемногу светлеть щель в занавеске окна, включила свет и открыла Евангелие. Прочла: “Просите, и дастся вам. Стучите и отверзится. Ищите и обрящете”.
Редко, почти совсем не умею просить о том, что на житейском плане.
2 января 1947 года. За ширмой
Чудесная встреча Нового года. Размягчение души до вскипания слез в недрах сердца. “Веселие духовное”. Встречали вчетвером: тетя Аня, ее мать, Ника и я. Ника попал на “Кремлевские куранты”[788] – но в полночь был уже с нами. Новый год начался для нас (так совпало) молитвой “О приходящих в мир” и т. д. Вечером с Никой у Ольги. Гостей не было. Только Варя И. и Борис – Ольгин брат. Очень постарел. В 50 лет уже старик. Впрочем, это может быть временное истощение, откуда и впадины щек (“всосы”), и морщины, и жесткость кожи, и тени “увяданья, страданья и тления”… Гадали. Бориса не на шутку расстроил билетик: “Журавли в небе”. “Соус из облаков” (в конверте “Угощения”).
97 тетрадь 6.1–6.3.1947
11 января. 12 часов ночи. За ширмой
Недавно я спросила Е. П.[789]: знает ли она такое ощущение, что нет границы, что иллюзорна она – между нами и тем миром, куда уходят умершие. Она ответила утвердительно. И прибавила: “С Ольгой (ее самая близкая подруга) я, в сущности, неразлучна. Бывает общение не только в снах. Бывает и наяву. Но словами этого не выскажешь”.
Инна, внимательно выслушав то, что у меня набросано о Чаадаеве, застенчиво спросила, помню ли я “Черного монаха”, чеховского. Я сказала, что для психиатрии всегда найдется пожива в таких вещах, как мои (серия о встречах с Лермонтовым, Чеховым, Гёте, Рама Кришной, с Блоком, Гиппиус, Сковородой и др.). Мне хотелось только услыхать, звучат ли они жизненной правдой, “доходят ли” до того или другого из случайных и редких моих читателей. Но и это суета. Такие вещи помнятся лишь потому, что это в какой-то момент неотложно необходимо написать автору.
14 января. 12-й час ночи
Копошатся раки и топорщатся, Тесно им в корзине умирать. Под корягу им, в родимый омут хочется, Водными глубинами дышать. (Мирович сергиевских лет)Теснее уж не может быть той щелки, в какой копошится Мирович на своем последнем, надеюсь, этапе. Тесно физически, тесно и морально.
Но так как нет этой коряги и “родимого” омута, благо и эта “корзина” с солью и крапивой. Такой уютной и родину напоминающей “корягой” мог бы быть лишь кров Ольги. Ольги прошлых дней. А так как это не суждено – все остальное – тоже “корзины”, где отовсюду “соль и крапива”. Разве еще дети – комната отдельная, но рядом с ними. А так как и это невозможно – не все ли равно, где умирать и как умереть – да свершится все, что суждено, и ни о чем не надо жалеть.
15 января. 12-й час дня. За ширмой
Сквозь стекло балконной двери пушистые белые крыши. Ватное, изжелта-белое небо. Между небом и крышами круговорот снежинок. Радость и благодарность, что вижу их и могу следить за ними, за каждой из них без очков.
Радость и благодарность Тому, Кто помог мне встретить Аллу сейчас с простым и добрым чувством, без страха перед обжигающим меня морозом ее души (в мою сторону).
Грусть от Ольгиного анабиоза (в мою сторону). Но подавлены (с той же свыше помощью) горечь и возмущение от слов Вали: “Ольга просит меня передать вам сахар”, – и дальше ряд Ольгиных слов, которые бы имели живую и действенную силу, если бы сказаны были ею самой. А сейчас слились с тем же самым жестом дамы-патронессы в сторону нищей родни, с жестом, который жестоко уколол меня в самом факте этой просьбы “передать сахар и такие-то слова”. Я знаю, что Ольга “не могла иначе”. Но знаю также, что в каждом душевном движении даже клинических больных пульсирует не только их болезнь, но и то, чем живет, чем жива их душа. Моим первым движением в ответ на Валин телефон был не только отказ от сахара, который показался мне оскорбительным, но и желание уничтожить архив, связавшийся тысячами нитей – с фантомом (как это показалось мне в те минуты), с душой и с жизнью, которая давным-давно связана со мной лишь памятью прошлого, которая воспринимает меня – по тетрадям, беллетристически, а не в реальном ощущении реального моего бытия на этом свете, в днях, в болезнях, в немощах старости, в особенностях моего существования за ширмами в этой комнате Леонилловой, для которой – это испытание, порой непосильное…
Вот куда занесло меня перо взрывом “саможаления” и гордости.
5 часов дня
Забыла, кто это сказал (Ницше, может быть). “Только один человек меня понял”, – и тут же прибавил: “Да и тот меня не понял”. К этой грустной мысли привели меня сегодня последние три беседы с тремя очень близкими мне людьми. И к еще более грустному обобщению привели меня они: “Никто никого на этом свете не может понять до самой глубины глубин его существа”. И наша мысль, попадая в мозг того, кто нас слушает, уже не та, какой она вышла из нашего мозга (понимая мозг в роли камеры хранения и аппарата передачи и оформления). Не говорю уже о неисследимо темной и безграничной области подсознательного и сверхсознательного. Да и сами о себе что мы знаем? (“Никто о себе не поведает правдиво и до конца – чем богат и чем беден он и в чем Тайна его лица” Мирович (малоярославского периода).)
17 января. 5 часов дня. За ширмой
Таяние. Балконный снег разрыхлился и точно обуглился. Света с утра не было. Вместо него тусклая, грязно-желтая мгла.
Насилу преодолела наползавшую на душу, как мокрое, липкое из какого-то кошмара Чудовище – депрессию.
Для преодоления собиралась даже к кому-нибудь из друзей пойти (заширменная щель в этих случаях давит, как гробовые доски). Но физически нездоровилось, и вовремя сообразила, что, как Мармеладову, мне, в сущности, “некуда пойти” – за опорой и как в убежище от депрессии. От бытовых обид жизни, от запутанностей в узлах психо-житейской пряжи, убежище – Анна. От айсбергов моей Арктики – Зубово, Инна, Татьяна. Для воссоединения с музой, с Воронежем, с матерью, с детством – Ольга (не всегда; но с этой частью моей жизни только она). От депрессии же, когда она “нависнет, как обвал, и упадет, и станет путь сплошною грудой скал”, – убежища у меня нет. Некогда, в прошлом, в далеком – был Михаил. Еще раньше, в молодости – Л. Шестов.
И когда, час тому назад, провалявшись за ширмой “в тьме без темноты”, в байроновской “бездне пустоты – без дат, без чисел, без годов – как океан без берегов”, я осознала, что “некуда пойти” – донеслись до меня последние строки из стихотворения о “таком обвале”, который стал уже “сплошною грудой скал”:
Спеши стремительно вперед, Сомненья заглушив, Где хода нет, есть перелет, Есть крылья у души… (Мирович сергиевских лет)19 января. 12-й час ночи
Сырая, промозглая, прохватывающая стариков до костей достоевско-диккенсовская погода.
О виденном, слышанном, подуманном.
Стихи покойной Аделаиды Герцык. Знала ее лет 25 тому назад. Странное сходство с молодым Врубелем. Отметил его юный художник, страм Герцык – Аделаиде и Евгении. Я встречала их у Н. С. Бутовой (актрисы Художественного театра), с которой мы жили тогда вместе. Поддерживать отношения с Аделаидой было трудно, так как она страдала почти абсолютной глухотой. Но мне нравилось ее лицо и какой-то отпечаток тишины, сосредоточенность, скромность и благородство на всем существе. Нравились ее стихи. Их было тогда мало у нее – жиденькая книжечка в четверть листа. Одно запомнилось сразу:
Я знала всегда, что я осенняя, Что сердцу легче, когда сад прозрачнее (?) (не уверена, что так) сквозист И все быстрее и все забвеннее Слетает, сгорая, желтый лист. Блаженна страна, на смерть венчанная, Покорное сердце дрожит, как нить. Бездонная высь и даль туманная. Как сладко не знать. Как легко не быть. (Что-то я попутала)[790].Сегодня передо мной была у Надежды Григорьевны[791] целая толстая тетрадь in folio[792] с перепечатанными на машинке стихами похожего колорита. О себе, о своей душе, о своем одиночестве, о покорности, о жизни и смерти. Длинные я пропускала (органически не люблю длинных стихов, даже у крупных поэтов. Даже и в форме законченных поэм, за малым исключением).
Краткострочная лирика у Аделаиды Герцык трогательна искренностью и веянием чистоты душевной. Около банальности, но не банальные образы. Скомпонованы так, что их не смешаешь с чужим творчеством. Некоторые стихи музыкальны. На всех печать раздумья и глубокого одиночества. У нее был муж и двое детей. Муж – очень богатый человек, какое-то отношение к издательствам имевший, Жуковский. Женился на ней, когда она уже была глуха и не так молода для девушки (лет 28–30 было ей).
Я спросила Надежду Григорьевну:
– Вышло ли что-нибудь для души Аделаиды Казимировны и для ее женской доли, что-нибудь ценное, кроме двух сыновей от Жуковского?
Надежда Григорьевна печально покачала головой:
– Одиночество так и осталось. Но пришла обеспеченность. И дети.
– Что же, по-вашему, привело обоих к этому браку?
– Жуковскому, верно, тоже надоело одиночество. Он был уже не так молод. Его, кипуче-деловитого практика, крепко стоящего на земле, привлекла мечтательная, не от мира сего натура Аделаиды Казимировны. И тихая женственность. Импонировала ее одаренность, стихи.
Ей же было с глухотой трудно бороться за жизнь. И уж очень одиноко впереди. В такие годы – под 30 – просыпаются материнские инстинкты, желание семьи. Конечно, любви тут ни с одной стороны не было. Но жили тихо-мирно. Занялись сыновьями. Во время революции все рухнуло. В этих стихах (она показала на фолиант) вы увидите, какую горькую нужду вынесла бедная поэтесса. Здесь есть хорошее стихотворение – и там как ей кто-то дал ломтик хлеба и как она рада подаянию.
Кое-что я из ее тетради решила для себя выписать.
Повидалась с Даниилом. По-хорошему. Очень болен, бедняжка. Назвал какие-то 4 болезни, от которых и ноги болят, и спина, и поясница, и центральная нервная система “никуда”. Сначала волновался и чуть не втянул в разбирательство, кто прав, кто (включая и его жену) в чем-нибудь проштрафился в истории его разрыва с прежней женой (невестой? Может быть). Горячо – и вдруг детское-детское милое стало лицо – защищал вторую жену от возможных нареканий в нечуткости, нетактичности отношения к прежней его спутнице. Я не приняла темы, поговорила с приливом бабкинской любви-жалости о его здоровье, о его работе. В любви мы и расстались. Мне жалко, что редко вижусь с ним. Он один из тех, в ком каждое слово мое, каждые полслова, даже взгляд, улыбка (как раз об этом была сегодня речь) отражаются во всем их смысле и в нужной иррадиации (нужной для уточнения смысла сказанного). Так же и я понимаю его, то есть отражаю, как зеркало, без единого пятна и без той фокусной кривизны, какими отличаются аттракционные зеркала на гуляньях народных. В семье Тарасовых я давно уже окружена (за исключением редких моментов) только ими. То я чувствую себя гипертрофированной до того, что выпираюсь огромным шаром из такого зеркала и пугаю людей и нелепостью формы, и тем, сколько занимаю места (наиболее частое отражение мое в Леониллином зеркале). То я как бы раздроблена на части и нельзя меня соединить в одно целое, в личность. То я преуменьшена до того, что превращена зеркалом в козявку, quantité’ négligeable[793] химии. И вместо лица у меня или жуткая, или комическая гримаса. А то и совсем нет лица. На месте его над рыжей кофтой, сарафаном и валенками очерченный жирным контуром крупный ноль. И после таких отражений видеть себя в зеркале Данииловой души (как бывает иногда в общении с Ольгой – теперь все реже) для меня “именины сердца” или после Страстной седмицы – “Христос воскрес”.
У Надежды Григорьевны тоже было хорошо – тепло, приветно. Но там я больше литератор и “занятная фигура” (и что-то привычное для их отношения ко всем человечно-братское), а не то, что в зеркале Даниила, Ольги, в какой-то мере – Анны и в большой мере – сестры Людмилы (киевской), где я – я.
20 января. 2-й час ночи. В Тарасовской щелке
Утром позвонила Новикову (не Прибою, а Ивану Алексеевичу). Захотелось сегодня в день именин его напомнить общее наше далекое прошлое – земляков-киевлян[794] и тепло-дружественных поэтов – обоих на окраинах литературы, не умевших (и не хотевших) карабкаться по ступеням “славы” и жизненного благополучия. Он – известность и маститость, а на днях орден Трудового Знамени приобрел исподволь и потому, что, не найдя себя в поэзии, пошел в прозу, где стал работать трудолюбиво и успешно. В те же времена, когда мы дружили, он, как и я, был неустроен материально, одинок и широких перспектив дальнейшего пути не имел. В нем не было таких частых в литераторском мире и навсегда меня от этого мира оттолкнувших черт – лихорадочной погруженности в мелочные интересы своей среды, зависти и карьеризма. У него была хорошая, ко всем дружелюбнейшая улыбка, интерес к человеческой душе, искренность чувств, отсутствие рисовки.
“…Далеко-далеко то, что было. И глубоко-глубоко: кто постиг его”[795].
Я сказала Ивану Алексеевичу то, что мне захотелось сказать. А его предупредила, чтобы он совсем ничего не говорил мне, так как после гриппа я совсем ничего не слышу. Он прокричал мне, как в пароходный рупор, “благодарю, благодарю. Обнимаю вас”. И потом каким-то чудом мы все-таки уговорились, что мы повидаемся, что я зайду к нему. Не знаю, нужно ли это и хватит ли на это сил. Но когда я отошла от телефона, какие-то давно умолкшие струны нежданно зазвенели издали, но внятно. И вспомнилось стихотворение давно умершей сестры:
Из дальнего края Прошедшего ветер дыхнул.и что-то про “цветник давно отцветших лет” и последние строки:
Пионы взывают о мщеньи. Вы гибель волшебной мечты, И рядом забвенье, забвенье — Душистого мака цветы.Забыла. А знала когда-то все без пропусков и любила это стихотворение.
Мечтатели были мы все трое – и сестра моя Анастасия Мирович, и Новиков, и я. И естественно, что каждый прошел через “гибель волшебной мечты” своей. Новиков писал в период нашей дружбы о своем воздушном замке, который в те времена рухнул.
И в пропасть рухнули стропила, И замок мой повержен ниц…И у меня где-то было записано:
Я знаю ужас низверженья С недосягаемых высот, Я знаю рабское смиренье Тех, кто в отчаянье живет. Я знаю море Безнадежности, Все затопившей впереди. И сталь холодной неизбежности В живой и трепетной груди.и т. д.
31 января. 5-й час дня
Мягкая, снежная, близкая к таянию погода. (В ожидании момента, когда господа отобедают и Шура начнет кормить челядь.)
Рукописание прегрешений Мировича – сегодняшних, вчерашних и тех, какие отягчили и засорили его душу в последнее время.
Ближайшее из них – час тому назад, на возвратном пути с Покровки, из оптического магазина, подошла в Елисеевскому, чтобы пробиться к 100 граммам каких-нибудь дрянных конфет, так как стало органически неприемлемым (и не у одного Мировича, у многих) пить чай или кофе без сахару. И вместо конфет – из последних 90 рублей истратила 17 на сто грамм кетовой икры. Захотелось соленого и вообще чего-то, кроме картофеля, в такой мере захотелось, что отступили денежные и, увы! также и моральные соображения. Они пришли уже тогда, когда все 100 грамм были уничтожены за этим письменным столом. Без хлеба. Со всей силой желаний в области пищи и пития, управлявших в эти минуты волею Мировича его неандертальских предков. Так они кушали у входа в пещеру куски только что убитого мамонта. Этого бы никак, ни за что не могло случиться ни с Анной, ни с Людмилой, ни с Соней, ни с Марией Федоровной[796] (она, между прочим, питается изо дня в день кружкой молока, 250-ю граммами хлеба и экономно прибавленным к этому картофелем).
Второе: словоохотливый разбег сообщений мыслей, чувств и разных душевных событий в жизни Мировича. Без определенного желания импонировать слушательницам (Надежде Григорьевне и Марии Федоровне), но при осознании, что этот павлиний хвост, распускаемый перед ними, их занимает и чем-то им нравится. И в зеркале собственной павлинной совести недаром отразился этот вечер, как – наряду с праздником дружеского общения – попутное празднество безудержного ребяческого тщеславия.
Третье – оно, как и первое, относится к “гортанобесию”. Огорчение, что приехавшая из Загорска Денисьевна на этот раз не привезла молока…
Четвертое: в области духовного (душевного, умственного?) питания допущена такая “соска” и “жовка”, как “История моего современника” милого Короленко.
5 февраля. 12 часов ночи. За ширмой
Вьюга. Мела меня по Пушкинской, когда я возвращалась 3 часа тому назад из Зубова.
О прожитом дне.
Если бы не Зубово, не Инна, не Анна, не Таня и другие “чужие” даже дома, где моему приходу рады, не вынести бы мне тех застав и рогаток, того чумного карантина, в какой я попала здесь. Когда я просыпаюсь с мыслью об этом, мне кажется, что это сон, что наяву этого не могло, не смело быть. Потом – мысль: наказание и искупление за конец жизни матери. И тогда покорность – sum serva Domini[797]. И великая благодарность Водителю судеб человеческих, что смягчен гнетущий кошмар, есть другая среда, другие дома, другое окружение – Зубово, Анна, Инна, Таня.
Вечером ждал меня милый голос по телефону (какой чудесный тембр и какое высокое благородство интонаций) – Валя. Лепта вдовицы – кусочек масла, несколько кусочков сахару и картофельные котлеты – оторванная часть от посылки Виктору (мужу, “в обстоянии находящемуся”). И была мне эта холодная котлета как причастие (то, которое было еще до таинства Евхаристии) на “трапезах Любви”.
Днем с Никой – о Пушкине. Он не пошел в школу, кашель, не проходит простуда. Как быстро и как уже по-взрослому расцветает вширь и внедряется корнями вглубь развитие его душевных свойств и сил. О Пушкине у него и Брюсов, и теперь Чулков. Увлекается также Ренессансом. Рассматривали очень хорошие репродукции Винчи, Рафаэля, Ван Дейка, Дюрера. Тетя Аня пришла замерзшая с кладбища. Хоронили ее старинную знакомую Менжинскую[798]. Я мало знала ее, но после смерти как будто узнала лучше: встала освобожденная от страдающей плоти (год в больнице, астма), вдумчивая, мужественная, терпеливая и чуждая эгоцентризма душа.
16 февраля. 2 часа дня
Мороз, ветер, солнце. У Анны. День именин ее.
Три старости.
Одна – волевая, стойкая, ригористическая, морально требовательная к себе и к другим, жестковатая. Внешний вид: прямая спина, нет седых волос (в 72 года). Есть желтизна, есть оплывы и морщины – но не изменяющие по существу физиономию. В движениях четкость, угловатость. В костюме (при бедности) не только опрятность, но даже элегантность (кружевной воротничок, кружевной галстук, ботинки на высоких каблуках).
Другая старость – безвольная, смиренная до безличности, переутомленная до засыпания на ходу, кроткое сердце, ничего ни от кого не требующая, как бы всеми фибрами ощутившая свою бесправность (благообразное, усталое лицо, полузакрытые веки, мягкий, вопросительный, точно извиняющийся в своем существовании взгляд, неловкость, беспомощные движения (тоже за 70 лет)).
Третья старость – эпикурейски-эстетская – около 80 лет. Отпечаток эгоцентрической обособленности и некоторой изнеженности. Движения неловкие, не вполне координированные. Явное устремление к покою. Привычная наблюдательность и сосредоточение на своем душевном процессе. Мягкость и благожелательность (при условии соблюдать с ней унисон и не задевать морально-эстетической чувствительности. При несоблюдении этих условий – резкое отчуждение). Внешний вид: случайные, не вполне опрятные одежды. Почти все с чужого плеча. Шапке мономаховского вида лет десять. Деревенские валенки. Если тепло – ночные туфли. Осенью, весной – конькобежные (чей-то подарок), много раз чинившиеся, заплатанные башмаки. В поредевших, когда-то астартически пушистых волосах пегая проседь. Неловкие, подагрические руки. В походке не соответствующая возрасту быстрота.
26 февраля. 4 часа дня
Только в старости человек со всей убедительностью личного опыта, по-настоящему постигает, как много значит, как много может человеческая доброта. Если бы сегодня, когда после двухчасового блуждания под вьюгой, по скользким улицам и переулкам, отыскивая переулок Лебяжий и войдя в дом, где живет Анна Александровна Луначарская, я была бы встречена не так, как это произошло, насколько холоднее и мрачней и болезненней было бы сейчас в моем ощущении мое пенсионерское доживание на этом свете. Но когда я вошла как Дед Мороз, от шапки до носков валенок засыпанная снегом, в синих, ничуть не поблекших от времени гиацинтах глаз Анны Александровны засияло росой слез такое живое, такое неудержимое участие. Освободивши Дед Мороза от снежных его одеяний, она бросилась кипятить для него кофе. И, когда крепко сжавши мои руки, сказала:
– Скажите: что, что я должна сделать, чтобы как-то изменить вашу жизнь? Я о ней помню, я о ней часто думала… Все, что в моих силах, я сделаю с радостью.
И когда она это сказала, растаяли январские и февральские льды этих двух тяжелейших в моей старческой жизни месяцев. И ушли, и не посмеют вернуться дурные мысли этой ночи. Порывом одного человеческого сердца, когда он глубок и горяч, искупаются порой теплохладность и анабиозы других сердец. Очевидно, есть такой закон.
27 февраля. Ночь
День сытости. В последнее время для таких старух, как я, и сытость и голод, или “проголодь”, как у меня, ушли в новую область сознания, приобрели значение или очень интимное (как сегодня с редькой и кусочком масла Вали и с яблоком и 2-мя кусочками сахару Калмыковой), или религиозное значение. Сытость и связанная с ней проголодь (раньше не додумывалась до этого) могут стать причиной тяжелых заболеваний и надрывов и даже разрывов в интимнейших отношениях. И могут стать религиозным актом терпения, смирения и любви (в случаях голода и проголоди там, где они связаны с жестокостью или анабиозом близких и любимых лиц). Так мать незадолго до смерти, когда я часто впадала в анабиоз в ее сторону, в ответ на мой жесткий и нетерпеливый выпад по поводу каких-то хозяйственных затруднений, от которых на несколько часов запоздал обед, кротким соболезнующим голосом сказала: “Что же ты расстраиваешься, милая? Поела бы хлебца с маслом (масло тогда в “голодающем обиходе” было). А мое дело лежачее. Я и час, и два еще подожду. Или просто чайку на ночь выпью”.
98 тетрадь 7.3-31.3.1947
7 марта
В кольце начала и конца. Мирович сергиевских летРедкостный в старческой жизни Мировича “день дарения”. Давно уже прекращена для него возможность давать что-либо кому бы то ни было. Он обречен только брать то, что дают ему близкие, а иногда и далекие. Но изредка выдается такой день, как сегодня, когда троих лиц удалось обрадовать маслом, сахаром. А самой удалось при этом слиться в воспоминании с тем, что было пережито мной 70 лет тому назад.
Тогда мне было восемь лет Я стояла под жарко-синим солнечным киевским небом во дворе нашего печерского дома, окруженная стаей ребятишек – жильцов соседних квартир. Мой фартук был наполнен игрушками, которые я в приступе “дарящей добродетели” раздавала малышам. В упомянутом эксцессе раздаривания (чувство освобождения от вещей) и одаривания (отраженная радость получивших подарки) я прихватила без спросу к своим игрушкам и те, какие принадлежали пятилетнему брату моему, Мише. Он сначала был заинтересован процессом раздачи, но, когда увидел в моем фартуке какую-то свою любимую лошадку и волчок, с ревом стал отнимать их у меня. Малыши, тянувшиеся за этими дарами, бросились на него, произошла горячая схватка. Мать увидела ее в окно и поспешила в нее вмешаться. С моими игрушками на этот раз мне было разрешено поступить по моему желанию. Но игрушки брата я должна была со стыдом отбирать у тех, кому их раздала (при чем они тоже ревели). А потом мать с негодованием напрасно пыталась мне объяснить, что “чужих вещей” нельзя даже без спросу касаться, а если “вот так распорядиться ими” – это грех, за это, когда вырасту, в тюрьму можно попасть.
Прошло с тех пор 70 лет. И по навыкам, по житейской необходимости я делаю различие между чужими вещами и своими. Но внутреннее мое отношение к ним все то же, что и в 8 лет. Должно быть, я прирожденный коммунист.
Ночь.
Третьего дня вынырнуло из Ольгиного архива: мое письмо от 1919 г. к покойному другу моему Михаилу Владимировичу[799], где на полях такая приписка: “Недавно Лев Исаакович спросил меня: «Не думаете ли вы, что именно все невоплощенное здесь есть именно то, что живет в нас? Или копится для другой жизни»”. Об этом в личном разговоре со мной (лет 40 тому назад!) Михаил Владимирович сказал: сколько бы человек ни рассказывал о себе, сколько бы книг о себе ни написал, он самое главное свое унесет в могилу нерассказанным. И для самого себя неизвестным.
19 марта. 11 часов вечера. Заширменная щелка
Удивилась и обиделась Леонилла, что я назвала мою койку за ширмой и узенький, придвинутый к самому краю кровати столик тараканьей щелкой. (“Не может человек просидеть полдня недвижимо в тараканьей щелке”, – это я сказала в ответ на замечание ее, что я “слишком часто мелькаю между генеральскими апартаментами и кухней”.) Какой-то осадок горечи от таких замечаний неизбежен, но образовалась уже возможность внешне спокойного, без повышенного тона, реагирования на них.
Недавно после какого-то крупного разговора с Аллой Леонилла вошла в нашу комнату с таким расстроенным лицом, что я не могла не спросить ее: что случилось? – “А то случилось, – сказала она с тем жестким озлоблением, когда ее старчески-красивое и добродушное лицо и тон принимают волчье выражение, – то случилось, что нам с тобой надо умирать. Алла сказала, что она больше не может нас кормить”.
И ничуть не вспугнулась моя тишина и не повысился голос, когда я ответила:
– А ты сказала бы Алле, что кормить нас она должна – тебя, потому что ты мать, меня – потому что взяла у меня жилплощадь с обещанием давать взамен кров и пищу до конца моей жизни. Она может свести кормление до одной тарелки супу в день, как было в 1942–1943 году, но совсем ей не кормить меня нельзя, – и этически нельзя, и по остатку тех чувств, которые все же у нее ко мне уцелели. Кроме того, ведь это одна из тех преходящих вспышек ее, о которых Александр Петрович (ее первый муж) говорил со смехом: “Чуть вопрос о деньгах, чуть расплаты с кем-нибудь, Алла хватается за голову в настоящей панике”…
8-й час вечера. Хочу отдохнуть от починки белья, которой занимаюсь часа три подряд, и для этого прибегаю к моему единственному в этом доме собеседнику, к этой промокашечной тетради. Сейчас я хочу сказать ей: “Думали ли мы с тобой, что будет время, когда одной из самых живых струй непосредственного тепла в повседневном моем существовании – будет Шура, домработница Шура, которая вносила столько мелких шипов в повседневность нашу в 1942–1943 году. Да и раньше. Правда, и в те времена, в 1941 году, она совершила целый подвиг любви и мужества, когда не хотела уйти домой, проводивши меня на Киевский вокзал, пока я не сяду в вагон.
А сегодняшние слезы ее были вызваны двумя кусочками сахара, которые я почти силой заставила ее взять. “Разве ты не видишь, Шурочка, что ты обижаешь меня тем, что отказываешься, что я потому делюсь с тобой, что мне самой это приятно, что я люблю тебя”. Тут она окончательно заплакала, оглядываясь на дверь – не вошел бы кто-нибудь, и зашептала с украинской страстностью: “Я все, все чисто вижу. Вижу, что у вас у самих ничего нет. И какая ваша жизнь, разве ж я не вижу!..” Тут вошла бабушка, и Шура с испугом от меня отшатнулась. А я вернулась в мою щелку, точно выйдя из уэллсовского рая (в его “Зеленой калитке”).
2 часа дня. Еще одно “событие” в микрокосмосе нашей квартиры. Так как сегодня воскресенье, генерал наш дома и по обыкновению целое утро занят разборкой, укладкой и переукладкой каких-то чемоданов, баулов, корзин, ревизией шкафов. Мне тоже пришлось не один раз продефилировать мимо него в вестибюле, где он больше всего пребывал (вестибюль – дорога и на кухню, и в ванную, и в уборную). И каждый раз, когда мы сталкивались, как и всегда в эти годы под одним кровом, он, точно пораженный неожиданным и неприятным впечатлением, опустив голову, молча отшатывался от меня или, повернув спину, убегал в открытую дверь. Не знаю почему, именно сегодня мне вдруг показалось необходимым найти выход из наших позиций вооруженного псевдомира. Вернее – вооруженного отсутствия каких бы то ни было человеческих отношений, кроме неприятных встреч в коридоре, в вестибюле, на кухне. Полчаса тому назад, когда он в третий или четвертый раз отпрянул от меня и бросился из прихожей в свою комнату, к самому окну, я остановилась в дверях и громко окликнула его по имени. Он удивленно воззрился и военным маршем приблизился ко мне с настороженным вопросительным видом. В серых выпуклых глазах были недоверчивость и холод и готовность к открытию враждебных действий.
Но мне это ничуть не помешало сказать ему ласково и со смехом:
– Александр Семенович! Почему, когда мы с вами сталкиваемся, у вас такой вид, что это или меня должно чем-то конфузить, или могло вас поставить в неловкое положение. И что вообще будто бы это так неестественно и неприятно, что надо всяческих встреч избегать, а уже если встретились, отскочить друг от друга как можно дальше и поскорей забыть, что есть вот тот-то человек на свете. Давайте – иначе. Проще. По-хорошему. Жизнь столкнула нас в этом вестибюле. Надо принять это, пока не найдется выход из этого положения. Похоже, Александр Семенович, надо вам принять его, как я приняла. Верьте, что мне с вами было бы совсем просто и, может быть, даже приятно встречаться, если бы я не видела, как вам это почему-то трудно. Я не говорю про общение, да и какое общение с глухим? Я говорю о том, что нет причины игнорировать друг друга, жить рядом, как абсолютно незнакомые между собой люди. Я так не могу, потому что вы близкий человек Алле, с которой я была близка от самого рождения ее до последних лет. В житейском отношении меня нисколько не стесняет встреча с вами в дверях ванной, кухни и т. д. Значит, и вам, тем более, нечего меня стесняться, старухи, которая вам годится в матери. Давайте, будем просты, как дети (эту тираду записываю хоть и почти дословно, но, конечно, не стенографически).
Вначале мой собеседник (т. е. слушатель) – он все время молчал с недоумением и холодом, но очень скоро лицо его стало проясняться и холодные, водянистого типа глаза блеснули пониманием, юмором и внимательностью. И наполнились теплом, и он широко и доверчиво улыбнулся в конце тирады, когда я коснулась его руки и: – Вот, вы улыбнулись, значит, все поняли. – С этими словами я отошла от него, чтобы пройти в кухню, и увидела, что в дверях ее стоит Леонилла и смотрит на меня изумленно и неодобрительно.
…И вдруг серым мышонком промелькнула в голове моей мелкого, примитивного, мышиного свойства догадка – почти уверенность: Леонилле было бы неприятно сближение мое с Александром Семеновичем и возврат Аллиной ко мне близости.
22 марта
Пришла Нина. Осталась ночевать.
Как уж кто воспринимает меня раз навсегда, с самого детства ее, настолько в кривом зеркале, что не может удержаться от смеха при каждом проявлении моего существа. Мне это не обидно. Но очень надоедает. И что-то в ее смехе (не только надо мной) слабоумное, дефективное.
Приходил Ника. Было грустно, что нечем – да и нельзя – угостить его, если бы и было чем. С этой осени вошло в конституцию нашу, чтобы я жила так, как будто меня здесь нет (“Алла имеет право, наконец, жить не в общежитии”, – Леониллино недовольство).
Это что-нибудь в каждой семье по временам неизбежное – столкновение разных возрастов, вкусов, характеров, и не хочется думать, что замешаны “продукты”, родственники, свойственники. Может быть, и Мирович! Я как-то сегодня лишь почувствовала непростоту, нелегкость, несогретость атмосферы под их кровом[800]. Несмотря на исключительную доброту и открытость Ольги навстречу людям, Человеку с большой буквы. Правда, не всегда, и это не глубоко, часто лишь в верхних слоях, недоосознанно и безответственно. Н. С. Бутова однажды о ней сказала: “Это мой прозрачный, даже кристальный, ручеек, но он сам не знает ни куда, ни откуда он течет и лелеет все, что отражает лишь на мгновения, пока отражает”. Это не совсем верно, как все сравнения лишь отчасти верны. Я бы сказала иначе: все свои “отражения”, какие стали ее жизнью, она “лелеет”, иные на поверхности, другие поглубже, но почти все с перерывами, когда сам ручей как бы ныряет под землю (анабиоз).
25 марта. 10 часов вечера
Мыслей без слова и чувств без названья Радостно мощный прибой. Зыбкую насыпь надежд и желаний Смыло волной голубой[801].Есть у меня в памяти сердца такие строки, как эти, которые я до того чувствую моими (это стихи Вл. Соловьева), что лишь с некоторым усилием припоминаю настоящего автора их. И была однажды такая возможна для меня “ошибка”, что я выхватила у Сологуба 4 строки:
Душна полуденная мгла, Змея клубится у дороги…[802]Слова и словечки, невзначай оброненные или хоть из эмоциональной сферы вытекшие, но реальных последствий иметь не могущие:
“Бог сестру мою накажет непременно за то, что она меня не одевала”. Нина Тарасова.
“Он относится к своей жене с христианским… равнодушием”. Е. П. Ильинская[803].
“Если бы у меня чудом появились какие-то серьезные деньги, я бы хотела одеть с головы до пят Ваву (меня)”. Леонилла.
“Какая ужасная вещь – старость, распатланная, смрадная, неприкаянная”. Она же.
“Свято место пусто не бывает” (Анна, мрачно, узнав, что к ней собирается погостить одна из ее знакомых).
“Надулась, как лев какой противный” (тетка Авдотья Терентьевна о своей воспитаннице).
99 тетрадь 1.4-17-4-1947
8 апреля. 12 часов ночи
Аллины именины и годовщина ее “ЗАГС’а” с генералом. И до того прочно разъединена линия их жизни моим заширменным существованием, что теперь уж, если бы они и захотели прежнего дружественного общего русла, уже нет к нему мостов. У меня еще недавно была вера в возможность их, но встретилась она с таким живым, с организованным и непреклонным волевым отпором со стороны Леониллы, что оставалось для меня: вспомнить все тот же девиз, какой и сейчас повторяю: “сужденное прими – не прекословь, так выпил цикуту Сократ”. И так далее.
13 апреля. 12 часов ночи. «Дома» у отопления
Утром во время праздничного – в стиле пасхального ритуала – завтрака в столовой, куда собралась вся семья, я увидела у себя на столе два ломтика кулича, красное яйцо и 100 грамм колбасы.
Вероятно, я ожидала, что общие воспоминания Пасхи сделают какой-то сдвиг в Алле и в Леонилле, что они по-иному ощутят мою жизнь и меня в их жизни и опомнятся, устыдятся и найдут такие слова, которые заставят меня, хотя бы только на сегодняшнее утро, изменить моему чумному изолятору. И не будет больше этого ощущения себя приживалом-“заугольником”, которому в праздник протягивают рюмку водки за ширмы.
Это ощущение вдруг поднялось с такой резкостью в душе и перелилось в область воли, что, несмотря на омерзительную погоду и на гриппозное состояние, Мирович без завтрака бросился к метро. Отвозить письмо для передачи Ольге в Кремлевку[804]. Его мог бы с большой охотой отвезти Ника. Но я не могла уже ни на минуту оставаться под кровом Тарасовых.
15 апреля. 2 часа дня
Промозгло. Туманная, немилосердно суровая, насквозь прохватывающая сырость. Под кровом Анны. Мимоходом – по дороге в Зубово.
Не видела Анну две недели. У всех, кто не лауреат, не академик или не заведующий где-нибудь провиантом, домочадцы имеют обтаявший от недоедания вид. И Анна пожелтела и слегка опухла. Но все то же излучение братского тепла и высокого нравственного закала и энергии внутренних установок.
Аскеза тут стала нормой. Даже на пасхальные дни не было возможности никаких ритуальных добавлений к скудному режиму. Ни одного красного яичка. То, которое оказалось на столе, – бутафорское. “Ему лет 100”, – сказала Анна с улыбкой.
100 тетрадь 18.4-29-4.1947
18 апреля. 2-й час дня. Под кровом у Анны
Преодолей, преодолей Свои желанья и томленья, Тоску и боль души твоей И о покое помышленья. (Мирович сергиевских лет)На внутреннем пути человека в процессе его духовного роста сам он свободен и самостоятелен только в двух моментах: в моменте выбора и преодоления (затраты моральных, нервных и порой чисто физических сил), на линии уже сделанного им выбора.
Остальное: степень успеха, количество и качество достижений на пути – зависит не от него, а от высшей воли.
Оглядываясь на свою жизнь, вижу, какую малую роль играло в ней самопреодоление. До последних лет, до вступления в глубокую старость я слишком большое место отводила непосредственным импульсам моего существа. И было бы в этом нечто закономерное для таких натур, как моя, – но при условии бдительности, если бы она соблюдалась в сторону выбранной линии ее движения. Если бы не примешивались и при выборе, и в дальнейшем элементы низшей стороны души моей, ее страсти, ее слабости, эгоцентризм, тщеславие, гордость.
19 апреля. 4 часа дня. У балконного окна
С утра какое-то веселое сумасшествие в природе: через каждые пять минут перемена настроения – то пурга, то нежно-голубое по-весеннему, чуть затуманенное небо, то ослепительный блеск солнца на железе крыш, то клубы серых туч – и опять снег, пушистый, как зимой, и через минуту прорывы летнего солнца в тучах, и неожиданная победа туч – и вдруг уже не снег, а весенний дождь…
Встреча с Ватагиным. Вчера, у Тани. И вот что значит старость – никакого следа от нее. Может быть, причиной этому еще и мой грипп и глухота. Приятно было смотреть на буддийское спокойствие и кротость его лица под черной тюбетейкой, когда он неспешно ел фасоль и разговаривал с Таней. Я сидела в стороне, на кушетке, рядом с Таниной матерью. Она мне что-то неинтересное рассказывала на ухо. Я слушала, и только порой из глубин подсознания доносилось до меня: ведь это Ватагин. И вы не виделись с ним целый год. А перед этим – века. Естественно же было бы для вас видеться каждый день. И это – было. Давно. И это – будет когда-нибудь. Но уже не на этом свете. А на этом так и нужно, “так суждено, так в мире надо, поверь, склонись. И замолчим”.
А вернувшись за мою ширму, я и совсем про нашу встречу забыла. Весь вечер прожила с Чулковым в “Годах странствий”[805] его, с Блоком, с Сологубом, с Анастасией Мирович, с собственной молодостью (стремительной, тридцатилетней), с декадентами, с символистами, с борьбой света и тьмы в собственной душе.
Еще одна встреча вчера с Даниилом[806]. Вот еще одно существо, с которым было бы естественно “для меня” видеться каждый день. Нечеловечески красива была вчера его жена[807]. Фантастическое (одновременное!) тройное впечатление гейневского Lotosblume (водяная лилия, которая “mit gesenktem Haupte wartet sie träumend die Nacht” – и дальше: Sie blüht und glüht und leuchtet, und starret stumm in die Höh’ und weinet und zittert”, – дальше забыла[808], архангела, набросанного кистью Винчи в стиле его Джоконды или Иоанна Предтечи, и русалки, которая завтра начнет праздновать свою послепасхальную русалочью неделю и кого-нибудь защекочет до смерти.
С Даниилом восстановилась та связь, какая возникла между нами 36 лет тому назад. Теперь ему 40, но можно ему дать и 50 – так истощена и точно сожжена его телесная оболочка. Тут и фронт, и болезнь, и срыв с Монсальвата в дантовское Inferno, откуда он вырвался, как из огня, со следами ожогов, с налипшей на какие-то участки души адской смолой. Любя его, дорожа целостностью его души, хочу верить, что все же он – вырвался. Об этом говорит мне его улыбка младенческая (она же ангелическая), какой он улыбался с первого года нашего знакомства, в четырехлетнем возрасте. После фронта, в течение этих трех лет, она лишь бегло и как сквозь закопченное стекло мелькала в наших редких встречах. Вчера я увидела ее впервые во всей ее чарующей ясности, в нездешнем значении ее.
…Мрачное, но infern’ально тяжелое и болезненное впечатление от Тани, от ее восклицания “негодяй” по его адресу. Осуждать за этот приговор душу, в которой еще кипят смолы ада, куда ее столкнула утрата спутника, – осуждать ее нельзя. Но и повторить за нею ее приговора никто не решился бы, увидев хоть раз эту улыбку Даниила.
12-й час ночи. За ширмой.
Кончила “Годы странствий” Чулкова. Фельетонно, бегло, но искренно, без позы, какая в живом общении да еще при картинно-поэтической его внешности мешала мне и некоторым из моих друзей принять Георгия Ивановича всерьез. В оценках тех или других черт эпохи, в набросанных портретах литераторов, поэтов и художников чувствуется умный, тонкочувствующий, хотя и поверхностный писатель. Богема, странник и в то же время эпикуреец. Это, впрочем, заключение не столько из книги его вытекающее, сколько из знакомства с его частной жизнью, ряда личных встреч. Ценно в его книге (для меня) то, что она заставила меня за двое суток пройти по тем путям декадентства и символизма, богоборчества и богоискания, какими отмечено чуть не целое десятилетие моей жизни.
И заставил меня Георгий Иванович задуматься о том, о чем я редко думаю: что значит (что это такое) – “время и сроки” в истории. Отчего какой-то отрезок времени (иногда это десятилетие, иногда столетие) в такой-то стране люди разных слоев – разной степени одаренности переживают (откровения или искушения?) – как Владимир Соловьев Лазурноокую Деву Радужных Ворот, Блок – Прекрасную Даму и Мирович (в 8 или в 9 лет!) – то же лазурно-радужное видение Невыразимой Красоты, и до сих пор не утратившее таинственной и радостной власти надо мною, когда я его вспоминаю.
29 апреля. Замоскворечье
Выздоровление Ольги – еще одна из радостей последнего времени в дополнение к Диминому “Ангелу воскресения” и Данииловой улыбке, где впервые за эти его трагические и психиатрические три года почувствовала его душу; цельность его личности как завиток души человеческой мною ощущается (видится мною подобно тому, как в сиреневой почке, раскрывши ее, видишь и листья, и приготовленную к цветению гроздь цветов).
101 тетрадь 30.4-28.5.1947
30 апреля
В метро по дороге в Зубово попала в толпу. Мелькнул стоявший позади военный.
– Окажите мне рыцарское покровительство, иначе меня сейчас задавят, – сказала я и увидела перед собой его протянутые в черных лайковых перчатках руки – они оградили меня от напиравшего потока каких-то парней.
Оглянувшись на своего спасителя, встретила важный и гордый взгляд, а на груди штук 12 орденов и какая-то необыкновенного фасона высокая фуражка над всем этим великолепием.
– Если бы я видела, что вы так декорированы, – невольно вырвалось у меня, – я бы не осмелилась к вам обратиться.
– Это наш долг, – сказал он, подхватив меня под локоть, когда лестница приблизилась к переходу на пол, коридора, и, галантно сделав под козырек, поспешил к поезду. Это уже чуть ли не десятый военный, который спасает меня от давки в людской лавине на эскалаторах.
В Зубове Аничка (тетя Аня). Ее экспансивная теплая радость. Стремление угостить (пришла посылка от Вернадских). Пили американский шоколад с витаминами и с солодом.
У Ники усталый вид. Много бегает по разным хозяйственным комиссиям. И для своей семьи. И для дружественных “одиночек”. Перетаскал 50 кило картофеля для родственницы Вернадского, немощной “Кисы”. Для чтения у него роскошно изданный “Научный сборник” из всех отраслей науки – подарок Муратова. Некогда Муратов был безмолвным, безнадежным “рыцарем” Натальи Дмитриевны, Никиной матери. Теперь, под 60 лет, женатый лет 15 уже, он с особой трогательной внимательностью относится к Нике. Сын его, четырнадцатилетний Вася, и жена (педагог) также включили Нику в круг близких друзей.
Как мне будет недоставать моих зубовцев, если я попаду в инвалидный дом. Но что-то падают у меня надежды на эту возможность. Впрочем, о надеждах, вернее, нет здесь и речи. Да будет то, что будет. Неторопливая выжидательность.
9 мая. Ночь
Праздник Победы. Попала случайно на Горьковской улице в непроходимую чащу сограждан. В тесноте, доходящей до давки, созерцали “потешные” огни зелено-красных фейерверков и все тех же, скрещающихся, как мечи над Москвой, прожекторов. И еще какое-то округлилось вверху серебристое отражение – большущего шара. У подвыпившего созерцателя, рядом со мной стоявшего, оно вызвало странную мысль: “Это что же – бомбу показывают?” Кругом засмеялись, но никто не взялся разгадать, что это такое. Бедняге Мировичу, который всю жизнь боится толпы, тесноты, яркого света, атмосферы народных празднеств, чуть ли не сделалось дурно. Спасибо милым трем девушкам, которые пели, обнявшись, и не отказались перевести его через улицу и вывести туда, где людской поток был реже. Но – пусть не подумают внуки и правнуки мои, если доберется когда-нибудь до них эта тетрадь, что Мирович не понимает, не чувствует значения нашей победы и не радуется ей.
Но так уж создан Мирович, что делить с народом своим все, чем народ болеет, он может и в толпе (мог бы и на фронте, и знает это чувство, когда “работал в лазарете”). А праздновать обречен наедине со своей тетрадью. Или с каждым, с любым из “толпы” взятым – наедине. Есть какое-то для меня непременное условие – входить в чувство целого (народа, Человечества) через человеческую личность.
11 мая. Ночь
Ну, вот и еще один день жизни по эту сторону Смерти.
На каких-то он ржавых, скрипучих колесах, на колесах инерции провлачился с 10-ти утра до часу ночи. И мысли были все какие-то жалкие, мелочные. Слава Богу еще, что следа не оставили, прошли, как тень облаков по воде. Мысль: “Почему Тарасовым не пришло в голову прихватить Мировича, когда поехали сегодня на дачу”. Или хоть “выразить сожаление, что нет для него места”. Мысль, “почему не позвонит Ольга, вернувшись из больницы, не поговорит, не скажет, что «соскучилась обо мне», как я о ней”. Мысль (!) о том, что из дневного меню для Мировича нет ничего подходящего. Единственное оправдание дня – переломив слабость, а может быть, и так называемое “разленение”, погнала “своего брата-осла” на телеграф и отослала, наконец, 100 рублей Марусе[809]. Из почтамта завернула в переулок. “Домой” сильно не хотелось возвращаться. Знала, что там уже вернулись с дачи. Гам, переклички голосов, va et vient[810]. Вспомнила, что близко от почтамта Кисловка. Там, как и в Зубове, и у Тани, никогда не можешь оказаться в положении гостя, который “хуже татарина”. Порадовалась тому, что Игорь и Катя[811]Мировичу рады. И смиренно благостному флюиду Игоря порадовалась. Что-то в нем от достоевского князя Мышкина. И пышно-версальской (хоть она и убого одета) красотой Кати полюбовалась.
Часть ночи, о которой у пророка Исайи:
Еще не настало утро, но уже ночь кончается. Ольгин “синий час”. Тоска об Ольге, о семилетнем “Лисике”, о семнадцатилетней “Лис” (тогда я произносила это имя по-французски Lis – Лилия) и о других фазах нашего сопутничества – до гнусной роковой прослойки его… продуктами (!) (от этого слова судорога отвращения змеится в мозгу).
Есть в Генуе в Campo Santo надгробие – мраморная женщина, прислонившаяся спиной к запертой двери склепа. Она приложила к губам палец: не то прислушивается к тому, что за дверями, с проблеском надежды, не то велит себе молчать о том, что услышала и что ее испугало.
12 мая 11 часов утра. У балконного окна
Небо грязно затуманенное. Облака пропитаны испарениями Москвы.
Сейчас узнала от Аллы, что в переделкинский инвалидный дом меня не принимают. Девизу своему “сужденное прими, не прекословь” я не изменю. Но не могу считать, как Тарасовы, что суждено мне после неудачи с Переделкиным ехать в Ленинград или в Иваново-Вознесенск. Верю, что и я, и Тарасовы должны приложить еще какие-то усилия, чтобы устроить Мировича поближе к Москве. С Аллой разговор – в почти дружественном тоне, хотя едва ли можно считать дружественным отношением такое, где прежде всего хочется от человека отделаться, – так он чужд, так раздражает уже одним фактом, что до сих пор не умер. Когда разговор кончился, какое-то глубокое спокойствие сошло на меня. Вспомнилось Наташино предсмертное: “Все будет как нужно. Все будет в свой срок. Все будет хорошо – потому что все не в нашей, а в Божьей воле”.
15 мая. 7-й час вечера. У балконной двери
Чуть не полдня ушло на письмо Ольге. Дописалась до того, что пришлось класть на голову пузырь с холодной водой и погрузиться часа на два в полуобморочное состояние. А когда встала с постели, без сожаления разорвала два листа на мельчайшие клочья и отправила в помойное ведро. Таким импульсам, идущим из особого тайника подсознания (вернее: сверхсознания), я повинуюсь всегда. И не раскаиваюсь в этом никогда.
Письмо с объективнейшим анализом заболевшей и едва не умершей нашей душевной сорокатрехлетней связи. Письмо с полной раскрытостью сердца. Оно, вероятно, могло бы внутренно пригодиться Ольге. Могло бы восстановить покривившуюся линию нашего общего пути. Но в нем не было чистоты мотивов. Во время писания и когда клала пузырь на голову, я этого еще не осознала. Оно было правдиво. И чем-то, пожалуй, этически нужно. Но в нем было то, чем последнее время озабочена моя совесть: “искание своего”. Личная ущемленность и стремление избавиться от ее тяготы. Может быть, и неготовость потерять Ольгу как друга и как дочь. Черное пугало старческого одиночества. Когда я порвала письмо, это чучело рухнуло – значит, я не ошиблась: импульс шел из верного источника. Пусть будет то, что будет. Пусть умирают ложные ценности, “phantasmata”[812].
102 тетрадь 23.5-30.6.1947
4 июня
Сейчас еще мало сил для процесса писания. Голова работает. Ответственность совести не повреждена старостью. Мелькают и мысли. Нужные мне (а может быть, и другим). Но силы заметно с каждым днем падают. Услышанное, увиденное, подуманное за истекшие дни без записей.
Крымская площадь. Зной (3 часа дня). Побег сюда из отравленной комнаты (газами соседней фабричной трубы). Тетя Аня в знойной кухне у плиты, с крупными слезами, засиявшими в серафически синих глазах: “Мне все хочется плакать. От всего хочется плакать. Сама не знаю, почему”.
Но я знаю, почему. От переутомления, без всякой перспективы отдыха. От дороговизны цен на продукты, невозможности свести концы с концами, откуда рост долгов (их уже более тысячи). От созерцания полуголодного, похудевшего от недоедания Ники.
8 июня
Сначала не о том, что “вспомнилось”, но о том, о чем ни на минуту нельзя забыть: в Киеве Маруся без угла, опухшая от голода, питается одними картофельными очистками. Их из сострадания варят для нее “добрые люди”. Скитается из одной знакомой семьи в другую и что-то починяет сестра Людмила. Штопает, помогает на кухне. За тарелку супа и ночлег. Канцер почечной области. Едва передвигает ноги. Находит душевное мужество писать бодрые и меня ободряющие (утешающие (!)) письма.
В Москве – Инна, которую беззаконно и безжалостно “прогнали” со службы. Алла говорит: это естественно. У нее такой изголодавшийся, мрачный вид. Чудаческие костюмы (остатки прежних времен, разношерстные, пугающая фантастичностью форм самодельная шляпа). Растерянность движений, не отмываемые от огородной работы руки. Алла искренно пожалела Инну. На минуту задумалась о ее судьбе. Но потом опять сказала: “Естественно, что на ее место посадили молоденькую, одетую, как все, девушку, хотя и совсем неопытную”.
Женя в полной депрессии, глубокое переутомление. Николка (ему 9 лет) томится в душной комнате (“и там целый день плачет… “, по словам своего дяди, Игоря). Игорь хлопочет о лагере для него и о санатории для Жени. Пока безрезультатно.
Анна последние дни питается одной фасолью. Хлеба у нее 250 грамм “Все продукты вышли, а новых не выдали еще”. Она, как и Людмила, не теряет мужества, не впадает в уныние. Живет выше того, что копошится в сознании впроголодь питающихся людей. Но у нее, как у Инны, почерневший, с характерными для голодающих тенями цвет лица. И глубокие впадины под глазами.
Не хватило сил. Остальное время в Зубове на сундуке, за шкафом. Сонная одурь от слабости и печени.
9 июня. 8 часов утра
Пока идут сборы на дачу, попробую писать в постели (после вчерашнего приступа печени мало надежды выбраться из нее).
Котлы кипят чугунные, Ножи точат булатные, Хотят меня зарезати.С этой песенкой Козленочка из любимой в детстве сказки просыпаюсь теперь каждое утро. Говорила об этом с Юрой. И как с психиатром, и как с адвокатом. Он был уже раз ходатаем по моим “тяжебным делам” с Тарасовыми и толково объяснил сущность моих прав на мое у них пребывание и на иждивение. Сейчас надо опять говорить о том же ввиду неотступного напора железной воли его матери на осуществление планов заточить меня в инвалидный дом в Ленинграде или в Иваново-Вознесенске.
Я безмерно устала от этого напора. До того, что полусогласилась на Иваново-Вознесенск, с тем только, чтобы Дима предварительно съездил туда и подробно рассказал мне свои впечатления и некоторые бытовые установки дома. Он согласился. Тогда-то и началось это дневное и ночное пение:
Котлы кипят чугунные, Ножи точат булатные, Хотят меня зарезати.Кроме того, я увидела, что некоторые из моих друзей и детей так же трагически воспринимают это событие – и не только для меня, но и для них. Это прибавило мне сил для борьбы, и я придумала обратиться к Юрию. У него было такое отцовское (его отца, Константина Прокофьевича, одного из лучших людей), глубоко вдумчивое, справедливое и человеческое лицо, когда он говорил со мной и пообещал “заступничество”. Это было третьего дня. С того часа песенка о Козле, которого хотят “зарезати”, и это представление звучит не так навязчиво, бледнее и дольше.
11 июня. 1 час дня. У балконной двери
Летнее, городское, прокопченное и пропыленное над горизонтом небо. Вверху – легкие, белоснежные, тянущиеся к зениту облака, точно убегающие от грязных и чадных испарений человеческой жизни, как можно дальше, как можно выше.
На столе – букет белых лилий и темно-красных тюльпанов. Редкостный в последнее время Аллин дар. Как и редкостный между нами разговор на кухне. Она разбирала груды цветов, вчера поднесенных ей на премьере “Дяди Вани”[813]. Я невольно задержалась у плиты, так как Шуры не было и я сама варила кофе. Разговор о Чехове, о его подходе к человеку, об утонченной, филигранной, психологической работе, к которой он обязывает актера – “иначе ничего не выйдет”. Об успехе спектакля – о явной растроганности публики. Игорь Ильинский по поводу самой пьесы и ее нового ансамбля, по словам Аллы, сказал замечательную по искренности и по силе чувства “речь”. Алла говорила умно, вдумчиво, с одушевлением. Для меня было, признаться, приятной неожиданностью то, как она отчетливо и углубленно разобралась в чеховском замысле, в чеховской душе и в оттенках отдельных ролей – молодая жена старого профессора, которая говорит о себе “я – нудная, эпизодическое лицо”. Книппер, Коренева, помнится, дальше этой трактовки не шли. Аллочке, по-видимому, удалось приоткрыть ту же трагическую сущность этой роли, о которой “дядя Ваня” по поводу своей судьбы восклицает: “Пропала жизнь!” После разговора с Аллой (а может быть, и после ее лилий и внимательности, проявленной к моему завтраку – увы! увы! – и это, вероятно, сыграло свою роль) защемило у меня в сердце нечто вроде раскаяния во всех отметинах ее “жесткости, черствости, примитивности, сумасшествия эгоизма”, не раз запятнавших страницы моих тетрадей – со времени злосчастного обмена площадей и возникшей отсюда жилплощадной “тяжбы”.
13 июня. 9-й час утра
Облачное перламутровое, уже загрязненное дыханием Москвы небо.
…Увядают лилии, нарциссы На столе моем. Небосклон туманный, темно-сизый, Грустен за окном. От него сегодня вы не ждите Дождевой струи… Потушите жажду и усните, Лилии мои.10 часов вечера. Преодолеваю гневный протест печени и берусь за тетрадь, чтобы подивиться тому настроению, из которого утром выросло восемь строк о лилиях. На расстоянии всего 12 часов. Что-то произошло (в сознании? в подсознании? в сверхсознании? в сердце?), заставившее меня как чужое перечесть строки наверху этой страницы.
Может быть, самая безнадежность их (тон их, несомненно, безнадежный) взывала к сдвигу в сторону надежды. Как-то, еще в годы молодости нашей, “потусторонний друг мой”[814] мимоходом обронил однажды афоризм, который был понятен немногим. И в числе немногих этих был Мирович. И не раз в жизни после он всплывал в памяти сердца в нужные минуты – “Безнадежность не есть ли высшая… надежда?”
Весь день сегодня – и на улицах Москвы, и в библиотеке, и когда, застигнутая дождем, укрылась в квартире Игоря, и под кровом Анны, и в метро, и сейчас, звучит во мне одна из любимых арий, которую нередко пел для меня “потусторонний друг”.
В Коппэ, в тот день, который я вспомнила сегодня благодаря этой арии, какую он пел там по моей просьбе, вспомнила так, что и запах тех роз, что цвели вокруг виллы, и неправдоподобно лазурные воды озера, и синяя, суровая, точно окутанная мглой Савойя – все ожило и задернуло полог над Москвой, над заширменным жребием моей старости, над сегодняшним днем. И над 30-ю годами разлуки, и над известием, что его уже больше десяти лет нет на “этом свете”. И так несомненно было, что он – там, где он теперь, “живее живых”. И казалось мгновениями его присутствие таким “галлюцинаторно-ясным” (сказали бы психиатры), что не было никакой возможности сомневаться в нем.
В тот вечер он пел для меня одной. Девочки ушли в горную экскурсию. Жена была в Париже – занята какой-то медицинской работой (она врач). Он пел, глядя мне прямо в лицо, в глаза, не отводя взгляда от моих глаз:
In questa tomba oscura Lasciami riposar, Quando vivevo, ingrata, Dovevi a me pensar[815].И дивный голос его звучал каким-то грозным вдохновением, с необычайной силой и властью, точно это был таинственный пароль для всех будущих наших встреч во все грядущие века, во всех пространствах мира…
22 июня. Под кровом сестры Анны
Комната Люси. 11 часов безоблачного, жаркого дня.
Как трагически верно изречение индусской мудрости: “Труден путь. Опасно прохождение. Опасны страх и остановка”. Переведя на мирской язык: трагичен по существу путь человека в дни его земного воплощения. И Евангелие не скрывает, что путь наш должен быть трудным (“Входите тесными вратами, идите узкими путями”). Помимо трудности, предрешенной рождением каждого “земнородного” – тяжкого и ответственного жребия быть человеком, существом зоологичным и в то же время духовным, слабым и терзаемым противоречивыми требованиями плоти и духа, на каждом шагу еще – “опасности прохождения”. Они на каждом шагу – созданные бытом, взаимоотношениями с людьми. Постоянная возможность обо что-то преткнуться (больше всего о свои собственные дурные свойства, о свой эгоизм). Преткнуться – поскользнуться, очутиться на такой ступени, которую считал уже пройденной навсегда.
Ника с увлечением читает “Жана Кристофа”[816]. Собирается проводить меня завтра в Измайлово. Хочу видеть дипломную работу Димы. Маша простилась со всеми. Уезжает на 3 месяца в Крапивну, в заповедник работать по ботанике. Сусанна, увидев меня, не успела спрятать выражение неприязни. Но я позвала ее ласково и сказала:
– Давай все-таки поздороваемся.
Уходя, застала ее одну в кухне, где она занялась стиркой Вовиных штанишек.
– И прощаться тоже будем, – сказала я, целуя ее кудрявую головку. Тут она мне первый раз в этом году улыбнулась.
Вечером в отсутствие Аллы – она сегодня занята в “Трех сестрах”[817], позвала к себе генерала, на консультацию. Поговорили очень хорошо об инвалидных домах и о трудности создавшегося в их доме моего, Аллочкиного и Леониллиного положения. О необходимости поскорее найти для меня подходящий инвалидный дом. Он слушал сосредоточенно, с хорошим, понимающим и печальным взглядом. Порой, когда выражения мои казались ему забавными, понятливо улыбался. Аудиенцию я закончила упованием на его рыцарское вмешательство в судьбы трех женщин, попавших в жилплощадный тупик. Уходя, он крепко пожал мне руку со словами:
– Да, я все понял. Будем хлопотать.
Навестила бедную Нину Яковлевну (Ефимову). У нее вид тяжко больного, но внутренно не осознавшего своего положения человека. Много – и не как тяжелобольные – рассказывала о перипетиях издания ее работы о Серове[818]. О всех этапах своей болезни. Может быть, мое впечатление ошибочно. Но хотя я слушала ее внимательно, во мне стояла, как неподвижная звезда, мысль: “Вот ты на смертном одре. И я у гробового входа, а говорим мы о том, что нас уже не очень касается. Даже совсем не касается”. И казалось, что Иван Семенович (муж Нины Яковлевны), с сумрачным, кротко-страдальческим лицом, какое у него бывает в период депрессии, без слов понимал мою затаенную мысль. И взгляд его говорил: “Да. И все, и всё на этом свете ни к чему. И важное – только смерть”.
26 июня. 3 часа ночи (утра?)
Небо в иззелена-сером, желтоватом плаще облаков. На востоке густорозовая без блеска недвижная полоса зари.
На худой узловатой руке под темно-красной кожей вздулись синеватые артерии. Покривились пальцы, сжимающие это перо. Выступами тонких костей и провалами между выступов наметился скелет фаланги. Между плечом и локтем сморщенной тряпочкой обвисла желтая кожа некогда прекрасных мраморно-белых рук. О них в Ростове, когда в очень жаркое лето 1919 года[819] я ходила в сарафане без сарафанной рубашки, оперная артистка Политова (ныне покойная)[820] сказала с шутливой завистью: “Дорого бы я дала за такое ослепительное декольте в некоторых моих ролях”. И пленилось им жуткое андрогинное существо с нечистой страстностью, о которой тогда я не имела понятия, несмотря на свои 50 лет. И позволила однажды в жаркую звездную ночь ему? ей? ласкать мои руки и плечи.
И возник и разросся люциферический цикл стихов “Утренняя звезда”.
Глядя на эту изуродованную старостью плоть, странно вспоминать, что к ней были обращены эти строки:
Руки мои обласканные, Руки мои счастливые. Какую древнюю сказку Мне принесли вы. Море пенно-шумящее, Волны бессонные, Звезды чутко дрожащие, Влюбленные. Мрамор в звездном сиянии — Храмы белые Афродиты Урании И грозной Кибелы. Руки мои зачарованы Ласками Афродиты, Но уста, нецелованные Кибелой, закрыты.Борьба – не на живот, а на смерть – с люциферическим началом в себе, чувство бездны ужаса и сладость дерзания, невозвратимость (казалось в иные моменты) в лоно Отчее, напрасные усилия спасти “падшего серафима”, ворвавшегося в мою орбиту, боль и жалость к нему, разрывавшая порой сердце, ежедневные, ежечасные, ежеминутные (вернее, вневременные) бури в недрах духа, – вся эта страшная мистерия, через которую прошла моя душа и не распалась, уцелела чудом помощи свыше, – все это нужно было для того, чтобы в эту ночь, сейчас, до конца утвердить в себе всю жизнь нараставшее сознание преходящести, иллюзорности материи и реальности и вечности Того, чему она служит оболочкой и символом (се Красота – напоминание об Эдеме, о первичном замысле Творца, о мире и человеке).
103 тетрадь 1.7-24.7.1947
1 июля
Встречи
I
По дороге в библиотеку, куда влачу свою старость и разлюбленного Марселя Пруста в портфеле под мышкой, тяжело налегая на можжевеловую дубинку, стараюсь не смотреть на встречные лица. Когда я в такой степени нервной летней городской утомленности, как сейчас, меня раздражает и просто мелькание лиц, и множественность их, и собственная эстетская мысль: “Какое мое, однако, некрасивое племя!” И вдруг, как опровержение этой мысли, передо мной возникает стройный нежный цветок с прелестным девическим лицом в легком элегантном мужском костюме серебристо-серого цвета. На роскошных золотисто-русых волосах паутиной тонкая сетка; на маленьких, как ювелирная драгоценность отделанных, руках с блестящими темно-красными ноготками, кольца – и жемчуг, и алмаз, и еще что-то. В прекрасных темно-янтарных глазах яркое солнечно-щедрое сияние молодости. К сожалению, на ресницах вакса и брови трафаретно вытянуты тонкой ниточкой. От этого добавления в ее очаровательной красоте невольно подумалось: опереточная, эстрадная артисточка, “погибшее, но милое создание”. И вдруг это создание, остановившись передо мной, и радостным, и каким-то умоляющим голосом восклицает:
– Варвара Григорьевна, милая, дорогая! Не узнали?
Ласковость этих интонаций, детская открытость улыбки сразу откидывает впечатление грима, взрослости, опереточности.
– Вавочка!
Десяти-двенадцатилетний, необычайно талантливый ребенок артистки NN тоже талантливой, но с неудачной театральной судьбой. Вавочка, которая прибегала ко мне из соседней квартиры, когда я жила на ул. Герцена. Читала нам со слезами на глазах, с недетским пафосом какие-то стихи о Чапаеве. Импровизировала для меня одной какой-то монолог (своего сочинения) из жизни героической женщины Виолетты, которой остается в жизни одно – “с распущенными волосами броситься в пропасть”. Иногда этому предшествовали Виолеттины диалоги с подругой или с матерью. Тогда и я должна была импровизировать. В патетических местах у Виолетты на глазах сияли крупными бриллиантами слезы. Я была убеждена, что из нее должна выйти крупная актриса. Но почему-то мать отдала ее на курсы английского языка, которые она и до сих пор не кончила.
– Вавочка, – говорю ей сегодня, – зачем же у тебя эти наваксенные ресницы, эти ненатуральные брови?
– Так все, – говорит она. – И мне так нравится. Чем же это плохо?
– Плохо, именно – “как все”. Штамп. Ты могла бы быть картиной художника, уникой в его творчестве. А сейчас ты – красивая олеография, почти плакат.
Она не обижается. Смотрит на меня с лучистой нежностью.
Спрашиваю дальше, как ей и матери живется. Она отвечает:
– Хорошо, милая Варвара Григорьевна. Живется нам хорошо. Непременно, непременно приходите к нам.
– Мама служит в каком-нибудь театре?
– Нет, она выступает на эстраде. А я живу на средства мужа.
– Разве ты замужем? Давно?
– Больше года. Тарасовы знают. Они вам про меня ничего не говорили? Я вышла замуж за американца.
– И можешь назвать свой брак счастливым?
– Да. Мой муж чудесный человек. И брак по взаимной, по настоящей любви. Но печально только, что вот уже несколько месяцев, как он должен был уехать в Америку. Мы переписываемся, он присылает доллары. И, конечно, я о нем скучаю. Собираюсь в Америку, если ему почему-нибудь нельзя будет приехать.
– А как поживает твоя муза? Стихи ты не бросила писать?
Оказывается, не бросила.
– Заходите, милая, дорогая, я вам прочту. И все, все расскажу.
Что-то защемило, защемило у меня на сердце, когда я поплелась дальше в библиотеку.
Возвращаюсь из библиотеки длинным бульваром, чтобы подышать свежестью деревьев, их молодой, еще блестящей на солнце листвы и под ними по-весеннему ярко-зеленой бархатистой короткой травы. Дышать легче, чем в пропыленных уже переулках, – но есть дни, когда километр от памятника Тимирязеву до памятника Пушкину[821] кажется подъемом на Монблан – такая одолевает слабость, так плохо слушаются и на каждом шагу протестуют подагрической болью старые ноги. Не идешь, а еле-еле тащишься. И вижу, так же еле движутся навстречу мне две старческие фигуры: одна – очень высокая, хотя уже согбенная, другая немного оплывшая, совсем маленькая. Контраст между ними напоминает что-то знакомое. Далекое.
…Вопрос, обращенный ко мне:
– Скажите, сколько вам лет? Если не скрываете своего возраста.
Я никогда возраста своего не скрывала и ответила: 40 лет (мне казалось тогда, что это очень много, почти начало старости). Маленькая фигура посмотрела на меня сбоку (мы ехали вместе на пролетке – не помню, куда). Посмотрела любезно и одобрительно и сказала: я бы не дала вам сорока. Лет 35 – самое большее.
Тридцать пять тогда было ей самой. А теперь, когда эта пара со мной поравнялась, я узнала Т. Л. Щепкину-Куперник только по росту и по тому, что с ней рядом, рука об руку шла ее неразлучная, очень высокая подруга с широкими бровями – дочь Ермоловой[822]. 35 лет назад довольно красивая, сейчас морщинистая, с мутными глазами, едва передвигающая ноги старуха. Они обе скользнули по моей странной одежде (пальто – точно белый больничный халат, чуть не до полу), по смятому годами старости лицу и, не узнавши меня, продолжали разговор. Вместо ярко оживленного, похожего на звон колокольчика Таниного голоска звучало в ее голосе что-то хриплое, с паузами и откашливаниями. Но на оплывшем разбухшем лице, повернутом к подруге, мелькнула знакомая улыбка. Так смотрела она на покойную Н. С. Бутову, с которой дружила преданно, нежно и почтительно.
6 июля. Полдень
Удушающий зной даже в тени, у раскрытого балкона Анны.
В каком “обстоянии” почти все мои друзья, кроме “бывших друзей” – Тарасовых. (Здесь неувядаемо цветут, третий год уже, флердоранжи новобрачности, окруженные лаврами и лауреатскими премиями.)
У бедняжки Анны, такой аккуратной и бдительной, ухитрился какой-то ловкий вор вырезать из сумки карточки и 40 рублей – всю ее финансовую наличность. Приняла это как испытание, “свыше посланное”. И так была жизнь впроголодь, теперь это уже – голодовка. Не будет ни крупы, ни масла, ни сахару, ни мяса.
То же случилось у Инны – Лёка (сын) потерял и ее, и свои карточки.
P. S. Иннины карточки на другой день нашлись. Страдая неотчетливостью восприятий и выпадением из памяти фактов, она обвинила сына в потере карточек, которые он принес ей, она же их автоматически куда-то засунула.
Ирис в Пироговской клинике. В тяжелом состоянии, в мрачном настроении. Ее муж – в худшем состоянии, чем она[823]. Продолжает служить каким-то чудом. В 40 лет почерневший, ссохшийся от старости (хоть и без седин), изможденный, полусожженный… Напомнил обугленное пожаром деревцо, на котором случайно уцелели две-три зеленых ветки. У сынишки их, претерпевшего много всяких мытарств во время болезни родителей, нервный, робкий вид. Круглый сирота, боящийся чем-нибудь старших обеспокоить и всем существом жаждущий тепла и внимания к себе.
Больна Ольга: глубокое переутомление (да еще при очень нервной организации). Ника долго мне объяснял, почему она “не может главным образом встречаться со мной”. Я понимаю, что тут какой-то очень индивидуальный комплекс на почве потери нервной выносливости.
8 июля
Перечитываю с неослабным интересом только что вышедшую книгу Наташи о Фарадее (3-е изд.)[824]. Неожиданный подарок из-за могилы ее пятерым детям; кажется, всем по тысяче рублей. И нежданный сестринский дар Мировичу – общение с Наташей – вот уже вторую ночь. Ощущаю за чтением почти неотступно ее присутствие – улыбку, интонации флейты ее голоса, чудный взгляд зеленовато-серых – и вдруг голубеющих, синеющих и на какие-то минуты – лучезарных глаз. И все то – сверхчеловечески высокое, нежное, святое, что объединяло нас в первые годы нашей встречи. Она сказала однажды: “Я ничего не знаю на этом свете прекраснее наших с тобой отношений”.
…В больнице, где Наташа угасала, за день или за два до ее кончины, она однажды молча взяла мою руку и прежде, чем я успела отнять ее, приникла к ней долгим поцелуем. И не отняла от моих губ своей руки, когда я так же молча, с благоговением поцеловала ее руку – тогда я уже вполне чувствовала высоту и чистоту Наташи, несоизмеримые с моими душевными свойствами.
Так простились мы с ней “на этом свете”. А перейдя на тот, она не покинула меня, как и сестру свою Анечку, и мать, и всех детей.
18 июля. Полдень. Сергиев Посад. XVII в. (Рыбинка)
Серый, ветреный, обещающий прочную непогоду день.
Сижу на бревнышке, на страже запертой калитки. Все ушли из дома. Огородная зелень и роскошные розовые заросли мыльника – любимых цветов моего детства – волнуются вокруг от мягкого прохладного ветра. Из глубины веков, из дальней дали детских лет, а может быть, из тайников собственного существа, доносится тихий, стройный хор: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасе моем.
И голос, о котором истомилась, который всегда хотело бы слышать – и так редко слышит оглушенное житейским туманом сердце: “Мир мой оставляю вам. Мир мой даю вам. Не тот, что мир дает, а тот, что Я даю вам”[825].
…За несколько дней до смерти отца (мне было 16 лет) я читала ему эти слова одной из последних глав Евангелия от Иоанна. Истерлись годы. И возвращено мне его по-нездешнему светлое, залитое слезами лицо.
6-й час дня. 3-й приступ голода. Денисьевна старательно формирует похлебку из двух столовых ложек геркулеса и двух картофелин, из полдюжины стрелок зеленого лука и чайной ложки льняного масла. Серое небо к вечеру приняло песчано-желтоватый оттенок. Ветер так же бушует, как бушевал весь день. Всю листву малинника и мелких деревьиц, окаймляющих огород, вывернул наизнанку. Этот посадский сирокко действует на меня, да, кажется, и на всех обессиливающим и гнетущим нервы прессом.
Хроника последнего дня.
Приезжали к моим хозяйским гости, пять пожилых двоюродных сестер. Крупные, костистые, с недоверчивыми замкнутыми лицами. Приехали на престольный праздник – к преподобному. Полсуток прожили в Лавре. Под кровом Ариши (домохозяйки нашей) сидели недвижно, с чопорным, необщительным видом, ели салат “со своей гряды”, пили чай с кисленькими конфетами и привезенным с собой хлебом. После чаю бродили по огородным межам, рассматривали огурцы – они не больше желудя, вздыхали, что “преподобный не посылает дождя”. Я поняла, что в их сознании он особого рода божество, из категории dii minoris (младших богов), но зато в высшей степени к Посаду расположенного, посадскими делами заведующего и всегда наготове исполнять все житейского характера просьбы сергиевцев. “Ну, ничего – преподобный все устроит. Не отчаивайтесь”, – утешают друг друга в беде старухи-соседки.
20 июля. 12-й часов ночи. Москва, Крымская площадь
День, посвященный памяти Н. Д. Шаховской
Светлому имени Наташи Тебе путь никакой не далек, В жажде света на свет привлеченный, Ты стремишься вперед, мотылек, И погибнешь, огнем опаленный. И. В. ГётеУ Гёте гибель – непоправимо трагический момент.
В Наташином миросозерцании гибель – кратчайшая прямая из царства тьмы в царство света.
Три воспоминания
I
Тридцать три года тому назад в этой самой квартире, где мы собрались сегодня вокруг незабвенного, для всех нас дорогого образа, в соседней комнате, выходящей на балкон, стояла однажды Наташа Шаховская, молодая девушка, с задумчивой улыбкой разглядывала елочную игрушку, маленького, изящно сделанного верблюда. Это был мой подарок Наташе.
– Почему – верблюд? – спросила она, отчасти уже догадываясь, какая мысль заставила меня остановиться на этом подарке для нее.
– Потому, – ответила я, – что ты являешь собой тот заратустровский “дух тяжести” (tragsam Geist), который Ницше олицетворил в образе верблюда, который спрашивает у жизни: Was ist schwerste? Что – самое тяжелое? Для того, чтобы, преклонив колена, поднять такую ношу, какая не под силу ни ослам, ни лошадям. И нести ее через пустыню, питаясь репьями и колючками.
В одном из своих немногих воспоминаний, оставленных Наташей, есть рассказ о том, как после окончания исторического факультета профессор выразился о ней, что “в лице ее зреет большая научная сила в области истории”. И что после этого ее поздравляли друзья и родные радовались. У нее же болезненным уколом промелькнула мысль: “Научная сила? Только-то… Стоило для этого родиться!”
Она не могла, по-видимому, дать себе отчет, какой жребий, какая работа, какие достижения на этом свете могли бы удовлетворить ее.
Но позже, для тех, кто подходил к ее душе так близко, как это было суждено мне, было ясно, что душа ее томится жаждой подвига.
Нечеловечески великого страданья, Нечеловечески величественных дел…[826]Еще позже, в сергиевский период, когда она ожидала рождения Сережи (старший сын), она осознала в себе эту основную потребу своей души как некую гордыню. И приучила себя бороться с ней и побеждать ее каждодневным, незаметным, самоотреченным служением семье, друзьям, соседям – всем, кто в ней нуждался. Душа ее нашла в этом настолько верный и прямой путь, что незадолго до конца своей жизни, когда кто-то из знакомых спросил ее, не раскаивается ли она в том, что столько сил и времени отдала семье, дому, не проявив себя при ее одаренности ни на каком более широком поприще, Наташа ответила:
– У меня много грехов, в которых я раскаиваюсь. Но в дороге, мной избранной, не хотела бы ничего изменить.
Дорога, ею избранная, была для нее наилучшей школой терпения, смирения и любви. Только близкие люди знали, что круг людей, которым она отдавала силы – и всегда с редким в “хладном мире” братским теплом, далеко распространился за пределы семьи.
Особенно это сказалось в грозные дни нашествия немцев и разрухи, принесенной войной. Безотказно, без оглядки на себя и на свой растущий недуг, она помогала всем, кто прибегал за ее помощью, – а таких людей вокруг нее было немало.
И это уже был поистине путь святости, путь захотевших и сумевших “положить душу свою за други своя”. И так беспощадна бывала Наташа к себе, что могло показаться: ищет она, как заратустровский верблюд, tragsam Geist, для себя того, “что самое тяжелое”.
Но велика была разница между этим предсмертным моментом и молодой жаждой подвига. Там была мечта об исключительном жребии, пытание своих отрастающих крыльев, созерцание в себе будущего героя. Здесь, в последний год ее “жития”, это было уже искреннее и глубокое самозабвение, слияние сыновней воли с волей Отца. Исполнение в каждом дне, в каждом помысле заповеди: взять на себя крест мирового страдания. О том, что она сознательно взяла на себя такой крест, у меня записано в ее “некрологе”. Здесь я считаю нужным пересказать то, что занесено в это о ней воспоминание:
“Наташа вернулась после целого дня скитания по окрестностям, где меняла в деревнях на муку и мерзлую картошку все, что у нее было в домашнем обиходе, – и белье, и подушки, и платья. Для прокормления 12 человек, своей семьи и шести старух, приютившихся в дни войны под ее кровом.
Она стояла, прислонясь спиной к печке-голландке и тщетно пытаясь отогреться. Когда я стала рядом с ней, она обернулась ко мне лицом, бледным, измученным, но озаренным внутренним светом.
– Хорошо, баб Вав? – проговорила полуутвердительно.
– Что хорошо? – спросила я.
– Что мерзнем и никак не можем отогреться, что голод, разруха, бомбы над головой летают.
И, помолчав, тихо добавила:
– Хорошо страдать со всеми. И за всех.
Крылья у души отросли, и не могла она утолить иной мерой Любви к Богу и к людям”.
II
Через 6–7 лет после разговора на тему о верблюде, уже не в маленькой, а в этой комнате – она была тогда столовая – мы сидели за этим же столом – Наташа, о. Михаил (тогда еще просто Миша) и я. Они только что приехали из Посада и пили чай с черными сухарями и с ландрином. Больше ничего за этим “завтраком” не было. Миша со смехом говорил мне:
– Ты еще не знаешь, какая Наташа максималистка во всем, что раз себе наметила в области морали. Как я ни убеждал ее съесть на дорогу хоть одно яйцо – их было пять – нет! Все напрасно – “Яйца – родителям. И Левиным детям (племянникам)”. Если появится молоко – все отправляли родителям и Левиным детям. Себе как определила три столовых ложки, так и держится целый год этого рациона, никакими силами с него не сдвинешь ее.
Максимализм, вернее, “минимализм” продуктовых трат у Наташи бросался в глаза. Он мог поверхностному взгляду показаться даже скуповатостью. Но проявлялся он только в сторону самой хозяйки. Для других же, близких и далеких, у нее была всегда широко открытая “дающая” рука. Недаром Никина няня, старушка Надежда Николаевна, не удержалась однажды от приговора своеобразной обывательской морали, возмущенной количеством Наташиных клиентов.
– Отелилась коровка, – говорила она с набожным видом, – это значит, послал Бог молочка в дом, хозяйским детям. А Наталья Дмитриевна вчера столько раздала, что ее детям к ужину еле хватило, а сама так без молока и спать пошла.
А для Наташи и тогда, как в голодную зиму последнего года ее жизни, “хлеб насущный”, все, что входило в спасение от голода, все было “Божье”.
Так сурово и твердо ответила она однажды: “Хлеб не мой, а Божий”, – когда кто-то из шести старух, ею призреваемых (целая богадельня, в которую входила и я), говорил, что “надо бы свой хлеб поаккуратнее раздавать”.
Любя своего избранника большой, единственной в ее жизни любовью, проверенной годами испытаний, она могла однажды сказать: “Мише для того, чтобы найти самого себя, свой путь, нужно бы пережить какое-нибудь горе, какой-нибудь трудный искус. Может быть – нужно бы потерять меня”.
Когда Михаил уезжал в Турткуль[827] и мы провожали его на платформе Казанского вокзала, я не могла оторвать глаз от светлого, точно нимбом окруженного лица Наташи. Оно светилось неземной радостью мученичества. Так изображают некоторые художники св. Екатерину и великомученицу Варвару. Она имела право сказать фразу, какую я от нее слышала после отъезда ее мужа.
– Для нас с Мишей разлуки нет. Наш брак – соединение душ во Христе.
Это не мешало ей временами томиться гефсиманской тоской о разлуке с Любимым. И были – я знаю это – в бессонные ночи молитвы о свидании с ним, возврате его с мученического пути под кров ее любви, к ней, к детям. Не нужно говорить о глубине и силе Наташиной любви к детям. Такие натуры, как она, если любят, не могут иначе любить, чем глубоко, нерушимо-крепко и свято.
Но если бы Наташа жила в Риме, в дни Колизея, она не задумалась бы и детей и отца их позвать с собой на арену цирка, на растерзание львам.
В прощальном письме отсутствующему мужу Наташа писала: “А какие у нас хорошие дети!” И в умственном, и в нравственном отношении дети – все пятеро оказались исключительно одаренными и росли “родителям на утешение и отечеству на пользу”. Но необходимость покинуть их, когда они еще не стали на ноги, была тоже затаенной от близких гефсиманской чашей их матери. Я помню два вздоха Наташиных над ней. Один – приписка в письме, которое я от нее получила, когда уехала в Москву. Она мужественно, без трогательных слов, описывала степень своей болезни, где были слова: “на поправку не надеюсь… Ни Миши, ни Сережи мне, верно, не дождаться” – но с краюшку на полях листа мелкими-мелкими буквами приписала: “Детей до слез жалко”.
И в больнице за день до дня кончины, 19 июля, в бреду повторила несколько раз: “Баб Вав, дай им по кусочку хлеба. Дай им по маленькому кусочку хлеба”. И вырвались однажды слова: “Какие большие испытания”.
Как-то ранним утром в Малоярославце я застала Наташу на ступеньках террасы. Она стояла одна и любующимся взглядом смотрела на цветы маленькой клумбы и на вьющиеся настурции и душистый горошек у стены дома, идущей от террасы к саду. Наташа не видела, что я смотрю на нее из окна. Когда же заметила это, с прелестной своей лучистой улыбкой, застенчиво сказала:
– Что может быть лучше цветов? Это напоминание человеку о рае. О том, что был рай. И мог бы и сейчас быть, если бы человек не лишился его по своим жалким человеческим свойствам, по своей порочной воле.
И так же она собирала в один июльский вечер васильки, усадивши двухлетнего Сережу на краю зеленой канавки у межи. С бережностью и точно с благоговением любуясь отдельно каждым цветком, она клала их на колени Сережи, который созерцал цветы, как врученную ему драгоценность.
В области пищи Наташа была ригорист, аскет. Могла есть всякую пищу без разбора. Могла раз соединить в винегрете, прозванном ею “универсаль”, гранат с редькой. Но однажды она сказала: “Не люблю, когда дети хватают что ни попало и едят как попало, на ходу. Пищу надо вкушать, т. е. когда ешь, чувствуешь, что это дар Божий. Я всегда любовалась, как едят за монастырской трапезой или в крестьянской артели. Как бы ни были голодны, чинно, по очереди из одной миски хлебают без животной алчности”.
Когда я с моей вкусовой разборчивостью, привередливостью и излишком внимания к вкусовым ощущениям спросила раз Наташу, есть ли у нее хоть одно вкусовое пристрастие, она ответила с виноватым видом: “Конечно, есть. Я, например, люблю грибы”. Но тут же должна была признаться, что гораздо больше любит собирать их, чем вкушать. Потом она прибавила: “Вот кто у нас аскет настоящий, – это Аничка. У меня, например, нет устремления урезывать себе порции, она же всегда это делает и во всем сокращает себя. Я могу купить грибов, потому что мне их захочется. Аня же, сознавшись, что любит вишни (это ее единственное земное пристрастие, кроме макарон), она ни вишен, ни макарон лично для себя ни за что не купит”.
Сейчас вернулись с кладбища “тетя Аня” и Лиза. Мы с Анной Васильевной испугались ливня и, переждав его в подъезде метро, вернулись по домам. Мне жаль, что я не постояла в этот день у дорогой могилы, освященной прахом Богом дарованной мне сестры Натальи. Но жаль, скорее, по давней, чтимой мною традиции.
Этот час, который самые близкие Наташе люди пробыли с ней над ее прахом, я провела и с ними, и с ее душой. И, как всегда, после общения с теми, кто уже переступил грань, отделяющую живых от умерших, ощущается (об этом мы не раз говорили с Наташей), как условна, как призрачна эта грань. Между прочим, страх смерти был неведом Наташиной душе. Особенно это чувствовалось в дни бомбежки, пожаров и явно разрушающего ее тело туберкулеза.
Она уже созрела для дня жатвы, как тот колос, который
…зерна уронив, Без страха ждет серпа прикосновенья. Он ведает закон своих родимых нив — Для смерти жизнь, а смерть — для воскресенья.104 тетрадь 25.7-16.8.1947
7–8 августа
Лицо Марии Федоровны[828].
Накануне она сказала: “Мне хочется, т. е. нужно. Словом, хочется – повидать вас завтра. Я хотела бы рассказать о себе”.
Я была в высшей степени тронута. И даже смущена ее желанием. Она – человек уединенный, особенный, из тех, у кого есть “башня из слоновой кости”. Иерархически чувствую ее недосягаемо для меня высоко.
Она сидела в назначенный час на низком диване, я – рядом на стуле. Чтобы смотреть на меня, ей нужно было повернуть и приподнять в мою сторону лицо. От природы изысканно-красивое, но после 50-ти лет утратившее прежнюю красоту, лицо ее в этом ракурсе было прекрасно. Напоминало созерцательным, устремленным ввысь воздушноголубым взглядом женские лица (Мадонн и Венер) Боттичелли и др. кватрочентистов. Глядя как бы в мои глаза – но гораздо выше и дальше, за пределы видимого мира, она искала и с трудом находила слова для того, что ей хотелось сказать. Две главные свои мысли, два новых для нее постижения. Одно – о том, что “прошлое никуда не ушло. Что оно с нами. Но оно – другое, не то, что было, хотя в то же время и то”. Я подсказала ей формулу этой мысли, к какой подошла тоже в ее возрасте: “В кольце – начала и конца”.
То есть – жизнь человека – кольцо. В старости особенно это ясно – кольцо пропитывается синтезом всего пережитого. И не разберешь, если созерцать отдельные воспоминания, где у кольца начало, где конец. То, что было в юности, в зрелые годы в начале старости – уже имеет иное (синтетическое) значение, сливающееся с общим синтезом, рисующимся мне в образе кольца.
Она поняла. (Еще бы она не поняла. Она без меня это уже знала и понимала.)
Вторая ее мысль была о том, что и все пережитое нами, каждый момент не то, что оно было, а нечто иное. Нечто новое. Но такое, что словами не скажешь. И я поняла, что хочет она сказать. И что слово здесь и не нужно. Хотя намеки, попытка сказать бывают и у больших поэтов, и у таких, как Мирович и ее сестра. У Елены Гуро:
Что-то все во мне перегрустнулось И печаль не печаль, а синий цветок[829].У Анастасии Мирович:
Я не могу тебе сказать, Ни пояснить, ни описать, Какие мысли целый день меня волнуют. Они бегут, они скользят, Они волнуются, спешат, Меня преследуют, как тень, Меня чаруют. И вся любовь, и все мечты, И все страдания, и ты — Все позабыто ради них, Неуловимых. Я их люблю, я их зову И я для них теперь живу, Моих красавиц молодых Неустрашимых —полудетская, лет в 22–23, набросковая попытка овладеть секретом (слишком тонким). Писано года за 3–4 до психического заболевания.
У Мировича:
Я не знаю, что это было, Но это было святое, Оно сошло нездешнею силою, Оно звалось тобою. В огне горело, в смоле кипело, И, очищаясь, неслось к звездам, Сияло, пело, Хотело строить новый храм, Но на земле жить не умело, И в мир незримый оно ушло, И мое сердце в неизвестность унесло.105 тетрадь 17.8-14.9.1947
20 августа
Вхожу в кондитерскую на Пушкинской улице, вновь открытую, с заманчивыми на прилавках выставками пирожных, шоколадов-мармеладов и т. п.
“Для бедных” в блестящей прозрачной упаковке разноцветные “шарики” – 100 грамм за 4-60 копеек. Разыскивая тот прилавок, где их отпускают, натыкаюсь на великолепный рассадник давно невиданных мной пирожных: их выгружает из плоской корзины и раскладывает в застекленный длинный ящик миловидная продавщица с маникюрными коралловыми ноготками, в белом чепчике в форме диадемы.
Останавливаюсь, завороженная видом разукрашенных шедевров кондитерского искусства и силой прихлынувших к памяти глаз и гортани кондитерских впечатлений детства. И до того подпадаю под их власть, что без раздумья поворачиваю к кассе и через пять минут вижу себя возле этой с коралловыми ногтями продавщицы и протягиваю ей бумажку с выбитой цифрой 12 рублей.
Двенадцать рублей!
Проносится запоздалая мысль: Еще одно такое пирожное – обещанный Нике билет на “Три сестры”. 12 рублей – полторы книжечки абонемента на метро… 12 рублей – чернила, краски и общая тетрадь или блокнот… Леонилле 100 грамм орехов – напоминание о киево-печерских садах нашего детства и одном из ее вкусовых пристрастий.
– Выбирайте, гражданка! Которое на вас смотрит?
У продавщицы добродушно-насмешливое лицо. Она подумала: у старухи глаза разбежались. А пора бы уж в крематорий.
– Все равно, – говорю я. – Ну, хоть вот это.
Она, взглянув на меня с недоумением, подает мне присыпанный густо сахарной пудрой коричневатый четырехугольник. Одно из нелюбимых в прошлом пирожных, – сыплется с него пудра и хрупкая слойка, выползают сквозь щели и пачкают пальцы битые сливки.
Завернуть его и сунуть в портфель для бабушки Анны Николаевны или для Кати? Но разве его завернешь? Он тут же весь раскрошится, рассыплется. Отхожу к окну и становлюсь рядом с высокой амфорой, куда бросают едоки пирожных бумажки. Рядом девушка в безобразной модной шляпке с лопатообразным выступом над линией лба, откинув назад голову, ловит языком крем, выдавленный из ее petit-four’a. Молодой человек чахоточного вида с сладострастным выражением лица смотрит на пышно убранное ромовое пирожное, от которого он осторожно откусил кончик.
Неужели и мне придется тут демонстрировать мое старческое сластолюбие?
Опустить злополучную снедь в глубину урны, чтобы не пачкать портфеля и тетрадей в нем? Нет, все-таки жалко. Сластолюбие берет верх. Приступаю к наслаждению. Хрупкие крошки поджаристой верхней пластинки и пудра с нее сыплются мне на грудь.
К амфоре подходит старенькая уборщица в белом платочке, с ворохом бумаг и с салфеткой. Останавливается напротив меня с добродушной улыбкой сочувствия, любопытства и сожаления.
– Зря выбрали это вот, гражданочка, половина рассыплется. – И со вздохом прибавляет, отходя и еще раз обративши ко мне сочувственное, но уже грустное лицо: – Что делать! Всем хочется сладенького. А нам, старухам, и подавно, хоть оно бы, казалось, и грешно.
Я вспоминаю уроки из Корана о милосердии и прибавляю к Корану изречения Магомета.
27 августа
План, страстно поддержанный Ирисом, – попытаться Мировичу провести сентябрь в корсаковской клинике[830], если будет отдельная комната. План разрушился после моего посещения Ириса в психиатрической атмосфере сада для больных.
Ночь прошла в каком-то полубреду. И Юрий считает окружение клиническими пациентами (конечно, я буду и начала уже ими интересоваться) для меня рискованным предприятием.
Сегодня должна была приехать Алла из Сочи. И так меня болезненно ущемила перспектива встречи с ней, что я постаралась исчезнуть из ее квартиры с самого утра, несмотря на дождь и на простуду уха-горла-носа.
Пробыла весь день у Надежды Григорьевны[831]. А вечером узнаю, что Алла и генерал не прилетели, а прилетят завтра.
29 августа
О вере
Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых. То есть уверенность в невидимом, как в видимом. И желаемом и ожидаемом, как в настоящем катехизис.
Не странно ли: из всего, о чем в течение жизни читала, размышляла или беседовала по вопросу о вере, эти 65 лет тому назад выученные наизусть строки из катехизиса яснее всего определяют для меня этот таинственный процесс, которым живет, каким жива душа моя. Я понимаю недостаточную вразумительность этого определения для тех, кто стал бы со мной полемизировать “о вере”. Но я не собираюсь ни полемизировать, ни проповедовать. Я пишу для себя, чтобы вглядеться в свой процесс веры, постигнуть ее природу, ее отношение к разуму. И припомнить мысли на эту тему людей большой веры, высокого духа и философского ума.
(Беру материал, случайно попавший мне в руки, собранный одним из сотрудников “Вопросов философии и психологии” П. Соколовым.)
Меня глубоко возмутили (и не ожидала я этого от Паскаля) его советы неверующим “как исцелиться от неверия”: “делайте все так, как если бы вы верили, берите святой воды, заказывайте обедни и пр. – naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira (!)[832]. Циничное, почти кощунственное отношение, исключающее самую суть веры, то, что в двенадцатилетнем еще возрасте прозвучало для меня так же, как звучит теперь, – “уповаемых (т. е. ищущих веры) «извещение»”:
Был много лет тому назад у нас с Анной знакомый художник С. Досекин, сомневающийся, но ищущий веры. С детски-наивным выражением лица он, при случае, убежденно повторял рецепт, как приобрести веру: нужно только 6 недель подряд на ночь становиться на колени и по 6-ти раз подряд повторить: “Верую, господи, помоги моему неверию”. Не помню, кто дал ему этот рецепт, но, по его словам, он его выполнил и “с тех пор от него отошли сомнения в бытии Бога”.
Этот способ “обращения” Сережи Досекина я не посмела бы назвать рационалистическим цинизмом, в который впал в своем рецепте Паскаль. Здесь началось оно с коленопреклоненной молитвы. И в ответ на нее пришло “уповаемых извещение – вещей обличение невидимых”. Исцеление души от слепоты.
2 сентября. 2-й час дня
У балконного окна, за ширмой. Мутное – ярко-голубое небо. Солнце запуталось в стае облаков. Дыхание первоосенней прохлады из полуоткрытой балконной двери.
Отгоняю, как искушение, как одержание, ночные мысли об Ольге. Помоги мне, Господи, до конца обороть их, уничтожить возможность их возврата. Помоги, Отец мой, и ей найти свою правду (?)[833], выправить свои пути (?). Укрепи ее ослабевшую душу? исцели ее от одержания,? отчини непосильные искушения (?). Прости ее (?). И прости меня. (?)
У всех ли так, или только у меня – двойной поток мыслечувств: один, где можно читать “Сагу о Форсайтах” и даже в какой-то мере жить их жизнью, и перечитывать Аксакова, и испытывать – до кожного чувства пребывания среди урем, озер и степей под Бугурусланом – как было эту ночь со мной. И отметить с ребячьим удовольствием и со старушечьей растроганностью Шурин дар – брюкву и репу, и “немножко молочка оставила для вас – к кофею”. И Аллин вчерашний вечером дар – виноград, и то, что в нем есть кисточка моего любимого сорта – изабеллы. И обдумывать, как бы побывать до октября хоть один раз в лесу – в Измайлове, в Калистове… И одновременно в этом же, но верхнем потоке видеть и помнить лица и судьбы ближайших друзей.
И каждого из “моих” детей порознь в их сфере желаний, нужд и возможностей умственных, нравственных и физических.
4 сентября. Поздней ночью, близко к рассвету. За ширмой
Все чаще то, о чем говорила со мной Мария Федоровна: прошлое перестает быть прошлым. Воскресая в памяти, сливается с настоящим (“в кольце начала и конца”). Но не в прежнем своем, а в другом, трудно выразимом словами значении. Как бы ощущается в потенции (или в отображении?) новая реальность.
Так было со мной недавно еще, на Никитском бульваре. Я остановилась и спросила себя: “Разве это бульвар, Никитский бульвар, тот, который связан со мной невыносимо тяжкими и унизительными четырьмя годами жизни? В его деревьях и в яркой, пышно-густой зелени травы был привет – космического значения привет, залог, обетование”. Боюсь, что это прозвучит для неведомого читателя моего, если таковой у этой тетради после моей смерти будет, – прозвучит клинически, чем– нибудь вроде эпилепсии особого рода или Mania grandiosa. Жаль, что нет таких слов, какими можно (у меня нет) сказать об этом яснее. (Нечто подобное у Лафкадио Херна о японской стране Хоран[834].)
6 сентября
День празднования 800-летия Москвы. Около полуночи “потешные огни” со всех сторон – и вертящиеся, и недвижимые среди огромных красных полотнищ и флагов. Непролазная толпа по обеим сторонам улицы, посредине ее то там, то здесь скопище автомобилей. Разноцветные огни фейерверков, напоминающие войну. И вообще, все празднество этой ночью отозвалось во мне не историей Москвы и всем тем, что с ней “для сердца русского слилось” и чем бы должно отозваться в именинный день родного города, – а почему-то войной, “военными ужасами”. Может быть, потому, что в последнее время читаю международные газеты и вижу, как точат на нас зубы Америка и Англия. И ожило воспоминание о бомбовозах над Москвой – и как на моих глазах ловили прожекторы один такой немецкий самолет – таким же скрещением лучей – и поймали его.
В скверике у моего любимого фонтана, куда я ушла от уличной давки и слишком яркого света, никаких огней не было – только струи фонтана переливались нежными, бледно-розовыми, бледно-зелеными и винно-красными тонами, переходя на минуту в чуть палевую жемчужную россыпь. И с огромного, насквозь просвеченного полотна смотрели два очень хороших портрета Ленина и Сталина. Мысль моя редко забегает в область политики, внешней и внутренней. Но как в дни войны, так и в дни мира я доверяю воле и силам кормчего на корабле, который уводит нас сквозь “бури и тайные мели и скалы”[835] с ненавистного с юных лет монархизма и капитализма к единственно понятному моей душе лозунгу чаяний человечества в историческом масштабе, в устроении “царства от мира сего”: “Все за одного. Один за всех” и “Каждому по потребности” в области “хлеба животного” (само собой разумеется, все должны вкладывать посильный труд в добывание хлеба и прочих веществ житейского обихода и в обрабатывание их). Невнятно пишу то, что хочу сказать, з-й час ночи. Ставлю многоточие. Кончу завтра.
7 сентября. 11 часов вечера
В балконное окно видно, как взлетают гроздья зеленых и красных звезд, похожих на елочные украшения. И шмыгают по небу лучи прожекторов, как будто за кем-то гоняясь или тщетно разыскивая что-то в темной бездне облачного неба.
Вчера я пыталась опустить прожектор сознания в глубины подсознания и поисповедовать себя, каково, по-моему, должно быть отношение между личностью и государством, между СССР и Мировичем. Прежде всего в голове промелькнуло запомненное еще 70 лет тому назад во 2-м классе городского приходского училища: воздайте кесарево кесареви, а Божие Богови. Но тут же встал вопрос: а если бы вчера смотрели на меня с просвечивающего полотна в скверике Фонтан физиономии Гитлера или Трумэна, примирилась ли бы моя душа, “гражданина вселенной”, с этими кесарями – и по отвращению и ужасу, зашевелившимся в недрах подсознания, поняла, что к словам Христа под дидрахмой[836] – неизбывно, как и в дни молодости, – во мне живет мое личное дополнение: кесарь просто как представитель власти для меня – ни к чему не обязывающая фигура. Его власть надо мной (в государственном масштабе) только тогда внутренно мной признана и чтима, лишь поскольку она созвучна с моим представлением о справедливости основных предпосылок этой власти (то, с чем умирала Наташа) – “Хлеб” – Божий, одежда земля – общая, все должны трудиться, социализм как ступень к коммунизму, в последнем достижении которого всемирное братство народов, невозможность войны и право каждой личности на труд и на пользование всеми благами культуры.
8-12 сентября. 11-й час вечера
Тишина (Леонилла в Снегирях, я одна в комнате). Так много накопилось мыслеобразов и мыслечувств за это время, в которое не прикасалась к этой тетради. И так мало сил (мозговых? нервных?) для оформления их. Попробую хоть перечислить то, что было содержанием не вписанных сюда дней и ночей.
День Наташиного имени. Ее неотступное в этот день пребывание среди нас. (Впрочем, это, может быть, относится только ко мне. С Наташей вот уже шестой год, как прах ее на Ваганьковском кладбище, я почти не расстаюсь).
В тоске от разлуки с природой, в приступе какого-то ребяческого отчаяния, что вот уже лету конец, а я только раз побывала в лесу, кинулась в Измайлово. Ника, мой верный рыцарь, проводил меня через лес к Фаворским. Деревья еще зелены. Но на траве уже много желтых листьев. Ника собрал для меня много розовых, золотых и пунцовых листьев клена, даже на дерево за ними лазил. Букет их чудесно просвечивает на верхушке моего абажура, и от него на стенах моего угла и на потолке фантастические тени.
У Фаворских: Мария Владимировна и Владимир Андреевич показали свои картины. Миловидные, палево-розовые пейзажи Марии Владимировны (влюблена в “душу деревьев”). Чудесные гравюры Владимира Андреевича. Подарил мне Кутузова на фоне горящей Москвы. Маленькая Раутенделейн[837] (их дочь, Машенька – 19 лет) удачно схватила Никин профиль. Дарила мне его – но я постеснялась взять. Какое благообразие быта внешнего и внутреннего в этой семье и какая причарованность к искусству. Ничем другим как будто и не живут. И эта сила творческого устремления помогает (особенно отцу помогает), не надломившись, перенести огромное горе – гибель обоих сыновей на фронте.
…Печаль о Тане – но не смею жалеть ее (есть души, в такой мере с головы до ног вооруженные – волей, силой особого рода гордости, что испытания, какие бы то ни было, веришь, они вынесут, не изменив себе и с пользой для душевного роста (Вера Фигнер, Людмила Волкенштейн). В Танином же случае помимо всего нет “состава преступления”[838]. Она далека от всякой политики, от политических интересов, рыцарски лояльна предержащей власти, перворазрядно способный, добросовестный и высококвалифицированный культурный работник. Невыгодно государству таких людей отрывать от дела надолго.
106 тетрадь 15.9-16.10.1947
4 октября
8 часов вечера, очень темного, сердитого, с дождем и ветром, с людьми, бегущими опрометью по улицам, исключая редких фигур под зонтами или в дождевых прозрачных плащах – голубых, бледно-зеленых, красных, розовых…
Вернулась из Зубова к своему столу, к Георгию Чулкову (перечитываю “Годы странствий”), к Брюсову, Андрею Белому, Вячеславу Иванову, какие поглядели на меня с чулковских страниц 1905-го, зенит жизненного пути Мировича. Все, чем жили эти имена, и вокруг них московские и петербургские интеллигенты, все в те годы было фоном и нередко отправной точкой и моей внутренней (да и внешней порою) жизни и мысли. Чулков умно сформулировал, что такое декадентство в истории русского интеллигента.
“Декадентство – не только литература. В нем есть своя изначальная сущность. Декадентство есть прежде всего своеволие, отъединение, самоутверждение, беззаконие”.
“Торжествовала злокачественная идея, что «все позволено», что нет никаких святынь, нет норм, нет законов, нет догматов, что на все «наплевать»”.
Сейчас мне трудно представить, как могла вынести душа – целый ряд лет – этого чистилища, а подчас и одного из кругов ада. “Тень Люциферовых крыл” несомненно витала надо мной и над сестрой в какие-то острые моменты дерзания, своеволия и отчаяния. Может быть, потому я могла это вынести, что, по удачному определению Георгия Ивановича, в декадентстве “свет смешивается с тьмой”. И были периоды, когда озарял душу луч света. Мы пели литании Сатане (по-французски, дуэтом!), а через некоторое время бросались в Черниговскую пустынь к старцу Варнаве, в Новый Иерусалим к какому-то еще Варсонофию, который оказался настолько пьяненьким, что не мог связать двух слов. Как за единственный спасательный круг держалась душа в этом бурном круговороте за чувство, ничем не утоленное, безнадежное, даже неизвестное человеку, пробудившему его. Потом – новые, столь же платонические, с другими оттенками встречи. Душа питалась в них не то иллюзией “мистериальной близости”, не то смутной жаждой и безумными надеждами на брачную близость, на рождение ребенка (велика была потребность дать жизнь какому-то младенцу). Потом это прошло. Теперь я понимаю, что дети, семья или даже просто одно дитя для женщины такого душевного склада, как мой, явилось бы приостановкой, а может быть, и окончательным срывом пути, ради которого душа была вызвана к воплощению в жизнь по эту сторону могилы. У меня перед глазами прошло несколько примеров, где семья суррогатным питанием обманула духовные запросы и лишила женскую душу “алкания и жажды правды”, и работы, и опыта, сужденного тем, кто “шествует одиноко подобно носорогу” (из Бхагавадгиты). Вспомнились сейчас слова из нашей беседы с Л. Толстым, сказанные им, когда на вопрос его: есть ли у меня муж, дети? – я ответила: нет. Я одинока. На глазах у него блеснули слезы, и он взволнованным голосом произнес: “Одиночество – великое благо”. И тут же прибавил: “Если его вынести”.
107 тетрадь 17.10–18.11.1947
31 октября. 7-й час вечера
“На переходе” между двумя дверями, балконной и вестибюльной. В когтях гриппа.
О Екатерине Васильевне (“сестре Екатерине”, как стала звать ее в последние годы) пришла мысль и присоединилось посвящение лишь тогда, когда неожиданно для меня появилось Ваганьковское кладбище. И тогда со всем живым, светлым очарованием встал образ этого прекрасного существа, которое дано было мне встретить на моем шатком и валком пути. Прекрасного прямой, как струна, линией своей дороги, служением своей правде, верностью ей до конца. Прекрасного всем обликом своей жизни и ноябрьскими предсмертными днями ее, высокомужественным, одухотворенно-строгим спокойствием перед лицом смерти.
Мы встретились в Ростове-на-Дону, в его страстные батайские дни. Жили в одной квартире. Впечатление, каким она вошла в мою душу, уцелело в четырех строчках (остальные потерялись):
В твоей изгнаннической келье, В твоем жемчужном ожерелье От века Мать, навеки Дева, Монахиня и королева.Изгнанническая келья – был уголок, задернутый занавеской, в аристократической семье, где и мне пришлось ютиться – приют был как плата за урок. Семья эта пробиралась за границу. Меня звала, обещая – на паях – открыть какую-то школу в Лионе. Но я, как и Екатерина Васильевна, не мыслила себя в годину бедствий и чего-то огромно-важного, творившегося с нашей родиной, – существом, от нее отдельным. Аристократическая семья уехала, а мы вдвоем поселились у богатого еврея-адвоката. Боясь постоев, он искал подходящих квартирантов. Нас рекомендовала его племянница, знакомая Екатерины Васильевны, немолодая, с пепельно-седой, точно напудренной головой, похожая на восковую фигуру т-те Помпадур, синеглазая пианистка. Она скоро умерла от тифа. В городе свирепствовал сыпняк – мимо окон с утра до вечера тянулись похоронные процессии на кладбище.
Белые отступили до Батайска и оттуда каждый день обстреливали город. Приходилось по утрам выходить за провизией. Торговки продавали судака, сулу (тоже из рода судаков), картофель, хлеб. Во время этих выходов иногда начиналась канонада. Ухали пушки. Раздавались взрывы то с одной, то с другой стороны. Чаще всего со стороны рынка, куда и устремлялись наши пути. Уговорились ходить по очереди. В эти дни ожиданий – вернется ли живой спутница – и окреп “роман”, и остался освященный близостью смерти и пожаром войны и революции – в особом наджизненном значении, до самого дня последней разлуки.
8 ноября
Клочки из старого киевского архива 1918 года
…С поля к забору перебежал пушистый какой-то зверушка, прыжками, неловко и небыстро. Я поспешила за ним – зачем-то понадобилась эта встреча. Но суждена была другая.
– Кто это тут в прогулку гуляет? Я таких людей у нас что-то и не видывал, – раздался купеческий голос, совсем из Островского.
– Приезжие, – отвечаю.
– Как бысь под забором дробным шагом приезжим незачем бежать.
– Тут зверек бежал. Я за ним.
– А. Зверек. Это хорошо. Какой же такой зверек? И прочее?
– Темно. Я не могла разглядеть.
– Гм! А впрочем – дело дамское. Бывает.
Ко мне приблизился купчина исполинских размеров, с бородой лопатой, в парадном картузе, долгополый.
Всмотрелся в мое лицо при бледном месячном освещении.
– Вижу, из благородных, – сказал он, оглаживая бороду. – Что ж, ничего! Я сам понимаю, у меня дочь в шляпах ходит. Вы откуда же, позвольте спросить, будете?
– Из Киева
– Не боитесь по буеракам одни ходить?
– Я думала, что здесь места безопасные.
– Оно так. Да – вроде пустыря. Вон там подальше очень даже убивают. Кажную ночь. Если угодно – могу проводить.
– Да ведь тут два шага до вокзала. Спасибо.
– Не стоит благодарности. Изволите на Золотоношу ехать? К сродственникам?
– Нет, я до Драбова.
– Вы не из тех ли княгинь Кантокудиных, что дотла сожгли намедни?
– Нет, я не из каких княгинь. И спасибо, не надо больше провожать.
– Я чуточку только. А вы напрасно отказываетесь. Немцы ведь тоже охальники. Знаете, даже кабанов подкалывали первое время. Теперь, конечно, отъелись. Да-а… А Кантокудиных под орех разделали. Они и не знакомые ваши?
– Нет.
– Под Драбовом нынче резня – страшное дело. Брат на брата пошел. Т. е. шушера, голь, деревенщина – на тех, которые самостоятельные. Именья как свечи горят. Я бы и ехать не советовал. Остановиться, в случае чего, у меня можно. Я вдовец. Но теща жива. И прочее. Или вы на Драбов, может, к сродственникам, а то и к супругу с деточками?
– Да, да… А вон и вокзал.
– Да что вы, мадам, шаг припускаете? Ночь очень даже прекрасная. Поезд нескоро.
– Вы бы оставили меня в покое. Мне не хочется разговаривать.
– Прошу прощения. Я хотел только еще спросить, что в Киеве – сушь?
– Сушь.
– А касающе светопреставления, ничего не говорят?
– Не слыхала.
– А у нас слышно. Антихрист ведь уже есть, народился. Военные ужасы были. И брат на брата пошел, куда же вы припускаете, как от лиходея какого. Разве я что-нибудь не так сказал? (Снимает картуз и низко кланяется.) В таком случае прошу прощения. Счастливого вам пути. А на Драбово все-таки ехать не советовал бы. Надумаете – передумаете – мой дом вот он, в з этажа кирпичный. Фамилия Подопреев. Меня тут все знают.
Буромка[839] горит. Немцы зажгли ее со всех концов. Прилетели для этого на аэропланах (карательная экспедиция за какое-то ослушание). На густой влажной темноте ползущей на небе в виде дракона тучи пылают два далеких багровых зарева. Неяркая желтая луна глядит тоже зловеще и беспредельно уныло. А соловьи в саду в пологом овраге не смолкают ни на минуту, и свист их тоже кажется зловещим – как будто отныне всё будет иметь одно значение – убийства, ненависти, крови, кошмарных форм вражды и насилия.
Вдруг дикий топот множества конских копыт ворвался в соловьиный свист, и заметались по степи силуэты лошадей. Они вырвались из конюшни – есть такая лошадь из них, которая умеет отпирать дверь сарая.
Хозяин хутора (брат врача А. Р. Кветницкой), массивный, по-степному неуклюжий – сам как огромный мешок с мукой, и одежда на нем как мешок, – выкатился, сопя от одышки, навстречу лошадям. И диким голосом, полным отчаяния, свирепости и бессилия, заорал:
– Куды? Куды?! – и замахал обеими руками на лошадей.
Долго гоняли их. Луна стала кроваво-медной и укатилась к горизонту. Небо и звезды вверху побелели, сильнее запахли полынь и душистые васильки. Потянул утренний ветерок. На побелевшем небе у восточного горизонта ровным далеким заревом медленно занялась заря.
Старушка, мать владельца хутора, рассказывает эпически:
– У них у всех (у крестьян) есть один секрет. Такой – шоб, если немцы их из Буромки выбьют, прижукнуть пока что и покориться. А если не выбьют, всех буржуев по всем хуторам и по имениям вырезать. Так вот, значит, как в Буромке повернется, так и нам судьбы ждать. Может быть – будем живы. А может быть – и нет. Я так своей неважной головой рассуждаю: от своей доли отказываться нельзя. Перекрещусь на ночь, окно-дверь перекрещу – и сплю себе спокойно. Что я против Божьей воли сделаю. Молодых наших мне, конечно, жалко: ночей не спят, вскакивают, в окна смотрят, слушать выбегают, что в степу робится…
Рассказ флегматичного степняка.
Священник наш в ризу оделся, как немцы пришли, и с крестом в канаву лег. Немцы его так снарядами и поливают (в М. Чавельче было).
Но, однако, один офицер немецкий его заприметил. И подходит к нему с переводчиком и говорит: “Идите отсюда скорей”. И спрашивает при этом:
– Вы почему против гетмана? – А батюшка наш ему: – Я ничего такого не знаю. Мое дело в церкви молиться. – Немец ему – через переводчика: – Как так в церкви? Ваше дело прихожан поразъяснять, как и что, – чтоб против нас не шли.
Поп наш говорит: – Хорошо. Вы какую следует мне бумагу пришлите. Я за обедней прочту.
А снаряды у них хорр-рошие. Я один стакан с нарезом себе раздобыл – свесил – два пуда в нем. Много они их задарма по степу накидали. Правду сказать, мало народу покалечило у нас. Говорят, они так нарочно бросали, чтоб напугать больше, а чтоб народ живой остался и на них работал. Между прочим, гайдамаку одного живым в землю зарыли. Всего было. Я так думаю, что боротьбе этой конца-краю не будет (раскуривая трубку)!
8 июня. 1918 год. Личные воспоминания Мировича
…Третьего дня это было.
Я вошла в столовую поздно, в 11-м часу[840]. Мне подали чай. Но раньше я решила поговорить по телефону и вышла для этого в вестибюль (огромная комната между гостиной и столовой). В это время со звуком пушечного выстрела распахнулась одна дверь, за ней другая. И еще где-то сильно стукнули оконные рамы, зазвенели стекла.
Вбежала Мария Григорьевна (экономка) с криком: “Это у Алексея (лакей) стекло лопнуло. Чистое горе. Не закрывает своего окна. Опять стекло разбилось – это же 100 рублей теперь”.
И все подумали, что от Алексеева окна ворвался сквозной ветер. Но через минуту стало ясно, что дело не в этом. Алексей запер свою дверь на ключ – и она снова с треском распахнулась. И другие запертые и незапертые окна и двери продолжали хлопать и раскрываться. Кто-то, затворяя дверь в гостиной, увидал густое облако дыма над Софиевской площадью, и раздалось слово “взрыв”.
Гигантское дерево, сложенное из разноцветных – серых, лиловых, белых и черных облаков дыма – вверху кудряво-извилистое, – стояло как грозное знамение на небе.
Было все равно – землетрясение или взрыв, смысл в нем был один – знамение гибели.
– Взрыв, взрыв… Пироксилин… Пороховые погреба… На Печерске. Нет – Лысая гора: ну, тогда это конец.
Женя (старшая дочь[841] домохозяина, ясноглазая бестемпераментная барышня, уже больше 10-ти лет невеста), еще не вполне пробужденная, недовольна паникой, не спеша пошла в ванную умываться. Ее мать, особа нервная и пессимистического характера, побежала будить своего любимца, младшего сына-подростка. Даниил Григорьевич, ее муж, круглолицый, пучеглазый, упитанный, коротконогий человек, тоже не пожелал портить очередной паникой завтрака (был чувствителен к вкусовым впечатлениям). С цинически-насмешливым, обычным для него, и важным выражением лица сел за стол, заткнул за ворот белоснежную салфетку и критически и в то же время с вожделением окинул взором закуску, окружающую кофейный прибор. Жена его старшего сына, новобрачная Надя[842], с кокетливой прической, танцующей походкой, в веселом возбуждении впорхнула в столовую. Им казалось, что все это касается только Печерска, что-нибудь взорвалось, какие-то боеприпасы в арсенале, и они на Софиевской площади не на очереди. Успеют комфортно позавтракать.
– Ну что ж, что дерево из дыму, – щебетала новобрачная Надя. – В Неаполе я такое видела над Везувием. А здесь просто немцы взорвали что-то в арсенале.
Но скоро зловещие слова “Лысая гора” напомнили всем киевлянам с детства знакомую угрозу, что, если Лысая гора в предместье города со своими пороховыми погребами взорвется, от Киева не останется ничего.
Я вышла на балкон, висящий над садом миллионерского палаццо. С правого краю сада было то же дерево – теперь совсем черное, и на кудрявом фоне его такое же гигантское зыбучее алое пламя дерева, как потом описывали, было с версту вышиной. Раздались по квартире голоса: “Вниз, вниз, в контору! На улицу!”
Пол в столовой дрожал, а со стороны дымового дерева что-то рычало и ухало, как приближающийся гром.
Все сошли, вернее – сбежали – вниз. На улице было много народу. Толпились у подъездов, вглядываясь в сторону взрыва. Женщины бледные, с перепуганными глазами. Многие, как сомнамбулы, странно спокойные – так недвижимо спокойны птицы перед раскрытой пастью змеи. Не отвечая на вопросы, как загипнотизированные смотрели на дым. Мария Григорьевна, экономка, с выражением ужаса и заботы всех куда-то звала, от чего-то предостерегала. Ужас ее был явно страхом за жизнь других. Сама она даже не хотела сбегать вниз, боясь оставить комнаты без присмотра. Ее хозяйка дома насильно утащила с собой за руку. Посреди улицы текла непрерывная волна бегущих на Лукьяновку с Печерска людей – старики и молодые, матери с детьми на руках, офицеры, монахи, священники. Шли некоторые крестясь, другие – молодежь, подростки – со смехом. Многие нагнувшись, как будто с неба вот– вот посыплется каменный дождь. Одну молодую беременную женщину с лицом, искаженным болью, с закушенными губами, вели под руки офицер и гимназист. Кто-то звал толпящихся в переулке на Софиевскую площадь.
– Здесь опаснее, – агитировал этот голос, – дома высокие, переулок низкий, как ударит шальное ядро по крыше, всем головы поразбивает.
Хозяин нашей квартиры, уже взволнованный и недозавтракавший, гнал семью в контору.
– Если и попадет снаряд даже в наш дом, контора внизу – не пробьет снаряд четыре таких потолка, как наши.
Меня потянуло под открытое небо на Софиевскую площадь. И она, и сквер были покрыты группами людей. Все смотрели на знамение дыма, медленно клубившегося с багровыми отсветами пламени в развесистой кроне дерева, упиравшегося вершиной в зенит. Вдруг я почувствовала, что почва под ногами дрожит множеством явно ощутимых толчков и гул со стороны дымового дерева превращается в рокот до того угрожающий, что необходимость взлететь на воздух предстала во всей силе приговора. Плоть безмерно удивилась, а перед духом встало видение Синая из книги Ветхого Завета, любимой книги раннего детства и вытверженные в школе слова: аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене[843].
…Невыполненный человеком договор. Возмездие. И почему-то ликующая радость (даже не понимаю, почему).
17 ноября. 11-й час
Вспомнилось сейчас стихотворение Ленау (перевод Л. И.). Ровно 50 лет тому назад Лев Исаакович посвятил этот перевод мне, и я долго хранила его. И не заметила, как он пропал вместе со всеми письмами Л. И. И книга с надписью:
Belle sorciere aimes tu les damnes? Dis moi, connais tu l’irremissible?
И все другие, подаренные им книги. И обе фотографии – одна, где он в покойной позе привычного размышления опирается щекой на согнутую в кулак руку. Другая, где он – изможденный пустынник-пророк, о котором у Лермонтова:
посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий…[844]…Но сегодня я вспомнила о нем по поводу себя, когда, поговоривши с Ольгой в конторе по телефону, пошла бродить по соседним улицам и переулкам, чтобы стряхнуть пыль и паутину прожитого дня. Мой сегодняшний день был похож на те дни, когда 50 лет тому назад я жила в миллионерской семье сахарозаводчиков. И когда становилось невмочь, всегда появлялось на пути или письмо Л. И., или он сам, его слова. Или просто глаза, взгляд. Такого взгляда, такого голоса захотелось мне сегодня от Ольги до того повелительным хотением, что я надела пальто, шапку и спустилась в контору. Там в этот час никого не бывает. Или сидит полудремлющая лифтерша. И от голоса и двух-трех слов Ольги повеяло тем же, что приносил 50 лет тому назад мне Л. И.: видением, слышанием, пониманием и теплотой отклика. Из разного источника, в разных степенях, но чем-то сходные и в одинаковой мере действенные.
На улицах был легкий мороз. В нем было дыхание молодости, надежности своих душевных сил, слияния с жизнью Целого. И звучал в полутемноте Пушкинской улицы голос Л. И. (с его улыбкой):
Когда ребенка обижают, Он с плачем к матери бежит И к складкам платья припадает, И скрыть лицо свое спешит. Есть люди с нежною душою, Их жребий вечно быть детьми, Но рок ведет одной тропою Их с закаленными людьми. И сердце страхом истомится, Бежит от тысячи скорбей И в складках савана укрыться Спешит от жизни поскорей.Слова “с нежною душою”, поскольку это ко мне (между прочим, и к Ольге, не в смысле какого-то превосходства над другими душами). Здесь только “жребий вечно быть детьми” (как и Ольга). Иначе говоря, презирая и свой, и чужой опыт, – ждать и хотеть от себя и от человеческих отношений того освещения в каждом часе жизни, какое возможно было только в Эдеме —
где были ангелы нам рады, где мы умели их любить.108 тетрадь 19.11-9.12.1947
19 ноября. Зубовский бульвар. Синие сумерки – 6-й час вечера
Радость, никто не смеет В очи твои поглядеть. Робеет душа, не умеет Навстречу тебе взлететь. Но уж с дальних твоих Гималаев Несутся к нам ручьи. И встречи с тобою мы чаем, И как снега весенние таем Под солнцем Любви.Косноязычное это стихотворение родилось в 1914 году, в дни кружка “Радость”, где сгруппировались вокруг меня юные девушки от 16-ти до 20 лет. Кружку они сами дали название – кружок “Радость”. И рефераты их носили заглавие – “Радость творчества”, “Радость труда”, “Радость дружбы”, “Радость материнства”, “Радость познания, страдания, самоопределения…” Были даже “Злые радости”. Ольга была у нас “мед, елей и соль собрания”. И сегодня через нее в мою нахолодавшуюся у Тарасовых жизнь все это прихлынуло широким, светлым потоком. Влилось в него и то, что было в дни ее детства, когда ей было 7–8 и 10, и 12, и 15 лет (“материческое” чувство). Началось с очень конкретного – но не в нем суть. Когда я к Ольге заехала, соскучившись о ней и обрадовавшись, что не заросли тропинки, она встретила меня с сияющим лицом, с лицом как солнце, как это было больше 40 лет тому назад. Тогда она, получивши от меня на Пасху в подарок открытку, которая ей в моей коллекции нравилась, и желтого ватного цыпленка, воскликнула:
– Теперь я счастливейшая!
И такая же “счастливейшая” была и я сегодня, в этот час, когда она написала мне (при моей усилившейся глухоте мы разговаривали с пером в руках):
– Степан Борисович сказал, что весной, если они получат дачу или квартиру у Нескучного сада – в 6 комнат, “одну из них мы дадим Варваре Григорьевне и так устроим, чтоб ей было удобно и она была бы как у себя”. И прибавил: – Я знаю, что ты, моя старушка, будешь на седьмом небе.
И когда “старушка” с лицом семилетнего ребенка (в этот час) обнимала меня, и она, и я были “на седьмом небе”. Внутренно в моей радости были слезы, о которых в одной из симфоний Андрея Белого говорится: “Как будто кто-то всю жизнь хотел невозможного. И на заре получил невозможное. И, успокоенный, плакал в последний раз”[845]. И я, и она с тех пор, как знаем друг друга, хотели этой жизни под одним кровом – но уже много лет считали ее недостижимой. А я лично для себя отучилась давно желать определенного устроения в днях. И сейчас пережитое мной “седьмое небо” было не связано с определенными чаяниями на весну. Никогда я не была более далекой от весны моих годовых кругов, чем от той, что наступит через 3–4 месяца. Я почти уверена, что ее для меня не будет, – но мне дорога невыразимо и Ольгина сегодняшняя радость, и наша – через сорок пять лет, пасхальная воронежская близость. И то, что мог Степан Борисович подумать об этой комнате для меня (лично для него чужой), чем доказана и теплота его отношения к Ольге, и тонко человечное проникновение в судьбы Мировича.
Видение этой комнаты для меня глубоко ирреально. Оно дорого и важно моей душе может тем, что в образе его засветился для меня луч Фаворского света на общем с Ольгой пути. Эта комната – куща, о которой Петр воскликнул две тысячи лет тому назад: “Хорошо нам здесь. Сделаем три кущи – для тебя, для Ильи и для Моисея”.
Потом он понял, как и я сейчас, – что такие кущи вневременны. Они – видение, знак, залог. Но ничем, ничем другим на этом крутом узкощелистом подъеме моего пути нельзя было так реально помочь мне увидеть конец ущелья и блеснувшие над ним звезды. Земной поклон за это чужому для меня и родному Ольге человеку, и “да помянет его Господь Бог во Царствии своем”. Аминь.
27 ноября
Новую нашу домрабу зовут Клавдия Михайловна. Отчеством, прибавленным к имени, она подчеркнула свою случайную включенность в домрабий класс. “У меня муж – инженер-строитель. Умер во время эвакуации. Дочка двадцати двух лет, в детсаду руководительница. Девочка скромная и недурненькая. Сватался один очень состоятельный служащий, 47 лет. Не пошла. А сама без площади мыкается…” (Тут по худым бледным желтым щекам безмолвно покатились две крупные слезы). Клавдия Михайловна так худа, что вид ее при маленьком росте какой-то невесомый. Носится по кухне и по квартире с быстротой, какую я видела только в лесу у белок, перелетающих с вершины на вершину елей. За эту быстроту Алла и пригласила ее на место Шуры (рекомендована со стороны быстроты знакомым актером, детей которого она обслуживала на даче – целый детсад, из четырех семейств дети).
Отчетливо и подчеркнуто чистоплотна и сама, и все вокруг в кухне. Неразговорчива. Глаза зеленовато-серые, неглупый взгляд. Улыбка редкая и такая же быстрая, как походка и все движения. Чуть мелькнет – и уже нет ее. Сосредоточенно деловое, защитно-холодное выражение черт лица, в молодости миловидного (ей 46 лет), теперь увядшего.
Мое положение в доме угадала чутьем сразу, а может быть, давно знающая о нем от Шуры лифтерша успела рассказать. Подчеркнуто, как и все у нее в поведении, стала на мою сторону. Как раз произошли при ней некоторые ограничения моих прав: “опаздывать к обеду”, пить чай с “господами” после 10 часов и т. д. Быстрым шепотом Клавдия Михайловна предложила обходы этих двух директив, поняла их неудобство для меня – но я, конечно, эту форму ее протектората отклонила. Но трогает меня опять-таки подчеркнутая внимательность, с какой она относится к моей пище, узнавши про болезнь печени и склероз мозга. А ее тронуло до того, что я даже не улыбку, а сияние на ее лице увидала, когда я пришла в кухню познакомиться с ее обожаемой “дочкой Тамарой” – хорошенькая девочка с красивыми грустными глазами и с нежным цветом лица. У меня было немного молока, осталась половина батона. Я пригласила их выпить со мной чаю (“господа” в этот вечер отсутствовали). Сначала Клавдия Михайловна смутилась и дочь свою отговаривала угощаться, “у них у самих всего мало (про меня), я уже их раскусила. Они разугощают все, а потом будут сами без сахару, без белого хлеба”. Она сгустила краски – не знаю, для чего. Может быть, боялась, что наше пиршество застанут “господа”, и не была уверена, как отнесутся к нему. Но я сказала: “Давайте вообразим, что мы не в чужом доме, не на кухне, а что вот этот уголок моя и Клавдии Михайловны – собственная квартира. И что у нас праздник, потому что пришла к нам в гости Тамара. И что это не сухари и полстакана молока к чаю, а настоящее парадное угощение. И будем праздновать Тамарину молодость и ее будущее (она как раз накануне получила место в каком-то министерстве – 500 рублей ставка)”. И тогда они обе развеселились, и я почувствовала, что между нами возник глубокий человеческий контакт. Такой, какой у меня был с Шурой и создался даже под конец с броненосной Ульяной, и со всеми лифтершами. Одну из них, Дуняшу, потерявшую глаз и 2 года уже не служащую, встретила случайно сегодня на улице. Она обнимала и целовала меня и на прощанье сказала: “Как самого-самого родного-дорогого человека вас помню”. А было с моей стороны только то, что я никогда не проходила мимо нее как лифтерши, а всегда как мимо Дуняши, и знала ее судьбу, ее больной глаз, ее семью.
5 декабря. 8-й час вечера
Между форточкой с густым дворовым смрадом и обильно протекающим от кухонной плиты газом.
Целый день сегодня у Ольги. Отдохнула от условий моего здешнего быта. Но зато он, при возврате в недра его, еще кажется тяжелей. За обеденным столом у Веселовских сидела истуканом – теперь это моя обычная роль в обществе. Впрочем, это редкий случай в моем обиходе – обедать среди четырех малознакомых лиц. У глухих повышается чувствительность к флюидам человеческим и зоркость к мимике, к позам. У Степана Борисовича изменился флюид за этот год – мы давно с ним не сходились за общей трапезой. Он был тогда замкнут, сух, поглощен выбором пищи и своей исторической работой, от которой отрывался ненадолго, чтобы поесть. Теперь у него приятный старческий флюид; снисходительно-ласковый (до улыбки) и внимательный к близсидящим за столом. Оля в самозабвении (не знаю даже, ела ли она сама что-нибудь) – но настороженно, приветливо и организационно-толково хозяйничала. Анеличка имела вид тринадцатилетней девочки, очень умненькой и чистой сердцем и очень красивой со своими длинными бледно-золотыми косами. Со мной рядом сидел юноша, породистый и даже красивый, но с “Острова д-ра Моро” – “ишак”. В этом уэллсовском рассказе путем разных операций и особой педологии звери превращены в людей. Глядя на моего соседа, я невольно вспомнила уэллсовскую выдумку.
6 декабря. 11 часов вечера. Заширменная щель. Темная ночь
Вернулась с предночной прогулки. На углу Пушкинской кинулась ко мне деревенского вида женщина с ошалелым видом и запыхавшимся голосом прокричала:
– Бабушка! Ты не в ломбард идешь?
– Какой ломбард? 11 часов ночи!
– Так что ж, что ночь? Там, говорят, очередища такая, что не протолпишься. Горе мне – забыла, где он, ломбард-то, кверху? Книзу бежать?
Случайно я знала адрес ломбарда и указала ей. Она рысью, все с тем же обезумевшим лицом, кинулась бежать вниз по Пушкинской. С такими лицами охотились на мамонта 100 тысяч лет тому назад.
Огромную панику вызвал в спекулянтах и в колхозниках предстоящий обмен денежных знаков. Остальное население, по-видимому, спокойно, хотя бродит слух, что после 15-го “все подорожает”. Запасливые хозяйки, у которых есть какие-нибудь сбережения, энергично закупают всякую провизию. Я хотела купить к чаю 100 грамм ландрина, но в обеих кондитерских была такая толпа, как на Страстной у плащаницы. То же и в молочной – тут за сырковой массой поход, за плавленым сыром, за творогом. Мирович выстоял 1/2 кило творогу за 12 рублей 50 копеек. (Обезжиренного. Жирный – 25 рублей.)
Надоело голодать. У Тарасовых мясной стол и картофель на жиру и маргарине, что для печени отравно.
Ночь. Позвонила сегодня Ольге. И когда она подошла, я осознала, что у меня нет слов для того, чтобы сказать ей то, что хотелось, что нужно было сказать. Или нужна была бы получасовая в тиши беседа, и так, чтобы Ольга была ничем не отвлечена и хотела бы понять до конца, что я хочу сказать. Когда она в полной готовности к пониманию, никто лучше ее (в прошлом еще сестра Настя) не понимает того “заумного”, что иногда рвется у меня из недр сознания. Еще Мария Федоровна и, пожалуй, Ирис поняли бы. И я могла только сказать Ольге: “Подумай обо мне. Подумай сегодня два или три раза обо мне”. Она не удивилась и сказала “хорошо”. В дверях, оказалось, стоял генерал, и вид у него был удивленный.
Мария Федоровна уехала к племяннице[846] на Север месяца на три. Я застала ее у нашего общего друга Надежды Григорьевны за 1/4 часа до отъезда. У нее был помолодевший, дорожно-оживленный вид. Надежда Григорьевна говорит, что у нее есть предчувствие, что она уезжает навсегда, что ее путь закончится в Уржуме. Но мне Мария Федоровна сказала, прощаясь: – Постарайтесь дожить до весны, – на что я ответила: – Не обещаю.
И когда Мария Федоровна уехала на вокзал, у меня было такое чувство, что все это периферия – все наши встречи с близкими людьми, все отъезды, что все мы живем не в этом, а уже гораздо глубже или, вернее, – совсем в ином, в “инобытии” (словечко покойной Надежды Сергеевны). И только миги, отдельные миги, в нашей власти. И самый важный из них – смерть.
Вспомнилось жаркое дыхание Льва Исааковича у моего уха и страстный шепот (под музыку увертюры “Кармен” в партере Большого театра): – Во всяком случае, у нас впереди есть еще познавательный шанс, не похожий ни на какой другой: то прояснение сознания, какое бывает, какое есть вера у всех умирающих на грани Смерти (это было окончание разговора, какой мы вели в фойе и который начался еще дома).
И о последнем познавательном шансе: может быть, этого шанса и не будет от жару, от головной боли, от бредового состояния – и прав Толстой, что в нашем распоряжении только настоящая минута. Есть у него строки о том, какая самая важная минута, самый важный для нас человек, самое нужное дело. Ответ: минута, в какой ты сейчас живешь (следующей за ней может не быть). Человек – тот, с которым сейчас имеешь дело (или общение, или о котором думаешь). А дело то, которое сейчас делаешь или собираешься делать.
Хорошо в этих строках передана неудержимая стремительность потока уходящей жизни.
8 декабря. 8 часов вечера. За ширмой
Мороз. Метель – поземка.
Долго бродила в сумерках по метели в состоянии какой-то космической бездомности. Было такое ощущение, что эта метель, кружащая по улицам Грановского и Белинского, по Горьковской и Пушкинской, проникла сюда из необъятных мировых пространств. Что во всем мире – резкий холод, вертящийся хаос снежинок, пурга. Похоже на то, о чем у Блока в его “Двенадцати”, – “Ветер, ветер на всем белом свете”…
…И что-то мне стало страшно – от сознания ли обветшалой своей старости, от усталости, от глубокого отвращения к “своему” углу. Мистическая невозможность возвращаться “домой” (наряду с сознанием необходимости эту невозможность преодолеть). Чтобы оттянуть возврат, неожиданно для себя завернула в туннель двора, где живут Готовцевы, с которыми не виделась два года, хотя живем на расстоянии 7-10-ти минут ходьбы. Встало в памяти лицо Жени (Е. С. Готовцевой), не теперешнее, пятидесятилетнее, а то, которое было у нее 30 лет тому назад: с горячей улыбкой навстречу всякому человеку, которого закружили бы вихри мировой непогоды, как сегодня – меня. В подъезде меня встретила костлявая, желтолицая, с желтыми глазами молодая лифтерша. Мой вид – облезлая шапка, как в старину носили старые священники, с облезлым воротником шуба, руки без перчаток – внушил ей подозрение, что я просительница и что она окажет услугу Готовцевым, если не “допустит” меня к ним.
– Лифт не работает! – с торжествующим видом заявила она, обменявшись злой и насмешливой улыбкой с каким-то парнем, который флиртовал с ней.
Я повернула на лестницу пешком.
– Куда вы? – закричала она мне вслед.
– Я вам сказала, куда.
– К Готовцевым? Так их дома нет. Говорят вам, их дома нет! – еще раз крикнула она с непонятной злобой.
Их и правда не оказалось дома. Я напрасно взбиралась на три лестницы. Вернуться вниз и увидеть сделавшееся для меня страшным лицо желтой лифтерши, ее желто-зеленые глаза было невозможно. Я вспомнила, что на самом верху живет Настя Зуева (актриса) – вспомнила ее доброе лицо, ее теплый голос. Решила зайти к ней, там написать записочку Жене Готовцевой и попросить передать ей.
Настя встретила меня растерянно, почти испуганно, хотя из глаз светилась обычная приветливая улыбка. Оказалось, у нее сегодня концерт и она готовится к нему с Еланской. Я сказала, что не дозвонилась к Готовцевым и зашла сюда попросить передать записку Евгении Сергеевне. “Настя” Зуева несколько раз звала меня, когда бывала у Тарасовых, заходить к ней. И на этот раз стала просить “непременно зайти, но перед этим позвонить”. И пока я писала записку, столько ласкового и доброго дала мне излучения, словами и внимательным взглядом, что какая-то часть оледенения у меня в душе оттаяла. Я поблагодарила ее и пообещала зайти в ближайшее время. И уже не казалась мне такой мистически-жуткой, всем космосом завладевшей вьюга и поземка (в поземке есть что-то ведьминское, змеиное).
109 тетрадь 10.12–26.12.1947
10 декабря. 12 часов ночи. На своей койке
Пришло в жизнь то, что пока еще не вмещается в сознание. Сон? Чудо? Через людей пришедшее, нежданное касание Высшей воли к моим судьбам, запутавшимся в такой тесный, удушающий клубок, что сейчас, когда слышу, как ослабели, как начали распутываться его нити, не понимаю, как я могла терпеть эту связанность, сдавленность, обреченность, как могла душа вынести. Особенно начиная с лета. Но не нужно перетряхивать и взвешивать тяжестей, поднятых душой.
Как мирно мертвецы в могиле почивают — Так мирно спать должны скорбей воспоминанья.…Дом, Ольгин. В лесу под Звенигородом. Над рекой. Не жить больше в Москве. Не скитаться по ее улицам, трамваям, метро. Сон? Нет, явь. Видела план дома, комнату на нем, предназначенную для меня. Не будет больше – если доживу до весны – этой щелки, этой ширмы, этой неизбывной тоски сознания: “Нет, не вырваться мне отсюда”. И постоянного чувства, что в жизни бывших друзей твоих (всей жизни друзей) ты – чужеродный нарост, раковая опухоль, от которой не знают, как отделаться.
Как ни тосковала душа моя (и тело, его потребность в дыхании, в чистом воздухе), как ни томилась я в разлуке с Природой, с Матерью сырой землей, от апреля до октября, жадной, страстной, неизбывной тоскою, радости свидания не смею предвкушать.
Содержание моей сегодняшней радости, моей благодарности Богу и людям (больше всего Степану Борисовичу – даже больше ему, чем Оле) – не чарующее видение лесного дома на берегу реки с необъятными далями, глядящими из окон его. Это Земля обетованная, куда мне, может быть, и не суждено дойти, но то, что испытала душа от образа ее, поднятого над тернистыми буераками моих скитаний волей Божеской и человеческой Любовью, это уже было. И это перенесло мою дорогу, если и не попаду в Землю обетованную, на высший путь из низин, где я стала уже задыхаться и терять силы. “Низины” – это слово относится не к окружению, в каком жила и живу, – а лишь к некоторым особенностям моего испытания, к тому, что я худо выносила его. И когда оно дошло уже до каких-то пределов в моем сознании и я стала бояться его (в образе Аллы), и убегала из дому куда попало, и страшилась вернуться в свою “щелку”, как в подземный каземат, – внезапно, нежданно-негаданно случилось это чудо – видение Земли обетованной. Она для меня не реальность, а символ, знак бодрствования надо мной Водителя моих судеб. И знак человеческой, братской, дочерней (от Ольги) Любви. Какая бы ни была дальше реальность, мне уже даны силы ее вынести. А дальше пусть будет все не по нашей воле, по Той, какая послала нас на нашу дорогу, какая нас ведет по ней. И да будет она благословенна.
13 декабря
Дерево-узник.
Об этом дереве я не раз уже упоминала в предшествующих тетрадях. Это высокое развесистое дерево, смотрящее в мое балконное окно из соседнего двора-колодца. С верхушкой его что-то случилось, и она стала похожа на профиль орлиной головы. И часто оно шевелило во мне горестную аналогию – не только с одной моей судьбой, а с тысячами судеб, где человек ощущает – при наличности у него крыльев, хотя бы и не орлиных, невозможность вырваться из тисков рока, защемивших его, как это дерево в какой-то день и час, когда посадили его среди каменных стен двора-колодца. И часто вспоминалось при этом трагическое восклицание скворца (из книги Стерна): “Ах, не вырваться мне отсюда”. Я хваталась в течение этих долгих лет (9? 10? – не помню) за разные возможности вырваться – но они оказывались призрачными: инвалидный дом, жилплощадь с Инной на Волхонке, попытка устроиться в комнате поселка Сокол…
Сегодня утром, раздвигая оконную занавеску, я впервые при взгляде на черный скелет дерева-узника не ощутила этой аналогии его со мною. И в эту минуту вспомнила: было чудо. Ольга. Ее очаг. В лесу, над рекой. (Во сне я, очевидно, была где-то далеко от дневной яви.) И тут же я опять почувствовала то, о чем с Ольгой в последний раз говорили (и в день отъезда Марии Федоровны с ней) гётевское: “Всё преходящее только символ. (Alles Vergängliches ist nur ein Gleichnis)”. Но какое-то есть в этом преходящем – как в стерновском скворце. Эти годы и с видением звенигородского дома на горе, над рекой после нашей последней встречи с Ольгой – отображение реальности происходящего с нами в ином плане бытия. И что бы ни было дальше, моя жизнь перестала быть деревом-узником.
14 декабря. 11 часов вечера. За ширмой
Заболела Ольга. Третьего дня. Внезапно – кровоизлияние в легкое (инфаркт). Мне позвонили сегодня утром, когда я была в постели. Я быстро оделась и, несмотря на давку в метро, пропустив 4 поезда, каким-то чудом отваги отчаяния и с помощью энергичнейших толчков в спину какого-то парня попала в вагон. К Оле меня пустили на несколько минут. Ей запрещено разговаривать. Мне самой так сильно нездоровится, что следовало бы перейти в лежачее положение, в тишину, может быть, в сон. Прошлая ночь, как и ряд ночей до нее – бессонные. Может быть, сегодня и заснула бы. Но нет: сердце сжато в комок мукой душевной боли образом Лиса, прикованного кровоизлиянием к одру болезни на 6 недель. И в то же время лежала она такая светлая, помолодевшая. Что-то в ее осветленности, в кроткой резиньяции[847] тона (даже с улыбкой) меня болезненно тревожит – но – да будет то, что будет!
15 декабря. 12 часов дня. Зубовский бульвар
Ранним утром, еще не совсем рассвело, я поспешила в Замоскворечье, чтобы застать хоть на минутку Лисика перед отправлением ее в клинику. Оказалось, что она так слаба и так с сердцем неблагополучно, что трогать ее нельзя. Вызвали врача. Он не велел ей двигаться, запретил к ней входить кому бы то ни было, кроме ухаживающей за ней Ирины (жена брата) и Анечки (дочери). Меня впустил на одну минутку по желанию Ольги, когда она сказала, что “хочет со мной проститься”. Она лежала недвижимо, как изваяние, – но помолодевшая, похорошевшая, с нежной улыбкой, разлитой по снежно-белому лицу.
Я не нарушила запрета. Молча поцеловала ее несколько раз и вышла. Держусь своей обычной внутренней тактики в важных случаях (и трагических, и когда прихлынет к жизни что-нибудь большое и радостное) – ни воображением, ни волей, ни эмоционально не предваряю событий. Но всю мою волю укрепляю так, чтобы она передаточным ремнем как можно крепче и надежнее соединилась с Солнцем мира. И тогда наступает спокойствие штурмана корабля, попавшего в полосу шторма, но исполненного доверия к капитану, который знает путь и приведет корабль, как нужно и куда нужно. С той разницей, что в моем представлении, в моей вере не существует понятия “гибель”, чем бы ни заканчивались штормы в человеческой жизни.
16 декабря. Вечер. Зубовский бульвар
Доплелась сюда по скользким тротуарам с риском встретить Варварин день у Склифосовского. Интимное и священное значение этого дня потребовало перемещения из “хладного” и чуждого окружения к очагу “тети Ани” и детей. Инициатива празднества принадлежала Ольге. Когда она заболела, странно этот день праздновать. Но другие друзья от этой затеи не хотели отказаться. А мне просто было важно встретить утро Варвариного дня, связанного с образом покойной старицы моей, Варвары, в храме и побыть до вечера среди близких людей. При моей в последнее время патологической зябкости душевной на некоторых этапах моего пути я бы замерзла в “ледяном доме” Аллы. Я глубоко презираю в себе эту зябкость, понимаю, что она testimonium paupertatis[848] моей души, радуюсь тем состояниям, когда мне ни от кого ничего не нужно, а только хочется – и можется – давать каждому, кто со мной, тепло своего внутреннего очага. Но с тех пор, как я так одряхлела, это состояние все реже и реже.
Именины мои досадно совпали с финансовым кризисом у друзей и у меня, в связи с ликвидацией карточной системы и выпуском новых денег. Старые бумажные, которые не успела обменять, упали в цене (разные были о них слухи, вплоть до таких, что их и не нужно менять и т. п.). Именинник, имевший в наличности скромную сумму в 80 рублей, увидел себя обладателем 8 рублей. Зарплату и пенсию в близком мне кругу тоже не все успели получить. Не хочется об этом думать. Потом узнала, что Ольге не лучше и она так слаба, что доктор не разрешает перевозить ее в стационар. Лирика моих личных воспоминаний, встающих над 70-ю Варвариными днями прошлого накануне завтрашнего дня, потускнела и охладела перед сознанием, что Олина жизнь в опасности. Но остается железная логика житейских форм и предшествующих наметок на житейском плане. Организация “празднества” целиком ложится на “тетю Аню” и ставит ее перед трудной задачей “творчества из ничего”. Есть мука, сахар и постное масло – Олины дары. Но приходится задумчиво тете Ане обсуждать на тему: “Пирога без начинки не сделаешь, и хорошо бы к пирогу хоть селедку. И к чаю кроме сахару каких-нибудь конфеток и печенья. А если печенье дома сочинить – где взять яичек и маслица” (тетя Аня от привычки в Наташиной семье иметь дело в давнее время с маленькими детьми все вкусовые вещи зовет уменьшительно: молочко, творожок, яблочки, рыбка, даже “сахарок”, когда его стали выдавать по карточкам).
18 декабря. Вечер. Зубовский бульвар
Тишина. Бабушка спит. “Тетя Аня” еще на службе. Лиза на каких-то вечерних у подруги занятиях. Ника в планетарии – страстно отдался астрономии – единственный шестнадцатилетний член и единственный школьник в каком-то астрономическом обществе. С блестящими глазами делился сегодня со мной своими сведениями о междупланетном пространстве.
Хочу запечатлеть здесь не столько Варварин день, сколько Варварину ночь, пока не соберутся все к ужину.
…Сейчас стало ясно, что слов для рассказа ночи перед 4-17 декабря не сумею найти. Что таких слов и нет.
Сна в эту ночь у меня совсем не было. Комната городским отсветом из большого итальянского окна стала таинственной, фосфорически-розоватой. Можно было рассмотреть все вещи. Но они изменили свои лики, стали воздушно легкими. Ожили портреты предков и большая фотография Наташиной сестры Шуры Шаховской, покончившей 17-ти лет от роду самоубийством от мысли, что “в жизни нет того, из-за чего стоило бы жить. А не имея высшей цели жизни, жить только для того, чтобы жить, – позорно”.
…Но тут-то и кончается возможность сказать, что было со мной в ту ночь в той комнате, где спали Аничка, и Лиза, и Ника, чья любовь, с какой они встретили меня, зажгла во мне ответный луч, точно растопивший всю инертную массу даже неодушевленных предметов вокруг, соединивший через тех, кто был в этой комнате, со всеми близкими и дальними, живыми и умершими, со всеми судьбами населяющих и раньше населявших землю и все другие планеты душами и звездные миры с их архангелами. Так уже было со мною несколько раз в жизни и всегда казалось потом странным, как это можно было вынести.
21 декабря. 2 часа дня. Зубовский бульвар
Солнце, много солнца. Но странно, что небо совершенно белое, точно белая пуховая перина, без единого просвета в лазурь.
Выборы[849]. Приподнятое сверхвоскресное, праздничное настроение. Лиза и “тетя Аня” встали еще до света и до света побывали на выборах. Ника волновался в такой степени, что Тарасовы не уладят моей роли в выборах, что не поленился также встать рано и понесся в избирательный участок заявить о моем падении и о том, что я застряла в их квартире, потому что мне доктор запретил движение по городу. В результате ко мне приехали два члена избирательной комиссии с красным четырехугольным ящиком и с 3-мя напечатанными на бумажках фамилиями, которые я должна была собственноручно опустить в урну. Что-то очень патриархальное, очень уверенно-товарищеское и домашнее есть в том, что и билеты уже с отпечатанными именами, и опускают их не в завешанной кабинке, как было несколько лет тому назад. А вдруг бы мне захотелось видеть депутатом не Кемарскую, Савельева и Терехова, а, допустим, Леониллу, Кедрова, Готовцева. Или совсем не захотелось дать своего голоса. Впрочем, это все не моего ума дело. И поскольку я понимаю, что в данном случае я включена в блок беспартийных с коммунистами, я пропихнула худо пролезавшие в щель урны три бумажки с искренним сознанием своей объединенности с коммунистами, раз они заодно со мной, против ненавистного мне и презираемого мной капитализма и против мерзостей и ужасов войны.
Вечер
Вокруг отмены карточек
В “Правде” пишут: жизнь советского гражданина, благосостояние его возрастет на 50 %.
– Дай, Господи, здоровья Ленину – Сталину! Подумали о простом народе – и с хлебом полегче, и чай с сахарком, – говорит в метро с умиленным лицом бедно одетая женщина и крестится. Парень-комсомолец смотрит на нее с насмешливым сожалением.
– А ты, бабушка, верно, от старости уж и позабыла, что Ленин умер, – говорит он.
– Ничего я, милый, не знаю. Не в Москве живу, а в Дмитрове. И неграмотная. Слышу: Ленин – Сталин, Ленин – Сталин вот уже 30 лет вместо царя у нас. Дело мое бабье. И 72-й годок мне. А теперь вот говорят: богатеям крышка, у кого тыщи – в десять раз уменьшат. А бедным людям на хлеб, кому и на сахарок хватит. И слух есть, что дальше все подешевеет, и одежка и обужа.
У парня лицо становится вдохновенным.
– А ты как думала? Для чего же революция 30 лет тому назад была? Кровь для чего народ проливал? Натурально – за лучшую жизнь. Если бы проклятые буржуи и фашисты на нас войной не шли, всё бы у нас с тобой было – и одежа, и обужа. Так-то, бабушка.
– Так, так, милый. Спасибо, что со мной, старухой, поговорил. Вам, молодым, виднее. У меня тоже внуки были – оба в неметчине полегли. Ну, до конца и доехали. Спасибо, спасибо тебе.
…Денисьевна обнимает только что принесенный из булочной четырехугольный золотистый хлеб и как интимный и бесценный дар с любовью прижимает к груди. Лицо с лучезарной улыбкой, счастливое.
– Слава тебе, Господи! Дожили до счастливого денька. Буханок в два кила – 6 рублей. А третьего дня я, наголодавшись со своими иждивенскими двести пятидесятью, двести грамм за 10 рублей купила и тут же съела. А этот каравай за 6 рублей 4 дня есть буду.
Вернадский, сын профессора Вернадского, прислал Анечке, отцовскому секретарю, две посылочки. В них кроме бекона только сахар. Из этого ясно, что для американских газетчиков и их вдохновителей неожиданный сюрприз – отмена карточек и подешевение сахара и всего прочего. Мы – я, дети, бабушка, тетя Аня, празднуем это событие тем, что пьем чай в “накладку”, бабушка сыпет сахар всюду, и в картофель, и на хлеб с маслом. А Ника, проходя мимо сахарницы, каждый раз не утерпит и, зачерпнув чайной ложкой песку, проглатывает его, как волшебный какой-то порошок, где главное не вкусовые его свойства, а чудотворный факт его наличности в обиходе дня.
Вздыхают, кряхтят те, у кого были до момента обмена деньги, более или менее значительные суммы, не на книжке – и которые с 16 декабря превратились из тысячи – в 100 рублей, из сотни – в 10. Мирович с недоумением, как на какой-то фокус, глядел на свои 70 рублей, вдруг превратившиеся в семь. Но Мирович, конечно, понимает, что на 360 рублей своей пенсии он может купить сахару, масла, ацидофилина чуть ли не в 4 раза больше, чем до 15 декабря.
110 тетрадь 27.12.1947-31.1.1948
4–9 января
Елка в царстве теней
Пять теней (Ника не в счет, он – случайность). Старшая тень – бабушка Анна Николаевна – не то 87, не то 88 лет. Потом – я (79 лет в марте) и довольно зловещего вида гостья, тоже лет 70-ти. Две тени помоложе, но обе лет под 60 – тетя Аня и дальняя родственница ее семьи, вдова, потерявшая сына на фронте. По имени Дуся. Она принесла ветку от елки, с человеческую руку величиной – для Анны Николаевны, предполагая, что молодежь не будет тратить праздничный вечер на “ель” в одной комнате с бабушкой, которая уже до того состарилась, что все уборные дела (при этом очень частые) совершает у себя на кровати с невинным и общительным видом годовалого ребенка. Елку, заготовленную Никой, действительно отправили Сережиному Вовику (ему 1½ г.). Дуся утвердила ветку в какой-то вазочке, выключила свет, а на своей ветке зажгла несколько тоненьких свечек, со спичку длиной. Тогда на елке обнаружились два бисквита и какое-то серебряное украшение – может быть, просто сверток из бумажки, в какую заворачивают плитку шоколада.
Крохотные огоньки свечек, наши старые и полустарые лица в их смутном освещении, сумрачно-розоватый свет ночного города из высокого итальянского окна и панорама городских крыш из него, как видение Прошлого Нашего и той Москвы, какой мы в этот час уже не были причастны. Все это, вместе взятое, вокруг – уже не елки – а только символа ее, создало впечатление чего-то посмертного, загробного. Но не мрачного, а спокойно-торжественного. Дорогие души, перешедшие уже гробовую черту, живущие по ту сторону ее, мной ощущались как реальное, хоть и невидимое, присутствие.
Мне из всех этих женщин была только “тетя Аня” жизненно и душевно близка. Но в этот час в одинаковой степени – наджизненно – близкими ощущались и остальные три тени.
Когда свечки все догорели и подожженные хвои, дымясь, наполнили комнату ароматом ладана, Дуся сняла с ветки оба бисквита и разделила их крохотными кусочками между всеми тенями, среди которых по странной случайности оказался и Ника. Когда включили свет, настроение, созданное этой елкой, не сразу изменилось. У меня под рукой были стихотворения безвестного поэта, “детского писателя” покойного П., предсмертные дни которого, светлое и спокойное отношение его к смерти мы как раз в этот вечер вспоминали. Я предложила прочесть их вслух – прочла 4 стихотворения: “Хронос”, “Вселенная” и два, написанные совсем незадолго до его конца, в дни мучительного умирания (рак горла и зева). Стихи, несмотря на дилетантски недоработанную форму, захватывают внимание, и не только внимание, но и те чувства, какие будит в нас прикосновение к чистым, искренним и возвышенным душам, уже почти перешагнувшим порог смерти. К сожалению, я потеряла последнее стихотворение, переписанное для меня женой П. Но если оно найдется, впишу его в эту тетрадь на память об участии П. на елке в царстве теней.
10 января
Недавно влетела ко мне за ширмы Алла с простодушным и доверчивым видом (таким редким в последние годы в мою сторону). С лицом шестнадцатилетней девочки-простушки, Марфиньки из “Обрыва”, протянула фотографию с рукой Рахманинова на фоне клавиатуры рояля.
Сделала это с явной целью подойти ко мне поближе и не по мосткам кухонных вопросов, на каких порой поневоле встречаемся. Сделала это с подкупающей наивностью и неприкрытостью тактики и этим сразу меня отбросила лет на 40 назад, в Киев, в военный госпиталь, где в рождественские праздники никто из взрослых ближе меня не подходил к детворе тарасовской семьи. Поговорили о физиономии человеческой руки. Она не уходила, стояла, подняв брови с выжидательным видом. Я взяла ее за руку.
– Ай (так я звала ее в ее детские годы), тебе хорошо живется? – спросила ласково, как давно это вывелось из нашего обихода.
И вся она засияла, даже не как шестнадцатилетняя девочка, а как трехлетний ребенок перед любимейшей новой игрушкой. И лицо, и глаза стали поразительно круглые, маленький рот раздвинулся в широкую улыбку.
– Хорошо, очень, очень хорошо! Он – такой хороший…
– Я рада, что тебе хорошо, – со всей полнотой вспыхнувшего к ней чувства “первоначальных чистых дней” наших сказала я. И поцеловала ее нагнувшуюся к моему стулу голову, после чего она выскользнула детским прыжком из-за ширмы. А на другой день, когда я шутливо гадала маленькой Аленушке, Алла присоединилась к гаданью. И не без волнения вытащила строчки А. Толстого:
О молодость, о слезы, О лес, о жизнь, о солнца свет, О светлый дух березы[850].И такой молодой, счастливой радостью зарумянилось лицо ее, как редко бывает у женщин ее возраста. Удивительное умение полным ковшом пить брагу так называемого “счастья” на жизненном банкете. Безоглядно. Безотрывно…
14 января. 2 часа дня
Буйная метель и предательски – местами присыпанные снегом, скользкие тротуары.
Часть ночи с Верой Фигнер[851]. Побывала с ней в квартире Азефа в Париже (Boulevard Raspail), где они с Черновым, Савинковым и Пановым собирались для обвинения Азефа в провокаторстве, за которое поплатились жизнью или каторгой несколько членов партии. Он, конечно, отрицал все обвинения. Бездоказательно и нагло. Но рыцарственно настроенные (и в то же время разини) товарищи не решились на этот раз произнести ему приговор. Назначили другой день и час для встречи, давая ему возможность подкрепить документами его “невинность”, на которой он настаивал и в которую всем 4-м донкихотам хотелось уверовать (после целого ряда неопровержимых улик). На вторую явку он не пришел и за это время успел куда-то недосягаемо улетучиться. На этой явке, между прочим, присутствовали еще 10 членов партии, взявших на себя исполнение смертного приговора, на выходе из этой квартиры.
В одной из своих статей Розанов изумлялся “отсутствию психологического чутья и слепой, ребячьей доверчивости русских партийных революционеров”. Припоминал, что это как раз относилось к возможности целые годы терпеть в своей среде и окружать почитанием и даже любовью такого мерзавца, как Азеф, у которого даже лицо, отталкивающе безобразное, носило отпечаток всех низменных свойств человеческой натуры. Припоминаю свою молодость и спрашиваю себя, могла бы ли я осмелиться заподозрить в предательстве кого-нибудь из членов нашей партии (небольшой сколок узкокиевского значения той же “Народной воли”). Провокаторов, правда, среди нас не оказалось, но было среди “старших” (мужчин) два-три ловких афериста, прикарманивших деньги, принадлежавшие партии, неразборчивой в средствах привлечения новых членов. Были пустые говоруны. Был Хлестаков, который лично мне говорил, что “Поволжье восстало, и пожар революции не сегодня завтра охватит всю Россию”.
И девушки, и мужская зеленая молодежь от 18-22-23 лет до какого-то срока благоговейно слушали, и, на какую бы нелепую авантюру нас ни послали, мы пошли бы с энтузиазмом. Этот пиетет к “старшим” (Розанов просмотрел это) вообще свойственен молодости, и даже не очень зеленой. Разумеется, не к тем, кто просто старше годами – и меньше всего к старшим членам своей семьи – здесь, наоборот – чаще всего в мягкой или в крутой форме – бунт. Речь идет о вождях партии, о светилах науки, о любимых профессорах и писателях, о деятелях искусства. Их неизбежно для юности, окружающей их, идеализировать – “сияй же, указывай путь, веди к невозможному счастью!”[852] Припоминаю, что наружность членов нашей партии была вне критики. Благоговейно нивелировалось в одно, любимое, обожаемое партийное лицо. Так было у Савинкова и других с Азефом. Думаю, что и я в юности обожала бы, несмотря на врожденное мое эстетство, и азефовской физиономии безобразие, о которой после разоблачения провокаторства все члены партии упоминают, обожала бы Азефа так же, как строго-красивое и вдохновенное лицо нашего Фокина или приземистого, моськообразного, но с фанатическим блеском в глазах Троицкого. Мы окружали восторженной любовью нашу – иерархически – ближайшую к нам, вновь поступившим, Улиту с ее прекрасным лицом Мадонны Мурильо – но если бы она была и некрасива, ее украсило бы для нас то, что она “ведет нас” к невозможному счастью – умереть за “народное дело”. Среди товарищей девушек – были три очень некрасивых – но лица их вне конкурса с красавицами были для моих глаз чем-то прекрасны.
6 часов дня.
Передо мною вид на Юнгфрау[853]. И смотрю я на этот вид, такой знакомый – много раз в прошлом году его в руках держала, – сегодня смотрю по-новому.
И все сегодня как-то обновленно после минут (а может быть, это был и целый час), после того, что пережито было после возвращения с вьюжной улицы под кров. Вьюга заставила меня забыть о моем крове. И даже о том, что я существую в человеческом облике, в человеческой судьбе. Если бы не было так скользко, я бы долго пробыла на улице. Но скользота и очень сильный ветер в не очень теплом пальто сократили мою встречу с Вьюгой.
…И вспыхнуло почти в недрах души недавно проявившееся (в первый раз в позапрошлом году, когда жили в Замоскворечье). Помню, что об этом мы говорили с Ольгой вечером над каналом Заболотья, отражавшим фонари. Она провожала меня к Вале[854]. Говорили о “синтетических чувствах” (мое, и не совсем удачное, название). О том, когда в душе вдруг кристаллизуется и стремительно расширится почти всеобъемлющий комплекс всего пережитого за всю жизнь. В него входят и те, кто живет или раньше жил в моей орбите. И те, в чью орбиту я входила или вошла навсегда. Кристалл – из лиц, из колоритов, окрашивающих различные, у меня многочисленные отрезки во времени (если бы я была целая страна, это называлось бы краски эпох).
Сегодня у балконных дверей было со мной нечто смежное с тем, что я назвала “синтетическим чувством”, но другое, новое. Глядела из стекол балконного окна вниз, на площадку внутреннего двора, с которого вьюга порывами то сдувала снег, то приносила с крыш новый и рассыпала его в продольных углублениях и небольших ямках, и выхватывала из них, и кружила мелкими вихревыми столбами; и какое-то выделялось из этой картины посреди двора большое, метров в 10, ледяное плато, уверенного, неподвластного кружению снегов вида. Жесткий, с блеском стали цвет его под беловатым низким небом, вихревые снежные завитки и полет отдельных снежинок – и кайма недвижного снега на крыше длинного и низкого дома по другую сторону двора, и черный скелет дерева-узника вдруг потрясли во мне какое-то, точно веками ожидавшее этого мгновения существо (одно из существ, меня составляющих). Вернее, ту века целые бывшую запертой подземную камеру моей души, и проникло в нее (или родилось в ней самой) и прошло через весь мой душевный и даже как будто и через телесный состав – планетарное чувство – хочется так назвать его. Отождествленность моего “я”, живущего в отрезке времени 79-ти лет с жизнью планеты Земля, живущей неисчетные тысячи миллионов лет. Вернее, и она, и я вне времени, над временем. Горы – хребты гор и отдельные их вершины, ущелья (первые были горы – потом все слилось в одно) – и моря, и степи, пустыни, кора земная, и пласты над ней, и сокровенный внутри огонь, тайна огня и подземные воды – и вот сейчас вспомнила: все это до человека, все – как мое планетарное, первозданное мое “я”.
29–30 января
Вчерашний день – именины Леониллы всколыхнули воспоминания о том, как праздновался он в военном госпитале больше чем полвека назад. В огромном сводчатом зале – цвет киевской интеллигенции – и украинской, и русской, и еврейской. Философские, политические, психологические диспуты. В парижском туалете – первая женщина– адвокат во Франции Софья Григорьевна Пети по мужу, дочь миллионера-сахарозаводчика Балаховского. Красавица Таля, сводная сестра Леониллы Николаевны, с воздушной лазурью глаз на мраморно-белом лице, в раме легендарных пепельно-золотистых кудрей.
Горный дух, тоже в парижском туалете. Философ Лев Исаакович. Его чудесное пение.
И всколыхнулось так же вчера то горячее подружье чувство, какое соединяло меня тогда и потом всю жизнь до последнего этапа старости (с 38-го года). И я ринулась, презрев вьюгу и скользь, по магазинам, искать ей в дар грецкие орехи, излюбленное лакомство ее и память о материнском саде, где росли ореховые деревья. Когда я несла по снежным и ледяным тротуарам полкило орехов в моем портфеле, в душе что-то запело, заплакало, засмеялось молодым смехом – и остались от этого строчки, которые я записала, вернувшись за ширмы, и присоединила к убогому именинному дару заширменного приживальщика Мировича.
Вот этот подвьюжный экспромт:
В знак памятной дружбы старинной, В пластах отдаленных годов И в капище сердца хранимой, – Орехов из ваших садов Сегодня я всюду искала И рада была их найти, И в дар их тебе поднести. Прости, что в количестве малом.111 тетрадь 1.2–8.3.1948
1 февраля
О старости и “приживании”.
Старость не должна обижаться, что у большинства молодежи, как и в людях еще не старых, она отражается в аспекте доживания или еще в добавление к этому – в аспекте приживания, если она не имеет самостоятельной базы материальной и живет при ком-нибудь. Чтобы ощущать в старике или в старухе полноправное и братски близкое существо такого же человека, как и все, “рожденные женой”, но попавшие (не по своей воле!) в трудные для себя и затруднительные для других условия существования, – нужна высокая культура духа. Редкая, как все “высокое” в человечестве.
Возле Таниной матери[855]. Такая хорошая-хорошая женщина, что, повидавшись с ней какие-нибудь полчаса, я почувствовала прилив душевно-духовных сил и свободно дошла домой, хотя было уже темновато и местами скользко.
С Таниной матерью о тесных вратах и узком пути. Радостное свидание. Ее нежная, слабая, чистая душа голубела, как небо в молодых навеки, шестидесятилетних глазах. И нянюшка ее, опекун ее жизни, с такой любовью уговаривала меня разделить с ними трапезу, так искренне огорчилась, когда я отклонила приглашение (странно было бы есть в том состоянии, в каком мы обе с Марией Васильевной были). Когда к восьмидесятилетним старикам так – из глубины души – добры люди, это действует на какой-то срок как некогда прозвучавшие слова: “Возьми одр твой и ходи”. Я шла и не чувствовала морозного ветра, не боялась скользких мест, не ощутила обычной тоски от своей неуместности в доме Тарасовых, подходя к их двери.
19–26 февраля. Час ночи. На краешке кровати
Птицей залетной из края чужого Лечу я в твоей стране. Ты строил мне храм, но храма земного Не нужно мне. Медно-кровавые тучи заката Озарили мой путь прощальным лучом. Помяни усопшего брата Во храме твоем.С этим стихотворением Мировича далеких лет я проснулась сегодня. Тогда оно посвящалось другу-спутнику моему Михаилу – в один из периодов 12-летнего сопутничества нашего, когда – как ни пленял “храм”, который мы внутренно пытались воздвигнуть, как дело и как цель нашей жизни, я больше всего начинала чувствовать себя “залетной птицей” – вообще на этом свете. Такое чувство и сегодня. И не раз оно повторялось в течение длинной моей жизни. Вернее, оно всегда было со мной – если не в сознании, как в тот час, когда родились строки про “залетную птицу”, – подсознательно оно всегда было со мной.
Умер Лева Бруни[856], хороший художник, хороший, чистый сердцем, чуждый мещанства человек. Встречалась я с ним в жизни мало, но всегда при встрече ощущался какой-то задумчивый, поверх быта и узколичных интересов луч. Так называемого личного счастья во всей полноте, кажется, ему не досталось. Да и кому оно “во всей полноте” достается! В нем было что-то детское. И наряду с этим какая-то затаенная дума. Унес ли он ее с собою туда, куда ушел третьего дня? Есть думы, которых нельзя до конца додумать в одной жизни. Нельзя додумать в условиях такой жизни, какова на этом свете наша, человеческая, жизнь. Хотела по старой привычке прибавить: “Да будет легка ему земля”. Но с некоторых пор мне в такой степени ясно, что слова эти так же неприменимы к развоплотившемуся человеку, как если бы кто-нибудь произнес их над его изношенными одеждами, которые надо сжечь – так как починить их уже было нельзя.
Земля да будет легка его жене, его детям – то есть да будет легко им ходить, работать, дышать на планете, называемой Землею. Кроме нее, у Отца нашего “обители многие суть” “иных пространств иного бытия” – и да будет радостно вхождение его, милого Левы Бруни, в обитель, ему назначенную. И хождение по ней, и все дальнейшие пути ему назначенные. Аминь.
112 тетрадь 9.3–8.4.1948
20 марта. 10 часов вечера. Заширменный угол
Со мной Л. И. Микулич[857]. Случайная книжка. Не случайных в моем распоряжении нет – в тех библиотеках, где я была последние годы записана, книги для чтения нужно было выбирать из числа тех, которые не громоздились на прилавке с добавлением к ним пяти-шести книг, откуда-то из-под прилавка вытащенных с трудом сгибающей спину библиотекаршей (большинство из них немногим моложе Мировича).
Микулич. Tempi passati. Короткий трехлетний петербургский период моих скитаний по житейскому морю. Приглашение сотрудничать в гайдебуровской “Неделе”. Меньшиков, Генриетта Каргрэм, Влад. Соловьев. Парадные обеды раз в неделю. Кажется, по четвергам. Разговоры о Микулич – о ее “Мимочке” и “Зарницах”.
В ее рассказах было что-то свежее, женственно-очаровательное и своеобразное, будящее в читателе заочную симпатию к автору и теплый интерес к его личности. Мне хотелось встретиться с ней лично. Но мы обе были “дикарки”, по выражению Зинаиды Венгеровой, – и встреча не состоялась. Я избегала литературных знакомств, как и она. И для меня были пыткой многолюдные писательские собрания. А частной дорожки к ней я не нашла.
28 марта. За ширмой. 11-й час
У Аллы днем была генеральная репетиция “Талантов и поклонников”. После театра – гости. Родственники и еще несколько лиц, незнакомых мне. С маленькими детьми. Дети (от 3-х до 6-ти лет) ворвались в мою комнату (за ширму) и не хотели уходить. Хотя я и устала сегодня – был поход от Ириса в Зубово, но от детей хлынуло на меня такое очарование “первого утра мира”, что хватило сил побыть с ними больше часа. Сами собой возникли какие-то очень несложные, но для них (отраженно и для меня) интересные игры.
Вбегали и начинали искать меня по всей комнате, зная, что я за ширмой.
Потом заглядывали за ширму и поднимали радостный крик, взбирались на мою постель на колени ко мне. А когда я подымала над ними кедровую шишку, лежащую у меня на столе, которая им казалась почему-то живым и чем-то страшным существом, с криками убегали из комнаты. Потом слушали с неослабным вниманием (три раза подряд): “Жили– были дед да баба…” – и другой, такой же для их возраста упоительный фольклор. И я от них устала гораздо меньше, чем в Зубове от общения с взрослыми воскресными гостями. Что-то есть для меня неотразимо влекущее в младенческом возрасте. И младенческий возраст что-то влечет ко мне. Не разберу – что именно.
Но так было с 16-ти до 79 лет (завтра день рождения Мировича). И такое же взаимное притяжение между мной и психически больными. Когда я навещала сестру Настю в Мещерской психиатрической больнице (45 лет тому назад!) и проходила к ней в отделенную ей комнату через коридор, наполненный буйными помешанными, они устремлялись ко мне со всех сторон и каждый что-то рассказывал, чего-то от меня требовал или просил. Тогда я совершенно не боялась их, хотя фельдшерица предупреждала, что “возможны всякие эксцессы”. Если я опускалась на один из диванчиков в коридоре, они облепляли меня так, что было трудно вырваться. Обнимали, крепко держали под руки, прижимались к моим коленям лицом.
1–2 апреля. Дальнейшая ночь. После пробуждения
Было в дне одно неожиданное событие, волнующее и обязывающее откликнуться на него всеми материнскими силами души.
Позвонил Игорь (Ильинский). Очень тепло и странно-робко просит о встрече. Я ответила, что живу в тесноте, не одна в комнате и никого к себе не могу пригласить. Он сказал (опять просительно-робко): “А если бы я заехал за вами на машине, может быть, вы согласились бы приехать ко мне? Мне так хочется, так нужно говорить с вами после того, как я прочел книгу Джемса – ваш перевод. И до этого хотелось после вашего письма, когда я потерял Таню (жена)[858]. Но я был тогда так вырван из жизни, что ни писать, ни говорить, ни видеть людей не мог. Потом я прежде всего подумал о вас, но не сообразил, как найти ваш адрес, не знал, есть ли у вас телефон. Как только узнал, решился позвонить. И тут как раз с вашей фамилией на книге Джемса встретился. Эту книгу я читал, как в детстве Ната Пинкертона, не мог оторваться”. Условились, что во вторник он позвонит и на той неделе мы увидимся.
7–8 апреля. Поздний вечер. За ширмами
Аллины именины. Кишит вокруг переполненная родственниками пиршественная суета. Сейчас отхлынули из нашей старушечьей комнаты. А моя душа переполнена Игорем (Ильинским) после свидания с ним (он в 6 часов прислал за мной машину, и я пробыла у него до 8-ми). Не ожидала я, что так цела, так крепка наша старинная дружба с Гео, Геруа, Мирольфом (такие имена он давал себе в семилетнем возрасте). И самое изумительное, что это же семилетнего ребенка лицо встретило меня в передней и припало с поцелуем к моим рукам. И я целовала его голову, как тогда, когда он пленял меня своим творческим перевоплощением в созданных им образах Геруа, Мирольфа, Гео[859]. И как самому близкому другу или духовно близкой матери, два часа рассказывал он о своем великом душевном потрясении в связи со смертью жены.
Когда ехала обратно, не узнавала привычной Москвы в темных дождливых сумерках. Не узнала бы ее, если бы и днем после нашей встречи с Игорем на знакомые издавна улицы и дома глядела. Все изменилось, как это бывает, когда коснется души “холодок новоявленного” да услышится в житейском шуме “глас хлада тонка”[860].
Еще одно подтверждение того, что отпечатлелось лет 15–20 тому назад в четверостишии Мировича:
Ничто не проходит. Все с нами Незримою жизнью живет, Сплетается с нашими днями И ткани грядущего ткет.И другие:
Глубокой тайной дышит слово “было”, К нему бегут грядущего ручьи, В нем жизнь минувшего застыла, Чтобы воскреснуть в инобытии.113 тетрадь 9.4-11.5.1948
9-10 апреля. Москва. Квартира Аллы Тарасовой. Заширменный угол Мировича
В Москву прилетел ветер из окрестных полей, лесов и лугов и принес свежее дыхание Весны… Уже без примеси зимнего резкого холода и осенней сырости.
Странное, почти на грани ирреального, последнее время четыре события в душевном мире моем: появление в моей орбите Игоря, шагнувшего через расстояние сорока лет (тогда ему было 7 лет!) – с “дружбой и любовью”, по его словам, шагнувшего в мою орбиту. И так близко и тесно, как если бы он был сразу моим сыном и другом.
Второе – “навьи тропы”, где нет уже грани с потусторонним, куда вовлекла меня смерть Валиной матери. Третье – мост над пропастью, каким идет в личной жизни “своего” с таким дерзанием, с такой мукой, с такой рыцарственною отвагой одна из дорогих мне “замдочерей” моих (Ирис). И четвертое – письмо Евгения Германовича (Лундберга) на 12 страницах после чуть ли не 10 лет безмолвия. Прошло 30 лет, если не больше, как между нами прервалось (целый комплекс причин) очень дружественное раньше знакомство, то есть ритм общения, взаимное обязательство встреч и переписки. И сейчас во мне зазвучало забытое мое стихотворение, каким я откликнулась однажды в полосе этих 30 разлучных лет на неожиданное наше свидание во время болезни Евгения Германовича. Эти строки, кажется, не уцелели ни в одной из моих тетрадей.
Когда встречаются души в минувшем, Друг другу сказавшие “да”, Просыпается мир уснувший, Отступает времен череда. Заповедные грани рожденья Расторгает памяти луч, И звенит водой воскресенья Над могилами вечности ключ. И печальна, иль радостна встреча, В ней трепещет всё то же “да”, Зажигаясь под аркой Млечной, Как созвездий новых звезда.18 апреля. 12 часов ночи. За ширмой
Не встреча, а неожиданное столкновение с человеком (в Зубове, в полуосвещенном коридоре). Простилась с ним письменно и думала, что резкость – и даже гневность моих прощальных слов и его от меня отрезала, и у меня выдернула с корнем и сожгла возможность общения. И вдруг случилось чудо: и он бросился ко мне, хотя и робким движением. Робко и виновато прозвучавшим “здравствуйте, Варвара Григорьевна”. И я обрадовалась ему, как раньше, и обняла склонившуюся ко мне голову. Не смогу взять назад филиппик своего письма, но раскаиваюсь в тоне его (“Вы – псевдосын, псевдодруг, псевдомуж своей жены Ирэн, псевдомузыкант, псевдоврач, псевдодруг М… “). Быть близкой к его пути, встречаться, переписываться с ним, пока он связан с женщиной, которую не любит, не уважает и которую не может уважать. Это для меня невозможно. Но любить его, как это сегодня поняла, не перестану.
Поистине “любовь долго терпит, всему верит, всего надеется…”. “Все ищет своего”. До последнего времени у меня было это “искание своего” в его сторону: требование прислушиваться к моим словам и дорожить ими и мною. Сегодня с радостью вижу, что поистине ничего для себя не хочу от моего бедного зам. сына.
114 тетрадь 12.5–9.6.1948
13 мая. 11 часов дня. Заширменная щель
Сгущаются и ползут к зениту со всех сторон дымно-серые дождевые облака.
“Какое несчастие, что есть люди, которым нельзя помочь”. (Анастасия Мирович в девятнадцатилетнем возрасте.)
Анастасия Мирович, младшая сестра моя, тогда не знала, что там, где не могут помочь люди, по прямому проводу приходит помощь свыше – хотя бы в форме избавления от трагических условий здешней, “привременной” жизни. На наших глазах протекало немало таких случаев – но люди мало вдумываются в них по привычке смотреть на смерть как на окончательное и уже непоправимое несчастие.
Вокруг меня в последнее время столпилось 7 (мистическое число!) существований, которым “нельзя помочь”[861]. И я не могу не искать мыслью и воображением – чем и как и с какой стороны могла бы явиться к ним помощь. И невольно и мучительно ощущаю ничтожество – человеческое вообще, и свое собственное в особенности. Маломощность, невозможность вторжения в судьбы близких (есть такие положения, где невозможность даже сколько-нибудь облегчить их слишком ясна). И смерть во всех этих 7-ми случаях явилась бы мечом Александра Македонского, разрубающим гордиев узел жизненных внешних и внутренних условий.
14 мая. 6 часов дня. У Ириса
Пасмурно, холодно. По-видимому, пришли обещанные в мае холода.
Ирис редактирует Шервинского – со стороны стихотворной формы перевод Софокла[862]. У Ириса богатое культурное наследие: четко оформленная мысль, самостоятельная, смелая, с творческим полетом. И огромная работоспособность. Одаренность в лирике и в драматургии. Проявиться вполне и занять место в литературе помешало неуменье (и этические преграды) проталкиваться вперед, работать локтями, “ловить момент” или завязывать нужные для продвижения связи. Ее драма “Золотой дождь” без всяких оговорок была принята несколько лет тому назад в МХАТе. И всем, разбирающимся в литературе и в театре, кому она ее читала, очень нравилась – и вдруг ее вернули с 1000 рублей неустойки и поставили “Кремлевские куранты” Полевого[863].
21 мая. 10 часов вечера. Внуково. Хоромы Игоря
Над камином портрет Тани. Миловидное и какое-то улетающее, улетевшее лицо. Нежное выражение в линиях лицевого овала и в повороте шеи, охваченной жемчужным ожерельем… Были под дождем на кладбище. Там на памятнике надпись – “Татьяна Ильинская, Таня, моя жизнь”.
Весь обратный путь говорили о ней (я, конечно, только задавала вопросы). Надо было дать ему выговориться как можно полнее, как можно интимнее.
Зелено было вокруг ненатурально зеленым цветом – и чересчур изумрудным, и в то же время каким-то призрачным – как и следовало в стране Инобытия, куда мы унеслись вслед за Таней – до того, что сбились с дороги и вернулись на дачу по каким-то пышнотравным мокрым луговинам без тропинок. И все в моем сегодняшнем дне как сон, как сага из “прежде бывших веков”. Я еще не вполне понимаю смысл и значение нашего тройственного союза – но я знаю, что должна и могу (что на это есть соизволение свыше) отвести эту вверившуюся мне душу от крайностей отчаяния, от мысли о самоубийстве. Но странное чувство, что все это делается не на этом свете, И дача эта, и обступившие ее березы, и сосны, и рябины по-иному живые, не о том говорят, о чем на других дачах, о чем в лесу.
29 мая. 4-й час дня. У «зеленой калитки»
Вчера и сегодня я совсем одна в этом прозрачно-зеленом, призрачном, с тысячами просветов в инобытие – Царстве. Дитя мое в Москве. Но где бы он ни был, и если бы даже перешагнул тот порог, за которым скрылась его Таня, душа моя не посмеет – и не захочет – ни на единое мгновение разлучиться с ним, пока не почувствует, что смысл нашей встречи исчерпан. Я ничего не предваряю, я не знаю, о чем буду говорить с ним. Но в каждом биении сердца я наготове – не говорить, а как-то внутренно действовать, чтобы он не упал с мосточка, узкого и шаткого, по которому идет над пропастью, не отрывая глаз от ее бездонной глубины.
Отчего так вышло, что почти помимо моего сознания усыновила моя душа этого сорокасемилетнего человека, о котором до нашей встречи месяц тому назад я совсем не думала, – я этого не знаю. Я оглянулась на это событие, когда факт усыновления уже определил для меня линию необходимости внутренно не покидать этого “сына” до тех пор, пока ему нужна моя близость. Был момент, когда мне показалось, что, может быть, в нем нет этого ощущения, этого сознания. Тогда я спросила его об этом с печалью (о бессилии моем), но без тени обиды, без желания вне этой внутренней линии стоять к нему близко, видеться, слушать, говорить. В его голосе был детский испуг и смятение, когда он недоумевал, откуда у меня эта мысль. И с такими детскими глазами “Геруа, Мирольфа, Гео”, с таким обилием душевного тепла говорил о моем пребывании на даче, сколько мне захочется, “у меня уже мелькнуло решение не оставаться”, что мне легко было прекратить разговор на эту тему и заговорить о том, о чем, я знала, ему хочется со мной говорить.
7 часов вечера. Небо в густых серо-зеленых облаках. Ближе к западу пробивается зловещая желтизна. Только что отшумел ливень, превративший дорожки в мутные каналы. Семья молодых берез на соседнем участке (гляжу на него из окна мезонина) раздумчиво совещается о днях без солнца, о надоедном ненастье. Вот уже третий день, как я невольно вспоминаю строки из “Калевалы”, которые так вдохновенно произносил девятилетний “Игорёк”, когда я гостила у них в Новом Иерусалиме:
В этой сумрачной Похьёле, В этой мрачной Сариоле…[864]Но есть минуты и даже часы, когда Похьёла эта озаряется для нас обоих лучом немеркнущего – обычно мирской суетой затемняемого – света. И тогда звучат слова обетования. “печаль ваша в радость будет, и радость будет совершенной”. И когда я вижу отблеск – еще отдаленной – радости этой на мрачном сыновнем лике, я читаю в этом залог торжества этой надежды не только для его измученной души, но и для всего мира, для всех “страждущих, обремененных, вышнего мира и помощи Божьей требующих”. А для меня есть еще в это мгновение прибавка личной, интимно-материнской радости – понимает до глубины глубин мое дитя то, чем делится с ним душа моя, понимает с полуслова, с намека. Понимает и невыразимое словами.
Невольно приходит в голову: если бы окончено было оформление веселовского звенигородского дома к апрелю, как предполагала Ольга, и я в апреле была бы уже далеко от Москвы, я не встретилась бы с Игорем и через Игоря – с его Таней.
Если бы не пришла телеграмма Денисьевны из Калистова: “Ничего нет” (о том, что нет возможности мне туда переехать на лето).
Если бы телеграфировала знакомая художница, что есть надежда найти какое-нибудь пристанище в Семхозе (под Загорском), – не было бы тех трех разговоров под этим кровом, которые выяснили мне и чаду моему, чем и как и почему мы связаны с ним так свято и крепко, пока длится Страстная седмица его жизни (Сужденность, Провиденциальность).
Так в старину, если бы я не была секретарем (вернее, помощником редактора) в “Русской мысли” и не принес мне рукопись свою (“Отец Федор”) Пантелеймон Романов, не встретилась бы с ним Анна и не прошла бы опыт так называемого “счастья” и свою via dolorosa и свою Голгофу и воскресение.
И если бы в молодости я ответила Льву Шестову так, как ему казалось тогда единственно важным для его души, не было бы у него того великого опыта, который привел его к огромной работе духа над загадкой жизни и смерти.
И если бы Жизнь сказала мне “да” на мой запрос о так называемом “счастье”, не было бы у моей души огромной цены опыта, который вылился в 4-х строках:
Нужна печаль. Нужна разлука И ряд очередных потерь, И совести смятенной мука, И одиночество. И смерть.5 июня. 10 часов вечера
Душа моя переплеснулась за ту грань, где Игорева Таня. Воротиться той части души, которая там, и как ни в чем не бывало жить только по эту сторону нельзя. В сущности, так было уже давно. Лучше сказать – так есть всегда и у всех. Но осознают это не все, а лишь те, у кого вошло в расширившееся сознание существование душ, покинувших тело, – их форма, их дальнейший путь, их сопребывание с нами.
6 июня. 4-й час дня
Зной, будет гроза. Сижу, вернее – лежу в Таниной комнате с холодным компрессом на голове. Его и таз с водой принесла милая Оля (сестра Игоря).
Я говорю “милая”, потому что люблю ее. Я думала (была причина, не во мне лежащая), что не смогу полюбить ее. Но это сделалось само, помимо моих стараний. С тех пор как Игорь и Таня вошли в него, сердце расширилось до пределов, каких я раньше не подозревала. В него открыты двери каждому, кто появится у его порога. Но это условие – непременное. Вот почему Алла и ее семья (только они) за пределами орбиты моей. Все ж безымянные на земном шаре и в других мирах включены в нее – поскольку это им нужно, поскольку это суждено. Двери мои открыты. Игорь спросил бы: – А какими “делами” докажешь ты, что это так. – У него потреба мужской воли – дел, подвига, исповедания. Себя я не могу представить ни в каких “делах” – может быть, потому, что ощущаю отсутствие сил для какой бы то ни было деятельности по эту сторону жизни. Область моих “дел” очерчена появлением людей в орбите моего сердца, где загорается навстречу – каждому поименно – луч Любви. И проявится, где может (это новое), к каждому, кто войдет – в пространстве и времени на житейском плане. Кроме издавна и с лирикой личных чувств, любимых, живых и умерших – нет разницы между теми, кто войдет. Сторож, сторожиха, сестра Игоря Оля, учительница, которая сначала показалась чем-то отталкивающе неприемлемой (я испугалась этого). Во всех чувствую “извечного брата”, по прекрасному термину Биши. Это новое.
Дай мне, Господи, этого не потерять. Но “дела” мои все равно, по крайней слабости и невыносливости моей, внешне много если сведутся к тому стакану воды, о котором в Евангелии: если подадите стакан воды во имя мое; мне его подало реальное чувство присутствия Бога в каждом биении сердца, если есть в нем Любовь к кому бы то ни было из людей.
115 тетрадь 10.6–2.7.1948
18 июня. Раннее утро. День именин Игоря
Игорю Ильинскому, плод рассветного вдохновения старейшего из русских поэтов —
Имя древнее, несчастное и славное Ты, на свет явившись, получил, Но своею волею державною На восьмом году его сменил. На три имени. Тебе лишь ведомых И немногим избранным судьбы: Геруа, ведущего к победам На аренах воли и борьбы, Геруа, с улыбкой солнца вешнего, Духа творческих, неистощимых сил И в грехах младенчески безгрешного В безудержном лёте мощных крыл. Дальше – Гео. Всех живущих матери, Мудрой Геи земнородный сын, Чей удел – и с болью, и с утратами (Как у всех) добраться до седин. …И Мирольф, – кто рядом с Парсифалем Ввысь идет послушною стопой К Монсальвату и к святому Граалю Каменистой, узкою тропой.Вариант по требованию Геруа:
И Мирольф, кто рядом с Парсифалем Шел тернистой узкою тропой К Монсальвату и к святому Граалю С преклоненною смиренно головой5 часов дня, золотого, солнечного, жаркого, но с капризными порывами слишком свежего, почти холодного ветра.
Утро было драматическое. Обе Ольги (Оля, сестра <Игоря>, и О. Н. – домработница) в праздничном оживлении не покладая рук усердствовали над бисквитным пирогом, убранным клубникой, и парадно расставляли обычные молочные яства. Все это вопреки хозяйскому запрету “праздновать” его именины.
Сам он прямо из-под душа часа на два ушел к Тане на кладбище. И вернулся таким неприступным и раздраженным олимпийцем, каким я его еще не видела. Ни отвлечь, ни развлечь, ни успокоить его мне не удалось. Он с час метал стрелы с высот Олимпа в уничтоженную, потом даже не удерживающую слез Олю: “Зачем нелепый этот пирог? Зачем венок вокруг тарелок и гирлянды полевых маргариток на спинке кресла? Зачем зовет меня «Варвара Яковлевна», а не Григорьевна или «тетя Вава». Зачем пирог на соде, а не на дрожжах?” Я обиделась за Олю и увела ее купаться и на кладбище – решила отнести именинные гирлянды Тане на могилу. К имениннику же прихлынули на его теннисную площадку неожиданные гости, и он кинулся к ним, с ожесточением вмешавшись в метание мячиков. Носился по огромной площадке, как разъяренный лев, – к моему удивлению, оказался одним из лучших спортсменов, невзирая на некоторую полноту. На кладбище бедняжка Оля успокоилась, а в речонке (лужица у моста) и совсем стряхнула обиду. Я пришла к обеду в суровом в сторону Геруа настроении. Но он обезоружил меня, остановившись у спуска с мезонинной лестницы и припав головой к моему уху:
– В разговоре со мной Таня сказала, что она меня не любит, что ей все равно, что со мной. Я хочу знать, что вы про это думаете?
Я отложила разговор об этом до вечера, когда он вернется вечером. Он после обеда до неузнаваемости изменил тон с Олей и даже смеялся и шутил.
Когда я сказала, что утром была так огорчена его настроением, что мне захотелось в Москву, он испуганно и с упреком длинно посмотрел на меня.
Я сказала, что меня он лично не задел ничем, но мне невыносимо тяжела стала атмосфера за столом и его тон с Олей.
С детски-виноватым видом отведя меня в сторону, он сказал:
– Я и с Таней по временам так говорил. Последний раз, например, из-за ее английского языка, из-за произношения слов. У меня плохой характер. Я очень тяжелый человек, тетя Вава.
Меня поражает и чарует в этой натуре смелая, беспощадная полнота искренности, когда он говорит о своих темных сторонах.
19 июня. 6 часов утра. Между камином и логовищем Мировича
Длинный четырехугольник светло-золотого утреннего света тянется по полу до самой террасы, где стоит Геруа. Отложу писание, уберу постель и стол, чтобы мог он проскользнуть вниз через мою усыпальницу без стесненного чувства. Как я ни стара, но при его ультраджентльменстве и природной застенчивости ему каждый раз, верно, неловко входить по утрам в дверь, ведущую ко мне. Однажды он застал меня в момент одевания и шарахнулся с виноватым видом. Внизу есть ярко освещенная по утрам, подлежащая ремонту “людская”. Она совсем пустая. У ее окна я провела уже два или три утра до общего завтрака и кофе.
“Людская”. У окна. Перед глазами большой участок колосистой травы. Нежная, розовато-коричневая молодость высоких колосьев вперемежку с листьями клевера, просвечивающимися косыми лучами солнца.
…Какая подлая, оскорбительная мысль промелькнула, вот уже второй раз, в моем сознании. Откуда она? Кто она? Кто в сложном конгломерате моего “Я” (но уже начавшем кристаллизоваться) смел допустить мысль, что я дорожу отношением ко мне Геруа еще и оттого, что он дал мне право чувствовать его опорным пунктом не только в душевном и духовном, но также в материальном мире. “Я хочу, чтобы вы обращались ко мне всегда, когда вам что-нибудь нужно, именно ко мне, пообещайте это”. Так говорил он, целуя на дороге мое ухо и дряблую щеку мою и руки.
Слезы не дают мне писать – слезы высокой незаслуженной радости и переполненного благодарностью и материнской любовью сердца. Дитятко мое, Геруа! Да помянет Господь Бог во царствии своем тебя и эти слова твои – но дай Бог, чтобы не пришлось мне именно к тебе ни с какой просьбой материального характера обратиться. Может быть, это и стало бы мне естественно и до полной неощутимости легко, если бы отсвет этой гнусной мысли не замелькал вокруг меня после того, как в первый раз подъехала твоя машина к подъезду тарасовского дома. Та зависть, то классовое чувство сорадования вызывали комически пошлые пожелания работниц: “Не грех бы, если б тысяченку вынул вам из кармана Ильинский. Ведь вы совсем обносились, а ваше дело старое – вам взять негде”. И засветилась, в других житейских преломлениях, та же мысль у Тарасовых (конкретными надеждами, что не только на лето, но и вообще, навсегда Ильинский разгрузит от меня их квартиру).
23 июня. 7-й час дня, тропически знойного
В Москве, по словам шофера, 34. Здесь не знаю сколько, но в часы безветрия под шатром деревьев накапливался удушливый зной. На открытых местах солнце жгло до боли даже через одежду. У настежь распахнутого широко окна галерейки, превращенной в комнату работницы, куда я пришла с чернильницей, уже прохладно. От дома на некошеный лужок, что перед окном, на клубничные гряды и дальше, на огород, упала длинная и широкая тень. Косые тени вперемежку с просветами вечереющего солнца легли и на всю Гефсиманию Геруа. Сам он уехал 2 часа тому назад в Москву – изображать – не спросила даже кого – в Малом театре. Тот репертуар, в котором он последние годы выступает, переигран, заигран и стал ему глубоко чуждым в его теперешнем настроении. То, в чем развернулись бы его творческие силы и особенности его таланта, широта и глубина его духовных запросов, ему дали бы образы Шекспира, Ибсена, Достоевского. А театр выпускает его только в комических ролях. Ему аплодируют, потому что он и в них талантлив. Но на это идет лишь четвертая часть его души и его артистических возможностей. Когда я говорила с ним об этом, он, при свойственной ему щепетильно-скромной оценке своего существа, слушал с устремленными вдаль загоревшимися глазами и принужден был сознаться, что я права.
Какой бы это был Макбет, Гамлет, Отелло, Бранд, Юлиан, Пер Гюнт, Раскольников, князь Мышкин, Митя Карамазов!
30 июня. Ночь
Тягостное, болезненное и непонятное впечатление от Ольги. Четкое ощущение, что она не хочет или не может так уладить лето под Звенигородом (куда звала меня с осени “до конца моей жизни”), чтобы я, даже оставшись безвыездно в Москве на июль – август, нашла у нее какое-то пристанище, угол, где бы стоял стол и кровать и что было бы избавлением хоть на какой-то срок от мучительного для обеих сторон симбиоза нашего с Аллой. Не могу связать сегодняшнее оповещение Ольги деловым, благоразумным тоном, как будто тут нет ничего разрушительного и противоречивого по отношению к ее планам и обещаниям в мою сторону.
116 тетрадь 3.7-27.8.1948
9 июля
Ночь. Beato solitudine[865]. Леонилла на даче Аллы на Рижском взморье. Ее генерал в Архангельске. Во всей квартире только я да домработница с дочерью Тамарой.
Услышанное, увиденное, подуманное.
…“Стыдись, бабка Варвара, «тосковать» о природе. Сорок дней в это лето ты пробыла, можно сказать, в объятиях ее. И в такой глубокой и высокой близости к сыновней душе, тебе вверившей свое горе, свой путь”.
Вот и ночь. Душиста и темна, Подошла неслышными шагами, Обняла усталый мир она И кропит-кропит его слезами.Господи, Боже мой! Вспомнились же эти строчки очень бледного, полвека спящего на дне памяти стихотворения, написанного, когда Мировичу было 24 года, в Алешне, в имении Линдфорсов, влажной, полной благоуханием цветущих лип ночью, полной непролитых слез молодой души, такой еще неопытной в “тоске земного бытия”.
…И еще неопытные, вопросительные слова тех же времен, родившиеся в такую же ночь в Алешне из забытого стихотворения. Помню сейчас только 4 строчки:
Отчего оторванный цветок, Что упал С серебристой липы на песок, Не завял.…И драгоценное воспоминание, совсем близкое: нежданные, горячие слезы Вали, помешавшие читать вслух стихотворения, которые дала ей прочесть. Мои. И на мой вопрос:
– До какого больного места души они дотронулись? – Ответ ее: – О, нет, я не о себе, я оттого, что это прекрасно.
Это дороже “славы”, подмигнувшей Мировичу в словах высокой марки писателя о Малахиевой-Мирович как о “самом крупном поэте из женщин-поэтов”.
…Геруа. Образ его неотступен, пока он идет под знаком “сени смертной”, он со мной, пока не отходит от могильного креста Тани. Но близорукость, низменность и пошлость мировосприятия целого ряда лиц, успевших каким-то образом перешепнуться, что Варвара Григорьевна “вкралась” – и еще такие же слова – в доверие Игоря Ильинского, уже приклеймили мне к соответствующей их уровню цели, с какою “старая Мирович” подошла к “знаменитому артисту”.
…Какая низость: Нина распространила слух, что к Аллиным 3 тысячам 10 лет тому назад прибавила за мою кировскую комнату еще свои 8 тысяч и ни о каком ином договоре (хоть был вначале об “иждивении моем до конца жизни”) не может быть речи. “А мы все и поверили ей!” – восклицание домработницы Клавдии Михайловны (мы все – это она, ее дочь, няня, лифтерши и весь трибунал домработниц нашего подъезда).
Жалею больше всего о том, что как-то смогла эта ложь меня задеть “лично” (кроме изумления перед поступком Нины и невольного отчуждения от нее).
27 июля. 6 часов утра. Под кровом Анны
25-26 – дни, наполненные до краев чаши каждого дня, наполненные светлой и нежной любовью Вали. Чувствовала ее с утра до вечера в каждом взгляде, в каждой из бесчисленных забот о моей старости, в звуке и значении каждого слова, ко мне обращенного. Велика целящая сила такой любви, как ее. Все, что было примято, сдавлено, забрызгано серной кислотой в моей душе, оживало, расправлялось, росло с волшебной силой ей навстречу. И становилось для нее источником облегчения ее великой скорби. И зарождало надежду там, где уже начинало властвовать отчаяние. И тоже давало какую-то опорную точку движение навстречу тому, что несет “судьба” – через 10–12 дней.
Как чудесна жизнь в своем движении, в своих неожиданностях. Ни я, ни Валя до сих пор не знали, сколько можем дать глубинной радости и помощи друг другу. И такое у меня чувство, что все время неотступно с нами Наталья Осиповна (Валина мать).
Когда Валя была на службе, я должна была уйти, потому что почувствовала себя плохо и не могла оставаться одна в квартире. Вернувшись со службы и не заставши меня, она сразу бросилась вслед за мной – догадалась, что я могу в моем состоянии уйти только к Алле (в этом состоянии я шла ровно 2 часа – от Каменного моста до места назначения “Дворец Советов”). Она появилась внезапно в 9 часов передо мной – и тут произошло что-то странное – психиатрическое – или доказывающее, что какой-то стороной души я уже “по ту сторону”. Я не узнала Валю. И лицо, и голос восприняла в первую минуту как сестру Настю, лет 30 тому назад умершую. Пронеслось в голове: почему же она говорит мне “вы”? Затем увидела на ее месте Наташу (Шаховскую, шесть лет уже как схороненную). Затем еще какое-то незнакомое (неузнанное) лицо. И только после этого пробилось сквозь них живое, светившееся любовью лицо Вали. Но я была потрясена таким стремящимся реализоваться передо мною в чужих образах сопутничеством моих “загробных” друзей. Я и без того не расстаюсь с ними.
117 тетрадь 29.7–4.9.1948
30 июля
Тело мое, по сравнению с телами и лицами на картинах и в античной скульптуре, казалось мне таким некрасивым, что приятна была мысль, что я присоединена к нему только на срок, что оно – не я (в то же время его требования, его покой, удобства, плотские прихоти его я исполняла, как если бы они были мои!).
Позднейший, старческий уже, опыт – крымский, киевский, калистовский – относится уже не к опыту отделения своего “я” от тела, а воссоединения его в расширившемся сознании с телом.
Тело мое, вернее мое “я”, ощутилось мною как неотъемлемая от меня частица вселенной, данная мне для запечатления в ней моего лика, слиянная со всем миром и освященная призванием к сотворчеству с Творцом по замыслу Его в процессе обожения Твари.
Отсюда тело, в частности мое, но также и другие, казалось мне унизительной для человека формой со своими кишечниками, гениталиями, с кровью, мясом, костями, такими же, как у всех домашних и диких зверей.
Унизительным (хоть и привычным и чем-то приятным), но неестественным для человека казался процесс насыщения тем же способом пожирания, глотания, как у гориллы, у собаки, у крысы. Анатомия и физиология брака, хотя и завлекала в юности воображение, казалась отталкивающе-безобразной и несовместимой с достоинством человека. Тело, в какое попала человеческая душа по закону воплощения, казалось мне не только не храмом, но дантовской Male bolge – “злой ямой”, чистилищем, какому мы обречены, слава Богу, что на короткий срок.
Первым подготовительным опытом к изменению этой кощунственной мысли послужила мне редкостная чистота и благоговейное отношение к моей плоти человека, вступившего со мной в союз в моем втором браке.
И это подготовило меня к тому, что мне захотелось вчера начать эту тетрадь запомнившимися при чтении ап. Павла словами: “Не знаете разве, что тело ваше – храм живущего в вас св. Духа?”
Теперь я могу ответить апостолу: – Я знаю это. Не просто верю Тебе, как давно этому верила. Но знаю уже неотъемлемым моим опытом. В него вошло и пережитое в детстве чувство временности своего пребывания в теле. И брезгливость к плотской стороне брака в молодости. Отвращение к физической стороне мужчины при влечении к мужской душе, к мужской личности. И жажда материнства в зрелом возрасте. И отношение ко мне в брачные наши годы “отца детей моих”.
Уменьшилась, если не совсем прошла брезгливость к человеческому телу. К жизни пола (хотя тут нужна вся полнота смирения, чтобы принять ее в тех зоологических формах, как она дана человеку). Ощущаю каждого человека во плоти – и уродливого, и чуждого по своим душевным свойствам, ощущаю как “образ и подобие Божие”, хотя искаженное, но не навеки искаженное в нем. До каждого мне хотелось бы дотронуться с братской лаской, как в трехлетнем возрасте на пароходе, где впервые осознала, что людей много.
1 августа
Неожиданный приход Димы. Говорил о том, что хочет непременно сделать мой портрет. Специализировался на старушечьих лицах. Принес показать портрет другой бабушки (Гизеллы Яковлевны). Портрет чуть не девяностолетней Анны Николаевны – удачнее. И трагически, до жуткости, взято лицо Т. А. Полиевктовой. Я не отказываюсь позировать: почему-то даже хочется, чтобы осталось мое лицо у детей, у самого Димы, у Ники. У девочек, если им этого захочется. И еще у Вали, у Игоря. Суета сует это желание.
Но то, что захотелось Диме перед отъездом на Кавказ просто навестить меня и что он говорил со мной тепло, искренно и уже как взрослый, – не суета, а “Божья ласка” – так ощущаю теперь каждое проявление любви близких людей к себе.
(Вспомнилось выражение художника Ковальского: “Красота – Божья ласка”. И красота, и любовь, и всякая радость, приходящая к нам от людей, от их мыслей, чувств и поступков, – “Божья ласка”, через их посредство излучающаяся на нас Солнцем мира.)
7 августа. Ночь
Когда-то Лев Шестов, друг моей молодости, сказал: “Человеку необходимо ждать чего-нибудь впереди, хотя бы маленького, но чем-то украшающего жизнь. Если же говорить о вещах больших и не узкожитейского значения – за неимением чего-либо большого будет человек ждать просто смерти как окончания бессмыслицы или Начала того пути, где будет смысл и цель”.
(Нужно прибавить к этому дружбу, о которой у Флоренского (в его “Столпе и утверждении”). Там она, за исключением страстной стороны и физического единения, присутствующего в жизни пола, аналогична с Любовью, включая и ревность, и невозможность этого чувства сразу к двум и более лицам).
“Дружество” (термин не мой, взят у Толстого) – нечто другое. То, в чем мы объединены с Геруа. В последней встрече он осознал все признаки этого явления в душевно-духовном общении людей, выделенные мной из понятия просто дружбы или Amor-filia (в “Столпе” Ф.).
Семь признаков дружества:
1. Как и любовь, оно возникает как мистическое самозарождение помимо воли обеих сторон (Геруа возражал: от воли зависит укрепление и рост. С этим я согласилась).
2. Возраст, пол, условия среды никакой роли в нем не играют (Клерамбо[866] у Ромена Роллана. Его биографический опыт дружества с Мальвидой Мейзенбург).
3. Главная отличительная от просто “дружбы” черта – усиление динамики внутреннего познавательного процесса и расширение сознания в моментах общения. Взаимное питание мысли и обогащение опыта мысли друг друга (Андрей Болконский и Пьер Безухов; Чаадаев и Пушкин).
4. Отсутствие ревности. Отсутствие притязаний на ту или другую форму общения, на ритм и все оттенки их в других отношениях.
5. Ощущение общего пути и взаимно помогающего и взаимно обогащающего движения.
6. Три условия, какие в дружбе не всегда соприсутствуют, а в дружестве необходимы: искренность, бескорыстие, глубина, требование в общении только на глубине внутреннего делания, сознательного или бессознательного устремления к слиянию с всеединством (одно из условий для обоих лиц – взаимное видение, слышание, понимание. Это, впрочем, как и в настоящей дружбе, и в подлинной любви).
7. Понимание исключительной значительности и, так сказать, провиденциальности Встречи и возникшего из нее пути “Дружества”.
29 августа
Лежит передо мною клочок клочкастой вчерашней нашей беседы с Ольгой, где карандашом начертано то, что, если бы мне назначено было жить на свете не какие-то дни (в последнее время такое у меня самочувствие), а сто или даже тысячу лет, я вспомнила бы о клочке этом с такой же нежно благодарной любовью и радостью: было, было то, что на клочке этом: “…Анечка плакала, «заступаясь» за Вас, и обнимала меня, и просила позвать и привезти Вас, и обвиняла меня в «эгоизме»”. Тут золото Анечкиного сердца, унаследованного от матери. Тут Любовь с большой буквы. И чувство справедливости.
Защитная тирада Анечки (вступившейся за мои права на кров, мне обещанный по телефону одним из близких мне лиц, со слов А.):
“Я сказала: это барство. Это обрастание богатством. Зазнайство. Вы больны, окружены врачами и garde-malad’ами[867], но у вас шесть комнат, и можно было так устроить, чтобы вы не видели и не слыхали человека, которого вам доктора запрещают или вы сами не можете в вашей болезни выносить. Но вы о нем не думаете – что у него пропало лето, что воздух ему нужнее, чем вам, и что он морально вынес, скитаясь по чужим углам в Москве. У нас «дом» летом не функционировал…”
(Почти всё то, что в свое время обрушивали на Аллу все, ее знавшие: “обрастание богатством, Nouveau riches, “зазнайство” и т. д.)
118 тетрадь 5.9-30.9.1948
5 сентября. Зубовский бул. 2-й час дня
Солнце яркое и жаркое, как летом, но чудесный свежий ветер порывами своими умеряет его жар.
.. День расцвел в вышине, Как цветок голубой. (В. М.)как 20 лет тому назад в Верее, над могилой одного из тех людей[868], чья жизнь и чья кончина совершается в “живых лазурях Бесконечности”. И белоснежная чистота и крылатость облаков, и давняя лазурь неба – из окна ванной, куда я запряталась, чтобы побыть наедине с этой тетрадью, вдруг напомнили о нем. Как живое касание его прекрасной – “не от мира сего” – души.
С Ирисом последние месяцы я была очень разобщена в днях – и недоступность для меня ее дачи за 5 километров от станции, и ее закрученность во множестве дел, когда она раз в неделю появлялась в Москве, и переезд, и устроение на новой квартире, где сегодня была у нее – первый раз сегодня утром, – все разъединяло нас.
Тем отраднее в сегодняшней нашей встрече, в каждом миге ее, и в житейских, и в наджитейском плане разговорах взаимное понимание до глубины глубин и радость друг другу, и верность нашему “дружеству”.
Новочеркасск. Ростов-на-Дону. Фиалковоглазая, поэтическая, героическая юность Ириса. Наши импровизации на балконе скрябинской квартиры, которыми мы с ней одно время тешились и развлекали мою слепую мать (я выписала ее из Воронежа, Ольга привезла ее в Ростов (1920 год)).
“Bicoque”[869] в Москве в одном из переулков недалеко от Москва-реки, где жила Ирис со своей двоюродной сестрой Таней[870] и потом с Майей Кудашевой (впоследствии m-m Ромен Роллан). В Bicoque’е фантастическая богемность. Все три молодых существа, в нем обитавшие, жили в “эмпиреях”, по выражению Анны, и что делалось в их комнатушке, чему дивились гости, шло мимо взоров их душ, мимо их сознания (на этажерке рядом с стихотворениями Блока или французских поэтов можно было встретить чашку с недопитым впопыхах кофе, гребешки, шпильки, недоштопанную пару чулок, щетку для платья, одеколон, мыло, какие-то рукописи и тут же сверток с покупками и недоеденная ватрушка. Помогала этому скоплению несовместимых предметов обихода теснота помещения, но иногда, когда Таня (самая бытовая фигура из трех подружек) бралась за уборку, всему находилось место и комната становилась жилой и даже уютной.
Москва. Десятилетие “исканий и заблуждений”. Искание смысла жизни и цели ее. Много превосходных стихотворений, из которых три четверти автор уничтожил. От переутомления и разочарования фаустовского порядка – “здесь знанья нет, здесь счастья нет” – нервная болезнь на грани психической. Доктор, лечивший ее, утешал меня:
– Это такая сорганизованная, такая индивидуализированная и такая изящная психика, что ни распад, ни долгий застойный процесс ей никоим образом не грозит. Она преодолеет болезнь, и пережитое в ней прибавится к ее знанию законов и форм проявления человеческого “я” в здоровье и в болезни.
Он был прав. Выздоровление было полное. И ясность мысли отгранилась в четких и устойчивых линиях. А работоспособность, и до болезни высокого диапазона, еще возросла.
Вскоре после выздоровления – замужество[871]. Человек младше ее лет на восемь, миловидной наружности, с хорошим умным лбом, с зачатками литературного дарования, окончивший художественный техникум. Из намеков, из того, что было еще im Werten[872], Ирис в плакатную величину набросала образ неотразимой значительности, силы и красоты. И таким видела его 14 лет, несмотря на то, что уже был у него ряд таких проявлений, какие нисколько созданному ею образу не соответствовали.
Два года тому назад он изменил жене, соскучившись в атмосфере слишком для него возвышенных интересов и вкусов ее. А в этом году и совсем ушел от семьи. От измены его жена сначала тяжело заболела. Но выздоровевши, поняла, что чувство ее было отдано фантому, что 14 лет душа ее жила как бы в сновидении на тему о великой взаимной любви. И, осознав это, она сумела проснуться свободной, помолодевшей, с душой, открытой необъятным далям Жизни и служению людям, своей правде и приятию каждого, кто в ней нуждается.
9 сентября. 6-й час дня
Комната сестры Анны, куда загнали на три дня перебивки хозяйских матрацев возле моего заширменного угла. Сумрачное небо – к вечеру начинающее болезненно желтеть сквозь гущу облаков.
Праздник “дружества” на фоне и на фонде 250 рублей, присланных экспромтом как “подарок” и принятых мной как аванс за перевод, какой обещал мне старинный друг-приятель мой, писатель Е. Г. Лундберг (в дружеском обиходе Герман). Кроме него, отсутствующего, в празднование вошли три старухи: В. Мирович, А. Романова и Эм. Ф. Морозова. Зазвучал в душе мотив пасхального песнопения, которого не любила (не понимала, о чем оно!): “Приидите, пиво (напиток, всё утоляющее жажду) пием новое, не от камени неплодно чудодеемое!..”
Новое, начало (возможность) новой ступени сознания, чуда сестринской братской Любви на “неплодном камени”, “во едином миге” взрастившей виноград и в другом миге – чудом превратившей его в вино.
11 сентября. 2-й час
Неожиданно и щедро над “Зеленой калиткой” Игоря (она же “Гефсимания” в недавнем прошлом) разверзлось беспросветно серое с утра небо, и вместо серых туч по “живым лазурям Бесконечности” поплыли белоснежные, с лебедиными крыльями облака. На верхней террасе среди вершин, уже тронутых позолотой “осени первоначальной” деревьев.
Все утро ушло на внезапно вспыхнувший важный разговор о человеческих правах и обязанностях. О ведении и неведении их, о забвении и “окамененном нечувствии”. О том, что, если еще не раскрыто человеку ведение (видение) их, ничего нельзя с него спрашивать. Что разговор с ним в этой области начинается с того момента, когда он уже “на пути”. До этого нужно, как Л. Толстой в одной из беглых заметок старческого дневника, усвоить, что “Софья Андреевна не имеет тех душевных свойств, которые ей помогли бы разобраться в вопросах духовного порядка”. Я бы сказала, что “свойства”, т. е. залоги их, тут есть, как у великой души, но не было “второго рождения” – и нет “пути”, на каком возможна и обязательна работа над собой в области “прав и обязанностей”.
В конце разговор принял личный характер. И надо было видеть взволнованное, молящее, как “алавастровый сосуд” светящееся внутренним светом, лицо Геруа, когда он голосом, каким семи-восьмилетний ребенок упрашивает няню или бабушку взять из его игрушек все, что ей захочется и когда бы ни захотелось. И дать слово, что она это сделает.
Как ни была я растрогана и словами, и тоном их, и слезами, выступившими на сыновних глазах, такого обещания я не могла дать. Ни ему, ни милому Герману в ответ на чудесное письмо его такого же содержания. Разница лишь в том, что Герман пишет волевым образом: “Буду высыпать, не могу не высылать, раз будет эта возможность…” И так же, как Геруа: “считаю своей обязанностью…”.
Конечно, будут случаи – хотя бы проект Германа снабдить меня слуховым аппаратом, когда мне важна будет их “рука помощи”. Но это не вплетение в их жизнь, не прилепление к их бытовой стороне.
17 сентября. Поздний вечер
Опять весь почти день напряженнейшей беседы с Игорем, головой к голове, на ухо. И немного поодаль – карандашом и пером.
Переписываю дословно конец листа, строчки, где отпечатлелась сложность, трудность, высота требований к себе и чудесная искренность и смиренность Геруа.
“Я вижу смысл жизни только в творчестве своего собственного образа и подобия Божьего. Жизнь моя в то же время была настолько противоположна этому смыслу, и настолько я земно любил эту жизнь, настолько чувственно во всех ее проявлениях, да еще вместе с Таней, что мне трудно перестроить себя. Отсюда, по-видимому, кроме тоски о Тане есть еще сожаление и неполный, недостаточный отказ от земных радостей. А совесть подсказывает, что именно этот выход для меня только и есть. Радость же, что Господь дал мне это сознание, увеличивается. Но я очень земной”.
Переписываю с карандашного черновика посвященное Игорю и Тане стихотворение, появившееся у Таниной могилы третьего дня, и эпиграф:
Всё триедино во вселенной, Как триедин ее Господь, Как Бог, рождающий нетленно, Как Сын, распятый, погребенный, Как Дух, животворящий плоть. За чудом каждого явленья Тройное скрыто естество, Его предвечное рожденье, Его распятье, погребенье И воскресенья торжество. (лет 40 тому назад) Благословенна эта сень, Твоим распятьем освященная, И смерти общей вашей день, И жизни новая ступень По воскресеньи вам сужденная. И да святится этот холм, Где крест – маяк, тебе дарованный, — Среди житейских бурных волн Направит твой мятежный челн К преддверью встречи обетованной.Когда я в 10-м часу вечера подала Игорю листок с этими надмогильными строками, он прочел и, вскочив со стула, на котором слушал радио, – обнял меня с лицом, залитым слезами, и приник головой к моему глухому уху с несвязными словами благодарности – в незапертую дверь нашей террасы, примыкавшей к гостиной, неслышно вошла милая Зинаида Петровна, учительница здешней школы. В первую минуту она, верно, была настолько ошеломлена этим зрелищем, что в смятении бросилась обратно в сад. Игорь выскочил на лесенку террасы и вернул ее в гостиную. По его заплаканному лицу и по моему, конечно, ничуть ее появлением не смущенному, она сразу пришла в себя. Тем более что через минуту Игорь попросил у меня позволения показать ей посвященные ему стихи. Она зарделась и стала целовать мои руки с восторженными словами по адресу моей Музы. Если бы мой возраст уменьшить вдвое, пафос ее отношения к Игорю оставив в силе, такая сцена могла бы войти в какую-нибудь чеховскую пьесу – с этой гостиной, с ярким светом ее лампы, охватившим осеннее золото берез у самой террасы, смущенного Игоря с листком в руках и меня, тридцати-сорокалетнюю поэтессу, спокойно оправляющую смятую объятием прическу. Дальнейшее развитие драмы возможно по трем линиям: аналогия с той, что в “Дяде Ване”, или – независимо от обеих этих женщин – самоубийство героя, или неожиданным для поэтессы и для героя, предпочтительным учительнице ее самоотречение, беззаветному чувству.
30 сентября. 11 часов вечера
Аллочка с трагическими глазами: – “Умер Качалов. Только что”.
Как по-разному воспринимается людьми смерть. И одним и тем же человеком – в разном возрасте его физическом и духовном – не говоря уже о сумме всех других условий, сопутствующих моменту данной вести о смерти. В особенности там, где речь шла бы о смерти кого-то для нас исключительно дорогого.
Впрочем, и здесь в отношении к моменту смерти главную роль играет “возраст”, в связи с некоторыми индивидуальными особенностями человека.
Владимир Антонович (приятель Сережиного покойного отца), в молодые годы потерявший глубоко, и притом в “дружестве” любимую жену, как и он тогда “евангелистку”, когда подруги ее боялись подумать, как он перенесет ее смерть (она случайно отравилась колбасным ядом), – вышел к ним, закрыв глаза скончавшейся жене и помолившись над ней, с необычайно светлым лицом. И когда его окружили с плачем и со словами утешения, сказал:
– Не плачьте. Бог дал, Бог и взял.
В этом же стиле у Ромена Роллана описано отношение Жана Кристофа к известию о смерти любимой и любившей его женщины, Грации (фамилию забыла). Так отнесся Толстой – по словам его биографов – к кончине любимейшей из его дочерей Марьи Львовны. Он даже не пошел за ее гробом.
Я далека от мысли сопоставлять “возраст” мой с возрастом Толстого, Жана Кристофа и Владимира Антоновича и как бы возможность стать на общую с ними ступень. Общее с ними у меня, стоящей неизмеримо ниже их, лишь отношение к смерти.
И может быть, в моем отношении, в моем личном опыте есть особенность, какой у них нет.
Когда Алла сказала мне: “Умер Качалов” – у меня в душе посветлело, и я только потому не сказала то, что подумала:
– Он живее нас с тобой.
Потому не сказала, что эти слова для Аллы прозвучали бы как бессмыслица, как неуместное оригинальничанье и т. п.
Но если бы это сказала я Игорю, или Инне, или Вале – они поняли бы меня, каждый в своей степени, в своих оттенках веры. Поняли бы самую суть моего признания Качалова живым, несмотря на то, что он уже не дышит и не будет дышать, есть, говорить, болеть, пить лекарства.
Спасибо за чарующий голос, какой заставлял думать, что ты не принадлежишь к нам, “чадам праха”. За нимб души твоей, какой озаряла она твое лицо и пронизывала насквозь и далеко и надолго светила тем, кого коснулись лучи твоего вдохновения.
И за труд, и за муки творчества. И за то, что бескрылой жизни вокруг тебя нечем было ответить тебе на твой зов в “снежную церковь”. И надо было тебе жить с чадами праха – вне твоей “снежной церкви”, где ты жил с Брандтом[873]. И, задыхаясь среди нас, она искала забвения, где искали его многие из талантливых русских натур.
Прощай. И прости земле ее земное, Ее железы, пот и кровь, Ее безумье роковое, Ее распятую любовь.119 тетрадь 1.10–31.10.1948
3 октября. Кров Ириса
Ненастный холодный день. В окно смотрят три чахлых, до последнего листа облетевших дерева. Над ними во все стороны носятся гонимые ветром птицы.
1-й час дня.
“Проходит образ мира сего”, и скорее, чем образы неодушевленных вещей, проходят, пролетают образы людей – точно облака, гонимые ветром.
Вот здесь, где я сейчас пишу, на низкой софе, полулежала с книгой французских или немецких стихов “стихотворная переводчица Мария Васильевна”[874]. Пока не разорвалась общая жизнь с дочерью Таней. Светло-голубые, невинные, улыбчивые институтские глаза (в этом году, со взглядом, переполненным безысходным горем и величавым терпением) угасли, закрылись, и уже прикрыты слоем сырой земли Ваганьковского кладбища. Но голубиная душа, с младенческой невинностью из них глядевшая, жива.
14 октября
3-й час дня. После чтения Джемса “Многообразие религиозного опыта”.
Для тех близких мне лиц, которые читали эту книгу, прибавлю к фактам, о которых там сообщается (о “световых явлениях” (фотизмы)), случаи, пережитые лично мною. Самый яркий, имевший для меня внутренно глубокое, хотя и не сразу в волевой и духовной области проявившееся значение, произошел со мной в Оптиной пустыни больше 30 лет тому назад, когда я подошла в числе других богомольцев под благословение о. Анатолия и увидела его окруженным как бы нимбом сильного белого света и необычайно благостного для меня излучения.
Через несколько минут после этого, когда я уже выходила из общей приемной в переднюю, о. Анатолий через келейника вернул меня. И позвал в свою келью. Там все предметы, как и он сам, представились мне как бы самосветящимися, но не таким ослепительно сияющим светом, каков был нимб вокруг его головы в момент благословения паломников.
Когда я вышла от него под открытое небо, был поздний час. Обычно в это время года совсем темнеет. Для меня же деревья лесного участка, как и лицо, и фигура моего друга М. В. Шика, вышедшего ко мне навстречу, – продолжали светиться тем же светом, как и в келье о. Анатолия. Друг мой (М. В. Ш.), которому я сказала об этом, был испуган и потрясен. Через небольшой срок, когда мы вернулись в монастырскую гостиницу, это явление прошло. Внутренно я была охвачена невыразимою словами радостью. К ней примешивалось желание какого-нибудь сверхчеловечески трудного подвига, я была бы счастлива, если бы о. Анатолий назначил мне какое-нибудь трудноисполнимое послушание (мелькала мысль – пойти странницей пешком за 1000 верст куда-нибудь на Север, на Валаам, в Соловки). Но он никакого послушания не наложил. Только на прощание с радостным и сияющим любовью лицом сказал пророчески: “Будут, будут у тебя скорби”, – что приблизительно через год исполнилось.
Такое же световое, радужное освещение, сделавшее Москву неузнаваемой и потрясшее все мое существо (но без религиозного оттенка), я пережила после одной из встреч с А. Р. Минцловой (теософкой), с которой виделась 3 или 4 раза в жизни, больше чем 40 лет тому назад.
Не раз были пережиты мной “фотизмы” в форме призматических фигур, вытягивающихся в линии, идущие кверху (или неполные призмы и светящиеся треугольники). Раза два в жизни они слились в сплошное скопление призм вокруг меня. Однажды они преградили мне дорогу (когда я поднималась в квартиру Анны по лестнице). Я считала их симптомами какого-нибудь на нервной почве глазного заболевания. Но однажды один из мистически одаренных и образованный в джемсовской области человек авторитетно мне сказал: “Это вступление в познавательную область, символически открывающуюся для вас радужными призмами. Впоследствии вы поймете, что они означали. Я это явление хорошо знаю”. А я так и не дождалась разгадки этого явления. Но перестала считать его болезненным.
17 октября. Сумеречный час. Замоскворечье
Валя у плиты.
Переношу сюда сегодняшнюю встречу с Игорем – у него (т. к. больше было негде). Третьего дня было условлено, что я зайду к нему вечером и подожду его, если не застану. (Он мог задержаться сверх назначенного часа в концерте.) Столкнулись с ним у подъезда. Говорит оживленно: вернусь через 40 минут. А вас наверху ожидает сюрприз. Лицо, которое вас очень хочет видеть. Из Малоярославца.
– Ты знаешь, что мне трудно, когда мы не вдвоем. Да и ни к чему…
Не выслушал никаких возражений и убежал. Я дала ему исчезнуть за воротами и решила, не подымаясь наверх, пройти бульварами к Инне. Благо погода была без дождя.
Дорогой меня стала мучить совесть. Больше трех недель не видались – как же я с такой легкостью решила уклониться от встречи. Если нельзя “анкетным”, установившимся у нас способом побеседовать, посмотрела бы хоть на него “во плоти”. И не ленится он на ухо крикнуть то, чем ему со мной интересно поделиться. И тут до конца я поняла, что от глухоты, от усталости в бездомных скитаниях, от старости, от ее углубленной, уже по ту сторону углубившейся колеи никого мне “во плоти” не нужно…
22 октября
В глубине заширменной щели, у самой двери, с приподнятым краем ширменной завесы в целях как-нибудь вынести невыносимое соседство отопления.
…Перечла вчерашнюю запись и спрашиваю себя: – А если бы никому, включая и Геруа, я не была бы ни в каком отношении не нужна, а некоторым даже в тягость, как это случилось за последнее десятилетие у меня с Аллой и с Ольгой – и с Сережей, взяла ли бы я вместо этой щелки, где я стесняю обиход Леониллы, инвалидный дом в Иваново-Вознесенске (при условии, конечно, отдельной комнаты)? Без колебания отвечаю: да. То трудное, что есть для меня в каждом коллективе (вдобавок в скоплении стариков), в чуждой атмосфере, в самом переходе с одних рельс на другие, – я преодолела бы. И пока у меня нет еще размягчения мозга и открыто – и все шире открывается сердце навстречу людям, – я уверена, что найдутся там старики и старухи, которым я чем-то буду нужна (как было 12 лет тому назад на Кировской, где с каждой человеческой душой из числа населявших 14 комнат у меня образовались живые точки касания, в разной мере и с каждым по-особому. Но с каждым наполненные ничем не омраченным братским чувством).
И если бы я услышала от покойного оптинского старца Анатолия: “Туда тебе и нужно идти, а не кружить по Москве, пока с ног свалишься”. Или если бы это сказал мне отчетливо внутренний голос, как это бывало не раз в моей жизни, – я бы не стала ему противиться, как ни жаль мне было бы не видеть всех тех лиц, какие составляют мою московскую личную жизнь.
29 октября
2 часа дня, беспросветно мрачного, полного утренней дождевой сырости и уже по-ноябрьски холодного.
Только час тому назад выползла из-под одеяла. И то лишь потому, что “не от кого болеть”. В том же состоянии, как я, бродит, пошатываясь, между своей кроватью и кухней, моя подружка всей жизни, до последних 12-ти “жилплощадных” лет.
…Ветер высью листья гонит И уронит с высоты. Я ли первый или ты? В. БрюсовУ Льва Исааковича был в молодости так называемый в те времена “незаконный”сын[875]. Мать его была горничной родителей Льва Исааковича (увы! слишком “обыкновенная история”). Лев Исаакович заботился о нем, но самых близких друзей, и меня в том числе, посвятил в факт его существования, только когда ему минуло 12 лет и отец испугался влияния в высшей степени некультурной среды, в какой воспитывался Сережа. Мы все горячо занялись его судьбой. Он был устроен в семье д-ра Б., где было трое детей младше его. Мать их – необычайной доброты, и внутренно, и внешне обаятельно-прекрасная женщина, всем существом пошла навстречу четвертому “замсыну”. Сережа оказался из “трудновоспитуемых” детей. Он рано осознал свою деклассированность и строго осуждал за нее отца. В глаза отцу не осмеливался, но со своей новой воспитательницей часто касался этого вопроса. И со мной. Он ревновал ее к ее детям. Был недоверчив, повышенно возбудим, не до конца искренен, порой лжив. К 16-ти годам в нем обнаружилось честолюбие и на почве зависти к отцу мысль о своем призвании к какой-то (еще сам не знал, в какой области!) “славе”. Об этом он не раз со мной заводил разговор. Как и на другую тему, чрезвычайно для него болезненную.
Почему-то утром, вернее, после какого-то сна из далекого прошлого, я отчетливо вспомнила и тему, и вид его, и как он говорил.
Он вошел ко мне с гневно-возбужденным лицом, по которому я сразу догадалась, что будет у нас один из тех (о его отце) разговоров, ради которых он специально порой заходил ко мне. Как ясно вспомнилось его лицо – могла бы, если бы была художницей, на память нарисовать эти очень красивые, в байроновском стиле, изящные черты девически нежной окраски, голубые, всегда с гордым и отчужденным выражением глаза, над умным байроновским лбом целая шапка пепельно-белокурых кудрей. При этом он был высок и горделиво строен. Знакомые и незнакомые гимназистки искали его внимания, но он предпочитал “дружить” с женщинами вдвое и втрое старшими. Войдя, он сел в углу комнаты и, глядя исподлобья сумрачным и острым взглядом лазурных своих глаз, сказал:
– Я хочу спросить у вас одну вещь, Варвара Григорьевна. Есть ли у вас такой человек – женщина, мужчина, все равно, который в обморок упал бы или хоть вскрикнул, зарыдал, за голову схватился и так далее, узнавши, что вы попали под автомобиль. Это я сейчас про себя подумал, когда едва успел отскочить на углу от машины. Она промчалась мимо на какой-то сантиметр от меня.
И вдруг лицо его стало детски-искренно доверчивым – и он сказал с интимно-исповедующимся видом: “Согласитесь, что очень страшно, когда подумаешь, что никто не вскрикнет, когда ты попадешь под машину?”
Я полушутя стала перечислять тех женщин и знакомых ему девушек, которые наверное бы вскрикнули, если бы что-то трагическое с ним случилось. “И не забывай – ведь у тебя есть мать. И отец”.
– Мать? Она, конечно, поплакала бы, – небрежно сказал он (с матерью у него были далекие отношения). – А про отца я подумал, когда к вам шел, что, конечно, потерять вас ему было бы в тысячу раз тяжелей, чем меня. Ясно представил себе, с каким лицом ходил бы он потом. А потерять меня было бы для него облегчительно. Я “случайное последствие случайной связи”. Закулисное лицо на сцене его жизни.
Через три года после этого Сережа погиб на фронте. И жаль, что он не видел, с каким глубоко скорбным лицом ходил отец с тех пор до самого отъезда за границу (он незадолго до Сережиной смерти включил его в “законную” свою семью. И Сережа успел подружиться с сестрами, близкими ему по возрасту).
А потом я подумала утром: как велика разница между откликом души (не всякой, но, верно, многих душ) на внезапную смерть кого-то близкого – в молодые годы и в старости. Может быть, потому, что понятие о жизни изменилось в корне (кто умер – стал живее нас живых). А в смысле чувства разлуки знаешь о себе, что разлука не может для тебя быть долгой.
121 тетрадь 1.12–31.12.1948
7 декабря. 8 часов. Кров Ириса
Комната, в которой два года подряд столько раз встречала меня Таня. Такой горячей, щедрой, энергичной любовью. На меня смотрит портрет ее (худ-цы Ржевской) с верно схваченным взглядом ее души. Пытливость, волевая насыщенность, готовность подойти к тому, на кого смотрит, с деятельным излучением добра. Больше чем полтора года, прошло с тех пор, как на меня взглянули в последний раз эти прекрасные, глубоко-человечные глаза[876]. Кроме глаз, не было ничего красивого в этом лице. Но красота глаз заполняла его и определяла его значительность. Последнее время почти каждый день вспоминаю Таню.
8 декабря. 6 часов вечера. Заширменный угол у Тарасовых (первый раз за эту неделю)
Письмо от Тани. К матери, умершей 3 месяца тому назад, о чем Таня не знала. Письмо чудесное, над которым хотелось нам с Ирисом плакать – не от жалости, но оттого, что письмо, где она пишет матери (единственному своему другу): Радость моя!.. – и все дальше озарено такой героической волей вынести все, что послала судьба – без укоров к кому бы то ни было, без “саможаления”, с высоким мужеством ницшевского верблюда, который сознательно (у Тани бессознательно, но с полнотой приятия) ищет Was ist schwerste? Что самое тяжелое? После измены спутника – боготворенного друга, человека, с которым считала себя связанной до смерти и после смерти, как с единым избранником души, – потеря матери, скончавшейся от горя разлуки с Таней. И впереди годы, где понадобится все героическое, все высоко человеческое и даже сверхчеловеческое этой редкой по высокой душевной чистоте натуре.
А весь тон письма таков, как его заключительные строки: “Есть упоение в бою и мрачной бездны на краю” (из “Пира во время чумы”).
И те строки, которых нет в письме, но которые, если бы малые размеры трехугольного карандашного письмеца Таниного позволили, она бы, верно, напомнила своей матери:
Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного хранит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья И (кажется, не так) Их испытать душою мог[877].Дуновение этих “неизъяснимых наслаждений” донеслось от тесных, серых, полустертых строчек письма Тани настолько мощной струей, что и мою старческую дорогу впереди, в днях, освежила веянием Крыльев Мужества и ветром “иных пространств, иного бытия”.
20 декабря
Детство и отрочество
Когда мне было 12, а сестре Насте 7 лет, мы были с ней близки не как подруги, а как друзья. Никому, кроме нее, я не могла бы доверить мою тайну – то, что, кроме нашего сада, улицы, квартиры, нашей семьи и жильцов материнского дома, у меня есть другой мир, где я живу одна. Или порою с теми существами, которые входят и выходят из него. По мановению моей воли, а может быть, по их собственному желанию – или по чьему-то, кого я не знаю, но кто и меня уносил в сновидения, причудливые, таинственные, куда-то улетающие – но для меня – реальные. Реальнее того, что с утра до вечера наполняло жизнь в нашей семье. И что было в школе. Реальностью стал этот мир и для пятилетней девочки, которую я стала понемногу, по мере ее понимания, вводить в фантастические события, мной и героями моих рассказов переживаемыми. Началось с того, что в зеркале отражаются совсем не те, кто в него смотрит, а притворившийся на него похожим, а в самом деле непохожий (разве чуть-чуть похожий). И что от меня они, эти зеркальные люди, не прячутся, и, когда я к зеркалу подхожу, мне видна не только девочка Нава (так я окрестила свое отражение), но и мать ее, и отец, и бабушка. Отражение сестры Насти получило имя Любы, а брата Миши – не помню.
Он был несравненно трезвее нас и то, что я рассказывала, слушал как сказку, в которую верил только во время слушанья.
И время от времени влезал на стул и стучал по оборотной стороне зеркала и говорил Насте: “Видишь, там доска, и никакой комнаты нет. И Навы, и Любы нет. Это Вава все придумала…”
Но отчего же так страстно нужен был не только мне в 11 лет, но и шестилетней сестре Насте и восьмилетнему брату Мише, скептику и трезвому реалисту, миф, взятый из сказки и перенесенный мной в действительность? Суть его была в том, что “нет непоправимого”, есть чудесное и каждый может под воздействием его силы измениться к лучшему до неузнаваемости. Миф – не помню, из какой сказки (кажется, это была переделанная мною сказка о молодильных яблоках), сводился к вымыслу моему, в который я тут же уверовала как в реальность, что есть в Киеве, на Печерске, недалеко от нас (на Резницкой ул.), такой волшебный котел, в который если броситься и в нем прокипеть, выйдешь из него таким красивым, что “ни в сказке сказать, ни пером описать”.
Для убедительности в правдивости моего мифа я указала однажды брату и сестре на одну казавшуюся мне очень красивой молодую, пышно-румяную, с ярко-голубыми глазами девушку и шепнула им потихоньку: “Вот она, что в шляпе с розами, была недавно страшно некрасивая и при этом старая, а теперь посмотрите – какая”.
Позже это желание, эта потребность нового рождения, уже независимо от наружности и от возраста, сказывалась в трепетном ликовании, когда на пасхальной обедне хор запевал ликующим напевом: “Обновляйся, обновляйся, Новый Ерусалиме!” И на заутрене: “Что ищете живого с мертвыми, что плачетеся о нетленном?” – когда из распахнутых царских врат из алтаря смотрит с большой иконы восставший из гроба Христос в сиянии множества свечей.
И ликующее, неустанно захлебывающееся от радости – “Христос воскресе из мертвых, Смертию смерть поправ”, – детских голосов (среди них был и голос брата моего) на фоне победных гремящих басов.
И так сильна была у меня в годы детства вера в творческую силу воображения, заменявшего данную мне в днях объективную реальность, что я и в годы отрочества, когда придумывала какие-то события, не существовавшие в моей или в чужой жизни, не вполне понимала, что их нет, что рассказ о них – ложь, хотя меня жестоко уличали в этом и старшие, и сверстники мои, и малыши. Ложь как самооправдание, как несправедливое (сознаваемое внутренно таковым) осуждение кого-нибудь я сама презирала. И когда изредка это случалось со мной, жестоко мучилась раскаянием – и для покаянного признания в этом однажды разбудила мать ночью. (Таких случаев было 3–4 в детские годы мои.)
Наряду с этой мной создаваемой действительностью очень рано, лет с 6-7-ми, жила во мне – особенно в дни поста и некоторых годовых праздников (Пасха, Рождество, Троица) – нерушимая, до вступления в юность, вера – и больше, чем вера, – ощущение как реальнейшей реальности инобытия, отражаемого в те годы в событиях православного культа, крепко исповедуемого нашей семьей (особенно отцом и бабушкой).
И рядом с этими двумя жизнями жил некто во мне, эгоцентрически, жадно и с сознанием каких-то своих прав на все радости чувственного и душевного порядка (в области всех пяти чувств борьбы, победы, власти, славы).
Уцелело в памяти стихотворение двенадцатилетнего или тринадцатилетнего возраста:
Ненастна, распутна дорога моя, Печально и смутно (!) иду по ней я, Иду я бесцельно, иду я уныло, Для дела нет воли, для воли нет силы. Но есть в моей жизни идея (!) одна: С рожденьем сознанья родилась она. Росла она смелым, свободным движеньем — Но мне непонятно ее назначенье. Ни смысла ее не могу я понять, Ни цели ее не могу предсказать. …Но если идея в душе встрепенется, Вся жизнь моя с нею до смерти сольется. – Я стану поэтом, монахом, бойцом, Спасителем (!) смертных иль смертным бичом.122 тетрадь 1.1-19.2.1949
5 января. Ночь
Важный разговор с Геруа.
– Отчего у вас такая мнительность? Такая боязнь, что я начну тяготиться вами, но из жалости буду скрывать это? Разве вы не чувствуете, что вы мне нужны больше, чем я вам, что я вас люблю?
Когда он говорил, верила, чувствовала, что он и не стал бы говорить неправду и утверждать что-то из жалости. Но вот сейчас, на расстоянии 5-6-ти часов от нашего разговора – думаю с печалью и с жалостью к Геруа, что жизнь пододвинула ему так близко меня, а не кого-то лет на 30–40 помоложе. Ириса, Лиду С. Милую Марью Никодимовну, которой я так обрадовалась летом, как Богом посланного моему Геруа исцеления от одиночества мужского, к которому трудно ему привыкнуть.
9 февраля. Зубовский бульвар
….А надо мной продолжает тяготеть Агасферово (оно же и Каиново) проклятие:
– Да будет тебе всяко место в предвижение!
Из Посада прогнал финансовый кризис.
К Тарасовым вернуться раньше, чем после месячного отсутствия, значило бы взбудоражить и омрачить их (отраженно и себе нанести ранение).
Ирис – случайно – загромоздила диван, где был мой приют с 10 по 20 января – на диване домработница Ирисовой подруги, ожидающая, когда та выйдет из санатория.
Анна сбилась с ног, ухаживая за больной невесткой и опекая двухлетнего ее “внука”. Вернуться к Чулковой, где в течение последних двух суток составляла каталог произведений ее мужа, – вернуться специально с ночлежными целями – было бы точно предъявить в такой форме право на ночное гостеприимство после моей работы. Такой скромной по значению и по времени, ею занятой.
Единственным прибежищем оказался Зубовский бульвар, где в одной комнате помещаются четыре человека.
11 февраля
Валя показала мне Ольгино к ней письмо. Хорошее. О Вале, о их общей юности, о других подругах, с которыми бедный Лис задумал в своей “семипланной” норке повидаться. Хотела ли бы я туда? Нет. Несмотря на яркое, поэтическое Лисино описание полянок, елок, беседки на крутом берегу Москвы-реки. Всколыхнулась боль наболевших за последние годы сторон души – духовная, душевная и сердечная. Встал унизительный образ старости, которая, спасаясь от вьюг своей зимы, стучалась в те двери, в какие нельзя было стучаться.
123 тетрадь 15.2-31.3.1949
20–21 февраля. 6 часов дня
В небе и на земле никакого намека на весну. Крыши придавлены снегом. Из белых, зимнего вида туч то и дело сыплется крупа. Метель мечется по четырехугольнику двора, как зверь в клетке. Безотрадно и безнадежно в природе. И в душе моей. Не за себя. О недугующих, страждущих, плененных.
Вчера узнала о великой утрате, которая оружием прошла через душу одного из стариннейших друзей – целые десятилетия протекли для нас в различных колеях, с редкими точками встреч. Но когда пришла весть, что его Друг, его жена[878], верный спутник в жизни души и в днях, унесена внезапной какой-то болезнью за грань, для него неприступную, встрепенулась старая дружба во мне. И всю ночь был со мной Иван Алексеевич (он тоже, говорят, тяжело болен). И образ жены его – редкой красоты. Внутренней и наружной, заставлявшей оборачиваться, благоговея богомольно перед святостью красоты тех, кто чувствует Красоту, как я. Теперь ей под 60 лет, когда я ее видела, ей не было сорока. “Самая прекрасная женщина в Москве”, – говорил о ней Вересаев.
28 марта. Ночь
(Отмена из страха суеты и отсутствия сил душевных, нервных и физических, нужных для общения с людьми, каких люблю, раз они соберутся вместе.)
Отмена празднования (!) завтрашнего дня. 80 лет тому назад родилась бабка Варвара, чтобы видеть солнце и всю “красоту поднебесную”, и видеть сквозь нее Солнце мира, и пройти сквозь все обольщения суеты и соблазнов мира, падая и подымаясь, и вновь падая, и искать мне в себе образ и подобие Божье, теряя пути и нередко кружась на одном месте, но не теряя надежды найти единый, правый путь. И только в последние годы старости познав, что нет иного пути, кроме Любви.
124 тетрадь 1.4-26.5.1949
19 апреля. 2 часа ночи
А то, что произошло сегодня утром в Леониллиной комнате, куда я зашла выяснить вопрос об Аллином “жилплощадном” с ней договоре об “иждивении до конца жизни моей” с ее стороны, – это мне для смирения. Алла выслала мне через мать те же “коечные” 200 рублей, как и прошлый раз, и зачеркнула вопрос об иждивении, из-за которого и вся с моей стороны печальной памяти жилплощадная авантюра и была реализована – по Аллиному зову с “распростертыми объятиями”. Боль за прошлое, когда-то дорогое и безупречное отношение, обида (не за себя, а за то, что так бывает, так смеет быть), гнев и нечто вроде презрения – овладели мною и долго меня гоняли взад и вперед в облаках пыли Головиновского переулка – и только через полсуток, вот сейчас, я поняла, что все эти душевные движения в сторону Аллы были только “искушением”, цель которого свести всё происходившее между мной и Аллой для меня лично к уроку смирения. У меня не было злого, “зложелательного” порыва в ее сторону. Но когда я имела слабость рассказать одной полюбившей меня душе обо всем пережитом мною – и тогда еще мучившем меня, женщина эта воскликнула: “Таких людей Бог наказывает!” – я испытала на минуту странное удовлетворение.
21 апреля. 2-й час дня. Замоскворечье
Холодно. Пасмурно. Сухо. Канавки перед окнами Вали гнилого зеленовато-коричневого цвета.
Всю ночь не давало спать телефонное сообщение Вали о двух письмах, полученных ею для меня. От Оли. Приехала сюда к 9-ти, чтобы захватить Валю до ухода ее на службу. Она уже была в шляпе и с портфелем в руках. Когда она ушла, я вскрыла конверт и прочла:
“Вавочка! Вавочка моя! Я забыла! Я забыла у Вас попросить прощения за все, что от меня было тяжело Вам в моих словах, в обидах, в тоне – во всех моих винах, какие когда-нибудь были от меня Вам.
Мне это не пришло в голову – похоже на то чувство, какое Вы испытали во сне, нечаянно поставив горячий утюг на цветок, в который было как-то там воплощено (во сне) Ваше дитя. Вавочка, мне страшно. Обнимаю Вашу, мою дорогую голову.
Не пишите об этом много. Какое-то слово, но чтобы я поняла и знала, и услышала, что у Вас нет на меня обиды и быть не может.
Дорогая моя Вавочка.
Оля”.
…Когда 30 лет тому назад я приехала в Москву из Киева и в первый раз встретилась с Михаилом[879] после его женитьбы – и он говорил что-то о цветке и горячем утюге (не в этих, в других словах, но теперь слившихся с Олиными словами). И ушел, бледный, со слезами, сияющими в иконописных глазах, я легла на диван и глубоко, так глубоко, что меня едва разбудили друзья через какие-то часы, уснула. Сразу, в одно мгновение уснула.
Когда ушла (сегодня) Валя – и я осталась одна в квартире, я не помню, где и как я провела 2 или 3 часа. Кажется, много бродила по квартире. Сидела у стола и смотрела на пятиглавую церквушку и ажурную колоколенку. И они мне что-то говорили. И вся жизнь, прожитая вместе с Ольгой как бы в одном, общем и потому жестоко раненном сердце, – со мной говорила.
Для дневного сознания делаю вывод из пережитого после Олиного письма ее словами о “горячем утюге”, какой случается каждому из нас – и, вероятно, не один раз в жизни – поставить на цветок свой или на дорогого человека. И важно, когда это осознаешь и переживаешь это, как Ольга, – и как я, после ее письма – в “Таинстве покаяния”. Тогда не напрасны были и горячие утюги. И не погибли (у Бога) сожженные ими “цветки”. И не погибли для нас. Лучше сказать не умею. Но Оля поняла бы меня. И всякий, кто пережил то, что попало в ее письмо вместе со словами “Мне страшно”. И то, чем наполнен был мой день после ее письма, понял бы.
10 мая. 10 часов вечера
День сегодня сплошь невылазный из постели. Выполняется, наконец, калмыковское предписание: полеживайте. И лирически насыщенный декрет Сольвейг[880]: лежите пластом. По-видимому, настала “лежачая” старость. Как у моей бабушки, у матери. Как почти у всех знакомых мне старух начиная с 70-75-ти лет.
Первый раз ощутила сегодня лежание в постели как естественное состояние для моего “брата-осла” – и пугающе-неестественными показалась ходьба, эскалаторы и лестницы метро, пребывание в толпе, “в гостях” – даже в обществе 2-3-х человек. Как зародышу во чреве матери естественно появление на свет, так и старику естественно одному созревать и приспособляться к переходу на “тот свет” в одиночестве.
13 мая. 2 часа дня. Сокол
Полуразвалившиеся сени у выхода из кухни, превращенные А. И.-й[881]в мой “рабочий кабинет”. В щель, оставленную для притока воздуха, вижу деревцо, еще полупрозрачное. И над крышами сараев и будочкой подозрительного назначения – ряд деревьев соседнего сада, увы! уже утративших весеннюю прозрачность, хотя еще с листвой непропыленной, нежной, блестящей на солнце влажным блеском.
Небеса нынче синие, синие, Как вишневый цвет, облака.Тут сообразила, что цитирую Мировича, и не захотелось писать дальше. Тем более что, пока я читала здесь толстовскую “Исповедь”, небеса притуманились и облака приобрели дымчатый колорит. Только по краям блестят серебряные каемки. И прячется солнце. И подул холодный ветер. Пойду облекусь в старенькое пальтишко, заботливый дар Вали (дорожившей этим одеянием покойной матери)…
Из времени моего богоискательства
Начну все же с вопросов, какие мучили и меня, и сестру. Беру формулировку их у Толстого: какой смысл моей жизни? – И слышу тот же ответ на него в “умозрительной” области: никакого.
Что выйдет из моей жизни?
Ничего.
Зачем существует все, что существует, и зачем я существую?
Затем, что существует, то есть: ignorabimus[882].
В области точных знаний, пишет Толстой, я получал ответы о том, о чем не спрашивал: о движении Солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых, невесомых частиц эфира. Но на вопрос мой, в чем смысл моей жизни, ответ был: ты временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь своей жизнью…
…Когда взаимодействие это прекратится, прекратятся и все твои вопросы.
Ты – случайный, сплотившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своею жизнью. Комочек расскочится – кончится прение и все вопросы. Тут оказывается опять, что ответ отвечает не на вопрос. А то, что комочек – частица бесконечного, не только не придает моей жизни смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.
“Разумное сознание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась – и я хотел уничтожить ее. Но оглянувшись на людей, на все человечество, – я увидел одно и то же: где жизнь, там вера. (???) И главные черты веры везде и всегда, и одни и те же: всякий ответ веры конечному существованию придает смысл бесконечного, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. И я понял, что вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь (!!) да верит. Если он не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное. Если понимает – он должен верить в бесконечное”[883].
22 мая. 10 часов вечера. Великолепная гроза
Не знаю, почему я сегодня так живо, так близко к себе чувствую отца. Может быть, действительно пробил час “приобщаться к праотцам”, и прежде всего к отцу. А из праотцев – к его деду Малахии, о котором давно собираюсь написать. Около 50 лет провел в лесной пещере недалеко от г. Острова Псковской губ. Как это ни странно, я точно знаю, как он там жил, во все времена года, в особенном колорите их, как плакал и тужил о грехах своих – в первые пещерные годы – и как нашел в безмолвии пещерном дорогу от плача к Радости. И полюбил людей, которых раньше не умел любить. И тогда явился у него дар исцелять болезни – наложением рук. Дар, в какой-то мере передавшийся мне (у меня так называемый “электромагнетический массаж”). И точно знаю я, как он умер: перестал вкушать просфорку, которую ему присылал священник из города. Прислушивался к тому, что в нем начало звучать. И стал слышать все яснее то, что в слова уже не вмещалось.
И как у отца моего, встретившего смерть в киевской больнице на Бессарабке[884], лицо его дивно просветлело, как бы все черты его простого, северного, крестьянского лица переплавились, сохраняя сходство с прежним лицом, в новый Лик, озаренный несказанной радостью и торжественной красотой.
Отдаленно даже я не сопоставляю с дорогой отца и подвижническим путем отшельника Малахии слабой, суетной, мелко греховной жизни моей.
Но я ощущаю сейчас ясно, что они оба помогают мне не запутаться окончательно в сетях болезненно-искусительных житейских обстоятельств. По единственной, может быть, переданной ими линии их внутреннего мира, во всем, что со мной творится, помогают видеть Волю, ведущую меня. И благословлять лучи Истины, Красоты и Божественной любви, доходящие ко мне от Человека (каждого), от природы и от глубины “созерцания вещей невидимых”.
125 тетрадь 27.5-19.6.1949
31 мая. Сокол. Тихий прохладный вечер (11-й час)
Целый день мутный зной и пыльные вихри.
Успокоился, улегся ветер, где он спит? Под его дыханьем легким лист еще дрожит…Сквозь листву тополя смотрит в нашу открытую форточку тоненький серп молодого месяца. В изоляторе моем такая духота, что даже в таком туалете, как ночная рубашка, не знаешь, куда деваться от жары.
День был посвящен памяти покойной сестры моей, вынырнувшему из архива черновику ее полудетских стихотворений. Среди них несколько (4–5), написанных незадолго до заболевания и напечатанных в “Северных цветах” и еще в некоторых журналах.
Выписываю мое любимое:
Порою смерть влечет меня, Как сад развесистый, тенистый, Как смена суетного дня На вечер тихий и росистый.* * *
Исполнив дней своих число, Душа глядит с недоуменьем На все таинственное зло, Что было жизни сновиденьем.* * *
Хочу сказать ему: прости! Благой закон ко мне взывает, И в сад развесистый уйти, Где солнца луч не проникает.Перо выпадает из рук от изнеможения и духоты.
126 тетрадь 20.6–4.7.1949
20 июня
Москва. Сокол. Ночь.
Дождь. Лужи. В них бегущие вверх ногами прохожие. “Павильон” – такова золотая надпись на фронтоне его. Толпящиеся в нем с кружками пива и стаканами водки мужчины разных возрастов. Из него выходят, некоторые из них пошатываясь. Возле него на тротуаре полулежал недавно калека с точно обглоданной плечевой костью вместо руки и без ног. Он рассчитывал, что павильонные посетители будут, выходя на тротуар, тронуты его костью и молодыми страдальческими глазами. И будут наполнять его картуз, с ним рядом лежащий, мелочью, оставшейся от их выпивки.
Раз я долго следила за выходящими – никто ничего не бросил в картуз.
21 июня. 11-й час утра
В окно пропыленное небо, мутное солнце. Пустырь перед нашим домом, по ту сторону переулка, и человеческие фигурки в непрерывном движении встречных потоков – из метро к уродливым громадам, где учатся Дима и Машенька, и к другим, такой же уродливой архитектуры зданиям научного значения, и обратно из этих гигантских спичечных коробок – вереницы молодых существ, бегущих на Ленинградское шоссе. Девушки, с модным у них взбитым комочком волос над самым лбом и завитушками до плеч, в коротких юбках, с голыми ногами (в большинстве своем они без чулок) и с голыми до локтя руками. Парни в майках, с непокрытой головой. Их матери и бабки, нагруженные провизией, с потными, замученными работой и заботой лицами.
Изредка промелькнет студент в не лишенной изящества летней экипировке, рука об руку с принаряженной по картинке барышней в модной шляпке. И так много всякого люду в двух потоках Головановского переулка, что, устав от мелькания человеческих фигурок, завешиваешь до половины окно. Тогда видны в просветы между изъеденными гусеницей веток нашего предоконного дерева кусочки облачного неба и в нем движение собирающихся в тучу облаков. Предвозвестие дождя. Скорее бы!
…И вот уже 1-й час дня. Дождя не будет. Холодный вечер разогнал тучу и метет уже по всем переулкам облака пыли. Спряталась от него за густой завесой плюща на терраске Сольвейг. Вижу сквозь небольшой просвет в гущине перепутанных листьев клочок синего неба – редкостное явление в Соколе.
127 тетрадь 5.7-24-7-1949
10 июля. 11 часов вечера. Сокол
Дождь – чуть ли не седьмой в течение дня.
День под знаком Имени и Жизни Ириса, моей материнской и дружеской любви к ней и ее – дочерней и дружеской ко мне. Да будет благословенно всё, что она внесла в годы моих скитаний на этом свете. И трижды благословен да будет скорбный и высокий путь ее.[885]
Коротки земные разлуки, Сердце полно любви бесконечно. Завтра – цирк. И желанные муки, И с возлюбленным встреча. (Сергиевские годы)18 июля
Я знаю, как молились и молятся некоторые из близких мне людей, живых и умерших. Какое количество времени этому уделяют и какой “чин молитвословия” исполняют. Спрашиваю себя: почему я не могу следовать их примеру? Тридцать лет тому назад в Киеве я способна была ежедневно и по два раза в день выстаивать у “Малого Николая” длинные церковные службы. Если бы не глухота и не ослабленность восьмидесятилетней плоти, я и теперь охотно и часто посещала бы храм из-за одного того уже, что
Там тишина. Там за оградой Все дышит жизнию иной — Невыразимою отрадой, Неизъяснимой красотой.И в этом пункте огромное лишение создала для меня глухота.
Спрашиваю себя дальше: но тем более не естественно ли было бы лишение храма, храмовых богослужений возместить выполнением того же богослужебного ритуала? И не раз эта мысль проходила через мое сознание. И каждый раз – легко, незаметно – выключалась из него.”Разленения” в прямом смысле и одичания – длительного и непобедимого – не было. Что же мешало молитвенному чину укорениться в днях моих?
Думаю, что повторность одних и тех же словооборотов, повторяемых в сотый, в тысячный, в десятитысячный раз, считая прожитые годы.
Затем – количество славянизмов и неприятие некоторых слов и выражений – как “студными бо окалях душу грехами”, “избави мя от кровей военных ужасов”, “возложи на алтарь Твой тельцы”, “веселыми ногами”, – их много.
Таким образом, доныне уцелели для меня, как “мои”, молитвы только “Отче наш”, “Царю небесный”, “Помилуй мя, Боже” (50-й псалом “Камо пойду от Лица Твоего”) и еще 3–4. Из них самая любимая – “чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь”. В то же время я люблю славянский язык, и целый ряд слов и выражений для молитвенных чувств незаменим языком современности.
И не раз приходило в голову, что латынь в католическом богослужении была бы для меня в каком-то смысле приемлемее (если бы я по рождению и воспитанию была католичкой). Как приемлемы бы оказались и глоссолалии первохристиан.
Мешала потребность личного молитвотворчества. В период религиозного подъема – 30 лет тому назад и еще раз позже – я написала (для себя исключительно) больше 50 молитв. Но лишь немногие из них удовлетворяли меня, и я скоро к ним охладела. Когда я случайно показала их покойному владыке Димитрию, он сдержанно сказал, просмотрев их: “Что ж, ничего еретического в них нет”. – И прибавил: “Лучше молиться так, чем совсем не молиться”.
И понемногу со мной случилось то, что он как будто бы предвидел (Вл. Д.). Свои 50 молитв в скитаниях моей страннически-перелетной жизни я где-то потеряла (да, как выше сказала, и охладела к ним – в них явно не хватало высоты, чистоты и удачного оформления (молитвотворчества).
19 июля
О кресте
У каждого свой, очень индивидуальный, крест. (Об этом в хрестоматиях прежнего типа стихотворение “Выбор креста”, не помню какого поэта. Пер. Жуковского[886].) И крест этот – по величине, по тяжести, по точной мерке (во внутреннем смысле своем) именно таков, какой надлежит нам поднять и нести без ропота.
Мой крест – прежде всего “жилплощадная тяжба” с Аллой. Цель его – чтобы отлетела всякая тень осуждения ее и вернулась моя прежняя, ничем не омраченная любовь к ней. Остальное, входящее в тяжесть креста и требующее от меня смиренного и терпеливого несения тяжести его, – беспризорная, обветшавшая старость, жребий “приживательства” (очень режет временами плечи форма этого креста), тягостно обременяющий и мою душу, и тех, кто вольно или невольно помогает мне нести мой крест.
128 тетрадь 25.7-28.8.1949
25 июля
Внуково. Летнее убежище в Агасферовых скитаниях моих, дарованное мне сыновней добротой Геруа. Нескончаемый дождь. Тропинка, ведущая на кухню, обратилась в ручей. По лесенке террассы плещут с крыши целые каскады. С намокших плакучих берез обильные струи слез (неожиданно вкрался стихотворный ритм и рифма. Хороший признак – может быть, родятся стихи, о рождении которых последнее время томлюсь бесплодным желанием).
Из моей опочивальни (она же кабинет Геруа), просыревшей насквозь так, что заныли все старческие ревматизмы, переселилась в “столовую” мою – она же зимняя кухня. Вижу сквозь занавеску плюща, закрывшего половину окна, как сверстник мой Дидо, съежившись под дождем, но не имея сил прибавить рыси, направился к гаражу, где может спрятаться от непогоды. На месте Игоря менее добросердечный хозяин нашел бы способ выключить его из круга своих забот и денежных трат (около полуведра каши в день и молоко). А главное – из круга тягостных впечатлений его облезлой, понурой, жалкой старости.
На месте Игоря не многие из моих друзей, и прошлых и настоящих, рискнули бы включить в круг своих забот и моего “брата-осла” с его восьмидесятилетнею старостью. Тут (помимо материальных возможностей) нужен и высокий религиозный или этический уровень, и наличность живой, деятельной (и с жертвенным оттенком) доброты. На это могла решиться, пожалуй, только одна Ирис, как и сделала это в день моего “золотого юбилея”. И от этого, от ее слов, ее лица, от высоты и чистоты ее Любви этот день живет во мне в каждом биении сердца и уйдет со мной вместе со священной памятью ее Лика в посмертную даль.
Поздний вечер. Черная тьма по-осеннему непогожей ночи прильнула к окнам. Сильно нездоровится. Взвыли от старости все старческие больные участки, все “ломи и коли”. Хотела уехать в Москву. Но… без Ириса, оказывается, некуда ехать.
27 июля
Сон
Видела во сне Ириса. Приблизилась ко мне – лицом к лицу. И как бывает в таких снах, уничтоживши всякое расстояние, то есть давши увидеть себя в зрительном образе, приблизилась извнутри и внутри моего существа (в сердце? в душе?) оставалась, пока говорила. Слова ее были волнующе важны для меня, касались ее, но через нее и меня. И самое важное в них было то, что касались они всех – не в житейской области. Лицо Ириса было иконно прекрасно, каким увидела его весной этого года под куполом храма Всех Святых.
28 июля. 7-й час вечера. У раскрытого окна террасы
Полчаса тому назад тучи заполнили все небо и заставили меня вернуться с полдороги от сенокосного участка, где собиралась поискать еще цветов для украшения Игорева секретера. И – точно мановением чьей-то руки сдвинуты с небесного свода все темные тучи на восток. В зените явились прорывы туманной голубизны. А с запада хлынули длинными, победными стрелами лучи внезапно засиявшего сквозь узор березовых верхушек солнца. “Для чего, для кого это все пишешь ты, бабушка?” – спросит кто-нибудь из внуков-правнуков, если попадется ему в руки эта тетрадь. “Не знаю, дитятко”, – отвечу я. Звучит в душе стих (хоть и не могу оформить его), – звучит музыка стиха, отзвук Красоты невидимой и неслышимой. Душу не постигла глухота, овладевшая слуховым аппаратом, и есть неудержимая потребность бедной, бледной записью сказать об этом (как бы продлить и утвердить красоту в мире).
15 августа. 2-й час дня. Терраса
Туманно-голубоватое небо. Расплывающиеся в тумане облака. Туманный свет солнца. Почти нет ветра. Он не пригибает, не треплет берез, а точно ласкает их, пролетая мимо, и они чуть колышутся, счастливые от его ласки, от своей молодости и оттого, что вершины их глядят в туманную лазурь Вечности, о которой говорит им небо и проходящие и тающие на нем облака – “образ Царства «от мира сего»”.
С утра набег мозговой тошноты и головокружения. Не хочу “постельного режима”. Хватаясь за предметы, вывела свою “опочивальню” из утреннего “неглиже”. Переселилась в кресло-качалку на террасе. Здесь в широко раскрытые окна потоки воздуха льются в мою грудь из заоблачных пространств, из лермонтовского “воздушного океана” – где “без руля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные светил”[887].
И все же порой дыхание слабеет —
23 августа. Утро. Замоскворечье. Осень
Письмо (не ко мне) одного из самых дорогих детей моих:
“Дорогой мой друг. Опять слегла крепко. Вставать нельзя. Лежу у открытого окна в лес на запад солнца.
Горе́ имею сердце.
Читаю замечательную, прекрасную книгу жизни. «О преходящем и вечном».
Я теперь все время в Вавиной стране. Все-таки она (я) никогда не знала, как дорога и нужна мне”.
Сокол. 11 часов вечера
Так чудесно озарено было для меня утро письмом Лиса к Вале. И теми словами Вали, какими она отметила наше вчерашнее общение сегодня утром. Там было выражение “это дает силы жить”. Есть такие часы, когда оба связанные душевно и духовно человека увидят себя, точно у подножья Фавора, и на них упадает луч фаворского сияния, как предварение преображенного мира и своего места в нем.
129 тетрадь 29.8–8.11.1949
31 августа. 11-й час вечера
Письмо Анны. На каждой строке слово “чуждо”. Ей – во мне. В моем “пути”. В моей “философии”. Еще не могу понять, что в ней произошло. И не могу вместить 50 лет неразрывного, сестрински сросшегося сопутничества, одинаково для обеих сторон полноценного и душевно-духовно-сердечно важного.
Последние месяцы я замечала и некоторую сухость – временами, – и холодок, но приписывала их бытовой загроможденности, сосредоточию на интересах, какими ей не по дороге со мной делиться. И просто утомлению, старческому упадку сил.
“Чуждость” путей наших не могла прийти в голову – в существе своем путь один. И она не переставала мне никогда быть близкой – и в прошлом – далеком – и близком. И сейчас. Три дня тому назад, сообщив мой замоскворецкий адрес, я подробно написала ей о тупике, в какой меня загнала житейская “линия судьбы”, и вскользь, дружески написала, что порой чувствую, что ей как-то не до меня, что она как будто отодвинулась. На это пришел обстоятельный и непонятный и жестокий ответ.
9 сентября. 10-й час вечера
В окно смотрит облачное, мутно освещенное луной небо и разбросанные на большом расстоянии друг от друга огни домов, фонарей и заводов Перова поля (для меня оно так и осталось Измайловом, как мне кто-то окрестил местность, “где будет жить Дима”, когда он еще не переселился сюда). В одной комнате со мной эти дни домработница Саша. Она успела за двое суток рассказать мне на левое ухо (правое совсем лишилось слышания) всю свою биографию. И затруднения в своей личной жизни, трудные и привлекательные стороны службы у Фаворских, свое первое замужество, фронт под Воронежем, где была военнообязанной и где нажила болезнь сердца.
У нее до уродливости вздернут кверху круглый кончик носа, что, как это ни странно – поражая сразу, потом не мешает миловидности простодушного лица с понятливым взглядом карих глаз и с хорошей улыбкой.
Семью Фаворских, в которой живет уже 10 месяцев, чтит, понимая исключительность морального уровня членов семьи, куда включен и Дима. О нем говорит: “Димка очень хороший. И воды мне принесет, и сделает когда что-нибудь, что не по моим силам. Но озорник. Дружит только с Машей. Я так думаю, что они непременно поженятся. Очень друг к дружке подходят – и погодки, и оба хорошие и красивые”.
Маша (Раутенделейн) с матерью на даче. Дима до послезавтра в Малоярославце. Сейчас приехал с дачи Владимир Андреевич. Какое картинно-библейское лицо, которое он несет как самую обыкновенную физиономию. И вообще, ни в каком смысле не помнит о себе. Весь в искусстве, в любви к домашним своим и в благоволении к людям вообще. Сейчас, пока он пил чай за этим столом, мне трудно было оторвать взгляд от него.
11 сентября. 10 часов вечера. Перово поле
Ночью не давала спать печень. Но утром нашла силы добрести в лес и прожить там до 2-х часов дня. Захватила в лес тетрадку, карандаш, нашла удобный, низкий и широкий пень в стороне от дороги и так задумалась, и так засмотрелась на березы, на игру теней их и света, и на просветы в поредевших вершинах их вечно юной синевы неба, и кудрявых мелких облаков – так позабыла про тетрадь, лежавшую у меня на коленях, что ничего не записала в нее.
Владимир Андреевич дал мне для просмотра книгу для детей Н. Кончаловской “Наша древняя столица”, которую он иллюстрирует (вышел только 1-й том). Хорошо – по звуку (стихотворный текст) и не без вдохновения изложены главные исторические события “собирания Москвы”, начиная с 1147 года по годам, ознаменованным главными историческими событиями в процессе борьбы за жизнь и целостность и возрастание государства. Рисунки Владимира Андреевича чрезвычайно интересны: с простотой и силой пушкинского стиха дают ряд образов, иногда в очень сложной концепции “откуда пошла Русская земля и как стала есть” (нравы, обычаи, мощность душевных фаз структуры, возрастание и укрепление государства путем преодоления величайших испытаний).
Главное достоинство (в моих глазах) книги, в котором не сравнялся бы с Владимиром Андреевичем никто из современных наших художников, – “здесь русский дух, здесь Русью пахнет”. Я ни в коей мере не “нацист”, но говорить, “живописать” о своем народе можно правдиво и во всей полноте только тогда, когда, как Пушкин и другие с “русской душой” поэты и прозаики, несешь в себе всю историю народной души и ее становления в борьбе и в великих бедствиях, и в победах, и в чаяниях будущего, и в поисках правды в искусстве, в жизни души и сердца.
12 сентября. У открытого балкона в храме Феба – Аполлона
Оба жреца его погружены в служение искусству. Владимир Андреевич в своем ателье прилежно занят иллюстрированием “Нашей древней столицы”. Дима заперся в мастерской Ефимова и в поисках одиночества там увлекся в такой степени лепкой, что даже опоздал к обеду после того, как Саша ходила звать его. Показал мне рисунок тигра. Великолепно оттенен замысел художника – может быть, и не дошедший до его сознания: соединение мощной, напряженной хищности и глубочайшей удрученности – не то своим пленением в зоопарке, не то роковой необходимостью жить убийством. В своем автопортрете Димок ухитрился, схвативши скульптурное сходство с собой и даже верность одного из присущих ему выражений лица отвлеченности от интересов дня и несколько горделивой обособленности, – ухитрился вычеркнуть из портрета впечатление красоты и незаурядной одаренности, что отмечает в нем целый ряд лиц, не только я одна (меня могли бы упрекнуть в субъективно-материнском восприятии).
Хорош портрет Раутенделейн. Тонко схвачена – стремительность ее существа, самостоятельность его и упорство в какой-то, может быть, не вполне осознанной внутренней линии движения.
30–31 октября. 11 часов утра. Пушкино
Мороз. Небо в оснеженных, чуть просвеченных солнцем облаках.
Трудная ночь. Грелка, печень. Перестановка кровати (от слишком холодной и сырой двери на веранду). Благословенное присутствие Денисьевны, вникавшей с энергичным и кротким участием во все эти печеночнокроватные ночные действа. Сейчас она пошла на рынок за картофельной мукой для моей диеты (кисель) и за чем-то еще для хозяек. Завтра она уедет.
…Как ярко встало в далеком-далеком времени воспоминание:
Племянница Аллы, Инночка (теперь она где-то в Южной Америке парикмахером (!), вышла замуж за армянина – шофера). Было ей три года, и была она ангелически-серьезна и одухотворенно-красива в этом возрасте. И вижу ее сейчас, как она сидит, забившись в уголок своей детской, сложивши ручки на коленях и подняв к потолку личико, громко и горестно вздыхает. Мы с ней в дружбе, и в летнее пребывание у Тарасовых на даче я с ней почти не расстаюсь. Спрашиваю ее:
– Что ты, Инночек? Пойдем погуляем. На Днепр.
Отрицательно качает головой и смотрит куда-то в даль.
И опять тяжелый вздох и жалобным тоном слова:
– Как мне няню мою жалко!
В эти дни не первый раз уже был у нее такой приступ тоски о няне, очень любимой ею и недавно ушедшей от нее – к себе, в деревню.
…А вспомнилось это по аналогии с моим чувством тоски и вот такого, как у Инночки, младенческого одиночества и “брошенности”, “заброшенности” в огромном мире (оттого ей и на Днепр не хотелось – такие там огромные пространства) – вспомнилось по сходству с этим Инночкиным вздохом того вздоха, с каким смотрела я вслед уходящей по садовой дорожке Денисьевне и с каким-то беспомощным чувством подумала: завтра Денисьевны здесь не будет (недаром говорят о стариках, что они “впадают в детство”).
130 тетрадь 9.11–31.12.1949
30 ноября. 2-й час дня. Пушкино
Ночью выпал снег. “Осеребрилась грязь дорожная”, скованная неожиданным морозом. Осеребрились елки перед нашими окнами. Наконец-то зима. Или хоть преддверие ее.
Хочется мне сегодня беседовать с ушедшим за пределы видимого мира другом молодости моей.
…Что же ты хочешь сказать мне, так властно вступивши в орбиту моих сновидений, Друг и спутник души моей, перешагнувший раньше меня грани, разделяющие живых и мертвых?
– Там, где я, нет места словам, – сказал он. – Но бывает связь душ, не разрывающаяся переходом одного из них туда, где нет места словам. И когда томится в оковах праха близкая нам душа и прихлынут к ней неразрешимые вопросы и неутолимая жажда истины, нам дается право помочь ей и облечь в понятные для нее слова в пределах доступного ей понимания то, что она хотела бы услыхать от нас. Итак – начинайте спрашивать. Время, отпущенное вам для беседы с теми, кого вы называете умершими, кратко, – сказал он, незаметно переходя с “ты” на “вы”, привычное в наших разговорах, когда и он был “под солнцем наших дольних стран”.
– Начните с того, о чем вы думали, что вспоминали, когда почувствовали, что я приблизился к орбите души вашей.
– О том, – сказала я, – о чем мы говорили с вами в первый день нашего знакомства, когда вы провожали меня от Тарасовых к дому, где я жила, недалеко от храма Андрея Первозванного (в Киеве). И мы с вами опустились на ступени храма, – задумчиво продолжала я, – и загляделись на безбрежные синие дали Заднепровья в первых лучах рассвета. Мы долго молчали, а потом вы заговорили об искушении Христа диаволом: Если ты сын Божий, то бросься с вершины этой горы, и Отец Твой пошлет ангелов своих поддерживать тебя и ты не преткнешься ногой о камень – и даст тебе Отец твой все богатства мира и славу их, если поклонишься мне. И о власти превращения камней в хлебы…
– И еще о том, о чем шла у нас речь во всех последующих наших встречах, – сказала я, – о чем хотела бы я сегодня услышать от вас – о границах возможного и невозможного для человека. О границах познания. О природе и значении разума в научном знании и в познании потустороннего мира. И о том, что такое вера, в чем ее отличие от разума. И что такое человек и его жизнь – та, какою он живет. И та, какой он ищет, о какой тоскует душа его. И о смерти. И о бессмертии.
– Не ручаюсь, что успею хоть в самом сжатом виде откликнуться на все философско-религиозные темы, вами затронутые, – сказал он со своей чудесной, ему одному только свойственной тончайшей улыбкой, многосложно-соболезнующе-ласковой, пытливо глядящей в душу собеседника и в какую-то словами и тогда невыразимую даль за ним, за его вопросами, за его жизнью. – Оставим в стороне дьявола, искушавшего Христа. Разве в лице его не все человечество стремилось и стремится к тому, чтобы овладеть всеми богатствами мира и насладиться всей красотой, и, падая, не разбиваться, и, разбившись насмерть, телесно или душевно воскреснуть.
Тут промелькнуло передо мной воспоминание любимого мной трех-четырехлетнего ребенка, который хотел убить свою спящую сестру – поднял над ней молоток. Когда же родители с ужасом бросились к нему с вопросом: что ты делаешь – ты можешь ее убить! – ответил: “Я и хочу ее убить. Я хотел посмотреть, как она воскреснет”. (Сестру он любил и нрава был тихого, не драчливого.) И вспомнилось, как в моем семи-восьмилетнем возрасте я учила летать моих товарищей-однолеток и младшего брата и сестру. И как я двоюродной сестре Маше, потерявшей мать, обещала воскресить ее, когда сойдет снег и можно будет добраться до ее могилы. И не поняла, почему бабушка, услышавшая эти мои обещания, убеждала меня, что “тяжкий грех так думать”. Я не рассказала об этом моему потустороннему Собеседнику, но он читал то, что проносилось в моем сознании, не облекаясь в слова.
– А теперь, – сказал он медленно и строго, – хотели бы вы получить – и не от дьявола, а от самого Бога – власть воскрешать мертвых?
– Нет, – сказала я без колебания. – Кощунственной кажется мне эта власть и ни на что не нужной мне. И тем, кого бы я воскресила.
Строгое лицо Друга прояснилось.
– Я рад услышать это от вас, – сказал он задумчиво.
– И камни превращать в хлебы не хотели бы иметь власть? Даже в случае голода – единичного или массового? – помолчав, спросил он.
– Желание творить чудеса ушло от меня вместе с детством, – ответила я. – В годы юности, вы знаете это, у нашего с вами поколения была жажда отдать жертвенно жизнь для того, чтобы воцарились на земле братство, равенство и свобода. И в результате у всех хватило бы хлеба, и можно было бы оставить в покое камни. И отдать все силы тому, чему отдали вы после той ночи, о которой вы написали мне: “Когда я понял, что Добро не есть Бог, что Бога, может быть, и совсем нету, – и в то же время я знал, как и теперь знаю, что Бог должен быть, что без него моя и всякая другая жизнь бессмысленна, постыдна, невыносима”. Я помню это мое письмо, как и вы его помните. Я писал вам – и больше никто об этом не узнал, – что в ту ночь я бился головой о стенку и, чтобы заглушить рыдания, зарывался головой в подушки. И до крови искусал руки.
– Но почему не пришла вам на помощь, как утоление мук, мысль о самоубийстве? Почему – как вы думаете? – когда она приходила в такой же час отчаяния у Льва Толстого, он тоже не поддался ее искушению, а, наоборот, прятал от себя веревку, чтобы не повеситься в одну из таких ночей на крючке, вбитом в одну из стен его комнаты за шкафом?
– Это во всяком случае не была ни у меня, ни у него привязанность к жизни. Не страх смерти. Может быть, это была шевельнувшаяся в глубинах сознания та же мысль, какую я прочел – и тоже писал вам о ней, – то, что вырвалось, может быть, в такой же час у великого безбожника и затаенного от себя самого богоискателя Ницше: “Вы не искали меня – (помните его слова от лица Бога, обращенные к людям?). И без всяких поисков нашли меня. Так делают все верующие. Теперь я отниму от вас эту вашу веру и заставлю этим искать меня. И когда вы найдете меня, никто и ничто не сможет разлучить вас со мною”. Это он, безбожник, говорит от лица Бога…
– Вы произнесли слово “искать”. Что он подразумевал, что вы подразумеваете под словом “искать”? Где искать? Как искать? Я помню, как в одной из бесед наших вы поразили меня властным тоном пророка и величавым видом, когда в ответ на этот же вопрос мой – где искать? – сказали: “Только не у разума”.
– Не он был в начале всего Сущего – говорил я и говорю сейчас о нашем, человеческом разуме, – сказал мой собеседник. – Истоки и корни жизни лежат за его пределами. И в результатах всего им содеянного он является источником заблуждений и обмана. Недаром Лютер называет его блудницей, а Шопенгауэр – паразитом. Вековая отвратительная и несчастная привычка наша считать истиной только то, что доказано, держит людей в рабстве у Разума. Мне он явился однажды в образе того огненного меча, каким Бог вооружил архангела, поставленного на страже у врат Эдема, когда изгнал оттуда Адама и Еву… И зачем мы с вами тратим скупо отмежеванное нам время для встречи в эту ночь на этот разговор о разуме – когда вы сама уже 20 лет тому назад в одном стихотворении кому-то из любимых вами детей – написали:
Учись у почки предвесенней, Как терпеливо солнца ждать. Познай во всем, где ужас тленья, Преображенья благодать. Пытай у солнца и у моря У неприметной капли слез, У каждой радости и горя, Что в безднах духа родилось.И вы знали, когда в те дни случайно прочли мне стихотворение, над которым я задумался, как и вы, на минуту, но не придал ему тогда значения, как и вы, – может быть, вы помните его:
Шелест. Шорохи. Веянье духа, Непостижные вести без слов. Жадно слушает чуткое ухо, Слышен зов. Кто зовет, не пойму. И откуда? Что отвечу зовущему я? В сердце бьется предчувствие чуда, Ритм незнаемого бытия. Изменило лицо и значенье Все, что есть и что было кругом. Дуновенье, еще дуновенье, И остался лишь сон об “ином”.В сон об “ином” превращусь и я сейчас для вашего сознания. На все есть времена и сроки на этом свете, где вы до сих пор задержались, – сказал он, бледнея, превращаясь в световое облако, и растаял в воздухе, запечатлев в душе моей прощальный взгляд, с грустью и серафической любовью коснувшийся тех ран, нанесенных жизнью, какие до сих пор еще не зажили в ней.
131 тетрадь 1.1-19.2.1950
(дар Лиса в день именин Москвы) 12 января
…Ирис, Ирис мой “лиловоглазый”. Вот в такую морозную ночь тепло ли ты укрыта? Есть ли там нужные притепления для ночи? И утром, когда встанешь и начнется трудовой подвиг дня, есть ли такие бурки или валенки и такие рукавички, чтобы не отморозить руки? Лицо твое, с такой цветочно-нежной кожей, не покроется ли такими страшными язвами, какие пугали нас в детстве лица мальчиков-приказчиков зимой в открытых лавках киево-печерского базара?..
Душенька моя, светик мой “невечереющий”, в Боге и в скорби возлюбленное мое дитятко! Если когда-нибудь к тебе попадутся на глаза эти строки – пусть прозвучит в тебе, как живой, голос твоей баб Вав (“Баобабой” ты прозвала меня). И пусть тоже, как “свет невечереющий” моей Любви, осветят и согреют и подкрепят они силы души твоей и ее высшие надежды.
Как длинна сегодняшняя ночь, и как несогреваемо морозно. И когда думаю, что как-то делю с Ирисом то, что она терпит сейчас, есть в этом какое-то (детское, оно же и очень старческое) утешение. И все-таки надо положить перо и зарыться в свое логово под толщу всякого зимнего тряпья.
26 января. 10-й час вечера. Москва. За письменным столом Анны
Какой трудный был вчера день – и такая же ночь в Зубове. В тяжелом гриппе Лиза, две старухи (одна из них – я), оставшиеся ночевать, неожиданные две гостьи, пожилая и вузовка в конькобежных штанах, усталый Ника (после лыжного пробега), пытающийся читать на уголке стола полусомкнутыми сном глазами, бабушка, вдруг располагающаяся, как в уборной, на табуретке у своей кровати.
А сегодня “день расцвел в вышине, как цветок голубой”. Убежала с утра к Анне. Потом Игорь прислал за мной машину. Пробыла с ним и с сестрой его около 3-х часов. Много и детально расспрашивал о моем быте, о нуждах с такой сыновно-теплой заботливостью, что до сих пор лучи ее согревают мою душу там, где она оледенела от айсбергов Аллы. И в то же время я стыжусь своей радости – и какая-то большая грусть всплывает со дна души от сознания, что лучше было бы, если бы наша встреча два года тому назад не воплотилась ни во что материально полезное для меня и вся прошла там, где “весть развеялась о чуде, о тропинке в горней синеве”. Осозналось, что нуждается в моей любви сестра его. И даже как-то ревнует к нему. И я рада, что чувствую в себе <к ней> движение такого же материнского чувства, как к Игорю, конечно, как всегда во всех чувствах, со своими оттенками.
132 тетрадь 20.2–9.3.1950
26 февраля
Ощущаю сейчас во всей линии пройденного мной пути две определяющие ее основных точки. Одна – духовно взволновавшая меня надпись на обложке журнала “Странник” (в год окончания гимназии): “не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем”[888].
И другая – нечто, роднящее меня с Агасфером, – возмездие или искупление, неизбежность (если б я скитаний и не хотела и даже если бы их боялась) скитаться. Проклятие Агасфера и предателя Иуды: Да будет тебе всяко место в продвижение.
Припоминаю свои строки об этом, написанные 30 лет тому назад:
Я – блудный сын. Но не в объятьях Отчих. Я там, куда влечет меня звезда Моих скитаний, дерзких и порочных, Пасти свиные должен я стада.Агасферов жребий, роковым образом вытеснивший меня из-под крова Аллы и закрывший дверь под кров Лиса, в последние два года бессильной и недужной старости я должна принять как справедливое возмездие за все дерзостные скитания и грехопадения духа моего и смиренно просить: да будут они для меня искуплением и утверждением на прямом пути, если не в этой, то в будущей жизни. Аминь.
Загорск. 11-й час вечера
Радостная встреча с Денисьевной (не виделись полтора месяца). Какой высокий пример подвижнического отношения ко всем плотским потребам – к пище, к сну, к отдыху. И презрение к боли (у нее ишиас). Вся линия жития устремлена к служению, к служению своей правде, своей святыне. (Полуголодное существование – 30 рублей пенсия (!) и немногим большее количество рублей, какое могу я уделить из своей пенсии…)
2 марта
Рассказ Денисьевны, пришедшей с рынка, о дне снижения цен.
…В магазинах, как в Лавре на Пасху, – народу, народу – не протолпишься. И на улицах – очередищи. И только и слышишь: спасибо, спасибо Сталину. И правда, спасибо – дай Бог ему здоровья, подумал о нас, грешных: хлеб вместо 3-х – 2 рубля кило. Шутка ли – на целый рубль снизил. А в магазине локтями работают, как на пожаре. И будто перед голодом закупают всего почем зря. Вермишели, слышу, по 8 кило берут. И хватают все, на что глаз поглядит. А глаза как у полоумных. Боятся, что ли, что все опять подорожает с лихвой. Батоны по десятку забирают. Я вам только черные сайки, и те придавленные, завалящие могла купить. Батоны расхватали в одну минуту.
3 марта. 7 часов вечера. Пушкино
Дневной свет еще не погас, но какой-то стал неуверенный, мутный зеленовато-желтовато-серый и с каждой минутой переходящий в сумерки.
Ночная сырость под кровом Денисьевны вызвала еще до рассвета столько разнообразных протестов старческой плоти, что к утру созрело решение как можно скорее спасаться бегством. Бедняжка Денисьевна сама испугалась потолочных пятен, за ночь подобравшихся в иконный угол, где я спала, и без протеста, с удрученным похоронным лицом и с детальнейшей заботливостью собрала меня в путь и, пожертвовав прежде освященной обедней, проводила меня в Пушкино. Здесь встретили нас, как самых близко родных, с праздничным оживлением угощая всем, что было у них в печи. И только смущались, что коза еще не переведена в сарай и козлята еще на прежнем месте, но что скоро, “через какую– нибудь недельку”, вся эта ситуация изменится, и все будет как раньше.
133 тетрадь 10.3-31.3.1950
12 марта. 12-й час ночи. Сокол Кружение по Москве
Оно уже началось сегодня с места в карьер. Из метро поплелась вдоль по Пушкинской. С двумя вещами, из которых одна всю дорогу стремилась вырваться из рук, и с клюкой, в жаркой шубе. Встречные женщины смотрели на меня с явным сожалением. Я, впрочем, эти взгляды ощущаю на себе как весть, как доказательство, что “не иссякла в мире любовь”. Они меня не раздражают и не обижают. По дороге в тарасовское гнездо зашла в самый близкий к ним дом, где под № 8 происходили выборы[889]. Взобралась мимо удивленной швейцарихи, с вещами и клюкой, на самый верх лестницы. Там догнал меня легконогий, нарядный юноша и на секунду приостановился и окинул критическим взглядом мою шубу, вещи, теплую шапку. Я спросила, не знает ли он, не здесь ли голосуют те, кто живет на улице Немировича-Данченко. Он прокричал насмешливо: “Голосуют те, кто получил приглашения”. Вниз по лестнице с моей ногой еще трудней идти, и я спускалась, считая остановки, не меньше четверти часа. В вестибюле тарасовского дома встретила меня с видом покровительственного участия лифтерша Зоя Владимировна, выхватила из рук моих вещи и повлекла в контору на диван со словами: “Ну, слава Богу, приехали, Тарасовы боялись, что не приедете”. Я ответила то, что и было на самом деле, что приехать заставили меня только выборы, так как я вчера пролежала весь день в постели. Мне было плохо. А что уж совсем было нежданно-негаданно, управдом, всегда меня “мальтретировавший” за мои одежды и приживательство у Тарасовых, предложил проводить меня на выборы, дорогой поддерживал под локоть и занимал глухое ухо вопросами громкими на весь переулок: как здоровье? Как зрение? Так же, как и слух, или получше? – и тому подобными участливыми фразами, из которых я половины не услышала. И на выборах мигом все оформил и дал мне в руки два листка и указал урну, куда их надо просунуть в щель. С выборов – в контору дома, где живет сам кандидат в Верховный Совет – Алла. В конторе крупный портрет ее на стене, на котором я потому лишь ее узнала, что это было женское лицо, сильно чем-то напоминавшее генерала Пронина, ее мужа. Где-то я читала, что не редкость, когда душевно сблизившиеся супруги, совсем друг на друга не похожие, начинают сильно напоминать один другого. Чаще жена, как в Аллином случае, приобретает освещение лица, как бы луна, заимствующая от солнца его свет.
Я не поднялась наверх, боясь температуры в Аллиной квартире. Да и по всему комплексу установившихся взаимоотношений так было естественнее, морально лучше.
Поплелась на Нижнюю Кисловку. Застала одну Катю (жена Игоря Бирукова). От часов, проведенных с ней, осталось чудесное впечатление (неожиданное при всей искренности в целом ряде встреч за минувшие 6–7 лет). Неожиданной была тонкоаналитическая мысль, пристальная вдумчивость в психологию окружающих людей и быстрая, точная формулировка карандашом всего, о чем ей хотелось рассказать мне.
В конце дня она поехала провожать меня до Сокола, в анфиладах метро неусыпно созерцая каждый мой шаг. И сказочное, и до слез трогательное осталось впечатление (его хватило на всю ночь) от ее нянюшкиной заботы о старом младенце и от зачарованности ее красотой.
13–14 марта. 9 часов утра. Светлица сестры Анны
Полузадохнувшись вчера в душной, непроветренной жаре (бабушка боится открывания форточки), бежала из Зубова к Анне, где неожиданно обрела и ночлег. И так же неожиданно встреча, которой я боялась, протекла без всяких шероховатостей, тепло и радушно со стороны Анны. И по-прежнему все в этой комнате, самые стены ее облегчают мне путь моих скитаний не только в смысле нервно-психическом, но и по самому существу внутреннего пути, с тех пор, как я почувствовала охлаждение сестринской любви Анны ко мне. Охлаждение не всегда признак разрыва душевной связи. Если причины его осознаны с обеих сторон и обе стороны жалеют о нарушенном ритме сердечного контакта, он восстанавливается сам, иногда незаметно даже для нас, как это произошло в данном случае для меня. И вчерашний вечер и половину ночи я непрерывно чувствовала себя в той особой атмосфере Анниной жизни, Анниной души и ее отношения ко мне и нерушимо высокого значения ее на протяжении полувековой связи нашей. Да будет благословенно неожиданное для меня вчерашнее решение мое, в метро на Крымской площади, спасаться от зубовской духоты не в Соколе, как думала, когда прощалась с бабушкой, а под кровом Анны (заходить к ней даже не предполагала до Пасхи).
21 марта. 6-й час дня. Сокол
“Нечаянная радость”, – две “нечаянные” радости свидания с дорогими людьми, с которыми хотела бы душа не разлучаться ни в днях, ни в часах. Хотела и хочет поныне, ощущая как “тоску земного бытия” невозможность не только жить и умереть под общим с ними кровом, но и отнятую силой обстоятельств возможность определенных встреч на какие-нибудь полчаса раз в неделю, раз в месяц. Отсюда и радость – и странная боль от вчерашних встреч с Денисьевной и с Лисом.
Денисьевна, покружив по всей Москве в поисках, у кого я остановилась, нашла меня в Замоскворечье. Ее лицо, ее светлая, незлобивая нищета, ее интимнейшая “духовная близость к преподобному”, всё древнерусское, северное в ее существе, и восемь лет терпеливого сердечно-теплого ухода за покойной старицей моей, и настороженная, бескорыстная любовь ко мне – все это незаслуженный, свыше посланный мне дар в моей старческой жизни. И то, что я видела Лиса, живой и во плоти, а не как живущей в недрах души моей. И хотя это было общением только в течение много если получаса – но остался след, в котором хотя и было очень много боли, но и радость, не померкнувшая во мне и сейчас. К ней присоединилось и сообщение Вали по телефону, что они вчера вдвоем с Лисом побывали… в кино (!). Это удивительное, почти волшебное какое-то событие в жизни моих обеих “замдочерей” дает мне как будто ободряющий, тайный, знак, что болезнь одной и переутомленное сердце другой – на грани обновления, что сужден им иной ритм существования и не умерла в них жажда простого, детского, праздничного ощущения жизни. И что жива и цела их многолетняя дружба.
24 марта. 7 часов вечера. Замоскворечье
Как странно мне сейчас, что вчера я не отметила самого главного события дня. Какая-то часть моего существа – и не часть, а мое подлинное, главное мое “Я” по временам опускается в какие-то глубины и, только вынырнув оттуда, соединяется с другой частью моего “Я” там, где они одно целое (как, например, сейчас). А между тем и вчера, как и сегодня, я больше всего жила ожиданием встречи с одним из друзей прошлого и самой встречей, а ночью – мыслями и воспоминаниями той эпохи, когда ему было 20-30-40 лет (теперь ему за 60). И о его первой и второй жене (эта, которая сейчас в Грузии, – третья)[890]. И написала ему сегодня о его роли в наших жизненных встречах. Каждый раз, как и теперь, это была роль катализатора.
Вспомнила, как 30 с лишком лет объяснял мне известный химик (он бальзамировал Ленина) – в нашем кругу его звали почему-то Пепа[891]. Он с вдохновенным видом рассказывал, как некоторые вещества, прибавленные к химическим процессам, совершающимся в каких-нибудь других веществах, ускоряют этот процесс на целые годы.
Таким катализатором не для меня одной, для ряда лиц, являлся Герман[892], как звали его в тарасовской семье. Таков он по существу своему, что я почувствовала вчера после получаса карандашного общения (не виделись 14 лет).
Это, по-моему, процесс, совершающийся с обеих сторон, – то есть катализатор вызывает ускорение душевно-духовных процессов в тех лицах, какие на него действуют ускорителями движения.
Впрочем, это, может быть, частные случаи. Так бывало со мной в моей встрече с Германом, с “потусторонним другом”, с Лисом, с Н. С. Бутовой, покойной сестрой Настей.
134 тетрадь 1.4-25.4.1950
17–20 апреля. Перово поле
6 часов вечереющего дня, по-весеннему яркого и теплого по-летнему. Только на четвертый день моего пребывания здесь добралась до тетради. Неожиданно вернулась Саша (домработница, бывшая в отпуску). Без нее сама собой возникла моральная, житейская и сердечная необходимость включиться в хозяйничание Марии Владимировны, которой при ее ослабленном сердце запрещено много двигаться и предписано много лежать. Примешалась еще помощь Диме во французском переводе по истории живописи. С одной стороны, это было для меня как подарок Судьбы – что-то делать для окружающих, а не только обременять их моим существованием.
Но другая сторона: при указанном докторами моими режиме “лежать по возможности недвижимо” (я это предписание здесь скрыла) вчера к вечеру обнаружился возврат московской болезни, приступов – мозговая тошнота и т. п. Скрыла и это. Легла только раньше обычного и лишила мою Раутенделейн законного вечернего чтения (в постели при верхнем свете). Она с трудом и, конечно, с недовольством, по врожденной культурности от меня спрятанным, со вздохом рассталась с Бальзаком. Димок и вечером, и сегодня с раннего утра помогал Ефимову оформлять по его указанию воздушно устремившихся куда-то ланей на фоне узорно прозрачных кустов.
…На столе большой букет цветущей ольхи в кувшине и маленький – в три подснежника, в рюмке. Зазеленела вокруг земля. Первые, коротенькие росточки – но уже весенний травяной ковер разостлался до самой дубовой рощицы. Хотела дойти до леса – и не хватило сил. К вечеру получше. Займусь сейчас Димочкиными переводами на будущее время: впереди 12 таких экзаменов по истории итальянской живописи (на французском языке).
…Незнакомое доныне стыдливое чувство, что слишком загостилась на этом свете. Точно это по своей вине. А может быть, это и верная догадка – если бы достоин был перехода в “миры иные”, был бы отозван туда раньше. Недаром в древности была пословица: “Любимцы богов умирают рано”.
Письмо от Евгения Германовича. Додумался, милый, спасая меня от Тарасовых, выхлопотать мне убежище в психиатрическом каком-то учреждении, где изучают старость и где я даже могу быть полезна и как объект (!) для изучения ее, как “мыслящий пролетариат”, который оплатит свое пребывание культурным участием (!).
135 тетрадь 26.4-21.5.1950
28 апреля. 8 часов утра. Перово поле
Облачно, тихо, прохладно. Сквозь облака пробивается лимонная желтизна утреннего солнца.
Хочется записать, пока не забыла (записать для себя), темы вчерашних вечерних разговоров: с Владимиром Андреевичем о Хлебникове, с Марией Владимировной – тоже о нем (в этом доме с глухарем не исключены разговоры. Со стороны Марии даже длительные). Владимир Андреевич, опираясь на покойного художника Бруни, но исходя тоже из своего впечатления – на столе у него я видела книгу Хлебникова, – считает его крупным художником слова, новатором, непризнанным потому, что новизна его подхода к творчеству в этой области не по плечу современникам. Я говорила, поскольку знакома с Хлебниковым, о психиатрической стороне его книг и его самого (сталкивалась с его средой через Е. Гуро и Каменского, лицом к лицу с ним всего два-три раза и совсем молча). Талантливости его и тогда не отрицала, и теперь ее признаю, но мне он кажется покушением “с негодными средствами” выразить то, что по существу, в слове, также и в других искусствах, невыразимо. Вспомнились попытки футуристов что-то сказать (знала лично Матюшина), искажая, переставляя даже черты лица, соотношение всех частей человеческого тела или даже прибавляя к полотну картин рядом с красками клочков материи, соломинок, каких-то дощечек, колосьев и т. п.
С Марией говорили по существу “о границах выразимости Невыразимого” и о способах его. О глубокой индивидуальности (моя точка зрения) таких способов. Пример, какой я ей привела, не из области искусства, а из жизненного искания души, сознательного и бессознательного искания своей “линии движения”: то несказуемое, что нужно было в данный момент моей линии движения, мне дала в дни пребывания у них – в области встреч с людьми – встреча с ней (с Марией Владимировной и Лик Хлебникова).
Займусь сегодня, кроме Корреджо, каким закончу перевод для Димы, Хлебниковым. Если бы это была работа не только для себя, а для напечатания, в оформление ее я бы ввела старинное стихотворение Мировича, роднящее его с Хлебниковым:
Постигать непостижимое, Достигать недостижимого, Слить потоки неслиянные, Сделать сказом несказанное — Вот задача неотложная… Стань возможным, Невозможное!3 мая
Разъяснелся, разголубелся небесный свод. Хорошее в Перовом поле – это небесный свод, который обнимает тебя, от зенита до всех сторон горизонта – низенькие домишки в большинстве переулков чуть окаймляют горизонт. И хорошее в Перовом поле, главное хорошее, его прославляющее и его духовно украшающее, – Дом художников и центральные лица этого дома – Фаворский с Ефимовым[893].
Около часу занял поход в ближайший магазин – за кетовой икрой. Захотелось как-нибудь осолонить сахарность здешнего стола и что-нибудь внести в общий котел от лица моей старости, которая третью неделю живет на иждивении главы Дома художников. И за этот час, посвященный угостительной икре – и собственному гортанобесию, так устала от солнца и от пребывания в многолюдном магазине, что приходится отложить задуманные эскизы до пробуждения. Закроюсь газетой – и моментально засну.
Эскизы
О Владимире Андреевиче Фаворском и Иване Семеновиче Ефимове давно бы пора написать по целой книге – и о творчестве их, и о личности каждого, и об истории их жизни, и о картине быта и окружения их в данное время. И книги, если бы взялся за это дело талантливый человек, были бы глубоко интересны и поучительны для подрастающих художников и для всех грамотных людей.
Если бы я была художником и задумала в числе эскизов уделить им тоже те минуты, которыми располагают мои ущербленные годами и болезнью мозгов силы, я бы с Фаворского написала эскиз одного из евангелистов, того, которого изображают “с тельцом”, а с Ефимова (помолодив его лет на 30) – выезжающего из лесу в лавровом венке Кентавра или самого бога – Ярилу.
Мария Владимировна – одухотворенность и талантливость – в красках (цвета) и в слове, и высококультурная наследственность. Правдивость, отчетливость чеканки внутреннего отношения к семье и к людям. Привычка думать о других (в смысле заботы о человеке – близком и “далеком”) больше, чем о себе. Никакого подчеркивания ни одного из своих качеств. Правдивость натуры. Отсутствие “самохваления”.
Раутенделейн – писать эскиз акварелью нежнейших тонов. Эфирность материи облекает душу стремительную, способную к организованному труду, к стойко охраняемой линии движения в творчестве, в личной жизни. Привитый повышенной и балующей единственную дочь любовью родителей – недоосознанный эгоцентризм. Себялюбия, в смысле самобаловства, нет. В личной жизни способность к верной, стойкой и лишенной детского эгоцентризма (как по отношению к родителям) привязанности. Чистота и души – и непробужденной плоти. Димок (крестный сын Фаворского).
Из рода Азров бедных, как и его покойный отец и старший брат (“полюбив, мы умираем”)[894]. Красивые, своеобразной формы – холодные – глаза, куда-то выше и дальше человеческих голов устремленные (но лишь тогда, когда нет вблизи, в доступности его зрению любимого (до самозабвения и всех других людей забвения) лица). Чистота души, “словом, делом и помышлением” целомудренной (отцово и материнское наследие). Чувство долга, неспособность к компромиссам. Повышенное самолюбие и даже гордыня (неосознанная)
Лёля (сестра Марии Владимировны)[895]. Раненная жизнью (жизненными встречами и болезнью, помешавшей отдаться музыке). Отдалась аккомпаниаторской роли. Принуждена и это ценить как личный, не учитываемый теми, кто ее опекает, доход. Привычка не думать о своей наружности, о своем покое, об отношении к ней родных – но о них, о их жизни привычка думать и посильно, и даже сверхсильно участвовать в их обиходе. Задумывается, как бы беспредметно и болезненно (точно отсутствует) – но как будто и в это время, как всегда, подавляет какую-то боль, не может прогнать какую-то навязчивую, непосильную для души идею.
Милочка. Ярко цветущая молодая (около 30 лет) пышногрудая плоть. Рубенс. Красивые, ярко блестящие голубые глаза без всякого выражения: два драгоценных камня, смарагда или же ляпис-лазури. Вид какой-то озадаченный с оттенком терпеливого недовольства – от того ли, что она, по-видимому, вышла замуж без любви, за невзрачного художника лет на 15 старше ее и что ей не повезло в скульптурной области не приняли первой работы, на которую были надежды. (И была тут неприветливость – со стороны приемной комиссии – то, что на деловом их языке называется “печки-лавочки”.) Любит природу, любит работать в саду. Любит свои декольте и в обнаженном виде красивые руки свои. Детей нет – по-видимому, таково решение обоих супругов.
13 мая. 8-й час
Яркий закат, вернее – предзакатное время. Комната Анны. Недавно вернулась от Геруа. Редкостное у нас с ним – при такой разнице жизненных путей, не говоря уже о тридцати годах возрастного расстояния, взаимное слушание, слышание и с полуслова понимание – в вопросах души и духа. И при таких редких в этом году встречах каждый раз – у меня такое чувство, что разлученности нет. Похоже на то, что и у него так. Трогает меня, а временами и удивляет та глубина открытости его души, с какой он приближается ко мне. Как будто бы я одновременно и оптинский старец, и друг, немного постарше его. Он помнит мою старость как что-то для меня трудное, но не мешающее его общению со мной – с карандашом или чуть не губами приникнув к глухому старушечьему уху.
Естественно, что о чем-нибудь личном, меня касающемся, я говорю с ним редко, и многих черт колорита моей жизни он не знает. Но он способен, как говорил сегодня, “очень обо мне соскучиться, очень захотеть встречи”. Приехал сам за мной и сам, без шофера, отвез обратно. И говорил со мной об очень личном и так, как, думается, ни с кем не мог бы говорить. И устроил мне отдых после обеда – с лежанием в столовой, где я даже уснула. Вглядываюсь в это, как будто издали с умиленным чувством. И с удивлением. Но уже совсем прошло это “искание своего”, какое еще не так давно набегало, как грусть особого рода – очень сложная. И как недоверие, что я еще чем-то нужна ему. Сегодня, когда говорил это, обняв меня и целуя мое лицо, дряхлость которого я помнила, а он, по-видимому, не замечал, поверилось в то, что я нужна ему – но поверилось в совсем, совсем других красках, чем раньше. Тогда была потреба общего пути, ритма встреч и, пожалуй, совсем особого, духовно-материнского и жизненного, в днях его мне отведенного места, какого-то часа в неделю, вытекающего из его потребы душевно-духовной в этом часе. И как хорошо, что это все сложилось иначе. Тогда бы я уже перестала быть странником, чувствовала бы себя матерью его и, как все почти матери, в большей мере жила бы любовью к сыну, чем Любовью к его и к моему и всех людей Отцу.
136 тетрадь 22.5-14.7.1950
28 мая. 2-й час дня. Светелка Сестры Анны
Солнце, но слишком много сурово нахмуренных облаков, слишком холоден порывистый ветер.
Закончу о встречах. С Игорем – прощальная, перед его отъездом на два месяца.
С Лундбергом – встречальная, намечающая ритм желательных свиданий в Пушкине – и то, что в них обнаружилось при внимательном их обзоре всесторонне для нас – для моих гостей – вообще для меня неудобного. (Теснота, слишком много солнца и духоты на веранде с одной оконной створкой.)
В противоположность Игорю Евгений Германович схватывает каждую краску моего внутреннего и внешнего существования, все оттенки мысли и до особой, явно мучительной для него боли, слишком глубокого, слишком личного сочувствования. Он склонен погружаться во все перипетии моих скитаний, житейских – и тех, что над ними. Эти два дорогих мне человека вообще антиподы. Евгений Германович переполнен, как и в юности – нет, больше, чем тогда, – энергично-участливым интересом к человеку. Игорю интересен прежде всего, больше всего он сам, его творчество, его утрата жены, его житейское устроение в привычном комфортном виде. Он добр и всегда готов помочь (в незатруднительной для него форме) каждому, кто обратит на себя его внимание. Но живет он только одним собой, “своей душой, своей судьбой”. Евгений Германович слишком широк – непосильно для своих душевно-духовных сил, слишком щедр в самоотдаче. Игорь совсем не отдает себя никому и ничему, кроме боли своей утраты и театральной линии своего творчества.
17 июня
О людях.
От Валички весть, Божье наказание – неведомо, за что в ее праведной жизни: непосильная возня с чуждой ей, доставляющей много неприятных внутренних и внешних хлопот “гостьей” (пианистка Мура, внучка подруги покойной Валиной матери).
Вырвалось неподходящее к Вале слово “наказание”. Правильнее было бы – испытание веры и терпения. Путь.
Горько и тревожно прошло по душе извещение Вали о бедном Лисе: “Оля нехороша”. И всколыхнулось, выплыло из глубин Подсознательного Океана души осознание того, какая там могильная, бездонная тоска о Лисе, как нужна мне бывает она – в днях, в ее словах и “словечках”, ее глаза, ее улыбка…
23 июня. 6 часов вечера. Веранда
День еще не успел остыть.
Низкое небо, точно сплав из бесформенной облачной массы и голубоватого воздуха. Не шелохнутся сосны, ни один листок на верхушках молодых яблонь и вишен, глядящих в мое окно.
Надо, однако, найти силы записать более важное, чем о яблонях и вишнях. О том, о чем сегодня ночью хотела написать, чему вчера душа порадовалась. <…>
О конце душевно-духовной (укрывшейся под видом “жилплощадной”) тяжбы с Аллой. Конец совершился просто, легко, нежданно, как бы свыше зачеркнут Отчей рукой в этой горестной постыдной хартии, вписанной в мою старость, с которой страшно было бы уйти на “тот свет”. Которая одна, может быть, по высшему приговору, так томительно долго держала меня на “этом” свете. Конец зачеркнулся радственно-добрым тоном Аллиной записки в конверте со 100 рублями взамен иждивения, входившего в “жилплощадной” договор, который частично этими 100 рублями Алла, наконец, признала – а главное, ее двумя прежними добрыми словами, любимой мной со дня ее рождения до ранившей меня “тяжбы” (больше 40 лет любимой Аллой, Алочкой, “Ай”, как звала в дни ее младенчества). И еще важно, что всякий интерес к этим 100 рублям и к будущим оказался отсутствующим в сознании души моей. Дело было не в них, а в этих двух словах. От них с Божьей помощью, по Отчей Воле умерла в моей душе тяжба. И грех суда и осуждения Аллы, измучивший и заклеймивший мою душу.
9 июля
9 часов вечера, очень прохладного, тихого, с мутной позолотой отгоревшей зари в облачном небе.
Если бы меня спросил оптинский старец Анатолий (единственный исповедник, к которому устремилась душа “открыть тайные тьмы” и советы сердечные): – Почему ты не обратилась с молитвой к Богу, а попросила Павлика Голубцова[896], который стал недавно “отцом Сергием”, “помолиться о том, чтобы пришел к тебе смертный час «непостыдно и мирно»”, т. е. без мучительного, тошнотного головокружения, и чтобы вообще не влачился остаток дней в состоянии “мозговой тошноты”? – В ответ на этот вопрос старца я бы ответила: не знаю, отче, как и почему прибегнула к посредничеству Павлика (о. Сергия), когда и к святым не помню, когда обращалась с такой молитвенной просьбой о заступничестве, о предстательстве за меня перед Отцом нашим, который слышит и видит нас, каждого в каждом движении души нашей. И должна прибавить, что ни раскаяния, ни удивления перед этим письмом к отцу Сергию я не испытываю. Погрузившись в глубины сознания, смутно улавливаю, что имеет место в моем поступке особый оттенок смирения. Вот оно говорит мне сейчас: – Ты подходила уже к вратам Старости, когда отец Сергий был двенадцатилетним Павликом. И ты увидела теперь, как стремителен и праведен (и труден по иным многим обстоятельствам путь подвижнический) был путь его к отречению от мира сего во имя Царствия Божия, в то время как твоя дорога шла с ухабами, срывами, внутренними кружениями на месте, с недвижностью мертвенной по временам. И тут, сопоставивши эти два пути – верно, – поняла ты, чего не понимала до сих пор и на чем настаивает православие и что отрицает Толстой и лютеранство – иерархию душ в их богосыновстве[897].
“Павлика” ты непосредственно почувствовала выше, лучше себя, ближе к Богу, чем ты, и так естественно и радостно-смиренно стало для тебя обратиться к нему с просьбой помолиться о свыше-милости для тебя. (И недаром с того дня головокружения отступили и тошнота мозговая ослабела.)
137 тетрадь 15.7-31-8.1950
15 июля. 8 часов
Слезливый, по-осеннему холодный предзакатный свет сквозь белые тучи.
Приезжала утром присланная Аллой машина. Отвезти меня в клинику. Приехала в ней за мной одна из трех сестер – Аллина массажистка, “московская сестра”. Приехала как раз в такой момент, когда я свалилась от подкрадывающегося тошнотного головокружения. Я уже знаю, что первое лекарство от него – недвижность и пузырь на голову. Московская сестра и шофер пытались убедить меня, что “как-нибудь можно встать” (а еще пешком два квартала до машины пройти – там, где она от грязи проехать не могла). И только тогда убедились, что я действительно не могу, когда тошнота проявилась настолько реально, что надо было подставлять таз. Шофер испугался за обивку машины, московская сестра (она немножечко причастна медицине) поняла, что тут и до паралича недалеко, и, если он случится по дороге, Алла будет ее упрекать. Я же о параличе не думала, а просто чувствовала то “не могу”, которое слишком изучено в данных приступах.
Сестры – Антонина и Клавдия, хоть и порядком устали от меня и вместе со мной радовались, что вмешательство Аллы устроить меня хоть в поликлинику – было на высоте сестринского ко мне отношения. Не упрекнули, напротив, подчеркнуто были весь день ласковы и заботливы.
16 июля. 10 часов утра. Пушкино
Сегодня 6 недель, как я безвыездно болею в Пушкине – неизвестно для кого и для чего сделанная отметка. Вероятно, одно из свойств худо сорганизованной душевно-духовной старости. Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей. Хотела начать записью того сна, под впечатлением которого проснулась сегодня.
Мы, я и девяностолетняя А. Н. Шаховская, бабушка “детей моих”, заблудились в коридорах какой-то огромной чужеземной гостиницы. После долгих блужданий я вижу, наконец, дверь моей комнаты и в эту же минуту наталкиваюсь на “бабу Аню”, маленькую, худенькую, не такую дряхлую, как она сейчас, и она бросается мне навстречу с восклицанием: “Наконец я нашла вас! Уж как я рада, рада”. И я очень обрадована встречей и, бережно обняв ее, веду в мою комнату. Она все повторяет: уж как я рада! Все тридцать лет нашего знакомства отношения были тяжелые: она ревновала меня к детям и внукам, и вообще я не нравилась ей, а она была мне чужда, и только последний год возникла у нас душевная близость.
19 июля
И еще более жутко думать о том, что есть такие бараки, где в два этажа спят на висячих койках люди. Плохо вымытые, грубо питающиеся, без ночных сорочек. В тесноте. И что одно из этих существ, талантливое, богатое духовно, с прекрасной человеческой душой, чтобы облегчить себе эту участь – выбрало ночные дежурства[898]. Днем спать – посвободнее и воздух лучше. Ночью – быть наедине со своей душой – лучше, чем днем в толкотне общей работы. Праздные мысли. Тут нужно бы уметь делать то, чем помог мне Павлик (на довольно большой срок), – избавиться от “мозговой” головокружительной тошноты… Затемнилась, запуталась моя душа. Или это, может быть, та “ложбинка”, в которую ныряет она, побывав на гребне волны, и где (в ложбинке) набирает сил для нового взлета на гребень – не надо забывать этого. Так было до сих пор почти всю жизнь.
7 августа. 4-й час дня
Только что появилось солнце. Всю ночь и с утра октябрьское ненастье. Осенний холод, проливной дождь. В моей комнатушке “пещное действо”[899], на веранде сырость до того, что соль мокрая. Сестры перевели меня в опустелый приют Вероники. Там смежной с кухней стеной сырость парализована. Там я провела незаметно полдня, разбираясь в жалких клочках бывшего архивного материала. То, что было в нем ценного, начиная с писем и записок отца, писем и стихов покойной сестры Насти и целого ряда друзей из писательского и актерского мира и мои разного рода заметки и стихотворения, начиная от юношеского возраста до 45-ти с лишним лет, было сожжено по недоразумению при жизни матери (умершей в 1929 году), боявшейся, “нет ли в Вавочкином сундуке чего– нибудь интимного или из молодых лет, когда в партии была, социалисткой, – а теперь все по-другому – коммунистом непременно надо быть”.
Послушались ее и сожгли – я была далеко от Воронежа – не то в Киеве, не то в Москве. Без моего ведома исчезли письма друзей, которые были мне в те дни каждым словечком своим, и почерком, и моментом пережитой вместе жизни дороги несказанно. И которые в государственном архиве и через сто лет были бы ценностью, попавши в руки людей, желавших заглянуть в период конца народовольчества, декадентства, терроризма, начала марксизма, трех войн, революции и коммунистического строительства.
138 тетрадь 1.9-30.9.1950
1 сентября. Пушкино
Глубокой тайной дышит слово: было, К нему бегут грядущего ручьи, В нем жизнь минувшего застыла, Чтобы воскреснуть в инобытии. В. МировичВ этих четырех, давно написанных мною строчках есть то главное, чем я полна сейчас после встречи с Ольгой, неожиданно приехавшей ко мне в своей машине с Анечкой на полчаса. Полчаса – как мало! И как много в иных случаях. Так много, что с трудом вмещает его та часть души, где хранит она свое “личное”, то, что связано с каким-нибудь из лиц, исключительно ей близких. И связано при этом так, что во все стороны идут ответвления целого ряда существований, так или иначе тоже близких обеим нам – Ольге и мне – людей. И все эти люди, живые и умершие, возникают из прошлого, далекого и близкого, такого мучительно-близкого, что от живого касания Ольги осветилось оно и забилось, как раненая птица, в эту ночь в моем сердце. Велика тайна такой связанности душ и такой формы их общения, как сегодня. Полчаса. И в эти полчаса – больше о разных точках внешней жизни, вплоть до бытовой. И о том, что я уже знала из трех открыток с букетами цветов: о том, что Анечка уже в художественной школе и что успела уже, как радостное и для меня событие, пережить вчерашней ночью. Талантливая девушка – а годы шли, шли (в октябре “стукнет” 20) – шли вне ее интересов, вне ее призвания. Временами я издали, о ней думая, чувствовала, какими бессодержательными и душевно-нервно угнетательными ощущаются ею эти годы юности ее. Недаром и расцвет их был так медлен, и всё она казалась подростком. Прелестное по изяществу тонких черт его и больших лазурно-голубых глаз и цветочно-нежных красок лицо Анечки только теперь ощутилось как девическое, взрослое лицо. Всей душой благословляю ее вступление на сужденный ей путь в искусстве и в человеческой семье, в жизни сердца.
11 сентября. Терраска
Солнце забралось в гущину туч. Наползают новые и новые тучи. Ветер яростно треплет златоцветы и высокие бальзамины.
2-й час дня (печного, изгнавшего меня из моего угла).
Вчера письмо от Геруа, до получения которого собиралась безмолвно, как безмолвно, без записки даже, пришел ко мне его денежный “сыновний” дар, отослать ему обратно переданные мне от него 100 рублей Письмо с дружескими словами, где рассказано о намерении его приехать в Пушкино, чтобы “заглянуть в ласковые, добрые и… мудрые (!) глаза «Тети Вавы». Эта записка стерла, как мокрая губка стирает написанное мелом, его трехмесячное молчание. По словам его вчерашней записки, он писал мне из Киева и с дороги, но спутал номера и вместо 20-ти писал № 8. Жить после его письма, после возврата его в Москву стало легче. Большую все-таки роль он заиграл в Эпилоге моей старческой жизни.
139 тетрадь 1.10–30.11.1950
1 октября. 12-й час ночи. Москва
На “своей жилплощади” в тарасовской квартире.
Полчаса тому назад встреча с Аллой, вернувшейся с концерта. Счастливое ощущение – себя и ее, – что нет железного занавеса между нами – гнусной “жилплощадной тяжбы”.
У нее, может быть, он упал на время – потому что она уже узнала от матери, что – самое большое – промаячу перед их глазами две недели – до 15-го.
У меня, верю (по чувству того счастья, какое дает в последнее время Любовь к человеку), верю и надеюсь, что не посмеет “искание своего” затмить мне – что бы дальше ни было со стороны Аллы – будет она для меня той, 40 лет подряд ничем не омраченной любимой “Ай”, Аллочкой, Дездемоной, Офелией, Анной Карениной.
3 октября. 3 часа дня, пасмурного и по-осеннему холодного. Комната Леониллы
…Я спал, так крепко спал, Как будто жить отвык.[900] Г. ГейнеСон – не совсем обычный, вернее, сонное забытье длилось от 2-х часов ночи до 2-х часов дня. Это было кстати для общего домашнего обихода, осложненного моим пребыванием, и Леонилла не входила в нашу усыпальницу, зная, что до ее вхождения я не выйду в общие апартаменты и не нарушу Аллиной иллюзии, что она, генерал и мать живут втроем в 4-х комнатах и – главное – что нет в них “чуждого элемента”. Не стану обольщаться, что я для Аллы – до какого-нибудь большого внутреннего переворота в ее душе – так и останусь чуждой, как это совершилось за годы “тяжбы” и закрепилось связью с генералом, с его диктатурою в ее жизни. Я могу ее чувствовать и любить вне этих привходящих условий ее бытия. Но слишком знаю ее, слишком понимаю структуру обросшего бытия ее – общего с генералом быта, – что моя позиция члена (бывшего) в Аллиной семье сводится к тому, чтобы как можно реже попадаться на глаза Алле и Пронину.
9 октября. Комната Леониллы. 11-й час вечера
Свобода дыхания, свобода движения, т. к. Алла на вечере, посвященном памяти Неждановой. И генерал, верно, тоже. Леонилла слушает в гостиной (она же и столовая) радио в ожидании Аллиного голоса среди выступлений других артистов.
День у Инны[901] прошел в чувстве отдыха от своей “жилплощади”, в стенах которых незаметно, но с каждым днем, с каждым часом стало у меня накапливаться в спине, в плечах, в затылке ощущение гнета сил, стремящихся выжить меня из этих стен. Довольно вспомнить интонации вскрика всполошившейся Леониллы, которой я, желая сделать ей приятное перспективой не задержаться в ее комнате, сообщила, что у Евгения Германовича есть надежды устроить меня в физиатрической клинике. В том, как с испуганным и даже разгневанным лицом Леонилла вскрикнула: “А дальше он что-нибудь наметил? Ведь клиника – это какие-нибудь 6 недель”. Столько было в этом жажды освободиться от меня надолго, прочно, безвозвратно. Бедные люди! Мало надежд на это, кроме смерти моей.
12 октября. 12-й час
Захотелось в ожидании Леониллы после конца ее ночного, после возвращения Аллы из театра, чаепития вписать сюда оба Олины письма. Каждое слово в нем дошло до меня, как живое касание ее души. Такие слова даны ей – глазам и голосу души ее.
“Дорогая моя В. (это – я)! Что-то мне очень трудно – около месяца резкий поворот к худшему. Все то же – сердце, общая слабость, утомляемость, обмороки…
Сейчас ни о чем не пишу, только аукаюсь.
Бывают приступы такой тоски о Вас, что физически «сжимается сердце».
А писать не умею.
Анечка ожила, совсем преобразилась. Охотно учится, много работает. Работы не боится, а живет ею.
Школа очень нравится ей – все и вся в ней. За нее я рада. Спасибо брату Борису – это он открыл Ане дверь в ее будущее…
Вавочка, милая, откликнитесь. Что-то трудно, дорогая.
Вавочка, это – деловое, вслед только что запечатанному письму.
Есть заказчик на Ваши расписные конверты – я определила, что каждый конверт по 3 рубля.
Как удивилась я «во время оно» (в 1930 г.), увидев выставку картин и картинок Рабиндраната Тагора. Если бы я наверное не знала, что это его работа, я без сомнения сказала бы: «Варвара Григорьевна отобрала для выставки не лучшие свои вещи (!)».
В большом масштабе они у него теряют свою прелесть и даже как будто свое лицо – расплываются и гаснут.
…Вавочка, что-то мне плоховато. И в Москву не пускают доктора. Я не лежу. Выхожу в сад (лес). Но все время худо – ни от чего-нибудь. Просто от усталости. Устала. Обнимаю. Целую Вашу руку.
Ах, Вавочка, Вавочка, милая, родная моя”. (Тут конец. И слезы. Мои. Не умеющие проливаться, но затопляющие все в душе.)
17–18 октября. 7 часов
Звонил сейчас Игорь (Геруа). Скоро пять месяцев, как не видала его. И – может быть, это от гриппа – одно только “мыслечувство” зашевелилось в душе: “Ну, слава Богу – значит, жив-здоров и ничего трагического, такого, чтобы совсем заставило забыть обо мне по приезде, – не случилось”. Образ его двигается так торжественно – “через царские врата смерти” вошедший в мою жизнь, – такой сыновне дорогой, свыше сужденный, – дорог мне по-прежнему. В сыновней (и вневременной) сути своей. Но совсем не осталось в сердце желания, чтобы и я была осознана им в значении (вневременно) моего материнства и, пока живу на этом свете, в днях, в часах встреч, общения, к какому, казалось, была у него живая потреба.
Была. И прошла.
В преходящем живем мире.
25 октября. 12-й час ночи
Трудный день. Невылазный из логовища. Нездорова и расстроена сыном Алла. Нездоровится и Леонилле. У домработницы возобновились и увеличились припадки грубости. Первый припадок я ей простила и поговорила с ней даже ласково о необходимости владеть собой, сдерживаться. Но сегодня (без всякой причины, кроме необходимых для меня кипятков и грелки раза два-три в день) стала орать таким диким тоном и с таким свирепым лицом, что я отмежевалась от нее совсем. Приходится затруднять вместо нее бедную Леониллу, с которой она, оказывается, говорила (и с Инной говорила!) о том, что ей “с меня нужно по крайности 50 рублей в месяц!” Леонилла согласилась на это от моего имени.
Но домработнице, вероятно, эта сумма нужна была зачем-то немедленно, и она пришла в ярость и преисполнилась недоверием к моей платежеспособности.
Помогли ей так потерять равновесие и так озвереть, как сегодня, вероятно, еще уловленные “приживательские” оттенки в моем обиходе. Леонилла прячет меня от Аллы, от генерала. И ни разу домработница не видела, чтобы я входила в их гостиную. Даже когда проветривают нашу комнату, я сижу в кухне.
А может быть, она, бедняга, на грани психического расстройства. Такое не раз у нее было лицо. Жалко ее все-таки. Но возобновить с ней тот живой, братский, контакт, какой установился в первые дни, уже не смогу. Большое благо и сегодня, и в предшествующие дни – приходы Инны. Возможность побыть в нимбе ее Доброты и Человечности. Ценны и те нужные для печени услуги, на какие она не скупится.
28 октября. 6-й час
(Впрочем – забыла, что в 6 зайдет Геруа. Так велика слабость и одурение головы от нее. А может быть, и от размягчения мозгов.)
12 часов ночи. После ванны. Генералитет уехал на дачу. Появилась возможность ванны и телефона. Встреча с Игорем после пяти месяцев отсутствия встреч и всякого общения, кроме одного недавнего письмеца в Пушкино и желания приехать туда.
Большая загадка: такое расстояние возрастов, судеб, интересов жизненных – и так все близко, понятно и дорого. И не только мне. Когда долго не видимся, начинаю думать, что естественно ему во всем, чем он живет, потопить до самого дна души то, что нас соединило над могилой Тани. Но каждый раз убеждаюсь, что и у него все цело, и дорого, и нужно. У меня уж, пожалуй, это все как бы перенесение на тот свет. Но звук голоса (доходит звук его и Валиного голоса сквозь глухоту), глаза, детская ласковость его хоть тем и на “этом свете” тоже дорога, но живу не ею, а тем, откуда она у него.
4 ноября
От “сестрицы Аннушки” письмо, в котором она просияла, как солнечный луч, то, что больше полусотни лет тому назад моя сестра Настя, дружившая с Анной, сказала, когда мы говорили с ней о “сердцевинах сердец” известных нам людей: “А сердцевина у Анны – круглая, как солнце, золотая, и хоть спрятанная – от застенчивости, от целомудрия, но сияющая так, что до самой сердцевины другого сердца лучом своим дойдет. И не уйдет оттуда, и будет греть до конца жизни”. (Я записала один из моих разговоров на эту тему. Их было несколько; мы не раз говорили с ней об Анне, с которой я тогда только что познакомилась, а сестра уже с ней дружила.)
Выписываю это письмо с небольшими пропусками для того, чтобы почувствовать мне или тому из близких, кто прочтет выписанные места, в тоне их, в сочетании слов, солнечный луч, озарявший мою жизнь 50 лет подряд: “Вспоминаю все годы своей сознательной жизни и чувствую, как милостив был ко мне Господь, послав мне в спутники Вас. Ведь не было человека ближе мне по духу, чем Вы! И насколько это облегчало мне жизнь и мои «хождения по мукам». Романов и Вы – два человека, которые нужны мне были по существу для моего душевного и духовного роста, которые давали то, чего искала душа, помогали духу в его стремлении разобраться в хаосе земного прохождения… И как нужна была потеря Романова душе, подошедшей к иной ступени прохождения, так, очевидно, нужен ей отрыв от ее последней земной привязанности. И чувство великой благодарности и любви осталось в душе за все, что дали Вы мне. Вы были очень-очень снисходительны к моему суровому «айдаровскому» нраву.
Сколько Вы приняли от меня «заушений» (заслуженных и в каких никогда не переставала звучать сестринско-дружеская любовь)! А Вы за 50 лет не причинили мне ни разу ни малейшей боли! Да благословит Вас, дорогая моя, Господь. Вот он нас теперь разлучил – значит, так и надо. Я сейчас совсем инвалид, немногим лучше Вас. Может быть, я слишком рано впряглась в жизнь после своей болезни, но до сих пор у меня такая утомляемость, что после 10-15-ти минут стояния на ногах я в страшном изнеможении падаю в кресло.
…Но слава Богу за все – и за то, что уходит трудное, и за то, что оно приходит, оздоровляя наши души.”
(Вот где мы и сошлись с Анной в духе по существу, расходясь в некоторых местах Теодицеи. Аминь.)
24 ноября. 12 часов ночи
Об атомной бомбе – то, что вспомнилось из обывательских отзывов.
Маша-вдова (без места, у сына штаны в заплатах): Одна у меня надежда на атомную бомбу – чтобы грянула где-нибудь так, чтобы всех людей превратила без мучений, сразу, в пепел.
Старушка (по уши в непосильной работе):
– Ну и загремит, ну и разразится! Что тут особенного? Умирать все равно всем придется. А тут, по крайней мере, сразу. И хоронить не нужно.
Молодая девушка: Не боюсь я ничуточки этой бомбы. Даже как-то весело – вдруг все сразу загорится – и небо, и земля.
Читательница газеты: Тоска нападает – мало того, что дороговизна. И дома всякие неприятности. Еще атомную бомбу сулят. Тоска.
Новобрачные: Ничего, Любочка, американцы еще, может, через года два надумаются бросить. Успеем нацеловаться.
Жена: К чему я, дура, столько белья, скатертей наготовила, если только на один год. Не стоило и деньги тратить…
140 тетрадь 1.12.1950-6.1.1951
1 декабря
Встреча с Геруа, приславшим за мной в 6-м часу вечера машину. Один из оазисов в пустынях моей глухой старости. Вневозрастное, вневременное общение. Целовал на прощанье, провожая меня в машине, дряблую щеку мою, как целуют трехлетние дети любимую сказочницу-няню. Так целовал меня в младенчестве своем только Си Михайлович.
…На днях позвонила Си Михайловичу, узнав, что он уже не в Юхнове. Обещал прийти “завтра” – и вот уже три или 4 дня – о нем “ни слуху ни духу”. Сусанна, верно, не пустила. Велико засилье жен… в семьях таких слабохарактерных и национально-семейственных мужчин, как Си Михайлович.
… Так всегда было, таков закон жизни – старость должна убрать из души своей начисто притязания.
3 декабря. Ночь
О разных небесах.
Грубость манеры генеральской – походки, взгляда и в особенности глубоко не “интеллигентное” (за неимением другого слова) отношение его ко мне привели меня к мысли, за которую сейчас укоряю себя (“чернь непросвещенна” – и будто бы у так называемой черни совсем нет “небес”). Раз это человек, а не горилла – есть у него свои небеса. Только они бывают скрыты от самого человека.
Припоминаю, почему так неожиданно и так приятно было услышать, что он плакал, когда умер у него отец. И что на фотографии, висящей над столом в нашей комнате, где он стоит у перил лестницы близко к ступеньке, на которой сидит Алла, и так, что голова ее касается к его груди, у него хорошее, мягкое и человечно-счастливое лицо.
И по его живому отношению к восьмилетней Аленушке, Аллочкиной внучке, по тому, как он играл с ней однажды в мяч, можно думать, что он способен любить детей, что, значит, в нем есть что-то в душе от чистоты и живого движения, а не только эполеты, карьера и Алла. И не виноват он, что у него такая точно из обрубков сколоченная фигура и манеры грубые.
4 декабря. 6-й час вечера
Час тому назад – после трех дней “тьмы”, бурного ожесточения в работе (каким-то чудом не разлетелась осколками вся посуда), полных ненависти и презрения взглядов в мою и бабушкину сторону – вошел с обеденной порцией щей ко мне Оборотень. Монашески тихой и благопристойной поступью, с ясными доброжелательными глазами, с “благоприветливым” тоном речи (почтительно склоняясь к уху). Заинтересованно смотрела – понравилась ли ее стряпня, просияла, когда я кивнула утвердительно головой и сказала, что снетки в щах мне особенно приятны, так как напоминают мои детские годы в Киеве и Великий пост. (Все эти три дня я с ней не говорила. И обходилась без ее услуг. Питалась Инночкиным киселем и яблоками Игоря.) После щей – с таинственным, значительным и сияющим видом принесла блюдечко творогу со сметаной. (Без ее вмешательства и содействия такие “барские” яства генеральского стола не полагаются мне.)
Допускаю, что она принесла мне свою порцию – но отказаться от ее дара значило бы жестоко обидеть ее. И, может быть, сразу опрокинуть ее душевное равновесие.
Бедный, бедный Оборотень. Чем дальше, тем яснее для меня, что помимо характера и неандертальства ее тут зачатки (или, может быть, следствие) какой-то душевной болезни. Попробую поговорить о ней с доктором Диковецким или с Лией Сам., которая, может быть, вчера уже приехала.
5 декабря
В годы близости с Надеждой Сергеевной[902], как и во всю мою жизнь, исключая последних лет глухой старости, вокруг меня толпилась знакомая по родителям ее детвора от трех до 12-14-ти лет. Н. С. тоже интересовалась детской и отроческой психологией и ценила дружеское отношение к себе девочек из моего окружения. И пришел мне в голову однажды проект ввести в число годичных праздников – праздник “Перенесения вещей”. Имелась тут в виду борьба со скупостью некоторых детей и с излишней привязанностью к вещам, к собственности вообще. По-моему – и сейчас я так думаю, кроме вещей ценных, как чей-то дар или эстетически любимое что-нибудь – картина, статуэтка, – ни к чему из одежд, обстановки, украшения быта привязываться не стоило. И привязанности эти делали человека несвободным, загроможденным “предметами предметного мира”. Отсутствие этой черты Надежда Сергеевна во мне ценила, но для себя и для людей “в общем и целом” считала даже вредным. “Каждая вещь, каждая фотография в моей комнате, – говорила она, – одухотворена мною, всем пережитым здесь – и вдруг в этот «Праздник перенесения вещей» кто-нибудь снял бы мою любимую портьеру, которую я сама вышивала, утащил бы мою лампу, мою этажерку!»…”
“…Вам хорошо, – сказала она однажды мне, – вы родились с ощущением «проходит образ мира сего». Может быть, и я это вспоминаю нередко – но для меня тем ценнее некоторые предметы вокруг меня в своей преходящести. Они и символы пережитого – и доказательства реальности того мира, в каком я живу”.
И настал момент в ее жизни, когда после тяжелой болезни и тяжкого разочарования в человеке, которого она любила и в чью любовь верила всей душой, она устроила нечто вроде “Праздника перенесения вещей” – раздала фотографии с любимых своих картин, привезенные из Италии (может быть, некоторые из них были подарены ей этим человеком, с которым она разорвала всякое общение и даже перед смертью не захотела его видеть).
Во время болезни все интересы, весь пафос ее души сосредоточился на вопросах религиозного характера и на жизни исключительно духовной.
28 декабря. 12-й час дня
Первый день на “моей” жилплощади, пишу без лампы. Осветили балконную дверь снега ниже лежащих крыш. Первое зимнее впечатление Москвы. Хотелось бы о нем писать, но состояние головы ненадежно. “Шум в голове, и возня, и тревога – видно, рассудок собирается в путь”, как писал о таких своих состояниях бедный Гейне в конце своего страдальческого пути.
Заставлю себя хотя бы в самом односложном виде перечислить то, что наметила записать.
Появление Олега[903] (40 лет тому назад знала его пяти-шестилетним Лёликом). Сын очень мне милой и чем-то родной (может быть, по северу) близкой Катеньки Эйгес (до замужества Козишниковой). Ряд годов еще при жизни сестры моей, тогда фельдшерицы в подгороднем психиатрическом заведении. Там же фельдшерствовала и Катенька. Она потом поступила на медицинский факультет, блистательно окончила его и вышла замуж за музыканта К. Р. Эйгеса, всю жизнь работала в медицинской области. Редкий врач – врач по призванию, интуитивный, не идущий торными путями. Из породы, кроме того, врачей-целителей, как Гешелина, Калмыкова, каким был покойный Ф. А. Добров. Муж Катеньки невзлюбил меня (очень мы с ним “разных небес” – и ревность у него была к нашей дружественности сестринской с его женой). И вся дальнейшая жизнь, моя и Катенькина, пространственно разъединилась.
Третьего дня от Олега я узнала, что отец его меньше месяца тому назад умер. И принес “Лёлик” мне от Катеньки горестное письмо с полными той же, полсотни лет тому назад звучавшей в голосе ее души любви сестринской и детской и северной, нашими прадедами завещанной, близости.
141 тетрадь 7.1-31.1.1951
8–9 января 1951 года
Рецидивы буйных припадков Оборотня (после отъезда Аллы на дачу. При ней сдерживалась). Взрывы захлебывающейся ненависти ко мне – через какие-то промежутки сменяющиеся тихостью, обычным, только больным и усталым выражением лица. Даже некоторым вниманием к моим вкусам. Но появилось новое выражение, проскальзывающее сквозь тихость и усталость и услужливость. Особая улыбка в глубине глаз, сверлящий хитрый взгляд, недоверие и как бы уличение меня во лжи. Или спрятавшее когти озорство, смесь нарастающего ожесточения с готовностью пресечь его – как бы страх передо мной. Во всем этом вижу явные признаки душевного расстройства, которые Леонилле не хочется видеть. И по легкомыслию, по какому держали предшественницу Оборотня, оказавшуюся проституткой, признаки чего для меня были ясны и в выражении глаз ее, и во всей манере держать себя с незнакомым ей столяром, пришедшим как-то работать у них на кухне, по количеству нарядов, которые она однажды демонстрировала передо мною. И, главное, почему Леонилла Николаевна делает вид, что “ничего особенного” в Оборотне нет, просто истеричность. Это боязнь остаться без поварихи, какую нелегко будет сыскать, которая так угождает своими изделиями генералу (Алла почти равнодушна к кулинарии). Выход из положения Леонилла нескрываемо наметила, вернувшись с дачи, в решении во что бы то ни стало, все равно куда и как – удалить меня с “моей жилплощади”.
Оборотень – тут хороший предлог, подскочивший на помощь Леонилле в ее заветном стремлении “освободить генерала и Аллочку” от меня.
19 января. 11 часов утра – для меня раннего
Балкон перед окном запушился снегом. С белого, облачным покровом одетого неба пробивается розоватый, точно зарёвый свет.
Труден путь,
опасно прохождение,
опасны страх и остановка.
(Индусская мудрость)Напоминаю себе о ней – с прибавлением той, какую не устаю напоминать: “Самое трудное и есть самое нужное”. Напоминаю, стукнувшись о камень, который всегда наготове за пазухой Леониллы в мою сторону. И может быть, не столько ко мне за что-нибудь, сколько к самому факту моего в их дом внедрения, о котором, вероятно, был совещательный и меня осуждающий разговор у нее с Аллой и генералом за утренним кофе в гостиной, откуда она пришла.
…Но и этих жребиев для себя отнюдь не бояться, помня, как “опасны страх и остановка”. И если бы “остановки” после такого утра, как сегодня, не произошло.
Письмо Ольги Александровны Веселовской – Лисика моего:
“18/I. 51-й год. Вавочка, милый Друг, как мимолетно на пороге черного гранитного подъезда и у дверцы автомашины мы видались. И как я была рада видеть милое, светлое лицо Ваше и серебряную голову. Вернулась к Вам Ваша красота, но еще какая-то лучшая, чем была тогда, когда о Вас говорили как о красавице. Как хороша в 80 л. Это большая радость.
После Варварина дня мне приходится лежать целые, почти целые дни[904].
Чтобы не пугать моих, встаю к обеду в полном параде. Потом, после обеда (вот уже неделя, как на этом настоял доктор), медленно обхожу дорожки моего сада. Прекрасные подруги мои зори, тихие мои братья вечера. Как чудесно об этом у Вас сказано[905] об «огромном» окне в комнате Инны: «У нее какое-то необыкновенное метерлинковское окно».
….Я сызнова живу, минувшее проходит передо мною. Медленно, очень внимательно читаю Ваши стихи – томик за томиком – и все, что относится к тем временам[906].
…Аню я видела несколько минут. Она очень выросла, увлечена своей школой, своими картинами. Теперь пишет маслом композицию о декабристах (встречу Волконской с Трубецкой). Очень живой набросок.
…А знаете что, Вавочка? Может быть, я смогу приехать на денек-другой в Загорск. Меня привезет туда мой брат Борис.
…Как много наших друзей, и любимых, ждут нас, Вава. Не может, не может быть, чтобы не ждали и чтобы мы не встретили тех, кто нас любил, кого мы любили.
Кто «любил» (вообще), а не просто жил на свете, тот не может умереть. И только те, кто никого никогда не любил, только те умирают, потому что и не жили.
…Ни малейшего представления нет у меня о «том свете». Вечерние светы, зори, воздух после дождя, солнце. Любимая моя земля. Прах, земля – у Базарова-нигилиста, лопух. А почему бы и не лопух, и не «горсть пепла»? Все во мне, и я во всем. Нет смерти. Каждым дыханием, помыслом, каждым явлением жизни – во всем мiре, во всей и земной нашей, человеческой, жизни – знаю: Смерти нет. Всеединство. Жизнь. Всегда – будут”.
142 тетрадь 1.2-28.2.1951
25 февраля. 11 часов. Москва
Жилплощадь Мировича, куда помогли сегодня Денисьевна и Ника перебросить мешок с его скарбом, тетрадками и лекарствами – и его самого.
Встреча с подругою всей жизни, после рассказа Оборотня о разговоре с бабушкой обо мне[907], ожидалась мной в худших моральных и эмоциональных тонах, чем произошла. Шевельнулись (у нее и Нины) полузабытые, полустертые – полуживые, но не совсем отмершие нити живой жизненной связи со мной. Мой план – уйти “в дальний скит Молчания” – не удался. Отвечала на их вопросы не односложно и без волевого принуждения. Хотя внутренно не было просто, не было радостно. Подыскивала понятные для них слова, каких ни в каком другом обществе не подыскиваю. И вздохнула свободно, когда осталась наедине со своей тетрадью – они обе ушли в столовую поджидать Аллу и генерала из театра, для семейного чаепития. Оборотень с дружелюбным (подчеркнуто дружелюбным) видом принес мне без их санкции и без моей просьбы простоквашу. И спросила, что мне купить завтра у Филиппова и не нужен ли мне лимон. Когда в ответ на эту приветливую заботу во мне шевельнулось чувство опорной точки в этом доме – я напомнила себе Зухру, помахивающую хвостом, с растроганно благодарным взглядом, когда она неуверенно стоит у порога и я нежданно для нее подзову ее и протяну ей кусок сахару. И к Оборотню помимо существующего и бережно хранимого мной братского отношения – примешалась зухринская жалкая радость руке, гладящей не против шерсти, протягивающей нужный кусок. Не только дневного пропитания, но чего-то еще сердечно, душевно приятного…
26 февраля. Час дня. Москва
Светлица сестры Анны, которая отлучилась на какой-то срок – лечить обваренную ногу – ее первый выход за три месяца. Чтобы повидаться с ней, отважилась на героический для восьмидесятидвухлетней моей гипертонии переезд на автобусе – на котором езжу последние годы только в исключительных случаях, под чьим-нибудь эскортом. Сегодня – без всякого эскорта – кроме руки молоденькой кондукторши, снисходительно протянутой мне навстречу, – и 4-х женских рук, с двух сторон обхвативших меня при спуске со скользких ступенек.
Как все знакомо, как трогательно все в этой комнате, освещенной и освященной 30-ю годами пребывания в ней сестры Анны. Досекинский портрет красавицы Веры Айдаровой. Юное, замкнувшееся в своей красоте, вознесенное красотой на особое, удаленное от “простых смертных” место. И не случайным украшением кажется обрамляющая портрет овальная золотая рама. Фотографические снимки с музейных картин – наследие Н. С. Бутовой: “Благовещение”, опять “Благовещение”, Primavera Боттичелли, карточка Пантелеймона Романова – наивное, неопытное лицо. Птенчик, у которого начали отрастать крылья. И он думает, что они орлиные…
143 тетрадь 1.3-31.3.1951
2 марта. 7 часов вечера
Скончалась вчера А. Н. Шаховская (узнала сейчас об этом по телефону от Ники), закончился длинный и под конец трудный старческой немощью и болезнями земной путь, на 93-м году жизни, переходом в “место светлое, место злачное, место прохладное”. Так ощутилось мной место ее за “вратами сени смертной”. Девяностолетнее лицо ее, освещаясь в последнее время улыбкой, становилось открытым, ясным, детским лицом. И как я счастлива, как благодарна ей, что последний год наших встреч перестал омрачаться чувством взаимной антипатии, то есть видения друг друга только со стороны тех свойств нашего внутреннего существа, какие нам чужды и неприятны. И с преувеличением этих свойств. И невидения того, что особенно ярко отразилось во мне час тому назад от Никиного мягкого голоса, прозвучавшего по телефону в ответ на мой вопрос: как чувствует себя бабушка (я знала, что она “плоха”):
– Баб Вав, бабушка вчера скончалась.
4 марта
На кладбище я не поехала – подкрадывалось коварно головокружение. И калоши забыла надеть, торопясь на такси, – а на Ваганьковском, слышала случайно, уже весенняя грязь овладела снегом. За поминальным столом набралось до 20-ти человек родных и знакомых – и так стало тесно, что Лизе не хватило места. Она выключилась из поминальщиков и наполовину удалилась на кухню, вмешавшись в хлопоты приглашенной для этого случая, помогавшей в уходе за бабушкой бедной женщины из их дома, сделавшей предмет заработка из роли заместительницы прислуги там, где ее не хватает, – на именинах, крестинах, свадьбах, похоронах. За столом (из сдвинутых разной масти трех столов) было так тесно, что Ника сел рядом со мной на высокий сундук так, что колени его оказались выше стола. Я поместилась на узеньком конце маленького столика, придвинутого к главному, большому. И пригласила к себе Вавочку, которой предстояло оказаться без места. А рядом с ней, уже половиной существенно за пределами стола, села тоже рисковавшая вместе с Лизой остаться вне общества поминальщиков “кума” тети Ани (тоже из бедных женщина), которая крестила у нее трех дочерей. А за поворотом уголка – очаровательно-поэтическая пара Димок и Раутенделейн. <…>
6–7 марта
Пишет Геруа, что работает много, “как никогда”, спектакли, концерты – не только в Москве, но ездит то и дело в Ленинград, в Вышний Волочек, в Тверь. Этим объясняет 2-месячное молчание свое. А еще тем, что Алла отняла у меня свой телефон.
И в заключение “крепко, крепко целует”. Меня. Беззубую. С хроническим насморком. Не верится мне, что нужна ему встреча наша 14-го. По доброте, ему свойственной, хочется старой бабке удовольствие доставить – как винограду кило, два раза присылавшиеся мне этой осенью. А может быть, шевельнулось неумирающее впечатление, пережитое им, семилетним, и мной, тридцатисемилетней, “этой сумрачной Похьёлы, этой мрачной Сариолы” на какой-то даче, где я в их семье гостила.
10 марта. 8-й час вечера
В сегодняшнем моем свидании с Евгением Германовичем и его женой Еленой Давыдовной под их кровом есть нечто, не вмещающееся в слова. Есть зов Надвременного, о чем несколько лет тому сложились у меня стихотворные строки:
Когда встречаются души, в минувшем — Друг другу сказавшие “да”, Оживает мир уснувший — Упадает времен череда. Заповедные грани рожденья — Расторгает памяти луч, И звенит водой воскресенья Над могилами Вечности ключ. И печальна, нерадостна встреча — В ней трепещет все то же “да”, Как минувших веков Бесконечность, Как веков рожденных звезда.И так властно и так ярко прозвучали они в моей душе, когда я раскрыла эту тетрадь, что призрачными, ирреальными ощутились стены чуждого мне быта. И сыновне-дружеская Любовь, какая согревала меня в часы пребывания у них, и горячая, как солнце.
27 марта. 10-й час вечера
Часть дня у Евгения Германовича и Елены Давыдовны. До чего они оба родные. Под словом “родные” разумею не общность в национальных свойствах (он “швед”, она “грузинка”), а “взаимопонимание”, “взаимопроникновение”. В каждой интонации голоса, в каждом взгляде, в каждом жесте, с каким пододвигаются мне угощения, какие специально в такие дни они имеют в виду меня – что мне полезно или что Евгений Германович помнит кое-что из пищевых моих старинных прихотей. Такой утонченно-милосердный отдых после чуждых флюидов “генеральских” стен. Да еще с Оборотнем в придачу. Поневоле встает аналогия с достоевским “Сном смешного человека”.
Точно их комната для меня – тот эдемского характера двойник “нашей Земли” на ул. Немировича-Данченко с ее ультраземным мещанством, с айсбергами, защитными от высших интересов и от вторжения человеческих жизней вообще, кроме семейного круга. У Аллы и теперь бывают моменты выхода из-под спуда семьи, но общий тон так непохож на прежний ее москвинский дух, что русло жизни уносит, может быть, ливнем не туда, куда бы порой и ее душе хотелось.
Это (не шутя говорю) – реальность для моей старости безвозрастного, близкого к детству состояния обитателей достоевской “Земли”, в полноте взаимной Любови и безграничным доверием и взаимного понимания и… решаюсь прибавить – думаю, что не только у меня, но и у них ощущение, что смерти нет. Что есть только жизнь и верность.
Ночь. Олино письмо – ответ на мое о Степане Борисовиче, о ее муже, который был болен. В письме – как всегда у нее – поэтизация и большой резонанс ее души. Но этим-то как ее исконным свойством, оно мне и дорого. И вписываю его в эти страницы не только для себя, но и для тех, кто знал и любил моего Лиса – начиная с Оличкиной дочери, моей Аннелички, Аннабели.
“25/III. 51 г.
Дорогой друг, милая моя Вавочка, целую Ваши очи и руку за письмо из стран рисунков на Ваших конвертах. (Были годы, когда я на конвертах писем к близким рисовала моря и пальмы, которые у Лисика получили такую значительность и красоту в резонансе ее восприятия, какую я сама, и почти больше никто, кроме Лиса, не видел в них.)
На строки Ваши, относящиеся к нему, Степан Борисович (прослушав их два раза) просил поблагодарить Вас и сказать, что и за Вас рад (он помнил антагонизм, который провел непроходимую между нами черту за все время знакомства – и только в последние годы исчез (у меня), о чем я и писала Оле). И дальше он просил Лиса поблагодарить меня и сказать мне, что в последние годы в нем появилось желание примириться со всеми и со всем. Но последнее дается трудно, и ему тяжело уходить непримиренным. И еще раз сказал, чтобы я написала Вам о его благодарности и о радости добрым строкам Вашего письма.
В воскресенье 1-го апреля у Фаворских будет петь и сказывать “старины” Шергин. Поедет туда и Аня со своими друзьями. Писала ли Вам Аня о концерте Баха, на который поехала с Иваном Семеновичем (художником Ефимовым)?
«После Баха» Аня говорила:
– После Баха иду по улице и так улыбаюсь, что прохожие с завистью поглядывают.
И о том, писала ли она Вам, как она была у Вареньки Потоцкой (подруга) – у ее дяди и смотрела там подлинные гравюры Дюрера.
…И как в Гирееве у подруги она танцевала до усталости, потому что «все знакомые» и она не стеснялась.
У них было очень радушно, весело, но без «развязности».
Ели холодец с хреном.
…Все это юность, юность – и Дюрер, и Бах, и Гамлет (так прозвали одного художника, о котором Анечка и мне с жаром рассказывала). И улыбки, на которые прохожие поглядывали с завистью.
Во всем дыхание весны, весны златые дни.
… 29-го Марта день Вашего рождения.
Мы все, кто любит Вас, будем с Вами, высокий (!) друг наш милый”.
Кончается словами: “О, Вавочка, как много у нас друзей и дорогих нам людей уже не на этой планете – не на Земле. А где они? Только в нашей памяти. Только? Да разве может это быть так? Конечно же – нет. Я не знаю, но это не может быть так. Оля”.
28 марта. 4 часа утра
“Сторож, сторож, сколько ночи? Утро еще не начиналось, Но ночь уже кончается”.Эти слова прозвучали во мне, когда перечла сейчас, проснувшись, письмо Лисика. Вчерашнее. О Степане Борисовиче. Захотелось – и так радостно-важно было убедиться, что это не сон. И строки Лисика перечесть о том, что Степан Борисович “рад моим добрым о нем строкам”. Я и не думала даже, что она их прочтет ему. Писала их только для нее. И я сейчас ответно радуюсь его “добрым обо мне строкам”.
Этого движения, исключающего возможность суда и осуждения, не было между нами со дня нашей встречи – больше 20-ти лет тому назад. И в Радости, какая прошла через мою и его душу (при помощи Олиной к нему и ко мне Любви), есть лучик Отчей любви к нам, какой, верю, поможет и ему, и мне перешагнуть, как детям одного Отца, порог, у которого мы оба стоим, и помогло нам в этом движение любви Олиной к нам обоим.
И вот уже 5 часов. И не хочется, жаль заснуть, хоть перо уже плохо слушается. Жаль спать от сознания таинственной грани, какую мы – я и Степан Борисович – с помощью нашего Лиса – перешли – неожиданно для нас самих перешли. Еще в детстве – и в отроческие годы – и в дальнейшей жизни у Лиса моего проявлялся этот, по ее словам – “построить, кому нужно, «золотой мост»”. И это, верно, знак мне, что – хоть “утро” не началось – “ночь” моя уже “кончается”. Надо где-то достать Библию и перечесть пророка Исайю.
29 марта. 3 часа ночи
…Об ушедших в край безвестный, Утонувших в тьме времен, О могилах бескрестных Полуночный плачет звон.(В глухих ушах и точно кто-то псалтырь читает.)
И те, кто еще не умер, но чья жизнь “горше смерти” (как ее мыслят те, кто не коснулся ее Тайны).
И те любимые, незабвенные, далекие живые – дальше, чем если бы они были “мертвые”, – обступили мою “жилплощадь”.
Боже, милостив буди мне, грешной! Милостив буди, Господи, нам.…Но какую нелепость говорит Эфрос о Серове, называя его “публицистом без цели, экспериментатором от случая, разносторонним – от безразличия, мастером – от повторений (?) и. “первым декадентом русского искусства”[908]. Вспоминаю сейчас хотя бы серовский портрет матери М. В. Фаворской (жены художника Фаворского). Более проникновенного, более тонкого изображения сложности, одухотворенности – и обреченности своей – индивидуальнейшей жизни и общей тайны Смерти, чем в этом женском лице, трудно представить. Уезжая от Фаворских, я прощалась с этим портретом, как с живой, остановившей меня особенностями своей души женщиной. (При жизни ее мы с ней не встречались.)
Сапунов. Согласна с Эфросом и помню, что в моих отзывах о сапуновских картинах было то же, что говорит он (в более удачных и сжатых выражениях, чем у меня): “.влюбленность в поверхностность предметов, блестящая оболочка какой-то слепой и мертвой природы.” И что за приговор Фаворскому: “Он всегда будет больше именем, чем искусством”.
“Слова, слова, слова”.
Не хочется больше писать. То есть не хочется иметь дело с Эфросом.
144 тетрадь 1.4-30.4.1951
11 апреля. Ночь
Как бы я сейчас ни принуждала себя, как бы нужно ни было мне для чего-нибудь важного не только для меня, но и для других, – ни за что не удалось бы мне написать намеченные вчера “портреты”. Между тем я очень хотела бы сделать эту работу… и тут-то выясняется до конца, что это не “работа” – а прежде всего то состояние, какое называется вдохновением. Хоть Брюсов и писал: “Вперед, мечта, мой верный вол! – Неволей, если не охотой. Наш путь далек, наш труд тяжел, – И я тружусь, и ты работай”[909]. Вероятно, это же происходит и в композиторском творчестве. И у художников в момент создания концепции картины. Воздух той волшебной страны, которая называется Страной Творчества. Струя этого воздуха выхватывает человеческую душу из всего, что она в данный момент видит, слышит, чем жила до этого, и высоко подымает над миром текущих забот и всех интересов дня. И уносит туда же, куда великих поэтов, и единого от “малых сил” Мировича.
…Умершая больше 30-ти лет тому назад дружественно близкая мне художница и поэтесса Елена Гуро набросала однажды на эту же, мной затронутую сейчас тему замечательный эскиз картины. Она озаглавила ее “Сад поэтов”. Воздушно-прекрасный, по замыслу близкий к тому, как некоторые художники изображают Эдем. В саду этом ни зверей, ни птиц. И никаких людей, кроме поэтов. Они сидят, прислонившись к стволам пальм, или полулежат под развесистыми цветущими деревьями. Расстояние между поэтами таково, что исключает представление о разговорах между ними. У каждого в руках тетрадь и карандаш. Некоторые записывают то, что подсказало им вдохновение. Другие, закинув голову назад, созерцают в воздухе то, что им одним в нем видно. Иные в упоении мечтой лежат с закрытыми глазами, крепко прижимая к груди тетрадь. Ни один поэт не смотрит ни на кого из окружающих поэтов. Каждый ушел в созерцание своей мечты. Не всегда это Царство Красоты. Не всегда и у Гуро были картины, напоминающие сад Эдема. Помню в ее рисунках образ человека, поверженного на землю – он опирается на левую руку, силясь приподняться. Правая рука и лицо с выражением жестокого страдания подняты к небу.
Но и этот эскиз, как лирика всякого поэтически настроенного лирика, был набросан в том же “Саду поэтов”. Творческий образ поэта родился в это время, может быть, в нем же. И цветов, и пальм его она не видала, как и этого умирающего. Как не видел Данте своего “Девятого круга ада” нигде, кроме как в таинственной стране Красоты, отобразившейся в нем в виде антитела, созданного в потрясающих формах страдания и гибели.
16 апреля. 10-й час. Дождь
Но в шубе в дождь было приятно идти вместо Инночкиного дара – пальто – “на поношение”, как говорили 70 лет тому назад. В нем от одной дряхлости, узости и рвани вместо подкладки было нельзя заходить в квартиры, а лишь ходить по улицам и в магазин. Я встретила на днях милую для меня своей наружностью Еланскую, с которой всегда в лифте обмениваемся какими-то приветливыми словами и улыбками. А я о красоте ее каждый раз невольно упомяну. И вижу, что ей упоминание чем-то ценно. Она ехала с какой-то нарядной дамой, должно быть актрисой. И… вот стыд, какой пережила я за нее, а она за знакомство со мной (в жалком Инночкином рваном пальто). И сделала, бедняжка, вид, что меня не узнала, ставши профилем ко мне.
30 апреля
Хочу записать на последней странице все, чем моя “жизнь красна” в данный момент, хоть она и “на распутье трех дорог”. Первое: не дрогнула, не уменьшилась вера в Отчую волю, второе – Доброта человеческая. Ощущение помимо братской любви ко всем без исключения людям еще близости тех душ, с которыми духовно-душевно и особым интимным общением в жизни сердца мне дана. И ближе всех, больше всех, сейчас ощущаемая, сегодня приснившаяся в жизненно ярком сне Ирис. Приезд, свидание, дочернее объятие ее и те слова, какие два года тому назад ею в марте были сказаны: “Довольно вам скитаться. Отныне вы моя дочь. Я поняла это – и до конца жизни вас не покину. Поняла, что так же нужна вам, как вы нужны мне”. Да отплатит Бог ей во царствии Своем за эти слова.
145 тетрадь 1.5-30.6.1951
19 мая. 2-й час дня
Серо-голубое небо. Частые бродячие облака, набегающие на туманное солнце. Второй день под кровом Катеньки[910]. Теплая, женственно-нежная и внимательная дружественность, в каждой мелочи проявляемая ко мне ею, невесткой ее и внучкой, кончающей школу, ощущается, как и “тети-Анино” отношение ко мне в предшествующие три недели, ощущается мною как свыше посланный дар целения и подкрепления моего ослабевшего за московские полгода существа.
Без этого дара не решилась бы я предложить Катеньке заняться оформлением написанной ею биографии ее сына Сережи, не вернувшегося с поля войны. Талантливый художник – и портретист, и пейзажист, пошел добровольцем в последнюю войну, чтобы разделить участь тех, кто защищает родину. Оставил жену и маленькую дочь. Теперь ей 17 лет. Она с матерью живет в бабушкиной квартире – после недавней смерти Катенькиного мужа, профессора консерватории Константина Романовича Эйгеса. Говорила я сегодня с Катенькой о том ощущении “дома”, какой дает для таких скитальцев, как я, весь обиход и самое расположение старинной, без коридорной, но в высшей степени удобной и поместительной квартиры. Дом – в противоположность тем (опять, увы! вспоминается тарасовский), где жестко расчерчены права “своих” (муж, жена и, к счастью, включена мать) и рядом с ними, толстыми чертами, бесправность “чужих”. Здесь, в этом Катенькином доме, открыты окна на весь божий мир и широко распахнуты двери населяющих его душ “видению, слышанию и пониманию” тех, кто входит под их кров. Здесь удержала себя от сравнения с “домом”, который всегда вводит в искушение судить и осуждать. Презираю себя за это и всё не могу сладить с греховной своей природою. Надо ввести в ночное правило молитву Ефрема Сирина, которой кончаю запись дня: Господи, даждь мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего. Аминь.
26–27 мая
Уже целые сутки живу в “Доме художника”, разделяя тревогу Фаворских о Марии Владимировне, жене талантливейшего из граверов, чьи работы случилось видеть. Грустное для меня в этом моем посещении дома художников то, что самое для меня притягательное в этом доме лицо настолько худо себя чувствует, что доктора не разрешают ей никаких встреч, кроме как с домашними для необходимых точек соприкосновения. День и ночь с ней для общения и духовного, и для житейского в области ухода за ней муж ее, Владимир Андреевич Фаворский. Идеальнейший из всех немногих известных мне “хороших” мужей, каких я встречала в жизни близко знакомых мне женщин. Поистине он имел право на тридцатом и больше году брака делать подпись на подаренной жене книге: “Возлюбленной Марусе – с любовью”.
…Но не то я пишу, что мне нужно. Пролетающие мысли, налеты воспоминаний. Нужно уловить что-то – самое в данный момент нужное. Для этого необходимо остаться наедине с собой хоть в самом крохотном уголке жилья своего или чужого, как я сейчас – на крышке “хлебного” сундучка, в кухне. Часа полтора-два никто сюда не войдет (час приготовления вечерней еды – 8 часов). Тут вошел Владимир Андреевич и с выражением замешательства на апостольском своем лице сказал смущенно: “Мне сахару нужно”, – а сахар, оказывается, в “хлебном” сундучке.
Прервав процесс писания и мыслей, Мирович с чернильницей освободил от себя крышку сундучка, и апостольское лицо над блюдечком сахара промелькнуло, не смутив одиночества моего. Того, за которое так держится моя Денисьевна даже под рухнувшим с одной стороны ее комнаты потолком.
3–4 июня
На “своей жилплощади”, где в мое отсутствие так старательно все приготовлено к моему отъезду, что даже постельные вещи наглухо упакованы и спать сегодня придется как в неспальном вагоне не раздеваясь, с одной подушкою под головой. По хитроумному плану Леониллы, когда я вернусь, меня вместе с этими всеми вещами переправить в Зубово, чтобы этим предварить все случайности расстроившегося переселения на Перово поле. Возврат же она может потом объявить фактически невозможным.
Ночь. Не спится. Может быть, потому, что пришлось лечь, почти не раздеваясь, как много раз в молодости в вагоне. И вместо подушки у меня веревкой обвязанный тюк с вещами – и только поверх его подушечка “думка” – как называли эти подушки на Украине.
…И вдруг я помолодела на 60 лет. И мне только 22 года. И, как бывало порой в те дни, в один из периодов, наиболее трудный из трудных, в партии Народной Воли в Киеве 60 лет тому назад, когда мне и семнадцатилетней сестре Насте нередко приходилось ложиться спать голодными – в буквальном смысле этого жуткого слова. И мы придумали спасение – “уходить в путешествие”. Уезжать за границу. Ложились на одной кровати, и Настя протяжно начинала: “Жмеринка – Волочиск – Бирзула – третий звонок”. Начиналось с европейских стран – но дальше была и Америка, и Африка, и Китай, и моря, и горы, и джунгли. На станциях мы что-нибудь проглатывали наспех – кофе, пирожки, ветчину, бутерброды (и совершенно ими насыщались!) – и спешили дальше. И каких только красот, каких приключений не переживали в такие ночи. Где теперь ты путешествуешь, верный мой Друг, мой первый Друг, Настя? И не от твоего ли приближения я так вдруг помолодела, так освежилась душевно, что не страшно мне Перово поле – и все благо, даже эти стены и этот способ ночлега.
146 тетрадь 1.7-31.7.1951
5 июля. 5 часов утра. Москва
Сниженная дорога жизни. Незаметное, сейчас только замеченное, измельчание интересов, мыслей и чувств.
Чтобы отметить это, вытащила свою плоть из неги предутреннего сна.
В высшей степени последнее время путаюсь в распорядках дня. Отсутствие “чина жизни”. Неумение наладить его. В этом смысле Перово поле осмысленнее, лучше для души и духа.
Скорей бы вернуться на огороды. Там по крайней мере все время чувствуется небесный свод над головой.
Здесь дорого окружение – “тетя Аня”, ее “благочестное житие”, чуждое эгоцентризма. С детской чистотой и еще непробужденной душой милый эгоцентрик Лиза, через пять дней отъезжающая к таджикам. Шесть дней пути. Три года жить без родных лиц. С интересами в области геологии, привитыми ходом сложившихся обстоятельств.
В первой юности был интерес к литературе, к классикам. В 12–13 лет проглотила всего Шекспира. Сейчас внутренняя жизнь свелась к геологической карьере и к невольному “саможалению”. Чувствуется пробуждение интереса к своей внешности – быть покрасивее, быть нарядной. Неестественно и грустно, что в 25 лет нет никакой мужской души, с которой было бы желанно сопутничество. Нет друга сердца, и подруги нет. Есть только “тетя Аня”, сестра Маша и братья.
7 июля
В психологии церковников из интеллигентного и полуинтеллигентного слоя почти у всех – особенно у женщин – есть элемент сектантской гордой обособленности и нетерпимости ко всем другим проявлениям веры в Единого, общего божества, к проявлениям, не похожим на их устав. Как было для бабушки моей, так и для Анны, это “нехристи”, хотя она и не назовет так ни Кису[911], ни меня. Она как бы даже признает индивидуальность духовно-душевных человеческих путей к Богу. Но все постановления вселенских соборов в этой области для нее – спорный пункт исповедания веры. И Киса, для которой высший авторитет – Евангелие, – при всей ее безупречной нравственной чистоте и отношении к людям – для Анны еретичка. И всякая церковница, истово исполняющая все годичные предписания поста и посещения храма, для Анны ближе и роднее Кисы и ближе меня.
147 тетрадь 1.8-14.9.1951
18 августа. 1 час дня. Прохладный приют под кровом Сольвейг[912]
Дивная синева неба. В садике и в переулке, где сейчас погуляла с неразлучной клюкой, – редкая смесь солнечного зноя и порывов упоительного свежего и прохладного ветра.
Полдня прожито в наплыве неотрывных воспоминаний о сестре Насте – Анастасии Мирович.
Они хлынули на меня и вырвали из всего, что теснилось в сознании в данный момент. Овладели мною безраздельно после ночного чтения, когда я проснулась в 8-м часу утра. И протянули руку к лежащему на соседнем столике “Поединку” Куприна.
Полвека прошло с тех пор, как я прочла первый раз – и больше не перечитывала его. Но такова живая образность и яркость красок – тогда совсем молодого еще автора этой повести. И так в глубинах сознания оказалось – живо все пережитое душой в ту далекую эпоху, когда я сама писала что-то и беллетристическое, и критическое, и стихотворное в киевской газете и в журнале “Жизнь и Искусство”. И этим зарабатывала хлеб насущный для себя и для сестры младшей – Насти, которая училась в фельдшерской школе. Куприн был с ней в очень дружественных отношениях. Со мной в красках простого знакомства[913]. И что-то ему во мне было чуждо. Может быть, потому, что мне был чужд характер его творчества, хотя я и чувствовала, что художник он незаурядный. Но влекли меня в то время “богоискательного” характера вещи, начиная с Достоевского. И философия Льва Шестова.
…И вот нахлынуло (и с какой ведь властью!) все это прошлое. И все мои вины – вольные и невольные перед сестрой – самым близким, ни с кем несравнимо близким, другом моим.
Ничто не проходит. Все с нами Незримою жизнью живет, Сплетается с нашими днями И ткани грядущего ткет[914].5 часов вечера. Под кровом “тети Ани”, в ванной комнате, где не так солнечно, как в апартаментах, выходящих на юго-запад.
Час тому назад в одном из коридоров метро со мной поровнялась причудливо одетая женщина второй молодости и, приветливо, как знакомой, улыбнувшись, протянула мне из своего букета дубовую веточку и несколько полевых гвоздик.
– Хотите? – утвердительным тоном спросила она.
– Но почему именно мне даете вы эти дары? – спросила я.
– Показалось, что можно, – с каким-то детским видом, немного смутившись, ответила она. И прибавила: – Мне что-то в вас понравилось. Даже со спины. И я решила вас догнать и дать вам кусочек дуба. Вы, верно, любите дуб. Я его очень люблю. Это самое лучшее дерево. Никакое другое с ним не сравнится.
(Мы шли уже рядом, в ногу.)
– Пальма, – сказала я, – с ним сравнится.
– Да, правда, пальма сравнится, – согласилась она, уже поддерживая меня под руку, когда мы подошли к одной из лесенок коридора.
Дальше, узнав, куда лежит мой путь, она обрадованно сказала:
– И мне туда же.
И села в один вагон со мной.
Дорогой она показала мне книжку, которую читала.
– Это перевод Екатерины Алексеевны Бальмонт. Оскар Уайльд. Мне почему-то кажется, что вы знали литературный круг вашей молодости.
Я ответила, что она не ошиблась. Что я в те далекие времена была одно время театральным критиком, газетным и журнальным работником.
И прибавила, что мне кажется, она тоже имела и теперь имеет отношение к той или другой области искусств (таков был вид ее одежд, шляпы, ее громадного букета, и выражение лица, и манера вглядываться с дружественным интересом в лицо собеседника).
– Я художница, – сказала она. – Вы не ошиблись. Хочется думать, что наша встреча не случайна.
Я согласилась с тем, что ничего нет случайного.
Она спросила мой адрес и сказала, что напишет мне.
Простились мы с ней у моего выхода на Крымскую площадь, точно старые подруги, встретившиеся в разных возрастах, но с оживившимся интересом друг к другу.
[Сбоку приписка, вероятно Ольги Бессарабовой: Эта женщина – дочь композитора Спендиарова, жена художника Сергея Михайловича Романовича, Мира. Я узнала ее в этих страничках Варвары Григорьевны. Прочла Мире Романович. Она изумилась, что я узнала ее в записи В. Г., и подтвердила, что это была она – в этой встрече с Вавочкой. – Примеч. Н. Г.]
148 тетрадь 15.9–2.11.1951
22–23 сентября. Ночь
Как всегда, когда разжалобишься по поводу своего “все не то, и все не так”, встают в душе образы Ирис или Тани, Даниила – если он жив. И других. И тех, имена их “Ты же, Господи, веси”.
И постыдным ощущаешь подкравшееся “саможаление” по поводу того, что недостаточно тех или других удобств для грешной плоти на ночь.
25 сентября. 10-й час вечера
День борьбы с гриппом – постельным режимом, кальцексом, пирамидоном, двукратным выходом на свежий воздух, а сейчас “бодрячеством”, с каким заставляю себя взяться за перо, чтобы не поддаться гриппозной прострации.
В столовой родственные гости у Аллы. Юра, некогда – в детские годы – подписывавшийся “твой друг Юрий”. “Друживший” в какой-то мере всю жизнь и отодвинутый глухотой моей и старостью от меня в разряд “шапочного знакомства”.
Его дочь, молоденькая балерина[915] в Большом театре, неожиданно для нее и для меня сблизилась со мной на почве моего стихотворства. Некоторые стихотворения Мировича ей настолько нравятся, что она их переписала из моих черновиков и вовлекла в интерес к ним своего мужа, Адоскина, молодого, как и она, актера из театра Юрия Завадского. Они оба – легкая, воздушной стезей искусства несущаяся по жизни, поэтически красивая юная чета. И если бы я не была глухарем, несмотря на обветшавшую старость свою, не лишила бы себя эстетической и этической радости общения с ними. “Этической” – потому что от наших кратких и редких встреч с Лесей остается впечатление, что и я чем-то ей нужна. Но что об этом говорить!
13 октября. 10-й час вечера
От Игоря примчался шофер с записочкой – ответ на мое письмо (от 9-го сентября!)
Я уж думала, что эра “новой жизни” – жена, ребенок, ожидаемый к весне, – вытеснила меня из его сознания (не из глубин души). И не было в этом для меня ничего обидного и вообще ничего личного. Только страшновато за него было – не осуетился бы, не снизился его душевный путь в новом укладе жизни. Конечно, тут все дело в том, что за человек жена его. Он хотел меня с ней познакомить – но возможно, что она совсем не хочет этого. Ну, Бог с ними. “Да будет то, что будет”.
Лично мне от этой сумбурной записочки, даже без адреса (вероятно, писал перед отъездом в Ленинград на вокзале) и где о дачных (!) моих делах, все же заметно теплее – но без малейшего притязания на дальнейшее излучение детского тепла от Геруа в мою сторону.
Ночь
Запишу здесь, пока Леонилла будет разделять личную трапезу Аллы и генерала (Алла все еще не возвратилась с репетиции) – заставлю себя вписать сюда то, что вспомнилось – в числе других воспоминаний этой ночи, – но вспомнилось с необычайной яркостью во всех оттенках: разговор с ныне покойным д-ром Добровым обо мне.
Вспомнилось это с такой живостью переживания, с таким волнением, что, если бы я спала в комнате одна, я бы включила свет и записала со всеми “словечками” незабвенного Филиппа Александровича то, что он говорил.
Филипп Александрович, с громким, как для театральной залы, добродушным хохотом, продолжая разговор:
“А в том особенность ваша, Вавочик (так он звал меня даже в старости, иногда «Вавочка»; познакомилась я с их семьей, когда мне было 36 лет), что все люди живут реальнейшей жизнью, служат, лечат, строят или по домашним делам что-то выполняют – стряпают, шьют, купают детей, вытирают им носы. Сапожничают, столярничают, что-то преподают, что-то продают – только один Вавочек (опять хохот) – не удостаивает во все это вмешиваться. У него есть кресло в партере, и он задумчиво и внимательно во все это всматривается. (Тут я возражаю, что кресла у меня нет, что смотрю я иногда с 5-го яруса, с галерки.)
– Согласен, – говорит он, – бывает, что и с галерки, – но все ведь сводится к тому, что Вавочек – зритель.
– Для чего же он, по-вашему, смотрит на эту сцену? – говорю я. – По-вашему, ведь он поэт – ну и смотрел бы только на звезды, на красоты мира и на то, чем живет его душа…
– Позвольте, позвольте! Дайте мне договорить, – перебивает он меня. – Я и хотел сказать сейчас, что, посидевши в партере, кое-что из увиденного захвативши домой, он и спешит к звездам, к красотам природы. И к тому, чем живут люди в мечтах, в любви, в трагедиях своих. Часть этого попадает в его стих, часть расточается направо и налево для приятных бесед. И в сторонке от жизни, от реальной жизни, именно в этом своем и чужом созерцании ее и проводит Вавочек год за годом.
– Вы забываете, – говорю я, – а может быть, и не знаете, что я ведь начала жизнь с того, что была в киевском осколке партии народовольцев. А когда она распалась, искала возможности поступить в сельскую школу учительницей, чтобы стать ближе к народу с целью «пробудить в нем революционное сознание». Но это не удалось – Киев не дал мне свидетельства о благонадежности.
Когда я узнала, как плохо живется ссыльным в Карийских тюрьмах (прочла книгу Кенана – запрещенную, к запрещенным книгам у моего поколения была неудержимая жадность), явилось желание и надежда с помощью близкой революционной молодежи поднять в сибиряках «революционное сознание» и с их помощью освободить карийских узников. И вообще, начать революцию.
Тут меня прерывает громоподобный добровский смех и сквозь него восклицание:
– Такого разгара фантастики я даже в вашем прошлом не подозревал, фея Фантаста. Есть у Андерсена, кажется, сказка про фею Фантасту[916]. Так все в истории революции нашей и нужно будет записать.”
Не помню, что я тогда сказала моему собеседнику. Кажется, кто-то ворвался в нашу беседу и мы ее на этих надсоновских и байроновских словах прикончили.
Но в сегодняшнюю ночь я сказала моему другу: “Не моя вина, что я так поздно, так непоправимо поздно, в последние годы обессилевшей старости поняла, что работать – на каждом шагу, каждый день что-нибудь нужное делать для каждого, кто во мне нуждается, или участвовать в какой-то общей для всех нужной работе, – могло быть теперь для меня смыслом и счастьем моих последних дней при согретости Любовью, какая вошла в мою душу требовательным желанием реализации – вошла так поздно”.
14 октября
Из вчера записанной, бывшей в старинные времена беседы с Филиппом Александровичем, вспомнившийся после записи отрывок беседы: “…Должен вам сказать по секрету, Вавочек, что психиатр на моем месте обозвал бы каким-нибудь словечком из медицинской терминологии этот страх ваш перед оформлением и закреплением Вашей «линии жизни» и жажду как можно скорее покончить с «воплощенным состоянием». (Филипп Александрович знал, что я бежала из Киева от предложения местного миллионера Бродского основать в Киеве детский журнал, на что он хотел вручить мне 15 или 20 тысяч, точно не помню.)
Но я не вижу в вас той слабости волевого начала, с какого мой коллега, может быть, начал бы обследование сущности вашей «дегенеративности». Этот термин, между нами говоря, я заменил в вашу сторону словом «прогенеративность». Я чувствую в вас – правда, недостаточно хорошо оснащенный, корабль для плавания по тем морям будущего человечества, куда он – на свой риск – направил свой путь. Но будем надеяться, что в нужный срок Общий Путеводитель всех кораблей пошлет ему необходимого лоцмана, который не даст ему разбиться о подводные скалы и научит, как без лишних блужданий держать путь на Восток. У вас об этом есть стихотворение, где запомнились мне четыре строчки:
На востоке есть горы высокие, Выше всех их вознесся Фавор. Поднимите к нему, одинокие, Свой тоскующий взор”.17 октября. 12-й час ночи
Тетка покойного писателя Романова, глухая, как и я, помоложе меня, но тоже старая, уверяла меня, когда я гостила у них в “яблоковом саду”, что она всегда чувствует, когда где-то большое землетрясение, ночное. Проверяли потом по газетам – оказывалось, что действительно она обладает этим даром (стала обладать в глубокой старости).
Последнее время мной как будто чувствуется движение земного шара – особенно если закрыть глаза. Или в бессонные ночи, в темноте. Если это днем, усидеть на стуле нельзя – необходимо лечь. Забыла, у какого писателя (кажется, у Паскаля) было то, что он называл “wertige d’infini” – головокружительные ощущения бесконечности.
– Просто гипертоническая “мозговая тошнота”, – скажет любой врач. Не отрицаю и я этого слишком знакомого явления. Но не знаю, есть ли у медицинской науки способ доказать, что и так называемая гипертония – мозговое уже следствие, порождающее у старости и порога смерти новое восприятие движения (как и времени, и пространства).
19 октября. 12 часов ночи
Разбудила нас с Леониллой сегодняшним утром Алла известием о смерти Инны. Его принес нам Лёка. Мы быстро встали, и по моей телефонной просьбе он прибежал второй раз немедленно. Сел рядом со мной и ответил на все вопросы односложно, с лицом человека, у которого “стрела в спине”. Скончалась Инна третьего дня, 17 октября. В Боткинской больнице, от инфаркта, после которого только один раз на короткий срок не покидала больничной постели с весны.
За Инну я рада. Рада еще, что удалось сказать Лёке так, что он – по лицу его видно было – понял меня, что мама его “живее нас живых”. Большую почувствовала к нему близость, дававшую право ему сказать, что, пока я жива, он не должен чувствовать себя одиноким. Надо установить с ним живой ритм встреч. Надо написать о нем его дяде, директору завода. Дядя сможет принять в нем материально выраженное участие. Послеотцовской пенсии он скоро лишится (ему 18 лет).
Бог послал мне нужное дело как бы в ответ моей вчерашней растерянности от ощущения ненужности моей жизни и только обременительности ее для окружающих. Верю, что Бог поможет мне помочь Лёке на этом тяжелом распутье его. И ему поможет найти нужный путь в жизни. Аминь.
24 октября. 6-й час вечера, глубокие сумерки
Почувствовалась сегодня какая-то изможденность, значительная и меня чем-то касающаяся в предвечерней Москве. И встала мысль: Инна – по этим улицам, по ступенькам входной двери дома, где я живу, никогда больше Инна не пройдет. Инны нет.
– Что значит: Инны нет?
Строго прозвучал другой голос в глубинах сознания: тогда и тебя “нет”, и никого из толпы, среди которой ты протеснилась сейчас к маркам с конвертами, нет, и никого из миллионов, населяющих Москву и весь Советский Союз, – и никого на земном шаре нет. Пройдет какой-то срок – пусть даже сто с лишним лет пройдет (по сравнению с Вечностью это все равно, что одна стобиллионная часть нашей секунды) – и про всех вас, кто сейчас толпится в магазинах, ест, пьет, что-то мастерит из дерева, металла, из ниток, пишет, читает, рождается или вздыхает последним предсмертным вздохом, можно сказать тогда то, что послышалось тебе уколом в непросветленной части сознания: никого из вас, живущих в костно-мясном и кровяном составе, все равно что нет и не было совсем, если “Инны нет”. Того, что было дано вам материального для проявления вашей сущности на “этом свете”, у Инны уже нет, как нет этого у Платона, у Сократа, у Будды и у Того, кто воплотил все лучшие, все бессмертные их свойства у Богочеловека, Иисуса Назарея.
Но посмеешь ли ты сказать, что их у человечества нет?
Если Инна при жизни не до конца утвержденно, не до конца оформленно осознала, что “жив Бог в ней” и, значит, “жива душа ее” – верю, Господи, что смерть помогла ее детски чистой душе ощутить свою сыновность Тебе и свою – в Тебе – Жизнь бесконечную.
31 октября. 4 часа ночи
После того, как поняла, что Оборотень не включил меня сегодня в хозяйский обед; и лучше, отстранивши мысль об этом, вслушаться в то, что хочет рассказать мне один из любимых собеседников моей первой молодости М. С. Г.<Ч?>[917]:
…Надо пройти через индивидуальное счастье или несчастие, чтобы постигнуть истину в счастье внеличном.
Мы не виноваты, что мы люди, что прежде, чем постигнуть эту истину, мы должны пережить все индивидуально, отжить все личное, эгоистичное. Это как болезнь, называемая корью, которой, проходя через детство, нельзя миновать.
И вот один бывает счастлив в личной жизни и, насытившись этим счастьем, отвращается от него, чтобы предаться служению общей для всех истине, общему счастью.
Другой же, не найдя личного счастья или пережив личное несчастье, обращается прямо к общему и вечному.
Жизнь подобна комнате, в которой две двери. Есть люди, способные сидеть в этой комнате взаперти. Но есть натуры, в которые от рождения вложена способность исследования. Узнав все, что есть в отведенной им комнате, они стремятся узнать все, что за нею, – и выходят из нее: одни в правую дверь, другие в левую.
Через правую идти приятнее. Но и левая выводит туда же, куда и правая. Выбор двери зависит от чего-то, что не во власти человека. Верно лишь одно: выходят из комнаты лишь те, которые ищут увидеть глубину высокого свободного неба.
Те же, кто довольствуются комнатой и неба не ищут, те так в комнате до конца жизни и остаются.
149 тетрадь 3.11–30.11.1951
9 ноября. 12-й час ночи. В своем углу
День, заполненный встречей с Игорем и его женой. Радость за Игоря, что вторая его Таня (вторая жена тоже Татьяна) так нескрываемо дорога ему, как и младенец, живущий во чреве ее.
И такое милое, с голубыми правдивыми глазами лицо у нее, с детскими ямочками на щеках и на подбородке, с пристально-внимательным взглядом, с доверчивой улыбкой. Может быть, это странно, только не боюсь себе признаться, что я точно все это время призывала ее – именно ее – в жизнь Игоря. Как и того, таинственного еще младенчика, чье сердце уже бьется под сердцем ее. А в моем сердце, как и на свадьбе моего Димочка, благодарность Богу за Его милость к детям моим Богоприимным. И запел в душе моей голос Симеона: “Ныне отпущаеши рабу твою, Владыко, по глаголу твоему с миром”.
Тронули меня до слез слова Игоря и жены его о том, что с весны я должна – “непременно” – переехать к ним на дачу. И ласка их голосов и поцелуи – но так ясно, до глубины души, почувствовалось, что не этого хочет душа, а непостыдной и мирной кончины плотского моего существования.
18 ноября. Ночь
Последнее ко мне письмо Инночки (И. П. Веретенниковой), переданное мне А. В. Романовой. Инна Петровна Вторая (Веретенникова) скончалась ровно месяц тому назад в Боткинской больнице от болезни сердца. Писано в Боткинской больнице в августе этого года (по ошибке начала переписывать письмо со второй страницы. Переписываю без пропусков).
Начинаю с обращения: “Дорогая Варвара Григорьевна.
Пишу Вам чернильным карандашом – чернил здесь не дают.
В Боткинской больнице я встретила друга Надежды Сергеевны Бутовой – Нину Федоровну Орлову. Она хорошо знакома со всеми друзьями Надежды Сергеевны. Знает и Вас, но не очень – больше знакома с Вашим братом, Николаем Григорьевичем, о котором я не слышала от Вас ничего.
Она с ним вместе жила в Финляндии, на даче у Добровых. Мы с ней часто разговариваем. Я – даже до изнеможения.
Лето я прожила в больнице и не знаю, когда же мне будет лучше. Врачи мне здесь меньше нравятся, чем в ин-те Склифосовского. Вообще – невесело, хотя тут много природы. Хороший парк. Я на него гляжу с балкона. И в большом окне видны деревья и небо. Я ими любуюсь. Особенно одно дерево – волшебное. Оно – то все мятежное, то тихое и ласковое. И закаты видны – золотые, розовые, лиловые.
Меня поместили в хорошую палату. Но я долго пролежала перед этим в изоляторе. Он ужасен.
Здесь есть интересные люди.
Пишу Вам опять на Анну Васильевну. Не знаю, где Вы теперь. По словам Анны Васильевны, вероятно, уже у Игоря (Ильинского). Между прочим, я рассказала о Ваших жилищных делах Нине Федоровне. Вы не представляете себе ее ужаса. Передо мной проходят сейчас все время образы друзей Надежды Сергеевны, ее студия, дом Перцова Владимира Ивановича, Константин Сергеевич, Василий Иванович Качалов.
Хотелось бы знать о Вас, где же Вы будете жить зимой и осенью. И как здоровье Леониллы Николаевны. Мое очень плоховато. Нет сил. Задыхаюсь и ничего не могу есть. Клавдия (сестра) иногда приносит что вкусное. Оно так и лежит без употребления. Целую Вас и помню каждый день. А мне порой кажется, что меня все забыли. Инна. 13 августа 1951”.
С 1 августа предполагалось мое переселение на дачу Игоря. По целому ряду неувязок я не попала к нему. И в течение лета переменила девять (!) местожительств, чем и объясняется отсутствие сил и возможности (на автобусе и троллейбусе я тогда не могла передвигаться) навестить Инну. И если бы я знала, что так близка к ней Смерть, победила бы свою немощь.
150 тетрадь 1.12–31.12.1951
1 декабря. Москва. В своем «жилплощадном углу».1 час ночи
Я – Дух. Я вечно был и буду. Но должен я пройти сквозь плоть, Покорен горестному чуду, И будет плоть меня бороть… (Из очень старинного стихотворения)28 декабря. 9 часов вечера
О вчерашнем дне в Замоскворечье.
При всей желанности и сердечном тепле с обеих сторон – болезненный, замутненный след[918]. И ночью, в момент пробуждения – прежде всего вставали два лица: у матери – больное лицо человека, требующего стационарного ухода, чтобы не слечь надолго, чтобы не ухудшилось состояние сердца и нервов. И при этом ни капли жалости к себе, никакого благоразумия в беготне (когда и сама упомянула о необходимости стационара и нервного и душевного покоя, который нарушен) по хозяйственным, закупочным и туалетным дочерним делам.
У дочери – с трудом сдерживающей раздражение, упрямый, погруженный в себя, во что-то свое вид. И – отчужденность.
В мою сторону промелькнули два взгляда, один – желания (с оглядкой) что-то сказать – что-то спросить. Другой – минутка душевного контакта с длинной, хорошей улыбкой.
С матерью – не сомневаюсь, что чувство дочернее живо. Но запрятано глубоко, не нуждается в обнаружении, даже боится его, в уверенности, что она и мать – “разные люди”. Как в ее годы, и позже, я раздражалась при встречах всей тональностью материнского ко мне отношения и мучилась раскаянием и фактом “разницы душевных типов”, который считала (о, как ошибочно!) непоправимой преградой…
Неопытная молодость не подозревает, какая огромная сила в материнской любви, помогающая найти – хоть и с большим, как у меня, запозданием, благодаря моему эгоцентризму, – мост к самому себе. Но после каждой разлуки вспыхивало значение – спасительное, словами невыразимое – материнской любви.
Плохая среда в школе живописи, где Аннабель учится. Какой-то, по-видимому, сброд рисовальщиков, без влюбленности в искусство, без ярких индивидуальностей, ремесленников или честолюбцев-карьеристов. Конечно, и там, вероятно, есть индивидуальности, живущие своей внутренней жизнью, где есть зачатки душевного роста. Но общий дух – кое в чем и поверхностный – кинул мутные тени на чистое, как “горный снег, дважды провеянный ветром самых высоких вершин”, существо.
151/ I тетрадь 6.1-17.1.1952
9-10 января 1952 года
Лис.
Встретились в общей любви нашей к Аннабель-Ли. Радостно было сегодня узнать и почувствовать, что какие-то сложные преграды между матерью и дочерью как-то обтаяли. И дочь сама захотела жить не в Москве, а под Звенигородом, где живут родители. А в школу свою ездить два раза в неделю. Первый раз за весь год я увидела сегодня лицо моего Лисика, озаренное светом “веры и надежды” на свое лично-материнское, не эгоистичное, но ставшее сутью души и жизнью жизен место в жизни драгоценного ей существа. Для матери это целый мир. Для дочери, как и для всех дочерей, кроме Вали, это важное и, конечно, дорогое лицо, несравнимо ни с кем дорогое (что опознается после утраты)!.. Но под условием, чтобы это лицо не “вмешивалось” (!) в так называемую личную жизнь. Так было – увы! – у меня с матерью моей. Перемостившись на постель и завесив портьеры балконного окна, под туманно-желтым светом лампы.
Хочется отметить с благодарно дружественным чувством рассказ Леониллы, вскрывшей передо мной все морально и матерински для нее больные трудности ее жития. В такой степени, что появилась мысль у нее о переселении в Киев, где уцелели два-три человека из прежних близких знакомств. Трудности Аллочки. От огромных расходов на сына, который, оказывается, целиком перешел на ее иждивение со всей семьей. И конца этому не предвидится. Трудность от созерцания величайшего напряжения Аллочкиной энергии в работе – депутатской, сценической, а теперь еще как театрального директора (временного). Беззастенчивое эксплуатирование семьи сыновней, вмешивающего ее в кучу их реальных и раздуто корыстных текущих потреб, и т. д., и т. д.
Аминь.
152/ I тетрадь 18.1-31.1.1952
23 января
Из области невозвратимого и непоправимого, не перестающего, как было и в эту ночь, предъявлять иск совести.
Подобно тому, как неисполнимыми оказались наши детские обеты, сопровождаемые общими, слезными молитвами. Об этом подробно в одной из тетрадок: участвовало четверо детей – начиная от моего одиннадцатилетнего и Маши, двоюродной сестры – 13 лет, остальные на 3 или на 5 лет меньше меня – брат Миша и сестра Анастасия. Обеты сводились к тому, чтобы не браниться, не обижать никого, говорить правду, не брать ничего в саду без спросу, слушаться мать и бабушку и т. п.
Тайные от взрослых, вечерами в саду и зимой в лампадном сумраке.
Так же – в возрасте от 20 до 30 лет – не выполнены и лежат на совести в дореволюционное время данные обеты заключенной вместе со мной молодой женщине, убившей ребенка, – обеты “посещать ее каждое воскресенье, пока ее не ушлют в Сибирь” (побывала у нее раза два, потом вступила в полосу невидения, забвения и нечувствия).
Так же поступила с целым рядом “обетов” в дальнейшее время лечения, когда в семнадцатилетнем возрасте ощутилась возможность и желание, потребность лечить способом массажа без прикосновения руками – там, где люди (знакомые) каждый раз не призывали меня сами, как это делал Москвин, лица из семьи д-ра Доброва, соседи по квартире и другие. Там же, где я сама бралась провести “курс” лечения, вмешивалось – “разленение”, “саможаление” (под разными предлогами) – страх перед напряжением, усилием и все то же забвение и нечувствие, т. е. недостаток деятельного сопереживания той нужды в моей помощи, какую ощущали во мне порой люди. Начиная с таких близких, как собственная мать. Она верила в силу моих рук и душевно дорожила моим при этом к ней приближением – но я точно “забывала” об этом – или избегала приближаться лишний раз, когда к болезни ее присоединился неприятный запах.
…И когда осеняла меня – в течение полусотни лет раз десять – требовательно осеняла накопившаяся энергия заняться лечением (вставал в памяти ряд случаев облегчения и полного излечения “массажем” без прикосновения рук в стиле Мэри Эдди Беккер[919]) с помощью рук (в них и сейчас вот чувствую прилив целительных сил), я начинала что-то предпринимать – сил хватало и на писание и чтение, и на театры, и на переезды из города в город. Во всех этих процессах глохнул и забывался намеченный цикл нужных для людей целебных усилий с моей стороны. Близко знакомые со мной врачи определяли каким-то медицинским термином это мое свойство – как и беспокойные метания по свету, боязнь врастания в одно место, – но я-то лучше всех врачей знаю теперь, что во всем виновата скудость любви к ближнему и к дальнему.
…Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю.Ведь дело сводится, пожалуй, к тому, что царит болезнь усилий, безволие там, где для души было бы самое нужное, – и что Любовь ее еще в стадии, от какой предостерегает нас Сын Божий – “Любите не словом и языком, но делом и истиною”.
24 января
Слава Богу, совсем почти исчезла вспыхнувшая было во мне потреба в человеческой любви. До глубины души осознала и почувствовала, какая это жалкая, суетная и вредная для душевного пути человека потребность. Теперь думается, если бы узнала, что и Валя, и Лис отошли от меня, как, наверное, судя по его молчанию, отошел Игорь, это уже не было бы для меня “драмой”. Принялось бы как свыше сужденное и как для отошедших от моего логова жизней естественное.
Поэтому же осознание своей бесправности, по существу необидной и свыше посланной, встретилось бы лишь как новое испытание смирения моего.
…Но какое-то не до конца выкорчеванное из души “искание своего” вторую ночь посылает мне сны, где в жизни моей пульсирует чья-то любовь ко мне. Сегодняшнего сна даже не припомню, даже в живых образах. Но помню ожидание кого-то в театре. И когда заиграл оркестр – мысль, что в этой музыке уже есть “его” присутствие, что таков характер “его” отношения ко мне. Вероятно, это относилось к покойному Льву Исааковичу – потому что в музыке сна это было любимое им место из “Кармен” – гадание на картах, в котором загоревшаяся любовью душа видит на картах гадания одну пиковую масть.
25 января. 2 часа дня
Час тому назад пришедшая открытка Вали – от 23 января. 12 часов ночи.
“Недавно позвонила мне Олюшка и сообщила, что сегодня внезапно скончался Степан Борисович. Она просит Вам об этом сообщить – но только «завтра просит не приезжать», потому что будут всякие формальные визиты, кроме целого полчища сыновей, невесток и внучат”.
Пока она держится, по-видимому, очень стойко, но я очень, очень за нее боюсь. И, конечно, я тоже потрясена самим фактом. У меня было в последнее время очень теплое и хорошее чувство к Степану Борисовичу. Я предлагала Оле прийти и провести с нею ночь. Но она сказала, что приняла люминал и ляжет спать, чтобы завтра быть на ногах.
26 января. 3 часа дня
(по возвращении с торжественных гражданских «похорон»)
Похоронный обряд в конференц-зале Исторического музея под портретом Сталина и красными, красиво сгруппированными флагами, с обилием цветов, венков родных и академических собратьев.
Суетность этой посюсторонней торжественности вокруг лежащих в гробу останков человека, который, с точки зрения устроителей “торжества” прощания с ним, обратился в ничто, в прах, который надо поскорее свезти в крематорий – или поглубже зарыть в землю, – обрядовая эта гражданская торжественность чужда мне. И, постояв поближе к лицу “покойника”, в головах его пышного цветочного ложа, я ушла в сторону, в прихожую конференц-залы, где только он, который был для меня живее многих их, провожавших его, был видим для меня. Еще более чужды мне “рыдальные напевы” православного отпевания – “надгробное рыдание”. И это надрывающее душу близких к умершему людей, “Плачу и рыдаю зряще красоту нашу – безгласну, безобразну, не имущу вида”. И последнее напутствие священника над могилой: “Земля еси и в землю отыдеши”.
В лице упокоенного в Боге брата нашего Стефана (теперь уже наедине с ним, как пишу сейчас, не хочется называть его “Степан Борисович”) отражалась долгая жизнь мысли, верность своей “линии жизни”, покой удаленности от “царства праха”. И только он почувствовал мое приближение и простил мне те мои суждения о нем (в прошлом), какие были продиктованы моим эгоцентризмом отношения к нему и недостатком братской любви к человеку.
153/ II тетрадь 1.2– 29.2.1952
24–25 февраля. 10-й час вечера
Какая разнообразная, неповторимая сложность в линии нашего общения с другими человеческими индивидуальностями! Для определения этой особенности в каждом отдельном случае нет слов. Бедны, маловыразительны такие слова, как “приятно, неприятно, утомительно, душевно, укрепляюще” или “совсем обессиливающе”, – настраивает на веселый или печальный лад, на жалостное или безжалостное к себе отношение и т. д. и т. д.
Задумалась об этом сейчас, отойдя от телефона после краткого, но значительного для обоих разговора с Евгением Германовичем (целый месяц не слышала его голоса и тяжело и очень сложно пережила его длинные письма).
Его радостный, до вскрика, и такой чудесно-мягкий голос, и слово “дорогая!”, которое он употребляет только в начале писем рядом с именем и отчеством, – правдивость и мужественность и своеобычность его существа повысили тон моей борьбы с гриппом, обогатили охотой выздороветь – хотя бы для того, чтоб повидать его (об этом условились по телефону), послушать тембр его голоса и все особенности речи.
Радость от Валиного голоса или от голоса, взгляда, слова, лица Си Михайловича и еще других близких людей ничуть не меньше – но все оформление этой Радости во мне, ее звучание в моей душе, в высших ее областях и в тех, где ее можно воспринимать в цвете, запахе и даже вкусе, – до чего “свое”, неповторимое, в каждом отдельном случае.
Хочется еще записать сегодняшнюю необычайно заботливую, светящуюся доверчивой (и тоже радостной) улыбкой любовь-заботу к моей старости бедного Оборотня, до слез растрогавшего меня своим видом, движениями, сверхобычной ласковостью в мощном серебре ее контральто.
154 тетрадь 1.3– 31.3.1952
7 марта
Пришло сейчас известие, что скончалась сегодня бабушка “детей моих”, мать их отца, Михаила – Гизелла Яковлевна Шик. И как всех, опередивших меня переходом из жизни временной во вневременную, чувствую ее не только живою, но причастившейся “Жизни вечной”. Завтра ее восьмидесятишеститилетнюю плоть, которой она сильно тяготилась последние годы, крематорий обратит в пепел, дым и в струи земной атмосферы. Думаю об этом с отрадным чувством за нее: нет больше с ней ее болезни, которая под конец уложила ее в больницу, где и окончился прошлой ночью ее путь на этом свете.
В последнее свидание наше, больше года тому назад, на мой вопрос о ее жизни она ответила: “Что об этом говорить? Это уже не жизнь, а живая могила”. Глухота, еще большая, чем моя, мешала ее общению с людьми, к чему у нее осталась большая потребность. Надо было очень громко и раздельно кричать ей на ухо по одному слову то, что ей хотелось бы от людей слышать. Я хотела написать ей мои вопросы о ее здоровье и обо всем другом – но оказалось, что она читать уже ничего, самыми крупными буквами написанного, не может. Я тогда еще не была так глуха, как теперь, и меня до слез тронул горячей ласковостью ее прием, благодарность “что зашла”, воспоминаниями того немногого, что было мной проявлено в жизни ее внуков и покойной дочери ее, Лиленьки, подготовлявшейся в школу при моем участии. Мир ее душе – “в мире светлом, в месте злачном, в месте покойном”. Аминь.
Хочется еще прибавить к этой страничке о доброте Гизеллы Яковлевны. О том, как легко было, когда я стояла близко к ее семье, тогда живущей богато, обратиться с просьбой о какой-нибудь одежде для людей, ей незнакомых, о которых я ей рассказывала. И как она сама, когда они уже разорились, снабжала, по своей инициативе, меня лично щегольскими ботинками, теплым пальто, зимней шапкой и т. п. И с каким радостно-дружелюбным видом эти дары предлагала.
9 марта. Замоскворечье
Оэлла и Аннабель-Ли в кино смотрят лермонтовский “Маскарад”. И Валя присоединилась к ним. Лисик уже чуть не четвертый раз видит это зрелище. С искренним восхищением и со свойственным ей даром рассказа (творческим даром) посвятила меня в свои впечатления и даже – второй уже раз – заразила желанием приобщиться к тому, что дал ей Лермонтов и киноартисты.
21 марта. Пятницкая. Кров Оэллы
Жалко, что нет сил, чтобы отметить и осветить каждый шаг пройденного за эти дни общего нашего с Лисиком пути. Чтобы и пояснить себе, в чем суть этого ощущения близости (такого редкостного), когда “два сердца бьются, как одно”. Ведь и у нас с ней далеко не всегда бывала эта всесторонняя общность (то есть разделенность и без слов, и со словами) – и внутренних, и даже внешних, житейских восприятий жизни, как в эти дни. И почему-то особое, “потустороннее” моментами приобрели значение, как будто сами по себе принадлежащие сфере “преходящего”. Как, например, забота о прическе и туалете нашей Аннабелочки. В ней есть, кроме Аннабель-Ли, и пушкинская белочка.
Белка там живет ручная Да затейница такая.И для которой мать, порой и я – те “слуги”, что белку берегут, “служат ей прислугой разной”.
…Или повышенный интерес мой к тому, как процветает искусство выпиливания художественных (по Ватагину) разных игрушечных зверей Оэллиного брата Бориса. Я выбрала из них для себя пантеру и воющего волка, а для нового внука моего, новорожденного Владимира (Ильинского) – удалого, породистого, на всем скаку (первый приз) коня.
Борис из тех, кто разменял крупный фонд рисовального дарования на мелочи (этому содействовала вся “линия жизни его”). Но зато в игрушечной области – выпиливания, – насколько я понимаю, он непревзойденный мастер своего дела.
Третьего дня душевная встреча с Аллой, благодаря Оэлле. Благодаря предложенным ею мне как чтение во время борьбы с подступами гипертонической напасти двум книжкам об Алле в любимых мною ролях ее. И побыла со мной прежней, светлой и взаимно дорогой близости Аллочка, Ай. Алла – ее детство и молодость, Алла моего с ней сопутничества – “словом и делом” и любовью. Алла до ее третьего брака с Прониным.
27–28 марта
Со вчерашнего дня у моего Лисика. Совершила этот переезд по трамваю – под конвоем Шуры. В трамвае была близка к тому состоянию, как в Игоревой машине последний раз – когда и светы небесные, и фонари земные, и крыши домов летели на меня, и шофер, а потом генерал втащили меня на мое ложе, как бесчувственное тело.
…Пора, пора. Покоя сердце просит.[920]Весь вчерашний день прожила на валидоле и в постели, в сумеречном состоянии сознания.
155 тетрадь 1.4-30.4.1952
1—12 апреля
Двенадцать дней не брала пера в руки, если не считать двух-трех писем. Плохо с головой. Плохое увеличилось от бессильного и бесправного созерцания, как разрушает остатки своего здоровья Ольга хозяйственной толчеей (в балетном головокружительном ритме), и пребыванием в безвоздушном пространстве горячо натопленной комнатушки. Ни брат, ни дочь не имеют ни моральной власти (как и я), ни жизненной возможности упорядочить ее ритм или поместить в стационар, что было бы самое лучшее.
Очень я замучилась душевно и нервно у Лисика за эти дни – хотя были в нашем с ней общении кусочки незаменимо ценного, только с ней переживаемого волшебно воскрешенного общего прошлого. В словах – коротких, обрывистых, в газетный рупор, и в ярких, живописно-талантливых записях ее. Большой будет грех на ее душе, если она не согласится издать их, как советовали ей лица, компетентные в этих вопросах и сами причастные к творчеству в литературе.
Букет из пушистых вербочек передо мной. Какая чудотворная свежесть излучается им. Весна как обет воскресения. Детство Оли и братьев ее – и все другое, что в Олиных записях: Воронеж. Мать. Моя и Олина – образ которой она сумела дать в таких животворящих красках…
Вышла вчера, когда уже стемнело, на крылечко Олиной квартиры подышать “вольным” воздухом. И остановилась на крылечке. Поняла, что мне с моей клюкой в полутьме огромного академического двора, начиная с первого шага от крыльца, нет ходу. Вокруг расстилались грязно-ледяные, грязно-снежные, полурастаявшие горки-пригорки, ухабы, косогоры, черные, только что раскопанные между ними канавки. Попробовала клюкой почву возле крыльца – и со вздохом решила отказаться от путешествия. Просто подышать на крылечке. Неподалеку стоял дворнического вида человек в куртке, в каком-то треухе на голове, с огромной, как сигара, папиросой во рту. Он явно наслаждался процессом куренья и созерцаньем моих попыток сойти с площадки крыльца. И вдруг решительно шагнул ко мне навстречу с протянутой рукой:
– Шагай, не бойся, мамаша, шагай смело, я поддержу. Тебе куда – к воротам надо?
– Спасибо, – говорю, – да ведь у вас тут двор чуть не в полуверсту, и везде горбы, провалы. Нет, гуляй один или с кем-нибудь, кто помоложе меня втрое.
– А вам (тут почему-то у него вошло в обращении ко мне – “вы”), а вам, бабушка, сколько годков будет?
– Да вот на днях 83 минуло.
– Да, это годы почтенные, – серьезно сказал он, бросая окурок папиросы в сторону. И перескочил канавку, которая огибала крыльцо, и ловко подхватил меня под руку. – Не надо раздумывать. Живым манером доставлю вас к воротам, а тротуары уже стали чистые, как столы на Пятницкой.
– По тротуару, – говорю ему, – пройдусь как по столу, а двор за полчаса все такой же страшный будет.
– Это верно, – сказал он, – но время у меня есть. Я тут у ворот вас подожду. И на то самое крылечко доставлю, откуда взял.
– Да что же тебе время на старую бабку тратить? – говорю. – Получше, понужнее этого дела есть. Лишнюю канавку к ночи прорубить.
– Да это не мое дело, бабушка. Я – шофер. И до 7-го часа утра – свобода.
– Я соглашусь, – говорю ему, – если ты проводишь меня – это будет прогулка моя – до табачного магазина. Ты говорил, что папиросы твои стоят 2 рубля, – справедливо будет мне уплатить ими за твою “поддержку”.
– Он начал отказываться, но потом согласился. Разговор у нас шел о его семье, о детях-школьниках, о человеческой доброте, о том, что она как солнце – и светит и греет. И мы уже звали друг друга по имени-отчеству (его имя Василий Андреевич) и расстались друзьями. Он, узнавши, что я здесь не живу, а приезжаю в гости к Веселовским, был поражен и даже скинул шапку и почти на руках поднял на ступеньки крыльца. И этот оттенок меня огорчил на минутку. Было что-то шире, выше и глубже в нашей встрече до прощальных ее минут – когда я была то мамаша, то бабушка (и уже с именем и отчеством, как и он для меня), но без прибавки фамилии академика Веселовского. Когда я была старуха, испугавшаяся канавок и скользкой грязи и колдобин двора, а он мой добровольный от них спаситель, искренно отказывавшийся даже от папирос (“Вам самим, небось, каждый рубль дорог, раз вы бездетная и на пенсию живете”.) И был тогда этот шофер Василий Андреевич мой зам. сын “в духе и в истоке”. И говорил он со мной – без снятия шапки, сыновним тоном, и я в эти полчаса любила его, как сына.
20 апреля. 12-й час ночи. Под покровом «тети Ани»
Каким-то чудом к ней дотащилась. Несколько раз дорогой с трудом внутренно возвращалась к себе и осознало, где я, кто я, куда и зачем еду. Это не мертвые точки сознания, а удаление душевного “я” в ту область, для которой у него нет слов (может быть, и вообще нет, ни у кого нет, и не может их быть). Есть музыка (Бах, Бетховен, Гайдн). Есть – на высшей ступени, до которой мне далеко, так называемая “умная молитва”.
Комната “тети Ани”, когда я вошла, была битком набита молодежью. Сестры Бруни[921]. Одна с годовалым младенцем. Сережа с семьей. Дима с Машенькой. Ника, в роли хозяина, очень энергично и ловко помогал “тете Ане” все на столе расставить, как нужно, и всех ублаготворить. Потом Аллочка Бруни с годовалым младенцем Ваней осталась ночевать, вытеснив “тетю Аню” на сундук. Иначе и нельзя было, впрочем, разместиться. Ну, конечно, было странно без особо интимной связи и без той бедности, какая заставляла бы искать, где “разговеться”, на двое суток внедриться с ребенком; не будь меня (о моем внедрении они уже были уведомлены), верно, как было уже раз, и муж остался бы ночевать. И сестра два дня гостила (уже без ночлега). С неудержимой энергией предались уничтожению праздничных заготовок “тети Ани”, не проявившей никакой бережливости, равно щедро угощавшей и родных, и “чужих” – каких, кроме меня, не приглашала (Аллочка с сестрой сама себя пригласила). Почему же я об этом пишу? Что меня в этом задело, чем-то затуманило лик сборища за пасхальным столом? Если бы посадили за стол (особый, к этому дню относящийся, где, по-моему, как-то должна совмещаться и Тайная вечеря, и общее отношение к тайне смерти и воскресения), кроме близких Аничке или просто голодных, бездомных – или таких лиц, которые, как хозяйка дома, чувствовали бы смысл этого празднества, не стало бы мне так не по себе, не превратилось бы празднество в наслаждение всякой “сдобью”. Огорчил меня вид сестры Аллы, приведенной с собой. Для меня все потускнело в этом торжестве. Точно я в герценовский город Малинов[922] попала вместо высокочтимого и любимого “крова тети Ани”. Из “наших детей” выделялись одухотворенностью идущей от них волны Димок и “свет очей его Мария”. Сергей какой-то частью существа, осусаненного внутренне – и наружно (в манере носить верхнюю одежду), с неотрывно любующимся взглядом на своих детей. А как чуть оторвется от них, соединяется со своим давнопрошедшим временем, когда был Си Михайловичем.
Не о том я пишу, что нужно. И если бы о том писала, не то написала бы, что нужно. Все то же раздвоение, о котором упоминала не раз. Высшая часть души живет независимо от этой, сама попадает в словоговорение и в словозаезживание… Какой скучный припев. Вот здесь и конец писательству.
156 тетрадь 1.5-31.5.1952
5 мая. 6 часов утра
Разбудил утренний свет из щели гардин балконного окна, и не дают уснуть три заворочавшиеся в сердце иголки.
Нужно разобрать, что они там шьют, пришивают, зашивают. Или просто застряли сломанные, и надо их выбросить. Одна из них: завтрашняя операция у Нины. В брюшной полости. Опасная и мучительная. Чувствую и моментами сопереживаю с Леониллой мучительность ожидания ее этого дня и часа в жизни ее старшей, самой близкой ей дочери. И тут же чувствую с грустью, что нет между нами той “золотой ниточки”, которая бы ей давала ощущение непосредственной, живой поддержки близкой души, сливающейся с ней в одно целое.
Вторая… Но не буду о ней здесь писать. Расскажу о ней сегодня в письме Лису. И может быть, вынется этим из ее дней (и ночей, как у меня) иголка из сердца, оставшаяся после моего пребывания под ее кровом. А третья иголка – Игорь. Его молчание в ответ на мою просьбу поговорить о моем устроении на май в комнате его близкой соседки учительницы Зинаиды Петровны. Он предлагал жить все лето у него (до Олиного предложения, которое было для меня неизмеримо притягательнее). Когда все пошатнулось на Пятницкой, встал опорной точкой Игорь.
.. Кошмарного разряда случай, рассказанный вчера Леониллой. В квартиру артистки Степановой, жены писателя Фадеева, молодой и красивой, позвонила женщина, тоже молодая, и, когда ее впустила в прихожую сама хозяйка квартиры, вошедшая, ей неизвестная особа, бросилась на нее с бешеными поцелуями, стала душить в объятиях, растерзала на ней одежду и принялась кусать и царапать лицо и грудь. На крик Степановой могла прибежать только няня и маленькие дети. В квартире больше никого не было. Няня позвала на помощь соседей. И они отбили у сумасшедшей ее жертву. К счастью, повреждения, нанесенные ей, все излечимы. Но ведь могла бы эта налетчица, точно в трубу влетевшая к бедной Степановой, и нос ей откусить, и язык вырвать изо рта.
Темная история, но, вероятно, ворвавшаяся к Степановой была душевнобольная. Об этом те, кто рассказывал это Алле в театре, ничего не знали.
22 мая
Свидание с Евгением Германовичем и с двумя грузинками – его женой и сестрой жены, приехавшей в Москву. Очень меня влечет – и даже очаровывает строение и настроения, особенность грузинской женской души. Может быть, потому, что и жена Евгения Германовича, и сестра – явление культурного слоя своей нации и обе с богатством содержания, индивидуально оформленного в их внутреннем мире. Обе почувствовали, как они привлекательны для старой бабки, и были со мной солнечно-нежны и порывисто, до поцелуев и объятий, приветливы. Мне было с ними очень хорошо в те два часа, какие я провела у них. Сначала за чаем – с тем угощением, которое Евгений Германович знает, что мое “гортанобесие” сделает меня к нему неравнодушной (сардинки, еще какие-то рыбки, как то: национальное грузинское печенье, кавказский сыр, варенье). И характер угощения, уют и особенность лица комнаты. И светло – по-родному улыбающиеся два милых женских лица делали чайное пиршество праздничным. Но… почему же я уходила с какой-то занозой в сердце?
Сейчас, задумавшись об этом наедине с собой, в строгом отрешении от себя, от моей “самости”, – с некоторым удивлением и печалью вижу, что причина занозы лежит в Евгении Германовиче. В его словах во время разговора за чаем, что, если бы какими-нибудь научными способами могли продлить человеческую жизнь – “под условием «в трех измерениях», – согласился ли бы он жить (не выходя из этих измерений) еще 300 лет (таков был мой вопрос). Он с живостью ответил – “и даже больше, чем на 300”.
Жена его (сегодня я впервые узнала ее грузинское имя – Ли) с ласковым юмором сказала: он бы и на тысячу лет согласился. Тут что-то помешало концу разговора – меня обе грузинки (сестру зовут Ли-Ли) устроили “полежать” на диване и посмотреть чудесный архитектурный альбом Кавказа. И я точно побывала в горах, в грузинских храмах, в развалинах на вершине гор – неописуемой живописности.
27 мая. Ночь. Ночь за полночь
“Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться” – эта мысль самого искреннего, самого глубокого и самого одаренного в области творческой оригинальности изложения своих идей Льва Шестова так гениально убедительна своей простотой, что, натолкнувшись на нее, мне захотелось поделиться ею с Леониллой, поникшей в томлении разлуки с Ниной, спящей в земле Лефортовского кладбища[923].
Философией и литературой какого-нибудь другого автора я не решилась бы утешать ее, чуждую интереса к таким книгам. Но когда я, напомнив темы некоторых книг Льва Исааковича, процитировала ей мысль его, что детям Бога нечего бояться и не о чем жалеть, она приподняла низко опущенную голову, и в лице ее отразилось внимание и понимание, какое утешение несут эти слова Льва Исааковича, благодарность за них ему.
157 тетрадь 1.6-21.6.1952
1–4 июня
Куда переедет обветшавший чемодан и ветхая деньми[924] старость моя, еще не знаю. Очень дружественно вникает в эти вопросы Леонилла. Сегодня, когда забежал с работы Юра (психиатр), усталый от избытка профессиональных забот и каких-то целительных новшеств, им придуманных в жизни его пациентов, мать энергично привлекла его к совещанию о моих летних судьбах. Он посоветовал обратиться к сыну его Котику (аэронавт, теперь на географическом факультете, кажется, последний год).
– Вот и хорошо, – сказала я Юре, которого очень люблю и высоко ценю, – у Котика твоего каким-то чудом уцелел, у одного из всех ваших родных, кроме вашей мамы (Леониллы Николаевны), какой-то живой контакт с баб Вав (в детстве и в первой юности они все были очень близки со мной).
16–17 июня
Что вспомнится, что само напишется. Ушибленная о тротуарный асфальт (третьего дня) голова пуста. Если не считать набегов “мозговой тошноты”.
Смотрит в балконную дверь ласковый свежий, тихий вечер. Не шелохнутся верхушки высоких деревьев старинного барского сада, окаймляющего невысокий, с толстыми колоннами дом, рядом с которым высится шестиэтажное здание, где на пятом этаже занимали большую квартиру Шаховские. В нем после революции семье его досталась одна комната. Большое благо, что она с балконом. В открытую дверь его, перед которой сейчас пишу на шифоньерке, целые сутки вливается ток свежего воздуха от садовых верхушек деревьев и от близости Москва-реки. И смотрит сейчас в балконную дверь большой кусок закутанного облаками неба с просвечивающим сквозь них кое-где теплым закатным золотом. Час, восторженно любимый ушедшей в “миры иные” Сольвейг. Слышу в памяти сердца ее свежий и нежный, не по летам молодой голос, каким она призывала меня на угол Головинского переулка, откуда лучше виден закат, чем из ее садика. Слышит ли она, видит ли, помнит ли меня, когда я мысленно сейчас касаюсь ее в глубинах души моей, когда она прислушивается к тем, кто отделен от нее порогом ее смертного часа. И к тому, словами невыразимому, что доносится к нам оттуда.
18 июня. 12 часов дня
Постель под милосердным покровом “тети Ани”. Постельный режим – может быть, следствие сотрясения мозга от ушиба головы, уличным “salto mortale”, вызвавшим новую фазу старческого угасания, признаки которого ощущаются мною и подмечаются окружающими в области памяти, в отвращении к пищевым процессам и в растущем упадке сил.
5-й час дня.
Солнышко и веяние свежего ветра из открытой форточки и балконной двери.
Перемещение на диван с подушками и с книгой Флоренского. “Кладезь премудростей”, – не без иронии сказал о нем Михаил, один из бывших его почитателей, когда остыл к личности самого Флоренского. Если бы не последняя встреча с Марией Федоровной, не приблизилась бы я “духовной жаждою томима” к этому “Кладезю”.
Что-то и раньше меня отдалявшее от личности автора его, при всем почитании изумительного богатства собранных им на страницах его “Столпа” духовных сокровищ человечества, прошедших через его мысль (и душу – несомненно) – только чем-то чуждым мне по индивидуальности его душевных свойств, звучащих в обильном лирическом потоке, переполняющем его книгу.
158 тетрадь 22.6-14.7.1952
22 июня
Весь день бурные порывы дождя. С замиранием сердца думаю о том, как бродила там по незнакомым лесным тропинкам Внукова “тетя Аня”, поехавшая с утра искать для меня приют на июль где-нибудь вокруг внуковской школы. Этот план мы выработали с ней вместе. Это недалеко от Игоря и его младенца-сына, Владимира, к которому тянут меня мои бабушкинские чувства. Можно было бы в случае удачи прожить до половины сентября, не вторгаясь в его семейный обиход и не завися от него денежно, побыть в тех местах, с которыми породнила меня четыре года тому назад могилка Тани, его первой жены, схороненной на внуковском кладбище. Все пережитое мною в то лето в связи с безутешным (тогда) горем Игоря, ставшего для меня в те дни сыновне и братски близким. Это ощущаю и теперь как смысл нашей встречи с ним в то лето. Вижу и чувствую огромную перемену в его мироотношении – и вероятно, и в отношении ко мне, хотя в нашей последней встрече он отрицал это. За эти годы я так углубилась в старчество свое, что мной ощутилась как трудность – и не только его семья в ее духовном для него значении, но и житейски трудный общий ритм дней, общность обихода дневного.
Если войдет сейчас вернувшаяся из Внукова Анечка с оповещением, что никаких надежд нет на мое устроение недалеко от Игоря и близко к Таниной могиле и к лесу, никакой огорченности у меня не будет. Может быть, потому, что и надежды на реализацию этой идиллии почти нет. И еще потому, что прочно уже пустило корни в сердце доверие к Руке, ведущей меня туда, куда мне нужно, и так, как мне нужно. И важно для внутреннего пути моего лишь одно: на каждой новой ступеньке посылаемых мне испытаний и даруемых мне благ – то и другое принимать, как нужно, с доверием и терпением, если оно чем-то трудно. И с благодарностью за все, что будет ниспослано.
26 июня
План переезда во внуковские леса, заботы и усилия, прилагаемые Анечкой к осуществлению его, ощутила ночью сегодня как роскошь, “не к лицу и не по летам”. Лицо души, этой награды не заслуживающее. Лета – 83. “Завтра, покидая свет, питайся мыслию суровой”[925] – а не дачным привольем.
И суровая, трезвая встала мысль, что нужность свою для Игоря старуха примечтала себе. Четыре года тому назад она была. Потом просыпа́лась в нем проходящими порывами. А две недели тому назад, прочитав мое письмо, посланное не почтой, а так сказать, “с нарочным” и с вложенной в него для ответа открыткой, мог не отвечать две недели. Отсутствие ответа мотивировал вчера в телефонном разговоре с “тетей Аней” тем, что в тот же день уехал в Ленинград (будто нет в Ленинграде ни почты, ни телеграфа).
С радостью вижу, что все эти соображения мои меня нисколько не печалят – за себя. Что в тесном смысле “искания своего” тут не было и нет. Как ни влечет зелень леса и обилие воздуха, даже в этом смысле, посоветовавшись (в практической области) с тетей Аней, может быть, решу, переночевав, в загорское городское захолустье или на ближайшую к Загорску станцию Семгор, куда подала мысль устроиться в дачном жилье знакомых Е. В. Дервиз художников. Там если не совсем лес, но какая-то лесная поросль видна из вагонных окон, когда подъезжаешь к Сергиеву Посаду. Иногда зову его прежним его именем, каким он был во времена Сергия и при жизни моей старицы.
Решение будет отчасти зависеть от Денисьевны, которая что-то не едет на мой зов. Калмыкова (врач) говорила, что это просто невероятно, как Денисьевна с таким сердцем еще не там, “иде же праведные упокояются”.
Не хотелось бы пережить ее, хоть и знаю, что она так же, как и я, живет с постоянной мыслью о конце земной дороги своей, всем сердцем вверяясь в этом Божьей воле со свойственным ей молитвенным устремлением. И душа ее как свечечка теплится, как пасхальная свеча в руках у стоящих в церкви в ожидании, когда распахнутся церковные двери и Крестный ход. Смерть, с обетом воскресения войдет в храм ее, очищенный долгим молитвенным путем.
14 июля. 12 часов ночи
Визит Игоря.
Не видались с марта – больше трех месяцев. И “как будто нас ничто не разлучало”. Необходимость искренности и нерушимые права на нее. Этим звучала короткая беседа (у дверного одеяла, за которым хозяева обедали).
Предложил зайти за мной завтра в з часа дня и проводить в свое палаццо на свидание с Владимиром (сын, которому скоро исполнится полгода).
Он знает и помнит мое отношение к Владимиру (“рожденье, смерть – два смежных чуда: приходит человек оттуда, куда воротится опять”). И как входит в мои чувства к появлению на свет Владимира “кладбище” Тани – но… Завтра, побывавши под его кровом, уяснится, надеюсь, то, что сегодня в этой, общей для нас с Игорем странице все уже относится в его сознании к прошлому или цело то, что для нас обоих было важным в нашей встрече. Для меня в этом вопросе важнее всего то, что я и без завтрашнего дня знаю уже, что в данном случае отсутствует во мне “искание своего”.
В 8 часов вечера прилетел Ника с огромным белым хлебом, оконною занавеской и т. п. вещами – дар “тети-Аниной” дочерне-материнской заботливости обо мне. И что-то новое, хорошее, живое в мою сторону у Ники, что меня глубоко трогает. И не потому, что это ко мне, а что есть это в нем, в чем я усомнилась в этом году.
159 тетрадь 15.7-11.8.1952
21 июля
2 часа дня ветреного, прохладного, с набегами крупных облаков на солнечный лик. Вчера около половины 12-го у всего Абабурова внезапно было отнято освещение. Пришлось укладываться в постель с восковой свечкой в руке – подарком “тети Ани” на те случаи, когда выключат почему-нибудь электричество.
10 часов вечера.
Вчерашний день отмечен визитом Игоря с женой и с сыном в колясочке. Сын – как бы дитя только матери своей, без отца. Такое на этот раз впечатление от его существа. Но как во всяком младенце – трогательность беспомощности, невинности и обреченности на трудный путь “земного жития”.
И вот больше не могу писать. Сильно нездоровится. Перо не слушается. Так и весь день пройдет в еле шевелящем бессилии.
26–27 июля
День был посвящен празднику на “линии движения” его сына. Гнетущее осталось впечатление от некоторых (от трех лиц) явно и (одно из них) даже оформленно приближенного к его жизни с особыми правами на близость. Угашаю вспыхнувшую потребность судить и осуждать одну женщину и одну мужскую фигуру, их лица, глаза, выражения, манеры смотреть, говорить, двигаться. Осталось больным местом только искаженное их присутствием и тоном отношение к ним главы дома. Жена и мать ее, и место, какое они заняли в обновлении внешнего и внутреннего лика Игоря, хочется верить, не смогут в главных чертах лика его внутренней жизни внести изменение в сторону разрушительную или застойную. Внешне облегчат и приукрасят жизнь.
Одни ямочки в улыбке жены на ее девически-свежем лице, при твердом до жесткости взгляде ясных серых глаз, делают понятной ее привлекательность для мягкосердечного, но в какой-то части своего существа угрюмого мужа. Вспомнилось, как 4 года тому назад после знакомства его с одной красивой, в возрасте между 30–40 годами, женщиной, которая картиной душевного мира и взглядом на жизнь, по-моему, должна была бы разбудить интерес к себе у Игоря, он согласился со мной, что “она, по-видимому, хороший человек”. Но тут же прибавил:
– Разве вы не видите, тетя Вава, что мне лучше всего одному, как я теперь живу. Дико и оскорбительно представить себе вот в этих стенах какую-то другую жену, кроме той, которая у меня отнята смертью.
10–11 августа
5 часов очень жаркого дня с налетами прохладного ветра. Что-то для меня интимно родное. До письма Игоря это чувство “чего-то родного” порождено близостью к нему и к его сыну, к его жилью. Сейчас в этих точках сознания близости нет. Есть благодарная память того, что пережито вместе с ним 4 года тому назад. Есть ощущение чего-то важного и уроднившегося душе в той части этой местности, где упокоен Танин прах (Таня – первая жена Геруа).
Из-за этих мест, если примет меня на две недели в свое жилище Зинаида Петровна, которая сейчас на побывке в своем родимом краю – Вильно, поживу у нее. А если нет – не хочу об этом больше думать. Да будет то, что будет!
160 тетрадь 12.8–7.9.1952
20 августа. 11 часов вечера
Хозяева уснули час тому назад. Тишина нерушимая. День прошел, как будто его и не было. Приготовление дневного себе пропитания. На электрической столбушке. Спасибо Нике – смастерил ее по совету “тети Ани”. Без этого и мне, и хозяевам были бы лишние заботы и “притруждения”.
Попытка – не каждый раз удачная – преодолеть слабость. Попытка согреться. День с набегами туч и холодного, сердитого ветра. Общение с лесом, как в большинстве проведенных в Абабурове дней, – только через окно. Сегодня глядела на верхушки деревьев – ветер трепал их во все стороны. Казалось: вот-вот вырвет с корнем какую-нибудь березку.
Вытащила старинные стихотворные тетради Мировича. Перечитывала как чужое творчество – без всякого отношения к тому, каким процессом душевным были они продиктованы. Некоторые из них понравились. Есть другой способ читать автору стихотворную свою лирику. И я его очень знаю. Но сегодня не шевельнулось ни одного воспоминания, с перечитываемой лирикой связанного. Точно не я все это “сочинила”. Не знаю, от старости ли это, от ее некоторого очерствения. Или – наоборот – дальше и повыше идет “линия движения”. Не смею утверждать. И, может быть, – еще третье, что говорили мне некоторые из близких моих: сестра – Анастасия Мирович, Лев Шестов – философ, покойная Тонечка, невеста Евгения Германовича, К.-Корецкий[926] – в ленинградские (тогда еще петербургские) годы моей молодости. В розовых выражениях (К.-Корецкий, стоя на коленях и целуя подол моей одежды) о том, что есть порода людей (к которым принадлежу, по их мнению, и я), которые обречены пройти мимо жизни на “этом свете”, призваны коснуться ее только одной точкой, напрасно стараясь иногда угнездиться в семейственный, общественный, трудовой обиход. Проще говоря, души монастырские, юродивые, страннические. Так определила меня однажды Танечка Щепкина-Куперник. Мы ехали вместе на дрожках к общему другу, Н. С. Бутовой, и Татьяна Львовна говорила: – Не могу вас представить ни замужем, ни матерью семейства, ни служащей в каком-нибудь учреждении. Вижу вас только в монастыре. Или странницей – как вы, кажется, теперь и живете – монастырская душа! (с звучным поцелуем в щеку).
Припомнилось нигде, кажется, не записанное стихотворение молодости:
Мне нечего делать на свете, Мара, Маряна, Маревна, Как долго ты возишься с этим Железом священным. Я жду косы твоей взмаха, Как венчального ждут торжества, Покажи, где твоя плаха, Вот моя голова.23 августа
В непроглядной тьме абабуровского вечера по мокрой траве и глинистой дорожной грязи спуск – под руки – Дарьи Алек<…>. с одной стороны и летчика “Васи” (добывшего для меня обратную машину у знакомого шофера) – с другой. Необходимость лично ехать в Москву за пенсией.
Шофер – молоденький, вступил со мной в разговор на плохом русском языке. Оказалось, что он оттуда, где “Лопе де Вега и Сервантес” (– Вы их “мадам”, читали? “Хуэнте Авехуна”[927] и “Дон Кихот”). Пытался рассказать мне дорогой, как и почему трудна его жизнь. И обо мне участливым голосом, губами касаясь глухого уха, выкрикивал вопросы: сколько мне лет? И где мои дети служат. И вскрик жалости, когда узнал, что их нет. И когда подъехали к Валиному жилью в 10-м часу вечера, на руках вытащил бабку из кареты и ни за что не хотел моих денег брать. Но я, пожимая ему на прощанье руку, успела вложить в нее десятирублевую бумажку.
Вот это было 23-е.
И юный этот донкихот, с таким рыцарством доставивший меня на Болотную улицу, остался жить в какой-то точке моего сердца, напоминая ему о всемирном братстве всех народов, всех возрастов, всех человеческих душ.
25–27 августа. 10-й час вечера
В ожидании “тети Ани” от Ильи (завтра большой православный церковный, а может быть, и католический – Успение Богоматери). И хотя я выросла в строго церковной семье, и хотя в такой вечер, как сегодня, с лаврской колокольни по всему городу и дальше в Заднепровье несся могучий серебряный звон, как только еще в ночь пасхальной заутрени, – к благодарному и поэтическому воспоминанию этих звуков не присоединяется торжественное настроение.
Когда церковный хор поет в Страстной четверг плач Богоматери: – Увы мне, Сыне мой и свете! Без тебя, мое чадо любимое, жития моего не хощу… и в конце: Мое сердце оружие пройде! – душа моя переполнялась скорбью всех материнских сердец, раненных муками и смертью их чад. И хоть не было у меня детей – все пережитое Богоматерью у креста ее распятого сына “оружием проходило” и через мое сердце. И теперь, если бы вернулся ко мне слух, я с не меньшей полнотою пережила “плач Богоматери” в одной из московских церквей на Страстной неделе.
Но особая, одуряющая сознание языческая пышность празднования этого дня и в детском состоянии веры в мои киевские дни, с подчеркнуто чудотворным значением самой иконы, когда ее носили по домам, где лежал тяжелобольной человек, – смущали и расхолаживали душу чуждым евангельскому христианству языческим колоритом.
161 тетрадь 7.9-19.9.1952
11 сентября
Что-то скажет Анечка, обещавшая сегодня созвониться с Аллой: узнать о здоровье Леониллы, сломавшей руку и помещенной в лечебницу Тихого переулка, и о том, есть ли уже у них прислуга. И о том, что состояние моего глаза и общая гипертония задержат меня на “Х” времени в Москве и без возвращения на “мою жилплощадь” мне не обойтись. Вижу трагический жест вскинутых кверху рук Аллы и гневно-жалобное восклицание: “Я так и знала! Никакого конца этому не предвидится. Она всех нас переживет!” – такое восклицание вырвалось у милой, бедной Ай три года тому назад в моем присутствии.
Терпение. Смирение. Старание с корнем вырвать из сердца, из души, из всех помыслов – “искание своего” – вот куда должны быть устремлены взоры твои, надежды твои, воля твоя, Старуха. И более живое, более горячее прибежище к Отчей Воле. Аминь.
162 тетрадь 20.9-11.10.1952
20 сентября. 9 часов вечера, очень темно, очень холодно. Москва, Зубовский бульвар
Холодно жить на свете Тому, у кого дом сгорел (Из старинного стихотворения Мировича)Начала эти стихотворные строчки и услышала насмешливо-вопросительный голос:
– Да был ли у тебя когда-нибудь этот “сгоревший дом”, вызвавший память далеких стихотворных строк забытого стихотворения? Был у тебя до 18-ти лет твоих материнский дом. А дальше, очевидно, провиденциальный круговорот “из дома в дом, из града в град”.
…А после 60-ти лет уже не из “града в град”, а из “дома в дом”. В общем, за всю жизнь я переменила мест не меньше 80-ти.
За 14 лет вселения под кров А. Тарасовой (по ее просьбе, так как моя жилплощадь понадобилась ее выходившей тогда замуж племяннице Галочке) до сегодняшнего дня я не переставала – то для Аллиного, то для моего улучшения морального и житейского обихода – кружиться как белка в колесе.
26 сентября. 5 часов дня
Приблизилась к 26-й странице книги Бека “Волоколамское шоссе”, которая сначала увлекла меня несомненной талантливостью автора в изображении некоторых моментов войны. Но постепенно я разглядела, что сам автор книги ничего не имеет против вкуса человеческой крови – “закалывания” человека, если он называется немец (и не Гитлер, а первый попавшийся честный труженик в нужной ему для пропитания своего и семьи и потреб его государства работе). Мог написать строки, которые сейчас выпишу из его книги (стр. 85): “Враг страшен до тех пор, пока не почувствуете вкуса его крови. Идите, товарищи. Попробуйте, из чего сделан немец. Потечет ли из него кровь от вашей пули? Завопит ли он, когда в него всадишь штык? Будет ли он, издыхая (!), грызть зубами землю? Пусть погрызет! Накормите его нашей землей. Генерал Панфилов назвал вас орлами. Идите, орлы!”
И прибавляет скромно о своем озверении:
“В этот вечер мы (не назначенные в это сражение) завидовали бойцам”. (“Какое низкое паденье! Какое зверя торжество!”)
163 тетрадь 12.10–31.10.1952
22 октября. 7-й час вечера
Утро отмечено неожиданным приходом о. Сергия. Прямо от ранней обедни в Лавре, где он назначен исповедником. Дионисия была счастлива – этот приход осветил и освятил день ее ангела. Главной целью его было навестить меня и поговорить со мной о нашем с ним разномыслии по некоторым вопросам веры и чина Богослужения. Больше чем через 30 лет после нашей разлуки, из монашеского образа, с большой бородой, для меня проглядывал мальчик, а подчас отрок и юноша Павлик Голубцов, его неудержимо искренний быстрый взгляд и светлая улыбка, исполненная доброты. Той доброты, которая заставила его, двенадцатилетнего мальчика, по своему желанию предложить себя в проводники моей слепой, старой матери в церковь по праздничным дням. И по дороге описывать ей предметы, мимо которых они проходили, что растрогивало до слез мою мать, от меня не знавшую такой степени внимания в те мои оледенелые годы.
164 тетрадь 1.11–11.11.1952
5 ноября
Путь жизни отца моего
Григория Исааковича, урожденного Осипова, выхлопотавшего права для себя и для младших братьев своих называться Малахиевыми в честь их деда, затворника Малахии в пещере близ города Острова Вологодской губернии[928].
Глава I. Детство. Потеря отца в двенадцатилетнем возрасте. Бедность. Оставшаяся вдовой мать, спасая 4-х детей от голода (из которых мой отец, Гриша, был старший), торговала в городе баранками. 12 лет. Гриша очень скоро, потихоньку от матери с проезжавшим мимо рыбным обозом, бежал в Петербург с целями “прокормить себя и всю семью” – в надежде найти такую работу. Исаакиевский собор, где у всенощной в первый день приезда Гриша молится на коленях с таким жаром, с такими поклонами и слезами, когда уже все почти молящиеся разошлись, – что Гришей заинтересовывается стоявший неподалеку богатый чайный торговец Дехтерев. Разговор Дехтерева с Гришей, после которого Дехтерев уводит мальчика к себе и через какой-то срок почти усыновляет его. Семье Гришиной он также приходит на помощь – в какой форме и в каких цифрах, не помню. Когда Гриша становится юношей, между ним и племянницей Дехтерева возникнет незаметно растущее, серьезное чувство (имя ее Оля). У самого же Дехтерева явилось намерение выдать за приемыша Гришу свою единственную дочь. Разговор его на эту тему с Гришей, который признается ему в своих чувствах к его племяннице и отклоняет от себя честь быть зятем “миллионщика”. Разгневанный Дехтерев отсылает его из Петербурга подальше, в Киев по чайным делам – с главной целью, чтобы вышибить дурь из его головы разлукой с Олей. Племянницу же в спешном порядке выдают замуж. Возврат Гриши в дехтеревскую семью. Когда он узнает, что Оля замужем, у него сразу возникает решение идти в монахи. Живя в Киеве, он очень полюбил Лавру, лаврскую службу, Днепр и сам город. Мечтал, женившись на Оле, переехать из Петербурга в Киев. В Киеве у него образовался целый ряд связей за год пребывания там как почти члена дехтеревской семьи. Ему было легко найти должность так называемого “подрядчика” – заведующего работой по стройке каких-нибудь зданий. У него оказался какой-то архитекторский дар, и его охотно принимали в Лавре для постройки и реставрации келий и внутренности храмов. Дехтерев, сначала рассерженный и обиженный его отказом от брака с дочерью, получив от него письмо, что он хочет принять монашество, примирился с ним. Тут для меня неясность, забыла, завещал ли он ему какую-то сумму или отец сам заработал в Киеве сколько-то денег на постройку рядом с монастырем Св. Ионы, на берегу Днепра (он в этом монастыре заведовал каким-то строительством). Отец по своему плану построил близко к монастырю легонький, весь голубой окраски домик – странноприимницу, где жил сам и человек 10 и больше богомольцев, приходивших в Киево-Печерскую лавру.
Отца в Ионинском монастыре колебались зачислить в монахи – мешала его молодость и нежелание ссориться с Дехтеревым, который был в числе жертвователей на этот монастырь. Настоятель вскоре принял его условно, отсрочив посвящение на несколько лет, разрешив ему заниматься при Лавре монастырскими работами и жить, хотя неся известное послушание в его странноприимнице. Когда его перевели, наконец, в келью, странноприимницу он отдал в приданое замужней сестре, вышедшей замуж. В келье через какой-то срок его постигло “искушение” – в связи с убийством монаха, хранителя кассы, “видение беса”, – и он, решившийся на самоубийство и как бы потеряв веру, рассказал своему духовнику – настоятелю, – и тот послал его в “мир” с повелением жениться, пройти через семейную жизнь и тогда уже идти в монастырь монахом. У отца в числе его знакомых был один из посетителей монастыря из окрестных домовладельцев Федор Афанасьевич Полянский, сын графа Калантаева и его крепостной актрисы, женатого на дочери графа Орлова (соседа по имению) и его крепостной балерины Прасковьи Алексеевны Загряжской. У этой крепостной пары (при венчании получившей свободу) в течение 20 лет брака родилось 12 человек детей – и в числе их оказалась самая младшая 16-летняя Варенька, на которую упал взгляд послушника, покинувшего монастырь, Григория Осипова (тогда уже Малахиева, выхлопотавшего себе эту фамилию в знак почитания своего деда, пещерного затворника Малахии, прожившего в затворе 50 лет – от 70-ти до 120). 16-летняя Варенька, чтившая Григория Исааковича, которого и отец и мать ее чтили, когда он приходил к ним в монашеском платье, – дала ему согласие на брак почти против воли родителей. (“Я и подумать не посмела об отказе, когда он сказал мне, что так велел ему настоятель. И по виду, по разговору, по своей непохожести на других мужчин был так значителен, как бы святой. И подруге моей Ане (той было уж 22 г.), он очень нравился, и она говорила: «Посватайся он за меня, прямо скажу, и я бы ему разве отказала».”) Отец мой перевез Вареньку из дома на Печерске в странноприимницу близ монастыря Св. Ионы, на гористом берегу Днепра с чудесным видом на златоглавую Лавру и на все Заднепровье верст на 20 в окружности. С Варенькой в мезонин переехали подруга ее Аня Соловкина и брат ее Миша. Так они и жили втроем, отец же помещался внизу в 2-х комнатах рядом со странноприимницей и в течение 2-х лет не мешал жене жить ее прежней девической жизнью.
С этим моментом биографии отца моего совпадает нежданное-негаданное ни для него, ни для всех окружающих событие в жизни отца: он попадает в тюрьму. По своей доверчивости к людям далеким, так же как к близким, он, чтобы вывести из беды кого-то из знакомых, дает за него денежное поручительство в размере, насколько помню, около 20-ти тысяч, каких у него самого в наличности не было.
Душевно-сердечное сближение отца с шестнадцатилетней женой своей Варенькой, посещавшей его в тюрьме и с разрешения начальника тюрьмы привозившей из тюрьмы в дом ее родителей (она в это время жила с мужем уже у родителей, так как он отдал свой “выдубицкий странноприимный” вновь овдовевшей сестре с ее двумя сыновьями). В результате этого загоревшегося между ними супружеского чувства появилась на свет “Я”, к большой радости обоих родителей. Отец мой потребовал, чтобы меня назвали по имени матери Варварой. Но мать не хотела звать меня Варенькой и переделала в имя, какое даже в 83 года у близких не отнято уже – Вава. Сокращение срока отцовой тюрьмы, благодаря раскаявшемуся виновнику его тюрьмы, внесшему нужную сумму денег.
Эпоха постоянных отъездов: не мог жить с семьей. Мог только наездами бывать. Жил где-нибудь поближе к монастырю, заведуя работами при всякой стройке – в Ялте, в Севастополе. В 1877 году – Киев, отец доброволец в войне с турко-болгарами. Зов “отдать душу свою за други своя”. Семья после жестокой бедности в Крыму (песня Ани: в понедельник размазень, а во вторник размаз. В среду снова раз… и т. д.) едет в Киев, в дом брата матери, Александра Федоровича Полянского, состоятельного человека, бездетного. Заработав при монастыре в Сочи, отец прислал матери 4 тысячи. Она покупает дом в Киеве на Рыбальской улице. Наезды отца все реже – раз в год. Готовится поступить в монастырь. Мать дает свое благословение. Он старается заработать сразу побольше денег (его нередко обманывали – несколько случаев). Один из приездов, где его по дороге обокрали и как он к этому благодушно отнесся. Переписка со мной при поступлении в монастырь. Заболевание желтой лихорадкой и приезд в больном состоянии. Бред: крестный ход – рюмки с лекарствами в больнице. Смерть с просиявшим – как у д-ра Доброва, только еще более радостным (у того более важное, сосредоточенное) лицом. У отца сияющее – до какой-то полной блаженства и света улыбки.
165 тетрадь 12.11–20.11.1952
16 ноября. 7 часов вечера
Неподалеку от спящей под двумя лампадами после сверхсильного “притруждения” ее дня.
Четыре события в нашей с Денисьевной жизни за истекшие три дня.
Третьего дня в распахнувшейся двери Дионисии обрисовался стройный и высокий силуэт Игоря, приехавшего в Загорск на три свидания: с Сергием, дальним родичем своим, о. Николаем и с нами (со мной и Дионисией). Был довольно поздний час, и он спешил домой – но это короткое время, совпавшее с нашим вечерним чаем, вспоминалось и ночью, и весь вчерашний день. И сейчас точно сияет передо мной его солнечная улыбка с выражением щедрой доброты, разливающейся по чертам очень индивидуального, породистого лица – в старину сказали бы – княжеского или графского.
Поговорили кратко – но о вопросах интимно-глубинных, какие всплывают до уровня речи в общении с немногими из числа ближайших близких.
Второе событие – свидание с О. Н. (Чумаковой). Вчерашний визит ее к нам в часы вечернего нашего чаю. И сегодняшний мой “визит” к ней – в третьем часу, для чего она зашла за мной, возвращаясь с рынка. Кроме педагогического стажа, в ней силен утонченный кухмистерский дар – творчество из ничего. Как, например, геркулес, маргарин, стакан молока, сахара по вкусу – образуется у нее в руках в утонченное печенье, от какого не отказался бы Потемкин.
И теплое гостеприимство. Решили сегодня с Денисьевной пригласить ее завтра к вечернему чаю. Это благодаря сегодняшнему третьему событию – приезду Шуры Манько (тарасовской бывшей работницы) с моими теплыми вещами и с дарами старой подруженьки моей Леониллы. Этими дарами и биографией моего отца и в скромном количестве стихами Мировича, какие услышать ей хочется, думаю угостить ее завтра (если буду жива).
Было еще и четвертое, более домашнего характера событие. Приглашение к нашему обеду Сонечки[929], которая сегодня ничего обеденного для себя не стряпала, так как большую часть дня провела в путешествии и в пребывании на кладбище, где прах ее матери. Радостно отметить, что приглашение Сонечки возникло у Денисьевны и что она подала мне эту мысль – тогда как месяц тому назад она не сделала бы этого. Месяц тому назад Денисьевна, когда я пригласила в одно из воскресений Соню, вспыхнула от этой мысли, расстроилась до слез и убежала, изготовив обед, на какой-то молебен.
166 тетрадь 21.11–30.11.1952
24 ноября. Ночь
Соня вернулась из Москвы, куда ездила в гомеопатическую клинику. Заезжала к Надежде Григорьевне[930], которая по моей просьбе спросила у Тарасовых, как им удобнее: чтобы я приехала 25-го, т. е. завтра, или осталась еще на какой-то срок. Ответ был: “без Варвары Григорьевны удобнее” (в не такой лаконичной и “очень любезной форме”). Да будет то, что будет. Лучше то, что не моей волей сделан выбор. И что не расстроен обиход Леониллы моим внедрением в стены общего жилья.
167 тетрадь 1.12–14.12.1952
13 декабря. Москва
На “своей жилплощади”, перемещенной в другой, более удобный угол и загороженный ширмами. С Леониллой и с Аллой, с Шурой и с другими работницами вполне “дружественные” встречи, с каждой по-своему. С Леониллой безупречно хороший, сам собою возникший контакт. И с ее стороны, и с моей, точно это в Киеве на Печерске в грушевом и грецкоореховом садике Чеботаревых, Елизаветы Чеботаревой и ее дочери Нилочки.
14 декабря
Сутки с лишним на “своей жилплощади” после полугодового отсутствия ознаменованы печальным – сильным приступом не то нервной, не то еще какой-то боли в боку и в пояснице Леониллы. Не захотела подвергнуться лечению моим массажем (“космические лучи”), о котором я ей вчера рассказывала. Она верила и верит, что другим людям это помогало. Но тут двойная причина нежелания: выступила линия внутреннего антагонизма, какая выступала с юных лет в разных случаях жизни, в данном случае даже в бессознательном нежелании помощи – да еще какой-то непонятной, чем-то как бы этого человека, ощущаемого часто в его “дефективностях”, ставящего на какую-то высшую ступеньку. Так было несколько лет тому назад и с Аллой, когда ей мое “лечение” помогло. Явилось как бы недовольство и нежелание прибегать к нему. Нечто подобное проявлялось и у других лиц их рода – в недоверчивом тоне вопросов и реплик, когда поднимался вопрос (случайно) о “свойстве моих рук”. Меня это никогда не обижало и не удивляло. Я как бы заранее знала, что они должны так думать и так говорить. И как удивили и огорчили бы меня проявления такого антагонизма со стороны кого-нибудь из семьи покойного доктора Доброва или д-ра Кветницкой, Лиды Случевской, Денисьевны, покойной Людмилы, Тали (Натальи Николаевны Кульженко) и молодежи, какой я читала недавно педагогические лекции. Надо укладываться в свой заширменный диван, ждущий меня, в свои горбины и теснины, к которым постараюсь привыкнуть, приняв их учителями в Школу Моего Терпения. А ложиться надо поскорее – потому что свет мешает Леонилле перейти в сон. Начинает нам с ней выставлять свои рога взаимное неудобство бытового сожительства в одной комнате. Напоминаю Мировичу о тех, кого он знал (в Загорске) спящими под столом и в сенях.
168 тетрадь 15.12–31.12.1952
16 декабря (канун Варварина дня)
Под покровом “тети Ани” в ожидании ее возврата из магазина, куда направило ее желание еще что-то прикупить именинное для завтрашнего угощения моих вечерних гостей.
Что-то неуловимое словами, благостное есть для меня в сегодняшнем дне. Образ матери – чье имя дал мне отец.
К образу матери прибавилась встреча с ликом душевным “тети Ани” и волной дочерне-дружественного отношения ее. Как всегда, с жертвенной реализацией в днях и в делах, как в деле самом естественном – ее приглашение “праздновать” день имени моего под ее кровом, с поднятием на себя груза всех забот о завтрашнем вечернем приеме тех из моих близких, каких мы ждем и для угощения которых она стоит сейчас в очередях каких-то магазинов за продуктами. Беседа в час прощанья с Леониллой, лежащей под большой фотографией полгода тому назад умершей дочери – Нины. С таким хорошим, потусторонне-светлым и осерьезненным лицом у самой Леониллы, точно она со своими налетающими на нее мучительными болями в боку, в сердце, в спине – уже наполовину была не “на этом свете”.
17 декабря. Варварин день
Под благостным покровом “тети Ани”. До вечера в полуодиночестве с заходившей навещать меня Марией Леонидовной – квартирной хозяйкой, так как я от какого-то психического и нервного переутомления провела почти весь день “в тети-Аниной” постели и до 3-х часов ничего не могла пить и есть. Мария Леонидовна думала, что я серьезно заболела. Вечером – несмотря на снег пополам с дождем и разбушевавшуюся непогодь – приезд трех дорогих гостей – Валички, Екатерины Павловны (Калмыковой) и Машеньки Ш. От Игоря (Геруа) нежданно-негаданно после трехмесячного разобщения и моего прощального письма, которым сердце “тети Вавы” “…Все, что нужно простить, все простилось, Все на волю его отпускалось”, – шофер с тортом “Идеал” обширных размеров принес поздравительные строчки, среди которых были те, какие имеют для меня высшую цену. Записочка потеряется, а тетрадь, может быть, поживет подольше:
“.Я благодарен Вам за то, что Вы укрепляли во мне Веру во Всеобнимающую Жизнь Духа, и за эту Вашу Веру и доброту благодарен Вам бесконечно”.
28 декабря. 12 часов
“Искушение”.
Грубый тон и свирепое лицо генерала, ворвавшегося в нашу старушечью комнату и, не разобравшись, в чем дело, с командирским видом заоравшего по моему адресу о занавешивании и раскрытии занавесок на окнах. Между тремя старухами (Л. Н., ее приятельница М. В.[931] и я) шел без всяких пререканий разговор, как увеличить количество света, необходимого для меня, чтобы написать срочно мне нужный отклик на только что полученную открытку.
“Искушение” – мое – состояло в том, что я не сдержала в себе вспышки ответного на генеральский тон гнева. И два раза неожиданно для себя сильно повысив голос и, вероятно, с соответствующим видом глядя прямо в лицо Пронина, воскликнула:
– Уйдите отсюда! Уйдите, ради Бога!
Что-то пробормотав и уже гораздо тише, он повернулся ко мне спиной и ускакал в свою комнату.
А я почувствовала полную моральную – и в этот момент – физическую невозможность оставаться с ним под общим кровом, с необычайной быстротой оделась и направила путь на Зубовский бульвар.
169 тетрадь 1.1-20.1.1953
6 января 1953 года. 1-й час ночи
В гостиной нарядная елка в разноцветных электрических лампочках. Много изящных украшений из животного и растительного царства. Возле елки “рождественский” стол – с кутьей и взваром. За столом только трое – Алла, ее генерал и Леонилла. Домработница (Ольга) со смущенным и жалостливым лицом принесла мне блюдечко с остатками варенья из райских яблочек, которым хозяева ее угостили в конце чаепития. Шепнула со стыдливой мольбой:
– Это от меня (прижав руку к сердцу) Вам. Только вы прикройте чем-нибудь (!). Будут еще разговоры.
Отказаться было бы жестоко. И не в стиле нашей – моей и ее братской настроенности. Я долила их водой и эту сладкую воду выпила, а слишком твердые и кукольно крохотные яблочки, когда Ольга вышла, завернула в бумажку и бросила в помойное ведро.
…Ай, милый мой, бедный мой Ай… Как же это так могло с тобой случиться?..
13 января
День свидания с Олей и Анечкой после 8-ми месяцев невидения и неслышания (кроме телефона). Были также три-четыре обмена письмами. Весь день общения с Олей, живого. И с Аннабель – менее живого. Занесли для меня елку – дремуче-густое, высокое, пахнущее лесом дерево. Без украшений, с белыми восковыми свечами, в палец толщиной. Анеличкина наружность от ожидания в феврале посвящения в материнство ничуть не утратила своего очарования. В чем-то, наоборот, утоньшила и осерьезнила лицо.
Предночное время и ночлег – с 9-ти до 9-ти – у Валечки. Во внешности у нее за месяцы нашей разлуки (4 мес.) что-то появилось болезненное. Может быть, следы переутомления от работ и забот (душевных и посылочных о Викторе). От него после долгого промежутка в письменном общении прекрасное письмо. Веет от него духовным мужеством и светлой, не умещающейся в слове, углубившейся и одновременно поднявшейся ввысь Любовью (которую уже хочется писать с большой буквы). Невольно думается: “А ведь не была бы она такой, если бы прошли эти годы в так называемом «супружеском счастье». Помешало бы это супружеское счастье подняться на ту ступень, где она теперь”.
170 тетрадь 21.1–9.2.1953
2 февраля
Общение с А. П. Чеховым во сне.
Один из редких снов, где вся суть, все душевно-духовное значение пережитого во сне сводится к встрече – еще более яркой, чем наяву, с кем-нибудь из умерших дружественных нам лиц.
Действие последнего сна происходило в гостинице, которой в жизни не было, но в снах этого типа повторялась. Огромная многоэтажная гостиница, типа американских домов. Но во сне – я чаще в нижнем этаже. И на этот раз – в знакомой по другим снам крайней комнате нижнего этажа. Живу в этой шаблонного вида комнате одна. Временно. Проездом в другие страны. Пишу что-то о заграничных впечатлениях (как было наяву, в те стародавние годы) и живу, как и тогда, на эту построчную плату. Возраст мой – между 23–27 годами. На мне платье, какое наяву было в те года и нравилось мне больше других – темно-серое, отделанное черным шерстяным кружевом – у ворота, в конце рукавов, на груди. Очень оттеняло оно белизну и нежность лица и рук. И как в те годы наяву – пышная каштаново-золотистая коса ниже пояса – или вокруг головы каштаново-золотым нимбом.
С тетрадью в руке отворяю дверь на чей-то стук – и передо мной вырастает Антон Павлович. В кусочках этого сна есть отрывки воспоминаний одной малоизвестной писательницы о ее знакомстве с Чеховым[932]и о тех чувствах, какие она, по ее мнению, в нем пробудила, но ответить на которые не могла – так как у нее был муж, хоть и не очень любимый – и грудной сын.
На лице его отражается власть очарования моей внешностью.
– Я пришел, – говорит он, – с прозаической целью (тут нечетко помню: что-то о сломанном перышке, о ручке для пера…).
– Что же вы не входите, Антон Павлович? – говорю я. – Разве вы не видите, как я рада встрече с вами? После вашей первой книжки я не переставала мечтать – вот так лицом к лицу с вами побыть и чем-нибудь вам стать нужной – хоть перышком для ручки.
Дальше – чаепитие друг против друга, за маленьким столом, оживленный – с чувством все растущей близости – разговор о его книгах, о двух его пьесах (наяву только что прочитанных мной). И тут же о “каштаново-золотой короне” – и царственной власти ее. Я могла бы воссоздать, но не с помощью памяти, а творческим воображением – длинную беседу нашу, – но мне достаточно того душевно-духовного ощущения, что Чехов вошел в мою жизнь “помимо воли, но всем сердцем, всей душой” (его слова).
Дальше нужно бы или писать рассказ на тему, заданную этим сном, или отметить только глубоко серьезное и радостное чувство, что “вошел Антон Павлович в мою жизнь” – как я даже не смела мечтать: “всем сердцем, всей душой своей”. С этими словами рассказа о нашей встрече с Чеховым кому-то, не то Анне Васильевне, не то Оле (Веселовской) – я проснулась. И целый день жила переполнявшим сердце чувством, что прошло через мою жизнь нечто важное и прекрасное, что не прошло мимо меня то, что называют “счастьем” – и что я к старости стала произносить в насмешливых кавычках, как игру воображения, далекую от реальности.
171 тетрадь («Не могу») 10.2-21.3.1953
7 марта
Под кровом Оли, Анечки и Иванушки в ожидании, когда они проснутся. Мария Прокофьевна, работница их, предсказала, что “могут подняться только в 1-м часу, если дитё не давало ночью выспаться”.
Движение всей Москвы к Кремлю для прощания со Сталиным вошло и в мою жизнь тем, что загородили дорогу на “жилплощадь” Мировича – единственное место, куда у него есть право в какое угодно время и на сколько угодно времени до самой смерти не быть удаленным. И только по какому-то водевильному штриху моих судеб удаляемой по нескольку раз в год – или из-за того, что Леонилле по характеру ее болезни трудно болеть в моем температурном (холоднее, чем у нее) окружении, или оттого, что несносны для моей гипертонии условия ее недугов.
Но зачем же я пишу об этом в такие дни, когда всем существом душа моя, поскольку она не только моя, но и живое звено с Душой моего народа, – погружена в какую-то безмолвную, пока словами невыразимую Мысль – вернее, Мыслечувство.
В нем есть что-то похожее на то, что было в детстве в дни Страстной недели, когда ее траурно-черный воск свеч, плащаница, погребальные напевы – все это не только рядом – но и по существу неразрывно с Пасхальным Торжеством, с верой в него, с ожиданием на него.
Старость обессилила и обесправила меня жить в днях и в делах жизни тем, за что мне по-родному и по-святому дорог Сталин (“в Боге почивший раб Божий Иосиф”) – но одной из заветных святынь своих осознает душа слова, развевающиеся на знамени, поднятом Сталиным: За мир во всем мире! Аминь.
8 марта. 8 часов вечера
Сильно нездоровится. Чтобы не разлежаться дольше завтрашнего дня – срок, предложенный сострадательно и нежно Олей, которой самой плохо (у нее с сердцем), – пью кальцекс, выхожу на Пятницкую улицу освежить голову. Хочется в здравом виде, хоть бы только в виде, а не по существу дела, попасть завтра на ночлег к Вале (а здесь ночлег вроде моего “жилплощадного” – и холодно, и жарко, и одеяло сползает). А послезавтра – на свою жилплощадь. И оттуда, если не оправлюсь, – это заставит Аллу отправить меня в больницу. Всю жизнь не любила я для себя и даже как-то боялась – больницы. А последнее время моментами она преподносится воображению как нечто отрадное: покой, борьба с набегами мозговой тошноты и клоками каких-то клетчатых блестящих рисунков, которые вот и сейчас мешали писать.
Пантеон Сталина и Ленина.
Бальзамированные тела.
Что-то египетское.
Если бы меня позвали на совещание по вопросу о пантеоне, я бы сказала: Пантеон – величественное здание. Им хорошо украсить Москву – и передать в века родной стране, что сделали для нее в такой-то истории такие-то люди. Но зачем же бальзамировать прах? С закрытыми глазами, с отпечатком смерти и тления (задержанного во времени).
Вместо этого воздвигнуть в Пантеоне их статуи, дать их портреты. Целую галерею портретов из важнейших и трогательнейших моментов их исторического пути.
А тела – предать огню – стихиям пламени и воздуха. Горсточку пепла бережно сложить в мраморной чаше на пьедестале под лучшим из их портретов.
11–12 марта. На «своей жилплощади»
Леонилушке получше. Хоть лицо у нее как у великомученицы. Жестокий недуг – радикулит – ни днем, ни ночью не гарантирует ни одного из движений без встречи с ним, без его стрелы, вонзающейся в поясницу, в спину, в бок.
Сейчас ей получше. С помощью рупора из газеты (ее изобретение) поговорили с ней о текущем историческом моменте в нашей стране. И конечно, о Сталине. При его жизни я понимала его значение для “мира во всем мире” прежде всего. Со времени гудка, возвещающего – тоже мирового значения – потерю в проложении пути к девизу на знамени, какое поднял наш Сталин над всеми народами земного шара, – с того часа, когда Анечка повела меня послушать на Пятницкую улицу прощальный гудок (я ночевала у Веселовских), в глубинах моего самосознания не покидает меня чувство личной потери. И оттого лишь нет в нем ничего мрачного, что сам Он, Личность его, Душа и Дух его для меня не мертвы, наоборот – еще более живы, чем были в здешней, преходящей жизни, перешагнув в жизнь Вечную.
172 тетрадь (вероятно, последняя) 25.3-19.5.195З
27–31 марта. 11 часов…
Так что же было такого, что запросилось бы к моему перу из канувших в вечность и для чего-то мне отмеренных на конце моего пути 5-ти дней с 27-го по?
Что вспомнится.
Что подумается.
Ника поехал все-таки в Загорск. Льщу себя мыслью, что принял это решение отчасти из-за того, что он видел, как отмена этого плана меня огорчила. С отменой решения его я не могла бы уже до Пасхи передать Денисьевне дрожжи и еще кое-что из предпраздничных вещей, которые по безголовости моей теперешней не передала через другого посла моего – Николушку Жениного.
Была большая радость от газетного известия о сокращении (и даже полном зачеркивании) срока наказанным заключенным за свои нарушения закона страны, изгнанным в места более или менее отдаленные. И что самое тяжелое – с лишением свободы.
Осветилась эта радость в личном углу сердца надеждой увидеться с Женей (Николушкиной матерью). Загорелась в этой надежде мысль – вот и кончится круговорот твоих приживаний, “баб Вав” – где бы ни поселилась твоя “зам. дочь”, ее дочерние объятия для тебя открыты – как три года тому назад в день твоего рождения. В переживаемые ею и мной сейчас дни – я знаю: одинаково крепко и свято живет обет: быть мне “до черты”, не покидать меня до конца моей жизни.
1 апреля
Итак – амнистия[933].
Готова была при этом известии отвесить земной поклон Маленкову, Ворошилову и другим, кто вершит судьбы народа. И кто даст мне увидеть мое дитя, мою дочь.
Сын ее прилетел ко мне в эти дни. Внучонок мой, Николушка[934]. Слетал по моей просьбе с пасхальной посылкой к Денисьевне. И сколько редкостной в пятнадцатилетнем мальчике, детски нежной ласковости внес третьего дня в мою жизнь. Ничего не хочу предрешать, не смею просить об этом высшую Волю. Но каким незаслуженным счастьем было бы завершить круговорот моих скитаний под кровом с прилетевшим ко мне третьего дня Николушкой и с его матерью. Все равно – горе, все равно в этих житейских условиях – но в духовно-душевно близкой семье, где бы я чувствовала бы все время, что это не только мне так же духовно-душевно и жизненно – важно им обоим, и сыну и матери, в днях, в каждом шаге, каждом событии их жизни.
9 апреля
Приехала из дальних стран Тонечка[935] – моя загорская ученица (четверть века тому назад). Результат амнистии. Вины не было. Но тогда принято было высылать за княжеские или графские фамилии. Вид у нее обнищавший и застенчивый. Но подавленности нет. С оттенком живой мысли, спокойный, длинный взгляд. Она знает английский и французский языки. В Москве могла бы найти заработок.
Десять лет такой жизни, какая выпала на долю Тонечки, не шутка. Одиночество (чуждая среда). Единственная радость была за это время – два приезда тетки (Марии Федоровны)[936] к ней. Тоня уехала после ночлега под кровом Анны Дмитриевны. Пробудет в Боровске четыре дня. Рванулась было и моя душа в обитель творчества, где родился замысел в связи с одухотворением человеческой души (св. Серафима) дать зрелище одухотворенной природы. И если бы даже не было этого замысла – Мария Федоровна, одна из тех женщин, высота внутреннего пути которых, верность ему в каждом дне и часе, для людей такого калибра, как я, одной близостью своей уже является свыше посланной опорой. У нас с ней общая платформа. Но край моей, касаясь “Врат сени смертной” – через это касание уже присоединился к “мирам иным”, <в> каких Анютин не существовал, о чем она порой говорила с сожалением к себе – о том, что “для нее все ограничивается тем, что можно получить пятью чувствами”.
…Вспомнила вчера вечером и рассказала “тете Ане” о Константине Прокофьевиче Тарасове (Аллочкином отце). Константин Прокофьевич – “реалист-безбожник” (врач по профессии) – незадолго до своей смерти, пережив космическое сознание, однажды сказал мне, рассказывая об этом событии: “«Богоискатели наши» ищут то, о чем говорит нам на каждом шагу природа и весь наш внутренний мир”…
25 апреля
…Любила я белый цвет – вишневый сад в цвету, белые платья на молодых девушках – как он мне теперь враждебен. И облака, и белые обои тети-Аниной комнаты, и бумага, на которой пишу (писать можно только в сумерках).
…Вчера сестра Анна рассказала мне о таком градусе слепоты у нашей общей знакомой, когда уже ни при каком свете – никогда – ничего нельзя ни читать, ни писать. Захотелось к ней. Чем-то приободрить. Хотя бы тем, что вот и я на один шаг расстояния от ее потери зрения. И это надо непременно сделать в мае, если буду жива и приеду за пенсией из Загорска.
Послезавтра – Загорск, если буду жива. Несколько раз в день подступает ощущение и телесное – и в глубине глубин: конец круговоротам недужного и никому не нужного существования.
Какой-то голос во мне спрашивает: “И тебе самой ни на что не нужного?”
Отвечаю: “Только для покаяния во всем содеянном и в несодеянном, том, что нужно было сделать – делом, словом и душевным устремлением, – для чего была послана жизнь, из-за чего тянулась до 84-х лет”.
Так вот для этого и слепнущее зрение (отрыв от книг). И Загорск. И пребывание у одра Денисьевны и возле тяжелой жизни Сони.
18 мая
…Все чаще от Загорска – от моего в нем быта – ощущение ссылки. Далекой от Москвы недосягаемо. Бессрочной. Вернее – безвозвратной. Приезд Вали и радость свидания. Живые лучи ее теплоты – но все вместе как сонное видение.
…Важное в предшествующих днях и не записанное по очень плохому состоянию головы и полному упадку сил: дочерний визит Ириса моего. На другое утро мимолетная встреча с Марией Федоровной, у которой Женя (она же Ирис) гостила. От Марии Федоровны шло весь этот год дыхание одухотворенной ее жизни, позволившее ее творчеству написать одухотворенную жизнь св. Серафима, лес и Лик самого одухотворителя, который только она могла написать так, как это написано.
19 мая
“Не думай, что мир обитает в здоровом теле: там жабы и пиявицы. Нет, мир обитает в мертвенной (умерщвляемой постом и болезнями) плоти нашей. И это-то и есть истинный мир. Правда, мне жаль, что ты болеешь, но не жалею духом, зная, что твои скорби для тебя – сокровище”. Выписка из книги Денисьевны письма о. Анатолия, у которого я была больше 40 лет тому назад в Оптиной пустыни.
174 тетрадь 1.7–2.8.1953
3 июля. 3 часа дня
Перед роскошным букетом садовых цветов – и белых, и красных, и оранжевых, и синих, и голубых. Подарок Денисьевне от одной из окрестных почитательниц ее, знающих, как любит она цветы. Не меньше, чем котов и кошек. Коту из скудных рублей своей пенсии способна порой – в свой постный день! – купить “молочко”. Денисьевна что-то варит для нас на кухне, какую-то “серенькую кашку”. И в ожидании этого угощения я приволокла свою плоть с ложа соседней комнаты в денисьевскую обитель к ее обеденному столу. У Чумаковой, дружественно принявшей меня к себе, “пока не приедет сестра с сыном – на недельку”, мне трудно бы без Денисьевниной близости ужиться (сегодня ночевка у нее). Там, у Чумаковой – свет – и рдяно-розовый абажурный – с вечера, и почти с 3-го часа ночи из большого окна – от “белых ночей”. Как воскрешали в памяти эти бессонные у Ольги Николаевны ночи полсотни лет тому назад пережитую волшебную, томительно влекущую в какую-то чудодейственную, неведомую даль – белизна таких июльских ночей в Петербурге, еще в царские времена! И жажда революции (смерть для себя “на эшафоте” (!)), и литературные начинания в журнале “Неделя” и в детских журналах и в газетах. Портрет Репина – большой – на стене комнаты Ольги Николаевны помог встать из дальней дали тех “петербургских дней”, ушедших в вечность, – некогда такие близкие! – образу Сони Балаховской, сахарозаводчицы, окончившей университет в Париже и вышедшей замуж за француза, очень богатого, очень культурного, очень элегантного, влюбленного в нее безнадежно француза Эжена Пети. Соня, выходя за него замуж, обусловила, что брак этот “фиктивный”, союз дружбы – и только. Что она полна любви к другому, с кем ее жизнь разъединила.
Всплыл из далеких далей образ этой маленького роста кукольно-изящной, но с царственно горделивой походкой и всей манерой держать себя, с победоносным взглядом больших искристо-серых глаз, с музыкальным смехом и чудесной улыбкой.
Мы расстались с ней около сорока лет тому назад. Она уехала в Париж. И то, чем я жила в те годы – и революция, и “богоискания”, и толстовство, – удалило меня от парижского окружения ее интересов. И чуждо ей было уже то, чем жила я. А вскоре и переписка с заграничными странами стала вещью запретной.
Жива ли она?[937] Навряд ли. Не многим жизням суждено, как моей, затянуться на такие сроки. Чувствую это как испытание, возмездие за дурно прожитую молодость и зрелые годы.
Сумела ли бы я – спрашиваю себя, – все в своей жизни поправить и повести ее в том направлении, какое чувствую для себя теперь единственно важным (как и для других людей) – по линии движения живой, действенной любви к Богу и к людям. Навряд ли. Все, до самой старости было бы так же урывками, скачками, без учета отпущенного времени для жизни. И с разметом сил во все стороны. “Без уменья концентрировать их в одно направление”.
Из нашей ультрареволюционной, кратко просуществовавшей партии, сколка с народовольчества, – насколько мне известно, только два или три человека влились в революционный поток, возглавленный Лениным. Из женщин, мне известных, все, кажется – начиная с главы нашей женской секции, в юности всем существом посвятившей себя делу (мечте, вернее) революционного переворота в России, – все целиком ушли в семью. Или в “личную жизнь”, в той или другой форме, и в профессиональные интересы (доктор Анюта Кветницкая, фельдшерица-акушерка и служитель религиозного культа, богоискательница Людмила больше всех, когда были у нее сильны сомнения из стороны в сторону мирян).
175 тетрадь 5.8-24.10.1953
11–12 августа
Время, близкое к заходу солнца (часов в доме нет, посылать “за временем” к соседям некого).
День ознаменован появлением тарасовской работницы Шуры с моими подушками и одеялом. Вижу в этом событии желание Аллочки (продиктовано, вероятно, матерью) как можно обстоятельнее закрепить мое пребывание в Загорске. И жалко мне ее разочаровать в ближайшем письме. Но – ввиду ощущения близкого конца плавания в “житейском море” – хочу (если это суждено), продержавшись в здешнем краю сентябрь, на “свою жилплощадь” или туда, где Аллочка вместо нее найдет – депутатско-артистической влиятельностью своей – какой-нибудь приют для меня “с услугами” в Москве или в ближайших окрестностях ее. Чувствую живую сердечную и душевно-духовную потребность накануне расставания встреч лицом к лицу с четырьмя Наташиными детьми и с четырьмя друзьями, которым, я знаю, тоже хочется побыть со мной в свободный их час хоть полчаса. Жизнь может затянуться – но тогда тем более нужны будут живые жизненные касания тех из близких душе, кому это покажется душевно важным настолько, как и мне.
19 августа. 3 часа дня
После бессонной ночи, посвященной возне с печенью и склерозом – мозговым осложнением. И чудесного, первого в загорское лето утра, изумрудно-зеленого, осыпанного алмазной росой огорода (из кухонного окошка). Прихлынуло к нему – там же, на кухне – воспоминание о друге молодости, философе Шестове – его рассказ о впечатлении на его детскую душу впервые увиденного им такого утра. “Вот это и есть жизнь, мир, в котором мы призваны жить, – закончил он (60 л. тому назад) рассказ об этом наедине со мной. – А все остальное – загадка”. Так закончилась одна из наших бесед на эту же тему. И так живо же встало в душе это утро, что загородило им все тяжелое, что принесло моей старости загорское лето.
10 сентября. 12-й час ночи
Воспоминание о моей поездке в Ясную Поляну в год кончины Толстого.
Пушкинское стихотворение “Когда для смертного умолкнет шумный день”[938], прочитанное вместе с ним (4 страницы вслух по очереди). Двухчасовая беседа. Его рука на моей голове в конце беседы. Драгоценность воспоминания об этом вечере. Обаятельность его существа душевно-духовного – и внешне старческого.
Ночью воспоминание, ряд воспоминаний о моей поездке в Северную Америку (в Нью-Йорк). Путешествие. Встречи. Впечатления Народного дома Театра. Странность этого воспоминания в том, что в последние годы оно до того было стерто склерозом, что в разговоре о тех странах, в каких за мою жизнь побывала, я перестала помнить Америку. Хотя порой говорила: – Из тех материков, какие на земном шаре, не удалось мне побывать только в Австралии. И забылись также Японские острова и Дальний Восток. В эту же ночь вспомнился ряд моментов путешествия через Азию по железной дороге. Также и Египет.
Сфинксы. Освободил их также рассосавшийся склероз и дал припомнить все обстоятельства и настроение, пережитое у подошвы сфинкса. И его загадочная улыбка из глубины веков. И припомнила стихотворение мое (плохое). Строки из него:
Вот синяя ночь наступает. Хладен в Сахаре песок. И звезды Египта большие И жизнью, и страстью горят. И в сумраке синем немые Недвижные сфинксы стоят…11 (или 12) сентября. 11-й час утра
Денисьевна на этой неделе третий раз стоит в керосиновой очереди целые часы подряд без всякого результата. Город обескеросинел. Дрова, брикеты отпускаются в такой дозе, что их и на зимний один месяц не хватит. “Кто виноват – у судьбы не допросишься, да и не все ли равно?”[939] В газетах все равно напишут, что советская жизнь “самая счастливая” на земном шаре. Но не о том хочется и нужно с этой тетрадью говорить. Отложу до вечера (если буду жива). Сейчас после бессонной, полной болезненных эксцессов ночи необходимо уснуть.
28–30 сентября
От Женечки (Ириса моего) письмо. Если сбудется то, чего нам обеим хочется – в материнско-дочерней области наших отношений, – то будет незаслуженная милость Божья ко мне, грешной. Речь идет о том, чтобы расстаться мне с “моей жилплощадью” у Аллочки, при ее помощи объединиться с Женечкой до конца моего (хочется верить – недалекого). И после того, как плотская оболочка моя обратится в дым и пепел, оставить Ирисику и ее сыну единственному московскую жилплощадь для их процветания. Не случайно, может быть, и приезжавшая третьего дня тарасовская работница Шура говорила, что у “Аллы Константиновны” тоже есть мысль, что матери ее будет свободнее, во всех смыслах лучше жить, чем в объединении со мной. Значит, была бы милость Божья и к моей старости, если бы осуществились эти надежды.
176 тетрадь 26.10–30.11.1953
11 ноября. 11-й час вечера
…Прочла в дружественный момент Леонилле старинное мое стихотворение из тетради моей, с которой третий уже вечер провожу в дружном общении (не как с собой, а как со старым другом). Стихотворение на тему: как страшно жить в семи слоях (вместо “страшно” можно сказать “трудно” или “странно”).
Как страшно жить в семи слоях, В одном – мести дорожный прах.Леонилле дали ужин и чай с Аллой и генералом. Пока она не пришла, буду писать, что попросится – к руке, к перу. К бумаге. Всем существом живого уединения, кусочек ночного одиночества.
14 ноября. Около полуночи
Только что приехала из МХАТа Леонилла под конвоем внучки – Галочки (Калиновской). Смотрели пьесу из американской жизни “Ангел”[940](а какой ангел, чего ангел, пролетело мимо ушей). Алла взяла в свои руки бразды (и детальное участие) кухонного хозяйства – у домработницы сегодня отпуск.
С нежданным энергичным участием Ай отнесся к моей сегодняшней пищевой программе – вернее, к отсутствию ее. У них был мясной обед. Оля убежала с утра из дома на свободу, не включив в программу его, вчера завершенную, оказывается, что-нибудь молочно-овощное или даже какую-нибудь кашицу. Исторически в биографии Аллочкиной после разлуки с Москвиным (10 лет тому назад!) случай, живой, участливой заботы обо мне. Да еще каких-то вещах съедобных. На кухне с пищевым советом и реализацией их. Тронута душа моя этим случаем как чем-то серьезным, обеим нам на “линии движения” нашего нужным. Для меня же молоко, которое она своими белыми театральными руками вливала в мою серую кашицу, имело совсем не пищевое, а нужное, нам обеим сужденное значение. Поговорили о театре. Ее полнозвучный серебряный голос, привыкший раздаваться на весь театр, без усилий с ее стороны звучал над плитой, шкафчиком кухонным и водопроводом так четко, что мои глухие уши уловили все интонации.
177 тетрадь 1.12-7.12.1953
4 декабря. Начало 12-го часа ночи
В ожидании Аллочки из театра. Сегодня она там Анна Каренина. Напрасно в какой-то части публики бродит слух, что она “стара” для этой роли. К ней, как и к родителям ее, – ни в каком возрасте не подойдет слово “стара”. Леонилла стара только телесно, нервно-психологически – молода (в 83 года).
Что же мне так чуждо по временам в них обеих – и в матери, и в дочери? И что через всю жизнь не помешало ценить в обеих то, что составляет сущность Личности, душевного Лика каждой? Это как раз свойства, противоположные мне. Стойкость, активная рабочая сила – у Леониллы, щедро тратимая по времени не только на свою семью, но и на чужих людей. У Аллы – на самообслуживание в области своего быта (до театральной дороги). И в служении Театру (для нее с детства с большой буквы). Центральная пружина внутренней жизни – служение театральному искусству. С детства. И это мне – главное это – дорого в ней, как и ее до безжалостности к себе, “по-ермоловски”, до конца дней составляющее центральный интерес и рабочее содержание каждого дня.
Мать ее – ветка, полная соков древесина (Она), до появления еще листьев и цветов на ней отдающая натуральные соки интересам и смыслу цветения дочернего таланта, как отдавала бы во всякой морально-приемлемой области работы своих детей (этим я хочу объяснить себе, почему именно с Леониллой говорить о творческой стороне артиста, писателя всегда было чем-то с моей стороны неуместным для нее и для меня, хотя по дружественности и теперь иногда тянет (за неимением собеседников в этой области)).
178 тетрадь 8.12–31.12.1953
12 декабря
Вчера вечером нежданный прилет Валички – прямо со службы. Приехала с целым ворохом расспросов и рассказов из области покупок для Мировича носильных одежд. Великодушное дитя мое, переполненное служебными делами и посылками писем Виктору, чудодейно еще возложила на себя одевальные заботы о моей старости. Пришлось вникать в это, что-то соображать. И болезненное опасение – неужели так затянулась жизнь, нужно еще обмундировываться для дома и для выходов. Жаль тратить деньги, скопленные летом, на “полушалки” для плеч, какие вращаются на диване, где пролеживаю день и ночь, – и редко, как что-то чуждое, облекающее меня за грехи всей жизни и за недостаток теперь необходимого смирения.
От близости Валичкиной – “лицом к лицу, рука с рукой”, хотя я физически от одежных тем устала, душевно стало “тише, легче, выше поднялось”. Все что-то из старых стихов выпрыгивает из памяти на кончик пера, когда берусь за тетрадку записей.
Когда Валичка ушла, Леонилла дала мне выпить “бехтеревку” – нервно-успокоительных капель – для того, чтобы заснуть – прошлые сутки были бессонные. И вчера “бехтеревка” не помогла – только к утру пришел сон. Раза три или четыре пробиралась, томясь бессонницей, в гостиную, смотреть на часы.
Вспоминала, как перед кончиной Надежда Сергеевна Бутова, артистка Художественного театра, когда я была с ней во время ее тяжкой болезни (туберкулез), говорила в пространство: – Уйдите от меня, ночи мои! Когда же вы уйдете от меня, ночи мои.
16 декабря. 1-й час. Леонилла уже в постели
Запишу только события дня.
Письмо от Евгения Германовича, исполненное дружеских чувств. О свидании (он уже выздоровел) – у них, в субботу.
Приезд Ириса. Взялся дорогой Друг и дочь за мои пенсионные. Поедет завтра, куда нужно.
Отмена встречи с друзьями завтра у Веселовских. Вообще отмена – с моей стороны, решительная, “торжества”, собирания всех близких. Не могу. Милые спутники – беспутного Мировича на душевно-духовном житейском его пути решили ввиду отмены побывать завтра у меня хоть по одному и на самый краткий срок (Женечка, Валя, сестра Анна, Анна Дмитриевна, Си Михайлович). Очень глубоко и нежно растрогало мою старость их отношение. Но тем больше в памяти сердца, души и совести – память о скаредной в живых проявлениях, одичалой, заскорузлой в своих “драматических” переживаниях последних лет – всё, чем прегрешила я перед матерью моей Варварою. Лицо ее смотрит на меня со стола из овальной рамы с тем всепрощением, с каким несла все, чем я накопила свой грех, который за четверть столетия не могу искупить.
24 декабря. 4-й час дня
Очень тяжелый час московской жизни под здешним кровом.
2 часа тому назад вспышка нервов, общей усталости друг от друга, с прибавкой издревле нашего жития всегда так же внезапно действовавшей в нас “разности типов”. Той, которая в дни нашего пребывания полвека тому назад в “осколке” партии Народной Воли заставила нашу Улиту, чудесного педагога, воспитателя в партийной дисциплине, разъединить нас во вверенной ей группе новопринятых партийцев. Вот сейчас я даже не вспомню, из-за чего мы обе (!) с Леониллой впали в такой тон общения (что-то по поводу газеты, кажется), что у нее вырвались слова очень громким и гневным тоном:
О, Господи, пошли Твой мир в озлобленные души! (Не помню, из какой оперы, финал)Озлобления, злобы – как желания зла и – даже просто “невидения, неслышания, забвения” у меня, по крайней мере, совсем в сторону Леониллы нет. И очень мне ее сейчас жалко. Но есть (как и у нее) – наболевшее желание отдельной, своей комнаты. И ясно сейчас вижу, как ей со мной по существу чуждо, непонятно. И сколько еще с ее стороны было проявлено “терпения и смирения”, которое у меня – как раз в нужную минуту – улетело куда-то, как сгоревший лист папиросной бумаги.
179 тетрадь (предпоследняя) 1 января – апрель 1954
8 января 1954 года. 8-й час вечера
Три постельных дня без выхода на воздух. Полчаса тому назад возврат Леониллы с дачи. Отдыхала там от меня и занималась с внучкой (Аленушкой). Жаль одиночества этих шести или 7-ми ночей, которые так быстро пролетели.
…Письмо от Ирисика из терапевтической клиники. Воспаление легких – но форма нетяжелая. Е. Г. (Лундберг) обещал помочь моему устроению туда. Завтра получу об этом письмо от него. Сегодняшнее усиление глухоты помешало нашему разговору с ним по телефону. Откуда-то наплывы уличного холода в комнатную сырость, скопляющуюся в моем постельном углу. Надо отложить перо и забиться с головой под шерстяное одеяло – подарок Си Михайловича.
11 января
Иногда кажется, что какое-то личное участие в своем воплощении дано человеку, дан выбор родителей, например. Это область, может быть, и недоступная той ступени сознания, на какой находится мое “Я”. Может быть, она и вообще сокрыта от человека, пока он опутан костями, жилами, мозговым веществом (да еще с гипертонией).
В детском стихотворении (в двенадцатилетнем возрасте) “Подушке” были строки:
Подушка! Я моей мечтой Летаю в мир невидимого света, Но нем и глух светил незримых рой, И мой вопрос умолкнул без ответа.И там же строки:
Меня никто не понимает, Кажусь я странной всем на взгляд. – Она лишь ест, пьет да мечтает, — Так обо мне здесь говорят.В этих неуклюжих ребячьих словах звучит, несомненно, ощущение своего “Я” в двух мирах – невидимого и видимого света.
Что же всем только что написанным я хочу сказать?
Хочу помочь себе выбраться из ощущения наглухо запертых дверей.
19 января
И вот уж полсуток, как я живу “дома”. Странное у меня последнее время чувство времени. То оно тянется, растягивается и опять тянется. И конца ему нет. То мчится стрелой. Чаще же всего я из него совсем выпадаю.
Это трудно объяснить словами. Но по сознанию в те моменты, о коих я говорю, его как будто совсем нет. И не может быть для меня уже впредь, как будто часть моего сознания живет уже во вневременном.
Кое-что я ухватываю из него в другое – заключенное в часы и дни – сознание. Оно пролетает в нем образами, какие быстро забываются. Образы, похожие на такие, какими живем мы во сне. Хоть и от них есть у этих образов трудноуловимое отличие.
Когда живу ими, лежа на своем логовище, – мне чуждо все житейское. И странно – и болезненно-трудно сознавать, что придется в него вмешиваться – заботой о чистоплотности, об убранстве комнаты, о том, чтобы что-то пить, жевать, глотать…
Но тут нередко бывает раздвоение. Другая сторона моего “Я” упорно и насмешливо напоминает о том, что ей хочется пищи – и не той, какую ей предложат, а два-три съедобных предмета, какие она предпочла бы видеть перед собой. Для меня, для моего главного “Я” это область презираемого мной, но почему-то неискоренимого “гортанобесия”. Но вычеркнуть ее из моего “Я” в его цельном – и по эту, и по Ту сторону – значении до сих пор не умею. Монахиням тут помогают их духовники. И весь чин их жизни.
29 января
(Впрочем, правильнее было бы написать, как гоголевский сумасшедший, “числа не было”.)
Странное состояние. Точно я – не я. Точно мое “я” стало в сторонку и с какой-то печальной усмешкой и с оттенком удивления наблюдает за мною. И доносится ко мне вопрос его: до конца ли, вполне ли ты сознаешь, кто ты, что ты, зачем и почему ты сюда попала. И главное: что здесь для души твоей нужно, даешь ли ты в этом себе отчет?
– Даю. Нужно.
25 февраля. Час поздний – здесь, для меня: 9-й час
Велика слабость – но может быть, удастся ее победить. Месяц недвижности в недрах постели. В больнице для выхода в коридор нет подходящих халатов.
Буду писать, что захочется перу. Но сначала перечислю важное, что душе было в истекших днях:
Прилет Ириса. Сегодня. Рада ее устроению у Л. Н. Ч-вой. Есть ночи, когда я – в пустыне – ставлю по обе стороны от меня кровати с близкими, с кем хотела быть хоть на какие-то минутки. Оля, Валя, Женя, Евгений Германович (с женой), Си Михайлович (нет! забыла, что у него жена, которой я чужда), Ника. Теперь наши. И кто из них сам захочет в ночную мою пустыню.
11 марта. 3 часа дня (у меня утра, невылазного из постели)
Вторая ночь – важные духовно-душевные сны.
Сегодня свидание с Нилочкиной матерью Елизаветой Яковлевной. Беседа наедине в лунную ночь в их садике, таком поэтическом и своеобразно красивом. Без Нилы. Как не раз было в юности моей. Елизавета Яковлевна была мне внутренне в главных свойствах ее неизмеримо ближе, чем подруга моя, ее единственная дочь. Там не было общего языка души (как и сейчас его нет). С матерью Нилиной, при огромной разнице лет, в те годы <Мирович> был в редкой полноте, как и в общих вкусах к природе. Вспомнилась ее декламация сейчас:
Ночь немая, голубая, Неба северного дочь[941].Нередко я к ней приходила с намеренным расчетом застать ее одну. И она мне всегда была рада. И темы у нас всегда были поэтические (чуждые Ниле, за редкими моментами). Хотелось бы вспомнить сегодня сон, с его сверхновой реалистичностью. Но ушел из памяти. Осталась только его поэтичность и значительность. И ультрареальность. О последнем его свойстве рассказала упрощенно Леонилле час тому назад. И она была тронута и взволнована. Но уже проскользнули черты, при которых нельзя было, не снижая или не испортив темы, продолжать ее развитие. Suum cuique[942].
26 марта. 6-й час спускающегося на Москву вечера
Нет сил сегодня с самого утра. Час тому назад приход и уход Ольги Николаевны Чумаковой-Цветковой. Получасовая беседа с ней через силу.
О загорских людях последние дни. Напишу об этом о. Сергию. Может быть, у его почитателей найдется для меня уголок за доступную мне уплату, близко к Лавре.
11-й час вечера
Звонил Игорь Ильинский. “Очень хочет повидаться, когда вернется с дачи через 4 дня”. Потом уедет надолго. Повидаемся. Но если бы встреча не состоялась, не ощутилось бы утраты. Тот Игорь, с которым встретились в дни его душевного потрясения у могилы его жены, – тот Игорь ушел из объединившего нас Вневременного – во временное. И растаял там для меня в днях его нового быта. И я для него, конечно, зачеркнулась новым семейственным бытом, где я “лишний гость в семейном пире”. Уже больше года, как мы не виделись. И у меня нет живого желания встречи. Придет – через 4 дня – увидимся. Не придет – и больше никогда не увидимся.
1-й час ночи
Не спится мне, не спится До третьих петухов. Хотелось бы молиться, Да нет молитвы слов. Рассеялись, кружатся По всем ночным морям, Где нужно затеряться Разбитым кораблям.…не знаю, отчего и зачем это нужно мне. К концу дня столько живого и нежного участия, кроме даров, письма Евгения Германовича, влились в мою жизнь (Оля, Женя, Валя) телефоны, письма, открытки. Но какая-то (главная) часть душевно-духовного “Я” моего, чувствуя свое недостоинство обилия дружеской Любви, устремляется в ночные моря. Гашу лампу и на своем полуразрушенном корабле держу путь в тьму ночных морей.
2 (не наверное) апреля. 6-й час дня (для меня утра)
В ожидании Шуры, по своей “вольной милости” устремившейся на поиски чего-то “рыбного” для моей плоти, мучимой голодом и отвращением ко всякой другой пище, кроме рыбной. Быстро сгущаются сумерки.
Не чувствую себя достойной переселения в Загорск, поближе к Лавре. Но эта мысль стала заветной, единственно жаждущей осуществления. Дальше нет сил писать (а хочется).
Мучает голод и жажда, непобедимая слабость лишившегося последних телесных сил организма (власть телесных органов над душевными!).
180 тетрадь (последняя) апрель – 14 мая 1954
2 мая
Ночь. Под кровом Аллы собралась ее родня праздновать великое торжество всех народов – 1-е Мая. Не хочется спать. Но, вряд ли удастся побеседовать с тетрадью. Никуда не годится плотское оформление старости Мировича. Написала я свою фамилию и осознала, как я далека от нее. Где же я? Кто же я? Как часто по ночам шевелится этот вопрос в глубинах сознания.
…И лучше всего тогда отойти от этого вопроса. Тогда наедине с глубинами сознания живешь, чем нужно, чем можно жить только в глубокое ночное время.
Как сейчас – время уже передвинулось на час дальше 3-х часов. Скорей бы утро. Скорей бы достигнуть переправы в загорские края. Поближе к Лавре. Как хочется ее близости. Ее куполов. Ее колокольного звона – единственного в мире – накануне этих дней, если сужден переезд из тесного и близких людей собою стесняющего угла. Так нужен для нее знак, на какой срок, так важны лаврские колокола, пока глухота не одолела слух. Из-под тарасовского крова с любовью – несу в себе Аллочкин образ, помоги ей Бог во всем, что ее душе важно. А мне покой только.
14 мая. 2-й час дня
Постель. Упадок сил. Но голова в трезвом и до глубины сознательном состоянии.
…Как добра ко мне последние дни, ко всем трудностям моей болезни Нилочка. Да вознаградит ее Бог за всё – дружественность, заботливость, что она держит в руках мои расслабевшие (вдруг) силы. Юра похлопотал, чтобы меня без отсрочки приняли в санаторий клиники. Это предстоит завтра. Это большое облегчение для всего тарасовского дома и того кусочка, который я загромоздила всем. Необычайно и как-то по-детски добра ко мне Алла, Аллочка, Ай. Каких-то предметов одевального характера за последние дни целый ассортимент надарила (я не помню ни одного – и за все чувствую живую благодарность). И ждала не их, а ее, простирающую ко мне свои милые руки, прежнюю Аллочку-Ай. Очень она помолодела и похорошела за последнее время. Ее опять выбрали в депутаты. Но больше писать не могу.
Варвара Григорьевна умерла 16 августа 1954 года[943].
Приложение
Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. Конец 1940-х гг.
“Я так люблю краски мира, зори, закаты, человеческие лица, игру теней и света, детские глаза – «видимый мир»”
Киев. Левашевский спуск. 1901 г.
Панорама Киево-Печерской лавры. Конец XIX в.
Варвара Малахиева-Мирович (на заднем плане) с приятельницей. 1908 г.
Варвара Григорьевна с подругой, поэтессой Еленой Гуро. 1909–1910 гг.
Семейная фотография близкой подруги В. Мирович – Леониллы Тарасовой. За столом слева – Леонилла Николаевна с мужем Константином и годовалой дочерью Аллочкой, будущей знаменитой актрисой. (Музей МХАТ)
Лев Исакович Шестов. Конец 1890-х гг.
“Лев Шестов, его любовь, мой полуответ и через несколько лет – два месяца ответа без слов, но когда каждый вздох уже ответ. От начала до настоящей минуты, хотя мы разлучены уже 10 лет, глубинная унисонность…”
Анна Елиазаровна Березовская, жена Л. И. Шестова. 1910-е гг.
Софья Исааковна Балаховская, сестра Л. И. Шестова. Начало 1900-х гг.
Надежда Сергеевна Бутова, актриса МХТ и подруга В. Г. Малахиевой-Мирович. 1913 г.
Открытка В. Г. Мирович Н. С. Бутовой (М. Дмитровка, 6) с рисунком автора. 9 сентября 1915 г.
Николай Малахиев – брат Варвары Григорьевны.
Наталья Кульженко. 1910-е гг.
“Блистала и привлекала к себе редкой красотой сводная сестра Леониллы, Таля…”
Дом Добровых. Москва, Малый Левшинский переулок, 5. Не сохранился.
“Добровский дом. Странноприимница для одиноких скитальцев, душевный санаторий для уязвленных жизнью друзей. Редко человеческие фамилии так соответствуют смыслу слова, от которого происходят… Фамилия Добровых не от слова «добрый», а от слова «Добро»”
А. (?) Н. Андреев, Ф. А. Добров и Даниил Андреев. Черная речка. 1912 г.
Даниилу 6 лет. Фото сделано отцом, Леонидом Андреевым. 1912 г.
Михаил Владимирович Шик. 1910-е гг.
“В период опустошенности и тоски Михаил Владимирович приносил мне ежедневно, ежечасно величайшие дары нежности, бережности, братской, отцовской и сыновней любви, заботы, верности”
Портрет неизвестного. Мюнхенская школа. Открытка. “Это лицо напоминало Варваре Григорьевне и Льва Исааковича и Михаила Владимировича. Однажды В. Г. испугалась этой двойственности и разорвала портрет” (О. Бессарабова)
Ольга Бессарабова (Лис). 1919 г.
“У Ольги были тогда золото-рыжие пышные длинные косы и карие глаза, преисполненные радостью жизни, как солнечный блеск на речной глади. У нее был редкий дар – воля к радости…”
Текст Ольги Бессарабовой на обратной стороне открытки с портретом неизвестного.
“Сен Жермен Сергиева Посада”. Около дома в Сергиеве. Слева направо Лида Леонтьева, Евгения Бирукова, Валя Виткович-Затеплинская, Ольга Бессарабова. 1923 г.
Кружок “Радость”. Елена (Лиля) Елагина-Шик, сестра М. В. Шика, актриса, ученица Е. Б. Вахтангова.
Алла Тарасова в пьесе З. Гиппиус “Зеленое кольцо”. 2 студия МХТ. 1916 г.
Татьяна и Наталья Березовские, дочери Льва Шестова. 1920-е гг.
Сергей Листопадов. Сын Льва Шестова и Анны Листопадовой. 1915 г.
Татьяна Федоровна Скрябина. Портрет работы Н. Н. Вышеславцева. 1921 г.
Киев. Дом Балаховских на Трехсвятительской улице, 8 (ныне ул. Десятинная). Семья занимала весь 3 этаж, квартиру из 12 комнат. Современная фотография, 2013 г.
Киев. Аскольдова могила. Здесь был похоронен Юлиан Скрябин, погибший в 1919 г. Открытка начала XX в.
Скульптор Иван Семенович Ефимов с женой Ниной Яковлевной Симонович-Ефимовой в своей мастерской. 1910 г.
На ступеньках Трапезной Троице-Сергиевой лавры. Слева направо: М. В. Фаворская, В. Г. Мирович, Л. С. Леонтьева, в центре: Ольга Бессарабова. Сергиев. 1922 г.
Лида Леонтьева и Надежда Розанова. Сергиев. 1922 г.
Обложка книги стихов В. Малахиевой-Мирович “Монастырское” работы М. В. Фаворской.
Выпуск педагогического техникума. В верхнем ряду слева – Иван Ефимов и Михаил Шик, вторая справа – Ольга Бессарабова. В центре – Варвара Малахиева-Мирович. Сергиев. 1923 г.
На крыльце дома в Сергиеве. Михаил Шик и Наталья Шаховская (Шик) с первенцем – сыном Сережей. Сергиев. 1923 г.
Варвара Григорьевна с “зам. сыном” Сережей Шиком
Брат Ольги Бессарабовой – Борис. Конец 1930-х гг.
Москва. Арбатская площадь. 1930-е гг. (?)
Схема квартиры Добровых в М. Левшинском. Рисунок Б. Бессарабова.
Даниил Андреев. Театр теней. 1930-е гг.
Александра Филипповна (Шурочка) Доброва. 1920-е гг.
Александр Викторович (Биша) Коваленский. 1920-е гг.
Портрет Варвары Григорьевны работы Д. Шаховского. 1 августа 1948 г.
“Неожиданный приход Димы. Говорил, что хочет непременно сделать мой портрет. Я не отказываюсь позировать: почему-то даже хочется, чтобы осталось мое лицо у детей…”
Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. Конец 1940-гг. Рисунок Анны Веселовской.
Даниил Андреев. 1930-е гг.
Москва. Лубянский проезд. 1930-е гг.
“…хочется мне набросать трагический профиль моего юного друга – мечтательный, гордый, «не для житейского волнения, не для корысти, не для битв». Острый, беспощадный анализ и детская наивность суждений, навыков. Юмор, смех – и под ним мрачная безулыбочность. Наследие отца, Л. Андреева, беспокойный дух, фантастика, страстность, хаотичность”
Валерия Виткович-Затеплинская, подруга Варвары Григорьевны и Ольги Бессарабовой, жена врага народа, офицера царской армии Виктора Затеплинского. 1917 г.
Леонилла Николаевна и Константин Прокофьевич Тарасовы. Киев. 1926 г.
Алла Тарасова с сыном Алексеем Кузьминым. 1939–1940 гг. Музей МХАТ.
Галина Ивановна Калиновская, племянница А. Тарасовой, – актриса МХАТ. 1942 г.
Алла Тарасова. 1924 г.
“Божьей милостью артистка, божьей милостью Тарасова, дочь своего отца”
Пантелеймон Романов, советский писатель, муж Анны Романовой. Конец 1930-х гг.
Анна Романова, ближайшая подруга Варвары Григорьевны смотрит из окна своей комнаты на Остоженке. 1930 г.
Москва. Проспект от площади Ногина до площади Дзержинского. 1930-е гг.
Наталья Шаховская с детьми. Слева направо сидят: Мария, Наталья Дмитриевна с Николаем на коленях, Елизавета. Стоят: Сергей, Дмитрий. Конец 1930-х гг.
Степуны – Владимир Августович и Юлия Львовна (Тарасевич). 1930-е гг.
Москва. Тверская улица. 1930-е гг.
Друг В. Г. Мирович Евгений Германович Лундберг (Герман) с Борисом Пастернаком в гостях у Бориса и Фанни Збарских. 1916 г.
Евгения Бирукова. 1930-е гг.
“Женя – Ирис мой лиловоглазый… ангел-хранитель Мировича в течение долгих лет его старости
Лев Исаакович Шестов. 1937 г.
Истринское водохранилище. Работают заключенные Дмитровлага. 1932 г.
Семья Фаворских в Сергиеве. Слева направо: В. А. Фаворский, его жена Мария Владимировна с дочерью Машей, мать Ольга Владимировна, Ваня, Никита. 1920-е гг.
В торговом зале Торгсина. Начало 1930-х гг.
Сергей Шик с женой Сусанной. 1941 г.
Москва. Пушкинская площадь. 1940-е гг.
Сергей Шик с женой Сусанной. 1941 г.
Москва. Пушкинская площадь. 1940-е гг.
Даниил Андреев и его жена Алла. 1940-е гг.
Алла Тарасова с мужем Александром Семеновичем Прониным, генерал-майором авиации. Конец 1940-х гг.
Алла Тарасова с семьей. Слева мать – Л. Н. Тарасова, справа сын – А. А. Кузьмин-Тарасов. 1960-е гг.
Семья Шик-Шаховских. Слева направо сидят: В. Г. Малахиева-Мирович, А. Д. Шаховская, А. Н. Шаховская. М. Шик. Стоят: Николай, Елизавета, Дмитрий. Москва. 1946 г.
“Зам. сын” В. Г. Мирович Сергей Шик, кандидат геолого-минералогических наук. 1940-е гг.
Александр Коваленский. 1960-е гг.
Даниил и Алла Андреевы. 1959 г.
Судьбы осужденных по “делу Даниила Андреева”: Шурочка Доброва (Коваленская) не дожила до освобождения из лагеря. Ее муж Александр Коваленский после возвращения перевез ее прах в Москву. Даниил Андреев, пройдя Владимирскую тюрьму, вернулся в 1957-м тяжело больным. Его вдова Алла около 30 лет хранила рукописи его произведений, после чего смогла опубликовать их.
В. Г. Малахиева-Мирович. Рис. А. Веселовской. 1940-е гг.
“Если бы я нашла где-нибудь на чердаке тетрадь с искренними отпечатками жизни (внутренней) совсем безвестного человека, не поэта, не мыслителя, и знала бы, что он уже умер, я бы читала его тетрадь с жадностью, с жалостью, с братским чувством, с ощущением какой-то победы над смертью”
Примечания
1
Целый ряд документов, в том числе дневники В. Г. Малахиевой-Мирович, а также бумаги репрессированного Д. И. Шаховского, многие годы хранил его внук – художник и скульптор Дмитрий Михайлович Шаховской и его сестры – Мария Михайловна Старостенкова-Шик и Елизавета Михайловна Шик.
(обратно)2
В процессе работы Т. Ф. Нешумовой с архивом В. Г. Малахиевой-Мирович подготовлена книга стихов “Хризалида” (М., 2013), что стало первым этапом работы над литературным наследием Варвары Григорьевны.
(обратно)3
См. также о ней в воспоминаниях Е. Герцык: “Милее всех была мне Бутова, артистка Худ. театра, высокая и худая, с лицом скитницы. От Худ. театра культ Чехова. Потчует: «Возьмите крыжовенного – любимое Антона Павловича…» А культ Шестова? Кажется, от какой-то неисцелимой боли жизни да от жажды Бога, но в последней простоте, вне шумихи современного богоискательства. Когда в 22-м году после пятилетнего промежутка я попала в Москву, я узнала, что она умерла в революционные годы, что перед смертью пророчествовала в религиозном экстазе. Скитница обрела свой скит” (Герцык Е. Воспоминания. М., 1996. С. 107).
(обратно)4
Варвара Григорьевна пробыла у Толстого всего несколько часов. Приехала в Ясную Поляну 13 декабря 1909 г., и, как она пишет, ей были назначены часы от семи до десяти. Уехала в тот же вечер. “Разве не предложили В. Г. ночевать? Я сказала, что непременно хочу уехать, что метель улеглась, что я не боюсь ночного путешествия!”
(обратно)5
Дочь князя Дмитрия Ивановича Шаховского, создателя партии кадетов. В 1907 г. поступила на Высшие женские курсы в Москве. В 1913 г. заболела туберкулезом легких. Лечилась в Крыму.
(обратно)6
При крещении он избрал своим небесным покровителем святого мученика князя Михаила Черниговского. Позднее В. Г. Малахиева вспоминала: “Однажды в день Ангела отца Михаила я спросила Наташу (его жену), почему он не избрал себе покровителем Архистратига Сил Небесных. Наташа ответила, что ему, по его словам, как-то по-особенному был близок образ князя Михаила Черниговского, замученного в Орде. И тогда я подумала, что в нем бессознательно, а может быть, и сознательно, говорила надежда закончить свой путь на этом свете венцом мученика”. (См.: Шик Е. Воспоминания об отце // Альфа и Омега. № 1 (12/97).)
(обратно)7
Евгения Николаевна Бирукова, родилась в Смоленске. Отец – Николай Николаевич Бируков, юрист, ученый-библиограф Румянцевской библиотеки. Мать Антонина (Нина) Всеволодовна происходила из семьи филологов Миллеров. В 1917 г. окончила московскую гимназию Н. П. Хвостовой, в 1926-м – литературно-художественное отделение факультета общественных наук МГУ. Писательница, переводчица. Переводила с английского, французского, румынского, бенгальского языков. Наиболее известны ее переводы пьес У. Шекспира, К. Марло, романов В. Скотта, А. Дюма, Мопассана, Майн Рида, Ж. Верна, Г. Уэллса, стихотворений Р. Тагора, Тудора Аргези. Написала сказки “Мика, Мака и Микуха”, “Молнейка”, мемуарную повесть “Душа комнаты”.
(обратно)8
См.: Розенкрейцеры в Советской России. / публ., вступ. ст. А-Л. Никитина. М. 2004. С. 216–218; также ее имя упоминает в своих показаниях от 24.01.1941 года мистик Белюстин В. В., рассказывая на допросе о собраниях в кружке Шмакова В. А. в начале 20-х годов. В кн.: Эзотерическое масонство в Советской России: Документы 19231941 гг. М., 2005.
(обратно)9
Известность чтеца-актера Пантелеймона Романова относится к началу 1920-х гг. Тогда же он начал писать свое главное произведение – роман “Русь”, отрывки из которого неизменно включал в устные выступления.
(обратно)10
М. В. Шик проходил по делу так называемой Сергиевской самаринской группировки вместе со священником отцом Сергеем Сидоровым, П. Б. Мансуровым, П. В. Истоминым, князем И. С. Мещерским и Ф. А. Челищевым. Получил два года высылки в город Турткуль Каракалпакской АССР.
(обратно)11
Подробнее о нем: Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915–1925). М., 2010. См. также: Штейнер Е. Об А. В. Коваленском // Зеркало. 2011. № 37, 38.
(обратно)12
Номера тетрадей и крайние даты записей воспроизводятся по рукописному оригиналу.
(обратно)13
Малахиева Анастасия Григорьевна, младшая сестра В. Г. Малахиевой-Мирович, поэтесса.
(обратно)14
Скалистый остров в Эгейском море, где, по преданию, апостол Иоанн написал “Откровение святого Иоанна Богослова («Апокалипсис»)”, вошедшее в Новый Завет.
(обратно)15
Шестов Лев Исаакович (наст. фамилия Шварцман), русский философ и литератор. Подробнее об отношениях с сестрами Анастасией и Варварой Малахиевыми см. вступительную статью.
(обратно)16
Чулкова Надежда Григорьевна, жена Г. И. Чулкова, переводчица, мемуаристка. Дружила с В. Г. Малахиевой-Мирович. Жила на Смоленском бульваре, 8, в 1940-х гг. – на Зубовском бульваре. Письма В. Г. к Н. Г. находятся в РГАЛИ.
(обратно)17
Малахиев Николай Григорьевич, младший брат В. Г. Малахиевой-Мирович, жил в Воронеже, погиб в конце 1919 г. во время мамонтовского набега при невыясненных обстоятельствах (вышел из дома и не вернулся). Одно время был женихом Ольги Бессарабовой.
(обратно)18
“Луна – вечное «обещание», греза, томление, ожидание, надежда: что-то совершенно противоположное действительному и очень спиритуалистическое” (Розанов В. В. Люди лунного света. СПб., 1911).
(обратно)19
Шик Сергей Михайлович, сын Натальи Дмитриевны Шаховской и Михаила Владимировича Шика. Крестный сын В. Г. Малахиевой-Мирович. К нему обращены дневниковые записи. В будущем геолог.
(обратно)20
Лундберг Евгений Германович, писатель. В юные годы – последователь философии Л. Шестова. Близкий друг Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович с юности, их отношения с некоторыми перерывами длились всю жизнь. Сохранились письма Лунд-берга к Варваре Григорьевне.
(обратно)21
“Что есть тяжесть?” (нем.) – Ф. Ницше, “Так говорил Заратустра” (1883–1885).
(обратно)22
Неточная цитата из предисловия к работе Л. Шестова “Апофеоз беспочвенности”: “Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть”.
(обратно)23
Домаха – правый рукав Днепра в Обуховском р-не Киевской области в 25–50 км от Киева. В этих местах – в Плюте, Посадках и Злодиевке – в разное время были дачи Тарасовых.
(обратно)24
Журнал “Ваза” – женский журнал мод, домоводства, рукоделий и литературы, издавался в Санкт-Петербурге с 1832 г. С 1873 г. журнал именовался “Ваза, женский литературный и рукодельно-модный иллюстрированный журнал”. Прекратился в 1884 г.
(обратно)25
Журнал “Всемирная иллюстрация” – русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал, издавался в Санкт-Петербурге с 1869 по 1898 г.
(обратно)26
“Сын Отечества” – ежедневная литературная и политическая газета либерального направления, выходила в Санкт-Петербурге с 1862 по 1901 г.
(обратно)27
Розанова Варвара Дмитриевна.
(обратно)28
Андреев Даниил Леонидович, философ, поэт, прозаик; воспитывался в доме Добровых (М. Левшинский переулок, д. 5).
(обратно)29
Томилино – известное дачное место в 25 км от Москвы по Рязанскому направлению.
(обратно)30
“Глас хлада тонка и тамо Господь” (3 Цар. 19:11–12).
(обратно)31
Гетман Петп Сагайдачный (ок. 1577–1622), кошевой атаман Запорожской Сечи.
(обратно)32
Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова “Моя душа, я помню…(1831).
(обратно)33
Лоэнгрин – прекрасный рыцарь таинственного происхождения, герой средневековых легенд и немецких произведений о короле Артуре, традиционно изображается в лодке, которую тянут лебеди (символ чистоты и верности).
(обратно)34
Полянская Леокадия Васильевна.
(обратно)35
Малахиев Григорий Исаакович. См. о нем подробнее запись от 5 ноября 1952 г. “Путь жизни отца моего” – с. 847.
(обратно)36
Строка из трагедии А. С. Пушкина “Каменный гость” (1830).
(обратно)37
Коутс Альберт (1882–1953), английский дирижер и композитор. В 1910–1919 гг. – дирижер Мариинского театра. В начале 1930-х гг. на сцене Большого театра Москвы в специально оборудованной акустической раковине А. Коутс дирижировал “Поэму экстаза” А. Скрябина.
(обратно)38
Неточная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова “Демон” (1829–1839): “Он был похож на вечер ясный: / Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!”
(обратно)39
Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева “О чем ты воешь, ветр ночной?..” (1836).
(обратно)40
Одним из обычаев пифагорейских общин была встреча восхода на берегу моря игрой на флейтах и духовными песнопениями.
(обратно)41
Тарасова Леонилла Николаевна, мать актрисы Аллы Константиновны Тарасовой.
(обратно)42
Романов Пантелеймон Сергеевич, русский прозаик. Подробнее см. вступительную статью.
(обратно)43
Бессарабова Ольга Александровна (в замужестве Веселовская), окончила частную Воронежскую гимназию, работала учительницей и воспитательницей в детских садах и приютах.
(обратно)44
Скрябина Татьяна Федоровна (Шлётцер), вдова композитора А. Н. Скрябина.
(обратно)45
Тарасов Константин Прокофьевич, муж Л. Н. Тарасовой.
(обратно)46
Деловая ул. – ныне ул. Димитрова в центре Киева. Семья Тарасовых жила в доме 6, кв. 2 (дом снесен).
(обратно)47
Тарасова Нина Константиновна.
(обратно)48
Байкова гора – на землях, пожалованных за воинские заслуги генералу П. И. Байкову, герою Отечественной войны 1812 г., в 1834 г. было открыто кладбище, получившее название Байково. Ныне – мемориальное кладбище в Киеве, одно из старейших в городе.
(обратно)49
Тарасов Георгий (Юрий) Константинович.
(обратно)50
Калиновская Галина Ивановна, дочь Н. К. Тарасовой, племянница А. Тарасовой. Именно ей В. Г. Мирович передала свою квартиру на Мясницкой в обмен на угол в доме Тарасовых.
(обратно)51
Кукуевское, пос. Кукуево – кладбище Сергиева Посада.
(обратно)52
Малахиева Варвара Федоровна.
(обратно)53
Красусская Софья Романовна.
(обратно)54
Бутова Надежда Сергеевна, актриса МХАТ, близкая подруга Льва Шестова, Добровых, В. Г. Малахиевой-Мирович.
(обратно)55
Венгерова Зинаида Афанасьевна, литературный критик, историк западноевропейской литературы. В середине 1890-х гг. З. Венгерова сблизилась с писателями-символистами Н. Минским, З. Гиппиус, Д. Мережковским, группировавшимися вокруг журнала “Северный вестник”. В конце 1921 г. выехала в Берлин.
(обратно)56
На Зубовском бульваре в доме 15 жили Шаховские, родители Н. Д. Шаховской.
(обратно)57
Эптон Синклер Четыреста (Нью-Йорк). Петроград, 1924.
(обратно)58
“Как елень желает на источники водные, так желает душа моя к тебе, Боже” (Пс. 41:2).
(обратно)59
Пушкин А. С., “Пророк” (1826).
(обратно)60
Шик Елена (Лиля) Владимировна (сценический псевдоним Елагина), актриса, театральный педагог, сестра М. В. Шика, воспитанница В. Г. Мирович. В 1911 г. поступила на Высшие женские курсы Герье. С 1914 г. училась в Мансуровской студии, впоследствии – актриса Вахтанговской студии, преподавала в Ленинградском театральном институте. Умерла 10 августа 1931 г. от менингита. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
(обратно)61
Романова Анна Васильевна.
(обратно)62
Башня Силоамская упала две тысячи лет назад около Иерусалима.
(обратно)63
Тайное общество “заговорщиков”, было созданно в Киеве в 1884 г. В его программу входила подготовка “широко разветвленного и в то же время строго централизованного заговора с перспективой широкого в дальнейшем участия в нем представителей рабочих и солдатских масс” для будущего переворота. Одним из организаторов был М. Д. Фокин, студент-медик. Подробнее см.: Фокин М. Д., Бекарюков Д. Д., Синицкий Л. Д. Историческая записка о тайном обществе “заговорщиков” // Каторга и ссылка. 1928. № 12.
(обратно)64
Речь идет о Наталье Николаевне Кульженко – литераторе, актрисе, сводной сестре Л. Н. Тарасовой.
(обратно)65
Герои романа И. С. Тургенева “Накануне” (1860).
(обратно)66
Кульженко Василий Стефанович, издатель, искусствовед, полиграфист. С 1924 г. преподаватель Киевского художественного института. Издатель журнала “Искусство и печатное дело”, основатель Киевской Школы печатного дела, сотрудник Украинского научного института книговедения (в 1924–1928 гг.).
(обратно)67
Наталья Николаевна была действительным членом Красного Креста (помощи политзаключенным).
(обратно)68
Речь идет о философе Н. А. Бердяеве. Он бывал в квартире супругов Кульженко на ул. Пушкинская, д. 4. “В 1900 г. Н. Н. Кульженко была дамой сердца Бердяева”. (Вадимов. Жизнь Бердяева. Россия. – Oakland California. 1993. С. 50.)
(обратно)69
Ошибка: Н. А. Бердяев был сослан в Вологду в 1901 г. В 1902 г. получил разрешение проживать в Житомире.
(обратно)70
Милый друг (фр.).
(обратно)71
Волынский Аким (Флексер Аким Львович), писатель, критик, искусствовед. Ср.: “Это был худенький, маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный. Он, впрочем, еврейства своего и не скрывал (как Льдов-Розенблюм), а, напротив, им даже гордился” (З. Гиппиус. Воспоминания. М., 2001. С. 256).
(обратно)72
В Петербурге на ул. Пушкинской в д. 20 находилась гостиница “Пале-Рояль”. В 1890-1900-е гг. здесь жил А. Волынский. В. Брюсов, бывавший у него в гостях, записал в дневнике 20 ноября 1902 г.: “Был у Волынского. Он занимает жалкую комнатку, где некрашеный стол, складная кровать и единственный стул. Посадив меня на него, он сам должен был сесть на кровать. Он кривлялся как паяц, сдвигал кожу по всему лицу и, плюясь, ругал всех кругом” (В. Брюсов. Дневники. Письма. Автобиографическая проза. М., 2002. С. 143).
(обратно)73
Юшкевич Семен Соломонович, прозаик и драматург.
(обратно)74
Вероятно, речь идет о пьесе Еврипида “Ипполит”, поставленной в 1907 г. в Киевском драматическом театре “Соловцов” замечательным режиссером Константином Александровичем Марджановым (Марджанишвили).
(обратно)75
Кульженко Полина Аркадьевна (урожд. Голубкова), вторая жена В. С. Кульженко, актриса (сценическое имя Гудалова), окончила Высшую театральную школу Киевского товарищества искусства и литературы. В 1915–1919 гг. работала в киевском театре “Соловцов”. В 1912 г. обвенчалась с известным книгоиздателем В. С. Кульженко. В 1913 г. родилась дочь Людмила (умершая в 1932 г.). В 1920–1924 гг. училась в Киевском археологическом ин-те, искусствовед. Окончила аспирантуру, работала в Киевской картинной галерее (Музей русского искусства), преподавала. В 1945 г. была арестована, осуждена на десять лет. С 1955 г. после освобождения, жила и работала в Костроме. Умерла в доме престарелых в 1982 г.
(обратно)76
Биша – домашнее прозвище Коваленского Александра Викторовича, мужа Александры Филипповны Добровой.
(обратно)77
На боковом фасаде здания бывшей Государственной думы была помещена доска со словами К. Маркса: “Религия – опиум для народа!” Над входом в это здание: “Революция – вихрь, сметающий всех, ему сопротивляющихся”.
(обратно)78
Землетрясение (исп.).
(обратно)79
Kinderlan’да – возможно, неточное написание слова Kindheit Land страна детства (нем.).
(обратно)80
Где барышня, там и брат, где брат, там и барышня (нем.).
(обратно)81
Оба они занимаются (нем.).
(обратно)82
Массне Жюль Эмиль Фредерик (1842–1912), композитор, представитель французской лирической оперы.
(обратно)83
Матушка Дионисия – монахиня, ухаживавшая в Сергиеве за матерью Варвары Григорьевны – В. Ф. Малахиевой. В это время Дионисия отбывала ссылку в Западной Сибири.
(обратно)84
Женя – Бирукова Евгения Николаевна. В описываемое время Женя страдала тяжелым нервным заболеванием.
(обратно)85
Голубцов Вадим Сергеевич, сын С. А. Голубцова и Л. В. Крестовой. В последующем – историк. Занимался изучением отечественной мемуаристики.
(обратно)86
Любимыми местами Д. Андреева были брянские леса у г. Трубчевска, куда он ездил летними месяцами 1930–1933 гг.
(обратно)87
Лурье Семен Владимирович, философ, фабрикант, журналист, издатель. Близкий друг Л. И. Шестова. Сотрудник редакций газет “Русские ведомости”, “Русская мысль”, философских журналов 1890–1910 гг. Печатался в “Историческом обозрении”, “Восходе”, “Московском еженедельнике”, “Мире искусства” и др. изданиях. По рекомендательному письму от Л. Шестова он помог устроиться В. Г. Мирович на работу в редакцию журнала “Русская мысль”. Издатель книги У. Джеймса “Многообразие религиозного опыта” в пер. В. Г. Мирович и М. В. Шика. С 1919 г. жил в Париже. Трагически погиб в Руане в 1927 г.
(обратно)88
Лурье Татьяна Семеновна, ученица В. Г. Мирович, член кружка “Радость”.
(обратно)89
Штоль Г. В. Мифы классической древности. Т.I–II. М., 1899–1904.
(обратно)90
Флоренский Павел Александрович (1882–1937), русский богослов, ученый-физик, искусствовед, поэт, православный священник. 26 февраля 1933 г. был арестован, расстрелян в 1937 г. В. Г. Мирович знала его, когда жила в Сергиеве, видимо, тогда же с ним встречалась и Лиля Шик.
(обратно)91
Нерусса протекает по территории Орловской и Брянской областей, впадает в Десну у города Трубчевска. В. Г. Мирович вспоминает библейский текст: “Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.” (Быт. 2:10–14).
(обратно)92
См. вступительную статью.
(обратно)93
Московская психиатрическая клиника. До 1994 г. носила имя П. П. Кащенко. Название “Канатчикова дача” дано по местности, в которой построена больница, – в середине XIX в. там располагались загородные владения купца Канатчикова.
(обратно)94
Гуревич Любовь Яковлевна, публицист, театральный критик. Приятельница В. Г. Мирович по Петербургу. В РГАЛИ сохранились письма В. Минович к Л. Гуревич.
(обратно)95
Киевское народное училище, в котором училась Варвара, находилось на Печерске в Бутышевом переулке, д. 11 (теперь ул. Андрея Иванова). Открыто в 1809 г. Сюда принимали детей всех сословий и полов: мальчиков – не младше 8 лет, девочек – не младше 7 и не старше 11. Сейчас это Печерская гимназия № 75.
(обратно)96
Речь идет о Киевской (Новой Печерской) крепости. Плац – площадь перед Северной полубашней на территории Киевского военного госпиталя (в этом здании жила семья Тарасовых). Центральный корпус госпиталя окружали валы.
(обратно)97
Прозоровская церковь – Киевская Военно-Прозоровская Свято-Владимиро-Александро-Невская церковь. Находилась на Печерске, в башне № з (Прозоровской) Васильевского укрепления Киевской крепости. Была устроена на средства генерал-фельдмаршала князя А. А. Прозоровского (первоначально при инвалидном доме, затем перенесена в башню). Иконостас в три яруса сооружен по рисунку императора Николая I. Под спудом храма погребены князь Прозоровский и его супруга, в самом храме стояла серебряная урна с сердцем фельдмаршала. Надпись на урне гласила словами протоиерея Левады: “Сердце его заснуло в вере. Оно живое Богу своему”.
(обратно)98
Большая Шияновская улица – ныне улица Лескова, Малая Шияновская – ныне улица Немировича-Данченко.
(обратно)99
Зверинец – историческая местность на территории Печерского района г. Киева (название происходит от богатства района “зверьем” – в стародавние времена). Зверинецкое кладбище основано в 1860-х гг. при церкви Рождества Иоанна Предтечи (сгорела в 1935 г.) и сохранилось до сих пор.
(обратно)100
Так подействовал последний член символа веры: “чаю воскресения мертвых”. – Примеч. В. Г. Мирович.
(обратно)101
Лицо не установлено.
(обратно)102
Азеф Евно Фишелевич.
(обратно)103
Грязи-Воронежские – центральная железнодорожная станция города Грязи Липецкой обл.
(обратно)104
Карийская каторга – группа каторжных тюрем на р. Кара – притоке р. Шилка. Входили в систему Нерчинской каторги. В 1888–1889 гг. в тюрьмах Карийской каторги произошла трагедия, завершившаяся массовым самоубийством заключенных.
(обратно)105
Кеннан Джордж Фрост (1904–2005), известный американский публицист и путешественник, крупный знаток Востока, противник царского режима в России. В 1885–1886 гг. совершил путешествие по Сибири, автор книги “Сибирь и ссылка” (Нью-Йорк, 1891).
(обратно)106
Бергтоль Лидия.
(обратно)107
Киево-Печерская лавра – уникальный монастырский комплекс, сформировался к середине XVIII в. и в основном сохранился до наших дней. Постановлением 1926 г. ВУЦИК и Совнарком УССР признали Лавру “Историко-культурным государственным заповедником” и сделали ее “Всеукоаинским музейным городком”.
(обратно)108
Киевская подруга В. Г. Мирович, “сестра”.
(обратно)109
Ферма Орлово-Розово, в 28 км от Мариинска, входила в систему Сиблон (Сибирские лагеря особого назначения ОГПУ).
(обратно)110
Бессарабова (Веселовская) Ольга Александровна.
(обратно)111
Фамарь – Марджанова Тамара Александровна, схиигуменья Серафимо-Знаменского скита.
(обратно)112
Даниил Андреев в статье “Некоторые заметки по стиховедению” называет цикл “Стихи об извечном брате”. Здесь же он пишет, что единственное опубликованное произведение А. В. Коваленского – поэма “1905 год” (журнал “Красная новь”, 1931 г.). (Даниил Андреев в культуре ХХ века. М., 2000.)
(обратно)113
Лермонтовская библиотека – д. 21 на углу Садовой-Спасской и Каланчевской, у Красных ворот, где в 1814 г. родился Михаил Лермонтов. В 1949–1953 гг. на месте снесенного домика построена одна из семи знаменитых московских высоток в 25 этажей, увенчанная высоким шпилем.
(обратно)114
Пьеса Генрика Ибсена (1892).
(обратно)115
Фаворский Никита Владимирович, русский художник-гравер, сын В. А. Фаворского. Погиб под Москвой в октябре 1941 г.
(обратно)116
Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова “Желание” (1831).
(обратно)117
См.: Малахиева-Мирович В. Хризалида. Стихотворения / Сост. Т. Нешумова. М., 2013. С. 362 (далее – Хризалида).
(обратно)118
Пети Евгений Юльевич, француз, адвокат. В 1916–1918 гг. – член военной французской миссии в России. Благодаря ему Л. Шестов и многие другие получили разрешение жить во Франции. Пети Софья Григорьевна (урожд. Балаховская), адвокат, первая женщина в Европе, окончившая юридический факультет и записавшаяся в парижское сословие адвокатов (1900-е гг.), общественный деятель. В. Г. Мирович называла ее Соня-парижанка.
(обратно)119
Как можно себя так уродовать? (фр.).
(обратно)120
Бутова Надежда Сергеевна.
(обратно)121
Ляля (Лёля) – Голубцова Елена Сергеевна, дочь С. А. Голубцова и Л. В. Крестовой. В будущем известный историк Античности.
(обратно)122
В 1892 г. Кэт Марсден (1859–1931), путешественница и филантроп, совершила поездку в Якутскую обл. для ознакомления с положением прокаженных в этой местности.
(обратно)123
Каляев Иван Платонович, эсер, убийца московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Казнен в Шлиссельбургской крепости.
(обратно)124
Крестова (в замужестве Голубцова) Людмила Васильевна, литературовед. Исследовала творчество Н. И. Новикова, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. И. Герцена. Близкая подруга В. Г. Мирович, которая в описываемое время жила в квартире у Красных Ворот.
(обратно)125
Герой романа Чарльза Диккенса “Домби и сын” (1846–1848).
(обратно)126
Шик Михаил Владимирович, сын почетного гражданина Москвы, купца 1-й гильдии, православный священник. Закончил Историко-филологический факультет Московского университета, прослушал курс философии во Франкфурте. Член историко-философского кружка, созданного его друзьями – братом и сестрой Вернадскими, сестрами Шаховскими и др. Работал в Московском университете, был членом комиссии по охране памятников искусства и старины Свято-Троицкой Сергиевой лавры (под руководством о. П. Флоренского). Впоследствии осужден и расстрелян в 1937 г.
(обратно)127
Неточная цитата из стихотворения М. Цветаевой, посвященного С. Я. Парнок: “В оны дни ты была мне как мать…” (1916).
(обратно)128
Ефимовы: Иван Семенович – скульптор, график, живописец, сценограф, художник декоративно-прикладного искусства; Симонович-Ефимова Нина Яковлевна – художница, график, племянница художника В. Серова. Ефимовы работали над созданием русского театра кукол, основанного на народных традициях театра Петрушки. В 1918 г. они организовали первый советский театр кукол; сами делали кукол, шили костюмы, были режиссерами, кукловодами, актерами, художниками.
(обратно)129
Строка из стихотворения А. С. Пушкина “Поэт и толпа” (1828).
(обратно)130
Тенеромо И. Живые слова Л. Н. Толстого (за последние 25 лет его жизни). М., 1912.
(обратно)131
Фрей Вильям, настоящее имя – Владимир Константинович Гейнс. Русский последователь “позитивной религии” (“религии человечества”) О. Конта, общественный деятель и публицист.
(обратно)132
Ольга Веселовская (Бессарабова) в это время жила в Гранатном переулке со своим мужем историком С. Б. Веселовским.
(обратно)133
“Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль” – заключительная строка рассказа И. С. Тургенева “Лес и степь” (1848).
(обратно)134
Железнов Владимир Яковлевич в студенческие годы (2-я половина 1880-х гг.) в Киеве состоял членом тайного общества “заговорщиков”, входил в инициативную группу. В 1904 г. – член киевской группы “Освобождение труда”. Экономист, автор книги “Очерки политической экономии”. Профессор политической экономии в Киевском университете, затем в Московском сельскохозяйственном институте, Московском народном университете Шанявского и Московском коммерческом институте. После Октябрьской революции работал в отделе финансовой политики НКФина в Москве; одновременно профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
(обратно)135
Строка из стихотворения Г. Гейне, вольный перевод М. Ю. Лермонтова: “Они любили друг друга так долго и нежно” (1841).
(обратно)136
Для чего Ты Меня оставил? (др. – евр.).
(обратно)137
Статья А. Белого “Восток или Запад” опубликована в сборнике “Эпоха” (1918).
(обратно)138
Шаховская (в замужестве Шик) Наталья Дмитриевна, по образованию историк, детская писательница. Дочь князя Дмитрия Ивановича Шаховского, создателя либеральной партии кадетов.
(обратно)139
Пьеса Л. Н. Толстого (1886).
(обратно)140
Строка из стихотворения А. С. Пушкина “Поэт и толпа” (1828).
(обратно)141
Мф. 2:17–18.
(обратно)142
Николай и Дмитрий, дети Михаила Владимировича Шика и Натальи Дмитриевны Шаховской.
(обратно)143
Икона “Успение Киево-Печерская” – одна из древнейших явленных икон в Русской православной церкви.
(обратно)144
Соловкина А. В., дальняя родственница матери В. Г. Минович.
(обратно)145
Образ-символ из стихотворения Вл. Соловьева “Нильская дельта” (1898).
(обратно)146
Пушкин А. С., “Ангел” (1827).
(обратно)147
Первая прозаическая книга И. Эренбурга “Лик войны” (1919), изданная в Софии в 1920 г. и содержащая заметки и наблюдения с фронтов Первой мировой войны.
(обратно)148
Бирукова Евгения Николаевна.
(обратно)149
Кудашева Мария Павловна (урожд. Кювилье, во втором браке Роллан), поэтесса, переводчик.
(обратно)150
Кудашев Сергей Александрович, князь, муж Майи Кювилье, офицер Добровольческой армии, умер от тифа не позднее 27 января 1920 г.
(обратно)151
Во плоти (фр.).
(обратно)152
Агония Иисуса Христа будет длиться до конца мира
(обратно)153
Армия спасения – движение за нравственное обновление общества, основано в 1865 г. методистским проповедником Уильямом Бутсом.
(обратно)154
Слишком человеческие (нем.). Мирович объединяет теософов: Ч. У. Ледбитера (1854–1934), епископа и масона, А. Безант (1847–1933), писательницу и борца за права женщин и Е. П. Блаватскую (1831–1891).
(обратно)155
В это время В. Мирович посещала в клинике больную Евгению Николаевну Бирукову (Ирис).
(обратно)156
П. А. Ж. – Петр Алексеевич Журов, литературовед, поэт. С 1927 по 1929 г. Журов являлся временным научным сотрудником в Ассоциации по изучению творчества Александра Блока при ГАХН. Архив Журова (в том числе его многолетний дневник) – РГАЛИ. Ф. 2862. Сообщено А. Соболевым и Т. Нешумовой.
(обратно)157
Имеются в виду отношения Аллы Тарасовой и Ивана Михайловича Москвина, которые жили в гражданском браке с 1932 до 1943 г.
(обратно)158
Затеплинские – подруга Ольги Бессарабовой, а затем и В. Г. Мирович – Валерия (Валя) Станиславовна (урожд Виткович) и ее муж Виктор Константинович, офицер царской армии; в годы советской власти трижды арестовывался и большую часть жизни провел в ссылках и лагерях.
(обратно)159
Дома (фр.).
(обратно)160
Абрамцево – имение С. Т. Аксакова (с 1843 г.), затем С. И. Мамонтова. В советское время вокруг усадьбы вырос дачный поселок художников. Мураново – усадьба XIX в., музей Ф. И. Тютчева (с 1920 г.). В с. Прямухине (Тверская область) находилось родовое имение Бакуниных, где родился и вырос русский революционер и идеолог анархизма М. А. Бакунин.
(обратно)161
Булгаков Сергей Николаевич (отец Сергий), русский религиозный философ, не принимал постриг. В 1922 г. эмигрировал.
(обратно)162
Афремовский дом – восьмиэтажный дом (№ 19) на Садовой-Спасской улице, построенный в 1904 г. архитектором О. О. Шишковским в стиле московского модерна для московского водочного фабриканта Ф. И. Афремова, когда-то был самым высоким в Москве, его называли небоскребом. Сохранился.
(обратно)163
Непщевание вины о гресех – поиск извинения (оправдания) своим грехам. Непщевати – думать, почитать, полагать; вина – здесь в значении “причина”.
(обратно)164
Об этой женитьбе ничего не известно. Первой женой Даниила Андреева стала Гублер (Горобова) Александра Львовна, писательница и журналистка, соученица по Высшим государственным литературным курсам. Брак продолжался с августа 1926 г. по февраль 1927 г.
(обратно)165
Кузьмина Вера Дмитриевна, ученица Л. В. Крестовой, в будущем литературовед-медиевист, исследователь древнерусской литературы. По первому образованию инженер-мостостроитель.
(обратно)166
Аллилуева Надежда Сергеевна, жена Сталина, покончила жизнь самоубийством в ночь на 9 ноября 1932 г.
(обратно)167
Журов Петр Алексеевич.
(обратно)168
Кудашева Екатерина Васильевна, урожденная Стенбок-Фепмоп, потом Толстая, свекровь Майи (Марии) Кудашевой; жила в своем поместье Митрофановка в Воронежской губернии; близкая подруга В. Г. Мирович.
(обратно)169
“Курьер” – ежедневная газета, издавалась в Москве (1897–1903) Я. А. Фейгиным. “Волынь” – общественно-политическая и литературная газета либерально-буржуазного направления. Издавалась в Житомире с 1882 по 1917 г. (с 1879 по 1882 г. выходила под названием “Житомирский листок”). “Речь” – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1906–1917 гг. Идейным руководителем и фактическим редактором был П. Милюков.
(обратно)170
Березовские: Татьяна Львовна (в замужестве Режо) и Наталья Львовна (в замужестве Баранова) – дочери Л. И. Шестова и А. Е. Березовской. Обе девочки были воспитанницами В. Г. Мирович.
(обратно)171
Крестова Людмила Васильевна.
(обратно)172
Няня в семье Бируковых.
(обратно)173
Неизвестная (Фр.).
(обратно)174
Миллер Борис Всеволодович, российский ученый-иранист, профессор Московского университета.
(обратно)175
Джаггернаут (санскр.) – “повелитель мира”, одно из воплощений бога Вишну. Это слово используется для описания проявлений слепой и непреклонной силы. Статуя Джаггернаута в Пури ежегодно вывозится из храма на колеснице, в которую впрягаются богомольцы, а фанатики бросаются под ее колеса, чтобы достичь такой смертью вечного блаженства.
(обратно)176
Амиель Анри-Фредерик (1883–1884), швейцарский писатель, философ-моралист, автор книги “Фрагменты из интимного дневника”.
(обратно)177
Шингарёв Андрей Иванович. В 1895–1907 гг. врач-подвижник в Воронежской губернии. Бывший депутат Государственной думы (партия кадетов) и министр Временного правительства. Подробнее об отношениях с Шингарёвым см. в записи от 12 ноября 1933 г. – с. 134–136.
(обратно)178
Новиков Иван Алексеевич, беллетрист, драматург, поэт. Автор романа “Пушкин в изгнании”. С В. Г. Мирович его связывали длительные дружеские отношения. Большой корпус писем к Новикову хранится в РГАЛИ.
(обратно)179
Лицо не установлено.
(обратно)180
Die Erde – земля (нем.).
(обратно)181
Черносвитова-Луначарская-Смидович Софья Николаевна, жена П. В. Луначарского, а затем П. Г. Смидовича.
(обратно)182
Дуайен Эжен (1859–1916) – французский хирург.
(обратно)183
Смидович Петр Гермогенович, партийный деятель, один из первых председателей Моссовета.
(обратно)184
Эйн-Геди (“источник козленка” или “маленький источник”; Нав. 15:62) – город на западном берегу Мертвого моря, в пустыне Иудиной (Иез. 47:10).
(обратно)185
Кузьмина Вера Дмитриевна.
(обратно)186
Денисьевская Зинаида Антоновна, библиотекарь Кольцовской библиотеки в Воронеже, автор дневников, многолетний корреспондент писем О. Бессарабовой и В. Г. Мирович.
(обратно)187
Источник молодости (фр.).
(обратно)188
Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
(обратно)189
Собор Святой Софии в Константинополе.
(обратно)190
“Жизнь и искусство” – ежедневная литературная, политическая и художественная газета, издававшаяся с 1894 г. в Киеве М. Е. Краинским, под его редакцией; прекратилась в 1900 г.
(обратно)191
Крестова Людмила Васильевна.
(обратно)192
Бирукова (Миллер) Нина Всеволодовна, мать Е. Н. Бируковой.
(обратно)193
Церковь Божией Матери иконы Неопалимой купины. Построена в 1680 г., разрушена в 1930 г.
(обратно)194
Миллер Всеволод Федорович, фольклорист, языковед, этнограф, археолог, профессор МГУ, академик Петербургской академии наук, директор Лазаревского института восточных языков. Дед Е. Н. Бируковой.
(обратно)195
Миллер Федор Всеволодович, помощник присяжного поверенного, после 1917 г. – инспектор мест заключения. Дядя Е. Н. Бируковой.
(обратно)196
Миллер Виктор Всеволодович, ботаник, цитолог, альголог, профессор, зав. кафедрой ботаники МГПИ. Дядя Е. Н. Бируковой.
(обратно)197
Симптом Трунечека, признак атеросклероза аорты, усиленная пульсация подключичной артерии. Впервые описал чешский врач К. Трунечек.
(обратно)198
Лис – Lis (фр.: лилия), так Варвара Григорьевна с детства называла Ольгу Бессарабову.
(обратно)199
Амфитеатров Валентин Николаевич, известный московский священник, настоятель кремлевского Архангельского собора. Негласно почитается чудотворцем. Его могила на Ваганьковском кладбище уничтожена богоборцами в 1930-е гг. Сейчас на этом месте Братский мемориал погибших в Великую Отечественную войну.
(обратно)200
Владимир Сергеевич Соловьев в 1875 г. совершил поездку в Египет в связи с мистическим видением Софии.
(обратно)201
Аскольдова могила – урочище на правом берегу Днепра, где, по преданию, похоронен витязь Аскольд. С 1786 до 1935 г. вокруг Аскольдовой могилы существовало кладбище, где хоронили именитых киевлян. В 1935 г. кладбище уничтожено. Сейчас это часть паркового комплекса.
(обратно)202
Неточная цитата из “Фауста” И. В. Гёте в пер. Н. Холодковского: “О милый сумрак, о приют святой, / Привет мой вам!” (1878).
(обратно)203
Гуро Елена (Элеонора) Генриховна, поэт, прозаик, художник. Близкая подруга В. Г. Мирович, сохранились ее письма к Гуро в РГАЛИ.
(обратно)204
Инсценировка поэмы Н. В. Гоголя “Мертвые души”, осуществленная М. Булгаковым. 28 ноября 1932 г. во МХАТе состоялась премьера “Мертвых дут”.
(обратно)205
Мансурова Мария Федоровна (урожд. Самарина), дочь Ф. Д. Самарина и жена священника Сергия Мансурова. Осенью 1933 г. была арестована в Москве на квартире А. В. Романовой. После недолгого пребывания в тюрьме получила три года ссылки в Среднюю Азию. В начале 1950-х гг. поселилась в Боровске. Почти ежегодно от Рождества до начала Великого поста жила в Москве, останавливаясь у близкой ей духовно Е. Н. Бируковой.
(обратно)206
Поселянин Евгений Николаевич (наст. фам. Погожев), автор книги “Русские подвижники XIX века” (СПб., 1910). Арестован и расстрелян в 1930 г.
(обратно)207
Злодиевка – село в 50 км от Киева на правом берегу Днепра. Современное название Украинка (Трипольская ГРЭС).
(обратно)208
Сестры Аллы Тарасовой Нина и Елена.
(обратно)209
Муратова Елена Павловна, драматическая актриса, педагог. С 1901 г. в МХТ, играла, преподавала на сценических курсах и в студиях.
(обратно)210
Джеймс (Джемс) Уильям – первый профессор психологии в Гарвардском университете, создатель американской психологической лаборатории. О переводе его книги, выполненном В. Г. Мирович см. комм. на с. 53.
(обратно)211
Хризалида. С. 206–226.
(обратно)212
“Столп и утверждение истины” (1914) – магистерская диссертация П. А. Флоренского.
(обратно)213
Гумилев Н., “О тебе” (1918).
(обратно)214
Используя этот термин, В. Г. Мирович имеет в виду переосмысление духовного опыта.
(обратно)215
Розанов В. В. Женщина перед великою задачей // Биржевые ведомости. 1898. 1 и 3 мая.
(обратно)216
Чулков Георгий Иванович – поэт, прозаик, литературный критик.
(обратно)217
Белый А., “Симфония (2-я, драматическая)” (1902).
(обратно)218
Цявловский Мстислав Александрович, литературовед. Основные труды посвящены изучению жизни и творчества А. С. Пушкина. Первая жена – Цявловская (урожд. Сабанеева) Софья Сергеевна умерла в августе 1930 г.
(обратно)219
Цявловская Татьяна Григорьевна (в девичестве Зенгер), литературовед, специалист по творчеству Пушкина. Дочь филолога Григория Зенгера. Ученица, затем жена и соавтор Мстислава Цявловского.
(обратно)220
Скрипник Николай Алексеевич, революционер, партийный и государственный деятель. Один из главных организаторов террора во время Гражданской войны.
(обратно)221
Посадки – дачный поселок на Днепре недалеко от Триполья, Киевской обл.
(обратно)222
Музей искусств им. Александра III при Московском государственном университете. Теперь ГМИИ им. А. С. Пушкина.
(обратно)223
Евхаристический канон.
(обратно)224
Московский собор в честь Богоявления Господня в Дорогомилове. Построен в 1727 г., разрушен в 1938 г.
(обратно)225
Отсылка к одному из французских королей, носивших прозвище Красивый, – Филиппу IV (1268–1314) или Филиппу I (1482–1506).
(обратно)226
Венчание и свадьба Шурочки Добровой и Александра Викторовича Коваленского состоялось 12 февраля 1922 г.
(обратно)227
Новицкий Василий Дементьевич, дворянин, в 1878 г. – начальник Киевского губернского жандармского управления. Участвовал в расследовании громких дел, связанных с революционными организациями и террористическими актами в Москве, Киеве, Харькове и до. городах.
(обратно)228
Шекспир У., “Гамлет” в пер. А. Кронеберга (1844).
(обратно)229
Буаст Пьер – французский лексикограф и философ, автор универсального словаря французского языка, книги “Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей” (1800).
(обратно)230
Эренбург И. Г. Виза времени: [Путевые очерки]. Берлин, 1929. Гл. 46. Второе издание, дополненное, с предисловием Ф. Раскольникова вышло в Ленинграде в 1933 г.
(обратно)231
Немой фильм “Нибелунги: Зигфрид” (реж. Ф. Ланг. 1924).
(обратно)232
Берендгоф Николай Сергеевич – русский советский поэт, песенник. Автор текста песни “Как хорошо в стране Советской жить”.
(обратно)233
Слова апостола Петра: “К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого” (Ин. 6:68).
(обратно)234
Балаховский Даниил Григорьевич, муж старшей сестры Льва Шестова Софьи Исааковны, инженер-сахарозаводчик, до 1917 г. французский консульский агент в Киеве.
(обратно)235
Шеол (др. – евр.) – еврейское царство мертвых.
(обратно)236
Строка из трагедии У. Шекспира “Отелло” в пер. П. Вейнберга (1896).
(обратно)237
Надо проглотить (фр.).
(обратно)238
Линдфорс Людмила Александровна (в замужестве Алексинская).
(обратно)239
АРА (от англ. American Relief Administration) – Американская организация, созданная Г. Гувером для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне. Функционировала с 1919 по 1923 гг. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.
(обратно)240
Кистяковская (урожд. Беренштам; псевдоним Верен М. В.) Мария Вильямовна, литератор.
(обратно)241
Сакулин Павел Никитич, литературовед, академик. Памятник на его могиле был сделан скульптором Л. Шервудом.
(обратно)242
Гусев Николай Николаевич, литературовед. В 1907–1909 гг. был личным секретарем Л. Н. Толстого. В 1925–1931 гг. – директор музея Толстого в Москве. Участвовал в редактировании юбилейного Полного собрания сочинений Толстого в 90 тт. (1928–1958).
(обратно)243
Степун Владимир Августович, окончил в Москве оперно-драматическую студию, артист МХАТ, и его жена Юлия Львовна, дочь профессора-микробиолога, академика Л. А. Тарасевича, близкие знакомые В. Г. Мирович, жили на Сивцевом Вражке, д. 41.
(обратно)244
На могиле Н. Аллилуевой поставлен памятник из белого мрамора работы И. Д. Шадра с надписью: “Надежда Сергеевна Аллилуева-Сталина / 1901–1932 / член ВКП(б) / от И. В. Сталина”.
(обратно)245
Кудашев Сергей Сергеевич, сын М. П. Кювилье и С. А. Кудашева, усыновленный Р. Ролланом. Окончил мехмат МГУ в 1940 г. После артиллерийских курсов ушел на фронт, командовал батареей, погиб в октябре 1941 г.
(обратно)246
Полянская Прасковья Алексеевна, бабушка В. Г. Мирович.
(обратно)247
Случевская Лидия Евлампиевна, литературовед, сотрудник Литературного музея. Занималась творчеством Пушкина, Чехова и др. писателей.
(обратно)248
Дневники О. А. Бессарабовой сберегла и передала в архив Дома-музея Марины Цветаевой ее дочь А. С. Веселовская. Частично они опубликованы в кн.: М. Цветаева – Б. Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915–1925). М., 2010.
(обратно)249
Толстой А. К., “Алеша Попович” (1871).
(обратно)250
Шингарёва Александра Ивановна, врач, микробиолог, работала на кафедре гигиены Первого медицинского института, в ВСГ и Земгоре.
(обратно)251
В начале 1899 г. Шингарёв А. И. был назначен межуездным земским врачом Гнездиловского участка Воронежского губернского земства.
(обратно)252
Жена – Шингарёва Ефросинья Максимовна (урожденная Кулажко), учительница. На тот момент у Шингарёвых было два сына – Владимир и Георгий. Позже родились еще четыре дочери.
(обратно)253
А. И. Шингарёв был арестован большевиками 28 ноября (11 декабря) 1917 г. как один из лидеров “партии врагов народа” (кадетов) и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В ночь на 7 января он был убит матросами-анархистами в Мариинской больнице, куда был переведен по состоянию здоровья вместе с Ф. Ф. Кокошкиным.
(обратно)254
В 1909 г. Е. Г. Лундберг был арестован в Киеве, помещен в Лукьяновскую тюрьму (Киев), затем переведен в Петропавловскую крепость. Освобожден через полгода благодаря хлопотам Л. Шестова.
(обратно)255
Сниткина Анна Григорьевна.
(обратно)256
Березовская Анна Елеазаровна.
(обратно)257
Ковалевский Максим Максимович, русский историк, юрист, социолог, этнограф, академик Петербургской АН (1914). С 1887 по 1901 г. жил за границей, в Лондоне, Париже, на своей вилле Батава в Больё-сюп-Меп около Ниццы.
(обратно)258
Розенель Наталья Александровна, актриса Малого театра и немого кино, вторая жена А. В. Луначарского.
(обратно)259
Практичная Марфа и созерцательная Мария (Ев. от Иоанна, гл. 11) стали символом различных установок в христианстве.
(обратно)260
Кузьмина Вера Дмитриевна.
(обратно)261
В Пенах Балаховские владели сахарным заводом, В. Г. Мирович в то время была гувернанткой их детей.
(обратно)262
Полянская Прасковья Алексеевна.
(обратно)263
Пушкин А. С., “Возрождение” (“Художник-варвар кистью сонной.”) (1810).
(обратно)264
Полиевктова Татьяна Алексеевна (урожд. Орешникова), сестра Веры Алексеевны Зайцевой, жены писателя Б. К. Зайцева. Муж Александр Александрович Полиевктов – из крестьянской семьи, врач, заведующий Павловской детской инфекционной больницей в Москве на Соколиной Горе, известный инфекционист. Дети Полиевктовых: Петр, Мария, Анна и Ольга.
(обратно)265
Полиевктова Мария Александровна, дочь Т. А. Полиевктовой. В 1917 г. вышла замуж за норвежского предпринимателя Томаса Кристенсена, жила в Осло. Брак распался, и в 1930-х гг. Мария вернулась в Россию, работала переводчицей, затем в 1939 г. выехала к старшему сыну Яльмару в Норвегию.
(обратно)266
Кристенсен Мария.
(обратно)267
Полиевктова Ольга Александровна (сценический псевдоним Полуэктова, в первом браке Евреинова, во втором браке Куфтина). Драматическая актриса. В эмиграции жила во Франции, затем в Чехии. Выступала в Пражской группе МХТ.
(обратно)268
Полиевктова Анна Александровна.
(обратно)269
“Тебя я вижу, когда наступает мой последний час, и, умирающий, держу тебя слабеющей рукою” (лат.) – цитата из “Элегии” Тибулла.
(обратно)270
Юдина Мария Вениаминовна, русская пианистка и педагог, музыкальный теоретик, профессор Петербургской консерватории. В 1929 г. изгнана из Консерватории за открыто проявленную религиозность.
(обратно)271
Церковь в Москве на 1-й Мещанской улице (ныне проспект Мира) постройки XVII в., снесена в 1936 г.
(обратно)272
Имеются в виду картины художника А. М. Герасимова.
(обратно)273
Клоотс Анахарсис (1755–1794), французский революционер, якобинец. Мечтал о Всемирной республике, выступал за продолжение войны до полной победы республиканских принципов в Европе. Был казнен по подозрению в шпионаже.
(обратно)274
Поручик Киже – персонаж исторического анекдота времен царствования императора Павла I, а также повести Ю. Тынянова “Поручик Киже” (1928).
(обратно)275
“Страх” – пьеса А. Афиногенова (1931).
(обратно)276
Эпиграф к произведению Г. Гейне “Путешествие по Гарцу” (1824) взят из “Речи памяти Жан-Поля”, произнесенной немецким писателем Людвигом Бёрне 2 декабря 1825 г. во Франкфурте и тогда же опубликованной. (Гейне. Г. Собр. соч. в 10 т. Т. 4. Путевые картины. М., 1957.)
(обратно)277
Лермонтов М. Ю., “Ангел” (1831).
(обратно)278
Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699), сподвижник Петра I.
(обратно)279
Буткевич Нина Владимировна, врач. Ее муж – Зубов Николай Николаевич, крупнейший российский океанолог, исследователь Арктики, инженер-контр-адмирал, доктор географических наук, профессор. На миноносце “Блестящий” участвовал в Цусимском сражении. Отец Нины Владимировны – Буткевич Владимир Степанович, биохимик, специалист в области физиологии дыхания и обмена веществ растений.
(обратно)280
Автором книги “Илиотропион” принято считать просветителя митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича). Книга посвящена проблеме соотношения личной свободы человека и Божественного Промысла.
(обратно)281
Речь идет о Льве Шестове.
(обратно)282
Тарасевич Лев Александрович – советский микробиолог и патолог, академик АН УССР. В доме Тарасевича собиралась московская интеллигенция (А. Белый, братья Н. К. и Э. К. Метнер, Ф. А. Степун и др.). Анна Васильевна, жена Тарасевича, урожд. графиня Стенбок-Фермор, родная сестра Е. В. Кудашевой, профессиональная певица, вместе с М. А. Олениной-д’Альгейм основала в Москве “Дом песни”.
(обратно)283
Линдфорс Александр Федорович – черниговский помещик, бывший гвардейский офицер, земский гласный, известный общественный деятель Российской империи.
(обратно)284
Петровский Петр Васильевич.
(обратно)285
31 августа 1919 г. Киев был занят войсками Добровольческой армии Деникина. Киевские друзья – Балаховские, в доме которых тогда проживали семьи Льва Шестова, Татьяны Скрябиной, Тарасовых.
(обратно)286
Софья Евгеньевна Голлидэй – актриса и чтица, работавшая во Второй студии МХТ. Ее памяти посвящена “Повесть о Сонечке” Марины Цветаевой (1937).
(обратно)287
Несносного ребенка (фр.).
(обратно)288
Кузьмин Александр Петрович.
(обратно)289
Арбатские переулки.
(обратно)290
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Первая полная публикация в 1870 г. в приложении к “Русской старине”. Автобиографические записки содержат материалы о русской армии, быте дворян и помещичьем хозяйстве.
(обратно)291
Неточная цитата из “Северной симфонии” (1901) А. Белого. “В голосе ее – вздох прощенных после бури, а в изгибе рта – память о далеком горе: точно кто-то всю жизнь горевал, прося невозможного, и на заре получил невозможное и, успокоенный, плакал в последний раз”.
(обратно)292
Неточно. Лев Бакст. Портрет поэтессы З. Гиппиус, 1906 г.
(обратно)293
Неточная цитата: З. Гиппиус, “Песня”, 1889 г. “О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает”.
(обратно)294
Поэма Владимира Соловьева. “Три свидания” (Москва – Лондон – Египет. 18621875-1876). Философ Владимир Соловьев трижды видел Софию, премудрость Божию. Первый раз это случилось в церкви, когда ему было 9 лет. Второй раз он увидел ее в библиотеке Британского музея, где изучал труды средневековых мистиков, а третий паз – в пустыне Египта. Эти свидания он описал в своей поэме.
(обратно)295
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина “Полководец” (1835).
(обратно)296
Шестов Л. И. Победы и поражения (Жизнь и творчество Генриха Ибсена). Русская мысль. М., 1910. IV–V.
(обратно)297
Имеется в виду квартира Крестовой у Красных ворот. Директор Литературного музея Владимир Бонч-Бруевич оказал содействие в решении сложного жилищного вопроса семье своего друга и коллеги, написав письмо в прокуратуру Союза: “Позвольте обратить Ваше внимание на совершенно невозможное жилищное положение предъявительнице сего. Комната, которую она занимает по Садовой-Спасской ул., д. 27/1, совершенно разрушена вследствие прохода под этим ветхим домом метро… в комнате стоит 18 столбов, поддерживающих потолок. Ее маленькие дети с ней не живут, они рассованы по знакомым, и она, находясь в своей комнате, все время подвергается опасности быть погребенной под развалинами этого утлого дома.”
(обратно)298
Беклемишева (по мужу Копельман) Вера Евгеньевна – писательница, литературный секретарь издательства “Шиповник” (его создателем был ее муж Соломон Юльевич Копельман), подруга В. Г. Малахиевой-Мирович. Их сын – известный советский писатель Юрий Крымов (Беклемишев Юрий Соломонович). В. Е. Беклемишева – автор воспоминаний о Леониде Андрееве. (“Реквием”. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930).
(обратно)299
Деятельность перераспределения (нем.).
(обратно)300
Стихи вошли в цикл “Предгория”. В Коктебеле Д. Андреев написал около десятка стихотворений. В письме М. С. Волошиной 23 декабря 1934 г. Даниил писал: “<…>Все-таки за ноябрь и декабрь мне удавалось писать – урывками, по ночам, иногда даже в трамваях! В результате я привел в порядок около десятка коктебельских стихотворений и написал не очень большую, но очень для меня важную поэму. Переслать ее Вам нет возможности, поэтому ограничусь пока 3-мя коктебельскими стихотворениями. Стихотворение, посвященное Максимилиану Александровичу, Вы знаете, но я его несколько переделал<…>“ (архив ДМВ (НВ-1707).
(обратно)301
Чья область, того и вера (лат.).
(обратно)302
Да будет свет! (лат.).
(обратно)303
Мария Александровна Самарова – актриса МХТ. Летом 1912 г. на ее даче в деревне Иваньково жили Марина Цветаева и Сергей Эфрон.
(обратно)304
“Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы” (МФ. 6, за).
(обратно)305
Судаков Илья Яковлевич, режиссер, педагог. Во МХАТе с 1924 г. В 1926 г. поставил “Дни Турбиных” М. А. Булгакова, в роли Елены – Алла Тарасова.
(обратно)306
Неточная цитата из пьесы А. Чехова “Дядя Ваня”: “Осенние розы – прелестные, грустные позы.” (1896).
(обратно)307
Грузинский Алексей Евгеньевич, литературовед, популяризатор русской и западноевропейской литературы.
(обратно)308
Веселовский Александр Николаевич, русский филолог, историк и теоретик литературы, с 1872 г. профессор Петербургского университета, с 1881 г. академик. А. Н. Веселовский собирал материалы для труда о Пушкине. Единственным опубликованным результатом этих исследований стала статья “Пушкин – национальный поэт” (1899), подготовленная в связи со столетним юбилеем Пушкина.
(обратно)309
Коган Петр Семенович, литературовед, историк литературы, переводчик. Профессор Московского университета. Президент Государственной академии художественных наук.
(обратно)310
Миллер Борис Всеволодович, российский ученый-иранист. В 1900 г. окончил Московский университет, в 1904 г. – Лазаревский институт восточных языков. С 1905 г. состоял на русской дипломатической службе в странах Ближнего Востока. В советское время – профессор МГУ, научный сотрудник Института востоковедения и Института языкознания, составитель “Персидско-русского словаря”. Родной брат Н. В. Бируковой.
(обратно)311
Мальтретировать (от фр. maltraiter) – дурно обращаться с кем-либо.
(обратно)312
Спектакль “Пиквикский клуб” по Ч. Диккенсу. Режиссер В. Станицын. Художник П. Вильямс. Премьера i декабря 1934 г.
(обратно)313
Массалитинова Варвара Осиповна, актриса театра и кино. С 1901 г. артистка Малого театра. Была связана дружескими отношениями с В. Г. Минович.
(обратно)314
Киров (Костриков) Сергей Миронович – деятель Коммунистической партии и Советского государства. Убийство Кирова (1 декабря 1934 г.) было использовано Сталиным для организации широкомасштабных репрессий в партии и стране.
(обратно)315
Веретенникова Инна Петровна, актриса, близкий друг В. Г. Мирович. Первой была Инна, дочь Елены Тарасовой и Павла Святополка-Мирского.
(обратно)316
Эйгес Екатерина Петровна, в девичестве Козишникова.
(обратно)317
Домработница Ефимовых.
(обратно)318
Шекспир У., “Гамлет”, в пер. А. Кронеберга (1844).
(обратно)319
Итал. песня “Tu. Ca Nun Chiaene” (“Не плачь”).
(обратно)320
Лубны-Герцык Аделаида Казимировна (в замужестве Жуковская), русская поэтесса, прозаик, переводчица. На Северном Кавказе никогда не жила. После 1914 г. Жуковские жили в Судаке в собственном доме, где Аделаида Казимировна и умерла в 1925 г. В 1928 г. ее сестра Евгения Казимировна перевезла детей, оставшихся на ее попечении, на Кавказ, где в лесохозяйстве работал их брат Владимир Казимирович Герцык.
(обратно)321
Неточная цитата из стихотворения “Осень”, впервые “Цветник Ор” (1907). Вошло в прижизненный сборник “Стихотворения” (1910).
(обратно)322
Герцык Евгения Казимировна – переводчица и критик, близкий друг Льва Шестова. В. Г. Мирович была знакома с сестрами Герцык в 1910–1915 гг., когда вместе с Львом Шестовым посещала их дом в Кречетниковском переулке в Москве, который стал своего рода салоном, где бывали Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, Вяч. Иванов, М. Волошин, М. Цветаева, С. Парнок и другие.
(обратно)323
В январе 1909 г. Аделаида Герцык вышла замуж за Дмитрия Евгеньевича Жуковского, ученого-микробиолога, издателя, переводчика философской литературы. В 1927 г. Д. Е. Жуковский был выслан на три года в Вологодскую область.
(обратно)324
Сыновья А. К. Герцык и Д. Е. Жуковского – Даниил и Никита. Два рассказа А. Герцык “Ненаказуемость Котика” и “Царевна Елена” под общим названием “Из детского мира.
Посвящается Д. Ж.” впервые опубликованы в журнале “Северные записки” 1915, № 2, с. 6–14 (см. также в кн.: Аделаида Герцык. Из круга женского. Стихотворения. Эссе. Сост. Т. Н. Жуковская. М., 2004. С. 339–349). Даниил Дмитриевич Жуковский, математик, писатель, литературовед. В 1936 г. был арестован по обвинению в “хранении контрреволюционных стихов Волошина” и “измышлении о жизни советских людей” (в разговоре упомянул о голоде на Украине). Первый приговор – пять лет. В тюрьме по доносу – новый приговор особой тройки (15 февраля 1938 г.), расстрел, приведенный в исполнение на следующий день. См.: Таинства игры. Аделаида Герцык и ее дети / Сост. и примеч. Т. Н. Жуковской. М., 2007.
(обратно)325
Крестова Людмила Васильевна.
(обратно)326
Степуны – Владимир Августович и Юлия Львовна (Тарасевич).
(обратно)327
Кудашева Екатерина Васильевна.
(обратно)328
Возможно, Гинцбург (Гинзбург) Илья (Элиаш) Яковлевич – скульптор, академик. Работал в области монументальной и станковой скульптуры; директор еврейского музея в Ленинграде. Автор многочисленных литературных работ, воспоминаний о встречах с художниками, писателями и общественными деятелями (Скульптор Илья Гинзбург: Воспоминания, статьи, письма / Сост. Е. Н. Маслова. Л., 1964).
(обратно)329
Расширение (англ.).
(обратно)330
Хризалида. С. 397.
(обратно)331
Рыбникова Мария Александровна – филолог, имела приемную семью, состоявшую из учительницы-словесницы Л. Е. Случевской и ее матери. Наиболее значительные труды М. А. Рыбниковой – “Загадки” (1932) и “Введение в стилистику” (1937). В 1928–1931 гг. Рыбникова – одна и в сотрудничестве с Л. Е. Случевской – публикует ряд статей о загадках и их педагогическом применении. Умерла в Свердловске в эвакуации.
(обратно)332
Вера Дмитриевна Кузьмина в 1930 г. окончила МИИТ и пять лет работала по специальности “инженер-мостостроитель”.
(обратно)333
Сын Людмилы Васильевны Крестовой.
(обратно)334
Надо ковать железо, толочь его, мять (фр.).
(обратно)335
Бессарабов Борис Александрович.
(обратно)336
Куйбышев Валериан Владимирович – советский государственный и партийный деятель. Умер 25 января 1935 г. от сердечного приступа. Похоронен на Красной площади в Москве.
(обратно)337
“И тогда земля должна быть там” (нем.).
(обратно)338
Картину художника Н. Н. Дубовского “Гроза” А. Тарасовой подарили, отметив удачно сыгранную роль Катерины в фильме “Гроза” (вышел на экраны в 1934 г.).
(обратно)339
Янушевская Мария Васильевна, киевская приятельница Леониллы Тарасовой, вдова погибшего царского офицера. Ее сын – Янушевский Диодор Михайлович, инженер-строитель.
(обратно)340
Бессарабов Борис.
(обратно)341
Лицо не установлено.
(обратно)342
Menage en trois (фр.) – хозяйство на троих.
(обратно)343
Тарасов Георгий (Юрий) Константинович.
(обратно)344
Михальский Федор Николаевич – театральный деятель, в то время главный администратор, помощник директора МХАТ; с 1937 г. – директор музея МХАТ; прототип администратора Филиппа Филипповича из “Записок покойника” (“Театрального романа”) М. Булгакова.
(обратно)345
“Жизнь человека” – пьеса Л. Андреева. Впервые была поставлена в Драматическом театре В. Комиссаржевской (Петербург) 22 февраля 1907 г. Режиссер – В. Э. Мейерхольд. 12 декабря 1907 г. состоялась премьера в МХТ. Постановка К. С. Станиславского и Л. А. Сулержицкого.
(обратно)346
Шохор-Троцкий Константин Семенович, литературовед и общественный деятель, член редакционного комитета юбилейного издания сочинений Л. Н. Толстого, собиратель материалов сектантов и последователей учения Л. Н. Толстого.
(обратно)347
Побывав в Ясной Поляне в гостях у Льва Толстого в декабре 1909 г., Мирович взяла у него большое интервью (“В Ясной Поляне”, опубликовала в журнале “Русская мысль”, 1911, № 1 и в Сборнике воспоминаний о Л. Н. Толстом / М., 1911. С. 158–176).
(обратно)348
“Нескромные сокровища” (“Les Bijoux Indiscrets”, 1748) – фривольный роман Дени Дидро.
(обратно)349
Москвин Иван Михайлович, артист, театральный режиссер, второй муж А. Тарасовой с 1936 г.
(обратно)350
Майя (санскр. – иллюзия), в ведизме и брахманизме – имя богини, воплощавшей иллюзорный мир.
(обратно)351
М. А. Рыбникова увлекалась графикой и живописью. Занимаясь сбором и изучением загадок, былин и сказок русского народа, произведений древнерусской литературы, иллюстрировала их. Особенно привлекало ее “Слово о полку Игореве”. Выставка графических работ на эту тему, выполненных в 1930–1942 гг., вызвала большой интерес в Свердловске, где была в эвакуации. В 1959 г. Госиздатом было выпущено альбомного типа издание “Слово о полку Игореве”, в которое вошло 13 графических листов Рыбниковой. Выставки ее работ проходили в 1960 г. в Институте методов обучения АПН СССР, в 1975 г. в Московском государственном пединституте им. В. И. Ленина.
(обратно)352
“Любовная лодка разбилась о быт.” – строка из неоконченного стихотворения В. Маяковского “Море уходит вспять.” (1958).
(обратно)353
Константин Константинович Мамантов, белогвардейский генерал.
(обратно)354
Митрофанова (урожд. Велигорская) Екатерина Михайловна.
(обратно)355
Выражение из посмертно изданной в 1901 г. книги Ф. Ницше “Воля к власти. Переоценка всех ценностей”; подзаголовок добавлен к заглавию издателями в 1911 г.
(обратно)356
Кириллов – один из нейтральных персонажей романа Ф. М. Достоевского “Бесы” (1872).
(обратно)357
Коваленская (Коншина) Вера Владимировна.
(обратно)358
Дюпрель Карл (1839–1899), немецкий оккультный писатель.
(обратно)359
Лундберг Е. Г. Мережковский и его новое христианство. СПб., 1914.
(обратно)360
Без страха и упрека (искаж. фр.).
(обратно)361
Петровское (с 1958 г. в составе г. Алексина) – поселок на Оке недалеко от Тарусы, в Калужской губ. С конца XIX в. имение принадлежало В. В. Беру. Его имение стало любимым дачным местом творческой интеллигенции. Здесь отдыхали В. В. Вересаев (1907), А. Н. Скрябин (1913), Б. Л. Пастернак (1914). Петровский завод – зеркальная фабрика, построенная в 1898 г. (Алексинский опытно-механический завод).
(обратно)362
“Остальное – молчание” (англ.) – последние слова принца Гамлета.
(обратно)363
“Potestas Clavium” (1923) – книга, посвященная главной теме исследований Л. И. Шестова– прорыву к реальности, к Богу через стену абстракции, “общеобязательных суждений”.
(обратно)364
Из официального сообщения ТАСС: “18 мая 1935 г. в 12 часов 45 минут в городе Москве, в районе Центрального аэродрома произошла катастрофа. Самолет “Максим Горький” совершал полет под управлением летчика ЦАГИ т. Журова. В этом полете “Максим Горький” сопровождал тренировочный самолет ЦАГИ под управлением летчика Благина. При выходе из мертвой петли летчик Благин своим самолетом ударил в крыло самолета “Максим Горький”. “Максим Горький” стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал на землю в поселке Сокол. При катастрофе погибло 11 человек экипажа и 36 пассажиров”.
(обратно)365
Гёте И. В. Избранные произведения. Фауст. Пер. Н. Холодковского. Л., 1936.
(обратно)366
Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева “Русской женщине” (1848 или 1849).
(обратно)367
Неточная цитата из поэмы Н. А. Некрасова “Дедушка” (1870).
(обратно)368
Сохранять хорошую мину при плохой игре (фр.).
(обратно)369
Р. Роллан был в Москве с 23 июня по 21 июля 1935 г.
(обратно)370
Троицкий Белопесоцкий монастырь в Ступинском районе Московской области.
(обратно)371
Квартира Тарасовых находилась в Северной полубашне Госпитального укрепления (построена в 1839–1842 гг., входит в архитектурный ансамбль “Киевская крепость”), ул. Госпитальная, 16. Северная полубашня предназначалась для “жительства госпитальных чинов и служителей”. С 1870 г. здесь же размещалась военно-фельдшерская школа, которую окончил К. П. Тарасов. Сейчас в здании находится поликлиника Главного клинического госпиталя Министерства обороны Украины.
(обратно)372
Буквами tbc записывали диагноз “туберкулез”.
(обратно)373
Слова из “Интернационала” на украинском языке, пер. Н. Вороного.
(обратно)374
Хмелёв Николай Павлович, русский актер. Одна из прославивших его ролей – царь Федор в программном спектакле МХАТ “Царь Федор Иоаннович” (1935) А. К. Толстого. Постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Инициатива поручить ему эту роль принадлежит И. М. Москвину, игравшему царя Федора со дня выхода спектакля (1898).
(обратно)375
К. П. Тарасов во время Первой мировой войны организовал челюстной отряд Красного Креста для обслуживания частей Юго-Западного фронта и предложил полевой хирургический набор дантиста, за который на Петроградской выставке был награжден серебряной медалью.
(обратно)376
Оглашенные – в христианстве люди, не принявшие крещения, но уже наставляемые в основах веры. Верные – название христиан, прошедших оглашение и принявших крещение.
(обратно)377
Хризалида. С. 428.
(обратно)378
Шаховской Дмитрий Иванович.
(обратно)379
В это время А. Тарасова снималась на “Ленфильме” в картине “Петр I” в роли Екатерины. Режиссеры Владимир Петров и Сергей Бартенев.
(обратно)380
Неточная цитата: “Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет?” (Достоевский Ф. М. Записки из подполья. Повесть. Гл. II. По поводу мокрого снега, 1864).
(обратно)381
Агапа – в I–V вв. н. э. – вечернее собрание христиан для молитвы и вкушения пищи, соединенное с воспоминаниями об Иисусе Христе.
(обратно)382
Элевзис – город в Греции. Элевзинские таинства – в Древней Греции празднества, состоявшие из мистических представлений; в отправлении празднества участвовали только посвященные.
(обратно)383
Мист (греч.) – человек, получивший предварительное посвящение в какое-либо мистическое таинство.
(обратно)384
“Что разумно, то действительно и что действительно, то разумно”. Слова немецкого философа Георга Гегеля (“Феноменология духа”, 1807).
(обратно)385
Вторая жена С. В. Айдарова – Чинарова (Айдарова) Анастасия Игнатьевна.
(обратно)386
Марр Корнелия Иосифовна, дочь известного киевского предпринимателя, 1-й гильдии купца Иосифа Марра и его жены Корнелии Фридриховны. Гимназическая подруга В. Г. Мирович. Стала женой знаменитого киевского архитектора Владислава Городецкого.
(обратно)387
Дочь швейцарца Целестина Верле, владельца магазина швейцарских часов в Киеве, ул. Крещатик, д. 4.
(обратно)388
Струнина Леонилла Семеновна, гимназическая подруга В. Г. Мирович. Автор книг: “Первые воскресные школы в Киеве” (Киев, 1898); “Грамматика в начальной школе по принципу самодеятельности” (Киев, 1915).
(обратно)389
Город в Черкасской области Украины.
(обратно)390
Монблан, Юнгфрау, Финстерархорн – горные вершины в Швейцарских Альпах.
(обратно)391
Шик Михаил Владимирович.
(обратно)392
Лёка – сын И. П. Веретенниковой.
(обратно)393
Скрябин Юлиан Александрович, сын Т. Ф. и А. Н. Скрябиных.
(обратно)394
Халтурин Иван Игнатьевич, литератор, редактор Детгиза и издательства “Молодая гвардия”, зам. редактора журналов “Новый Робинзон”, “Пионер”, “Дружные ребята”, “Мурзилка”. Стоял у истоков издания детской литературы в стране.
(обратно)395
Зиновьев и Каменев были основными обвиняемыми на первом московском процессе в августе 1936 г. над 16 членами так называемого Троцкистско-зиновьевского террористического центра. Помимо прочих обвинений им инкриминировалось убийство Кирова и заговор с целью убийства Сталина.
(обратно)396
Неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина “Полтава” (1828–1829).
(обратно)397
Неточная цитата из стихотворения С. Михалкова “Мы с приятелем” (1937).
(обратно)398
Канал Москва – Волга был открыт 15 июля 1937 г. С 1947 г. носит название Канала им. Москвы. В районе поселка Икша находится Икшинское водохранилище.
(обратно)399
При строительстве канала использовался труд заключенных ГУЛАГа (14 сентября 1932 г. для строительства канала был создан Дмитровлаг, просуществовавший более пяти лет).
(обратно)400
Цар. 20.
(обратно)401
Гречанинов Александр Тихонович, русский композитор. С 1925 г. в эмиграции.
(обратно)402
Портрет писателя А. М. Ремизова. Бюст. 1911 г., скульптор А. С. Голубкина.
(обратно)403
Ремизова-Довгелло Серафима Павловна, жена А. М. Ремизова.
(обратно)404
Ремизов А. М., “Пруд” (первая редакция – 1905) – социально-психологический роман. “Лимонарь, сиречь Луг духовный” (СПб., 1907) – цикл повестей, основанных на народных легендах, апокрифах и др. Ремизов обращается к славянскому фольклору и древнерусской книжности, впервые выступает как стилизатор. В. Мирович писала рецензии на его рассказы (Малахиева-Мирович В. Алексей Ремизов. Рассказы. // Русская мысль. 1910. № 1. Библиографический отдел. С. 3).
(обратно)405
Эничка Вилькина, сестра поэтессы Людмилы Вилькиной (жены поэта Н. М. Минского), племянница Зинаиды Венгеровой.
(обратно)406
Из этой темной и статной бездны (итал.).
(обратно)407
Переход (лат.).
(обратно)408
Вера Фигнер с 1906 г. постоянно жила в Швейцарии, в Клапане.
(обратно)409
Строки из стихотворения П. А. Вяземского “Петербургская ночь” (1840).
(обратно)410
Толстой Л. Н., “Не могу молчать!” (1908).
(обратно)411
Млодецкий Ипполит Осипович.
(обратно)412
Фейхтвангер Лион, немецкий писатель, во время посещения Советской России присутствовал на “Процессе 17-ти” – показательном суде над группой бывших руководителей партии, активных участников оппозиции. Выступил в “Правде” со статьей, в которой он с удовлетворением констатировал, что вина подсудимых полностью доказана.
(обратно)413
Перед лицом вечности (лат.).
(обратно)414
Алексей Кузьмин, сын А. К. Тарасовой.
(обратно)415
Русакова Галина Сергеевна (по мужу Еремеева), одноклассница и друг Даниила Андреева.
(обратно)416
Ленау Николаус (1802–1850), австрийский поэт-романтик.
(обратно)417
См.: Гроссман Л. От Пушкина до Блока. М., 1926.
(обратно)418
Выйти за пределы самого себя (лат.). Отсылка к одноименному стихотворению Вяч. Иванова (1904).
(обратно)419
Нежданова Антонина Васильевна, русская певица, была старше мужа, Голованова Николая Семеновича, дирижера, пианиста и композитора, на 18 лет.
(обратно)420
Волков Николай Дмитриевич, возлюбленный Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, был младше ее на 30 лет. Известен как автор театральных инсценировок (в том числе “Анны Карениной” во МХАТе). Жена Николая Дмитриевича, эстрадная певица Казароза, от ревности и тоски покончила жизнь самоубийством.
(обратно)421
Анна Петровна Керн в истории более всего известна по роли, которую она играла в жизни Пушкина. Марков-Виноградский Александр Васильевич, коллежский асессор, троюродный брат и муж А. П. Керн, был младше ее на 20 лет.
(обратно)422
Неточная цитата. У В. Розанова “Цинизм от страдания?.. Думали ли вы когда-нибудь об этом?” (“Уединенное”, 1911).
(обратно)423
Беранже П. Ж., “Знатный приятель”, в пер. В. С. Курочкина (1858).
(обратно)424
Прошлое, былое (итал.).
(обратно)425
Ошибка памяти. Вальс “На сопках Маньчжурии” написан в 1905 г., автор Шатров И. А. Варваре Мипович тогда было 36 лет. Сестре Насте – 31 год.
(обратно)426
Неточная цитата из С. Я. Надсона “Испытывал ли ты, что значит задыхаться…” (1884).
(обратно)427
6 мая 1937 г., завершая свой очередной трансатлантический рейс, загорелся и потерпел катастрофу самый большой дирижабль своего времени “Гинденбург”. В результате катастрофы погибло 35 из 97 находившихся на его борту, а также один член наземной команды. Эта трагедия стала одной из самых известных катастроф ХХ в. и положила конец эпохе цеппелинов.
(обратно)428
Гольденвейзер Александр Борисович, пианист, педагог, композитор, музыкальный писатель и общественный деятель, мемуарист. В 1896 г. познакомился с Л. Н. Толстым.
(обратно)429
Адрес квартиры, в которой жила Алла Тарасова до переезда в дом, принадлежащий МХАТ, в 1-м Глинищевском переулке.
(обратно)430
Лицо не установлено.
(обратно)431
Столик на одной ножке.
(обратно)432
В. Г. Мирович была гувернанткой в семье Даниила Григорьевича и Софьи Исааковны (сестры Л. Шестова).
(обратно)433
Балаховский Георгий Даниилович.
(обратно)434
Балаховская Евгения Данииловна.
(обратно)435
Балаховский Сергей Даниилович.
(обратно)436
Речь идет о Михаиле Владимировиче Шике.
(обратно)437
Главное, не забудьте дверь, мадам (фр.).
(обратно)438
Что там такое? (фр.).
(обратно)439
Это я (фр.).
(обратно)440
Так кто же вы? (фр.).
(обратно)441
Вероятно, сентябрь-октябрь 1919 г. Белые заняли Киев 31 августа и ушли 16 декабря 1919 г.
(обратно)442
Адрес семьи Тарасовых в то время – ул. Деловая, д. 6 (ныне ул. Димитрова).
(обратно)443
Скрябины уехали в Новочеркасск в 20-х числах сентября 1919 г.
(обратно)444
Слонимский Михаил Леонидович, писатель, участник группы “Серапионовы братья”; Фаина Афанасьевна Слонимская (урожд. Венгерова), описанная в романе М. Слонимского “Лавровы”, эмигрировала в Германию, затем во Францию.
(обратно)445
Жука Давыдов – Давидов Георгий Сигизмундович, сын Т. Г. Балаховской, старшей сестры Д. Балаховского, женатого на сестре Л. И. Шестова Софье.
(обратно)446
Шестовы уехали из Киева в середине октября. Вместе с ними ехали семь членов семьи Шварцманов. Через Харьков, Ростов, Новороссийск по морю прибыли 22 ноября в Ялту.
(обратно)447
Погибших людей (итал.).
(обратно)448
Шаховская Анна Николаевна (Сиротинина), мать Натальи и Анны Шаховских.
(обратно)449
В июле 1937 г. экипаж в составе М. М. Громова, А. Б. Юмашева, С. А. Данилина на самолете АНТ-25 РД осуществил беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (США). Расстояние 10 148 км пройдено за 62 ч. 17 мин. Советские летчики установили мировой рекорд дальности по прямой.
(обратно)450
12 августа 1937 г. на четырехмоторном самолете ДБ-А полярный летчик Главсевморпути Леваневский Сигизмунд Александрович с экипажем вылетел по маршруту Москва – Северный полюс – Фэрбенкс (США). Самолет прошел Северный полюс, и связь с ним оборвалась. Около года продолжались поиски, но самолет не был найден. Предположительно он потерпел катастрофу v берегов Аляски.
(обратно)451
Белокурая бестия (итал.).
(обратно)452
Бёкк Ричард Морис, канадский психолог. Считал, что в 35-летнем возрасте пережил “расширение сознания”, с тех пор его жизнь была направлена на понимание природы трансцендентальной реализации и озарения. Автор книг “Моральная природа человека” (1879) и “Космическое сознание” (1901).
(обратно)453
Даймон (др. – греч.) – божество, для Сократа и его последователей синоним внутреннего голоса человека, совести.
(обратно)454
Яффа – один из главных портов древнего Израиля.
(обратно)455
Смирна – античный город, один из старейших древнегреческих городов в Малой Азии.
(обратно)456
Кореневы – Анатолий Григорьевич и Мария Ивановна. Анатолий Григорьевич Коренев, художник, искусствовед. В 1920-е гг. стал уполномоченным Крымохриса по Южному берегу Крыма. После национализации Воронцовского дворца в Алупке стал его главным хранителем. Руководил Ялтинским народно-художественным музеем. После землетрясения 1927 г., когда коллекция Ялтинского музея была переведена в Севастополь, стал директором Севастопольской картинной галереи. Его сестра Лидия Григорьевна была женой известного коллекционера С. И. Щукина.
(обратно)457
Романова Анна Васильевна.
(обратно)458
Роман Ф. М. Достоевского “Идиот” (1868–1869). Герой романа Ипполит читает свою статью “Мое необходимое объяснение”, в которой рассказывает страшный сон о скорлупчатом животном (ч. III, гл. V).
(обратно)459
Пушкин А. С., “К морю” (1824).
(обратно)460
Спокойной жизнью (нем.).
(обратно)461
“Коль славен наш Господь в Сионе” – русский духовный гимн, композитор Д. С. Бортнянский, слова М. М. Хераскова. Этот гимн вызванивали с 1856 по 1917 г. тридцать семь колоколов Спасской башни Московского Кремля каждый день в 15 и 21 ч.
(обратно)462
Фейхтвангер Л., “Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей” (Амстердам, 1937), русское издание появилось в том же году в издательстве “Художественная литература”.
(обратно)463
Жид Андре, французский писатель, в середине 1930-х гг. неоднократно выступал в поддержку СССР. Во время последнего приезда в 1936 г. (присутствовал на похоронах М. Горького) Жид разочаровался в советском строе. В конце 1936 г. вышла его книга “Возвращение из СССР”, где критикуется отсутствие свободы мысли в СССР, жесткий контроль за литературой и общественной жизнью и т. д. Имя писателя (после официального разбора книги в “Правде”) попало под запрет, его книги не издавались полвека; осудила книгу и часть левой интеллигенции на Западе, безоговорочно поддерживавшая Сталина (Ромен Роллан и Лион Фейхтвангер).
(обратно)464
Истрати Панаит, румынский писатель, в 1927 и 1928 гг. посетил СССР, был в Москве, Киеве и других городах. В 1929 г. он выпустил книгу очерков о советской бюрократии и ее повседневном произволе “К другому огню: Исповедь проигравшего”, которую в СССР расценили как предательство.
(обратно)465
Цвейг Стефан, австрийский писатель. Приехал в Советский Союз в 1928 г. на торжества по случаю столетия со дня рождения Льва Толстого. Цвейг скептически оценил бурную бюрократическую деятельность руководящей верхушки, не мог понять и принять обожествление вождя, а лживость инсценированных политических процессов не ввела его в заблуждение. Он категорически не принимал идею диктатуры пролетариата, которая узаконивала любые акты насилия и террора.
(обратно)466
Дюамель Жорж, французский писатель, в 1927 г. посетил СССР. Об этой поездке он подробно рассказал в книге “Путешествие в Москву” (1927).
(обратно)467
12 декабря 1937 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР. По официальным данным, в выборах участвовали 96,8 процента избирателей.
(обратно)468
Недостойный (нем.).
(обратно)469
Бальмонт-Бруни Нина Константиновна, дочь К. Д. Бальмонта и Е. А. Андреевой, жена художника Л. А. Бруни.
(обратно)470
Отсылка к басне Ж. де Лафонтена “Заяц и лягушки”: “Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fievre" – “Чуть листик шелохнет, чуть тень мелькнет, – и он уж трясся лихорадкой…(Пер. с фр. Н. Юрьина).
(обратно)471
Жена Н. В. Досекина Мария Петровна (урожд. Андриевич), во втором браке жена врача-терапевта, профессора Д. Д. Плетнева.
(обратно)472
Речь идет о так называемых врачах-убийцах.
(обратно)473
Строки из поэмы Н. А. Некрасова “Дедушка” (1870).
(обратно)474
Запрещается (нем.).
(обратно)475
Моральное уродство (англ.).
(обратно)476
Неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина “Борис Годунов” (1825).
(обратно)477
Мараморохи – народное выражение в значении “мороки”. См. А. Белый “Первое свидание” (1921).
(обратно)478
Рыбникова М. А. и Случевская Л. Е. Лексика “Евгения Онегина” как отражение борьбы за реализм. А. С. Пушкин. М., 1937. С. 144–167.
(обратно)479
Шаховская-Шик Н. Д.
(обратно)480
Первая любовь (итал.).
(обратно)481
Пешкова Екатерина Павловна (урожд. Волжина), деятель партии эсеров, правозащитница, первая жена А. М. Горького. С 1917 г. была главой бюро (затем зам. пред.) Политического Красного Креста (Московского общества Красного Креста).
(обратно)482
“Известия” (14 апреля 1938 г.): “…в рассвете сил и таланта Шаляпин… променял Родину на длинный рубль. Ушел он из жизни, не оставив после себя ничего…”
(обратно)483
Муж Е. П. Эйгес – Эйгес Константин Романович, композитор, пианист и педагог.
(обратно)484
Эйгес Сергей Константинович – художник-романтик, погиб в бою 27 июня 1944 г. под Витебском.
(обратно)485
Моргунов Алексей Алексеевич, художник. Внебрачный сын художника А. К. Саврасова. В середине 1900-х учился в Строгановском училище и частных студиях К. А. Коровина и С. В. Иванова. С 1904 г. участник многих выставок; его работы хранятся в музеях России, а также в Каракалпакском ГМИ им. И. В. Савицкого.
(обратно)486
Барцал Антон Иванович, русский певец, чех по происхождению. В 1882–1903 гг. – главный режиссер Большого театра. В 1898–1921 гг. – профессор Московской консерватории. С 1921 г. в эмиграции.
(обратно)487
Романова Анна Васильевна.
(обратно)488
См. стихотворение Я. М. Полонского “Бэда-проповедник” (1840–1845). Бэда (VII в.), монах, английский историк.
(обратно)489
Лермонтов М. Ю., “Как в ночь звезды падучей пламень” (1832).
(обратно)490
Толстой А. К., “Вырастает дума, словно дерево” (1858).
(обратно)491
Философско-артистический кружок “Радость” В. Г. Мирович собирала в Москве в 1916 г.
(обратно)492
См. комм. к записи от 6 февраля 1935 г. – с. 205.
(обратно)493
Воспоминания Н. Н. Гусева “Два года с Л. Н. Толстым” (1912).
(обратно)494
Кама-рупа (санскр.) – тело низших желаний; форма, переживающая смерть физического тела; оболочка, оставляемая душой после ее выхода (термин, взятый Е. П. Блаватской из индийской теологии).
(обратно)495
Неизвестно, о каком поэте идет речь.
(обратно)496
Подземная темница (фр.).
(обратно)497
Речь идет о расстреле М. В. Шика – менее года назад.
(обратно)498
Менады (“безумствующие”) – в древнегреческой мифологии спутницы и почитательницы Диониса.
(обратно)499
Шестов Лев Исаакович умер 20 ноября 1938 г.
(обратно)500
Речь идет о Михаиле, брате В. Г. Мирович.
(обратно)501
Царевна Навзикая – в древнегреческой мифологии дочь Алкиноя (царя фиаков) и Ареты, героиня поэмы Гомера “Одиссея”.
(обратно)502
Очерки о пребывании Ильфа и Петрова в сентябре 1935 – феврале 1936 г. в США, составившие книгу “Одноэтажная Америка”, впервые опубликованы в ж. “Знамя”, 1936, № 10–11; в ж. “Огонек”, 1936, № 11–17, 19–23. Отдельное издание: И. Ильф, Е. Петров Одноэтажная Америка. М., 1937.
(обратно)503
Надо ковать железо, толочь его, мять (фр.).
(обратно)504
Цитата из публицистического очерка Ф. М. Достоевского “Зимние заметки о летних впечатлениях” (1863).
(обратно)505
Дирш Виталий Михайлович, зоолог, сотрудник Зоологического музея ВУАН, в 1928–1931 гг. сотрудничал с Биогел АН СССР, специалист по энтомологии саранчовых. В. И. Вернадский намеревался организовать в лаборатории биологический отдел под руководством В. М. Дирша, но эти планы не осуществились. С 1934 г. В. М. Дирш работал в Крымском НИИ защиты растений. После Второй мировой войны жил за границей.
(обратно)506
Веселовский Степан Борисович, муж О. А. Бессарабовой.
(обратно)507
Ничто не вечно под луной (фр.).
(обратно)508
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич, советский партийный и государственный деятель, доктор исторических наук, этнограф, писатель. С 1933 г. Бонч-Бруевич – директор Государственного литературного музея в Москве. Скорее всего, предполагалась работа в каком-нибудь литературном музее.
(обратно)509
Тарасова Ольга Георгиевна, дочь Юрия (Георгия) Тарасова, балерина.
(обратно)510
Немирович-Данченко Екатерина Николаевна (урожд. Корф), жена. Вл. И. Немировича-Данченко, дочь известного общественного деятеля и педагога Н. А. Корфа, по первому мужу – Бантыш. Их брак длился более полувека.
(обратно)511
С точки зрения вечности (лат.).
(обратно)512
Неточно: З. Гиппиус, “Песня” (1893): “О, пусть будет то, чего не бывает. / Никогда не бывает”.
(обратно)513
Цитата из стихотворения “Припев” Ивана Коневского (1899).
(обратно)514
Имеются в виду отношения Льва Шестова с сестрами Анастасией и Варварой Малахиевыми.
(обратно)515
Как ты можешь спать спокойно и знать, что я еще жив? (нем.). Неточная цитата из стихотворения Г. Гейне “Как можешь ты спокойно спать.” (1823–1824).
(обратно)516
Слова молитвы (“возгласа”), произносимой за всенощной или молебном.
(обратно)517
Редлих Вера Павловна, актриса, режиссер. Училась в театральной школе МХТ с 1914 г., затем во 2-й студии МХТ. Была актрисой Ярославского, Владивостокского и др. театров. В 1932 г. приехала в Новосибирск и создала театр “Красный факел”, с 1932 г. была его режиссером, в 1943–1960 гг. главным режиссером. Племянница Э. М. Редлиха, феодосийского фотографа, в доме которого в 1913 г. жили Марина и Анастасия Цветаевы.
(обратно)518
Кривошапкина Елизавета Павловна (урожд. Редлих) – художница. Написала воспоминания о Марине Цветаевой, о Волошине и др. На протяжении десятилетий дружила с Анастасией Ивановной Цветаевой.
(обратно)519
Строка из оды Г. Р. Державина “На смерть князя Мещерского” (1779).
(обратно)520
Мф. 20:1.
(обратно)521
В данном случае речь может идти о картине В. Э. Борисова-Мусатова “Призраки” (1903).
(обратно)522
Правильно: Matratzengruft – матрасный склеп (нем.).
(обратно)523
Шик Гизелла Яковлевна.
(обратно)524
Л. И. Шестов умер 20 ноября 1938 г.
(обратно)525
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина “Под небом голубым страны своей родной.(1825).
(обратно)526
Алексеев Владимир Сергеевич, режиссер, педагог оперной студии, затем оперного театра им. Станиславского. Старший брат К. С. Станиславского.
(обратно)527
Райх Зинаида Николаевна, актриса, бывшая жена Сергея Есенина. С 1922 г. – жена В. Э. Мейерхольда. В ночь с 14 на 15 июля 1939 г. З. Райх была убита.
(обратно)528
Пьеса “Батум” (1939) при жизни Булгакова не публиковалась и не ставилась.
(обратно)529
Местный колорит (фр.).
(обратно)530
Полиевктова (Бруни) Анна Александровна и Бальмонт-Бруни Нина Константиновна.
(обратно)531
Неточная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова “Хаджи Абрек” (1834).
(обратно)532
30 ноября 1939 г. Красная армия перешла советско-финскую границу по всей ее длине. Началась война, получившая название Советско-финской, или Зимней, поскольку боевые действия проходили зимой. Мир был заключен 13 марта 1940 г.
(обратно)533
О смерти З. Гиппиус информация неверная, она умерла 9 сентября 1945 г. в Париже. Л. Блок (Менделеева) умерла 27 сентября 1939 г. в Ленинграде.
(обратно)534
Так в рукописи. Жена Вяч. Иванова – Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал, писательница.
(обратно)535
Цитата из стихотворения З. Гиппиус “Снежные хлопья” (1804).
(обратно)536
Цитата из стихотворения З. Гиппиус “Снежные хлопья” (1804).
(обратно)537
Иванов Вячеслав Иванович, русский поэт, теоретик символизма. В августе 1924 г. покинул родину и поселился в Риме. В 1926 г. принял католичество. В 1926–1934 гг. преподавал русский язык и литературу в колледже в Павии; в 1934–1943 гг. – в Восточном институте Ватикана. Скончался 16 июля 1949 г. в Риме. Похоронен на протестантском кладбище рядом с художником Карлом Брюлловым.
(обратно)538
Л. И. Шестов умер в клинике Буало в Булони. Похоронен на Новом кладбище в Булони.
(обратно)539
Блок А., “Я пригвожден к трактирной стойке” (1908).
(обратно)540
Блок А., “Незнакомка” (1906).
(обратно)541
Жена облеченная в солнце – символический персонаж Откровения Иоанна Богослова (12:1-17).
(обратно)542
Блок А., “Ты в поля отошла без возврата.” (1005).
(обратно)543
Пушкин А. С., “Анчар” (1828).
(обратно)544
Речь идет о Кирилле Георгиевиче Салтыкове, женихе М. В. Юдиной. Он учился у нее в Московской консерватории.
(обратно)545
Эвзебий, Флорестан – псевдонимы Р. Шумана, немецкого композитора. Выдуманные персонажи, от лица которых выступал Шуман как музыкальный критик на страницах печати: пылкий, неистово дерзкий и иронический Флорестан и нежный мечтатель Эвзебий. Оба они воплощали черты характера одного композитора.
(обратно)546
Два сборника стихов А. Ахматовой “Четки” (1914), правильно “Белая стая” (1917).
(обратно)547
“«Красота страшна» – Вам скажут”, – первая строка стихотворения А. Блока “Анне Ахматовой” (1913).
(обратно)548
Блок А., “В час, когда пьянеют нарциссы.” (1904).
(обратно)549
Ошибка памяти В. Г. Малахиевой-Мирович: на портрете Константина Сомова (1907) на Блоке нет костюма Пьеро.
(обратно)550
Из письма А. Блока Е. П. Иванову от 3 декабря 1905 г.
(обратно)551
Сборник стихов А. Ахматовой “AnnoDomini” (1922).
(обратно)552
Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Часть ТТ. 2012.
(обратно)553
Брат О. А. Бессарабовой Владимир Александрович Бессарабов, профессор кафедры птицеводства Московской ветеринарной академии.
(обратно)554
Брат О. А. Бессарабовой Николай Александрович Бессарабов. Окончил Санкт-Петербургский политехнический институт по специальности “механик”. В 1916 г. был послан в Америку браковщиком снарядов, которые Россия закупала для фронта. В 1920-х гг. переписка с ним прервалась. Его племянница А. С. Веселовская в 1960-е гг. обнаружила в библиотеке книгу на английском языке: Бессарабов Н. История музыкальных инструментов. Бостон, 1941.
(обратно)555
Брат О. А. Бессарабовой Всеволод Александрович Бессарабов, талантливый военный инженер-изобретатель. Умер от душевной болезни.
(обратно)556
Рассказ В. М. Гаршина “Четыре дня” написан под впечатлением от Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в которой он принимал участие добровольцем, рядовым пехотного полка, был ранен. См.: Гаршин В. М. Рассказы. М., 1980. С. 3-15.
(обратно)557
См. трактат древнехристианского богослова Дионисия Ареопагита “Небесная иерархия”.
(обратно)558
Имеется в виду философия всеединства В. Соловьева.
(обратно)559
Герцык А., “Осень” (не позднее 1907 г.).
(обратно)560
Гаризин (библ.) – гора в Палестине, выс. до 2500 м., святыня самарян. “Да даси, говорил Господь Моисею, благословение на горе Гаризин и клятву на горе Гевал” (Втор. 11, 29–30; 27, 12 и след.; Пс. 110, 21).
(обратно)561
Прекрасная колдунья (фр.).
(обратно)562
Вечный реквием (англ.).
(обратно)563
Лермонтов М. Ю., “Пленный рыцарь” (1840).
(обратно)564
Гуревич Любовь Яковлевна, публицист, театральный критик. Приятельница В. Г. Мирович по Петербургу. В РГАЛИ сохранились письма В. Мирович к Л. Гуревич.
(обратно)565
Из стихотворения Е. А. Баратынского “На смерть Гёте” (1832).
(обратно)566
Рыбникова Мария Александровна.
(обратно)567
Фиваида – старинное название области в Верхнем Египте. Название фигурирует в легендах о первых христианских отшельниках.
(обратно)568
Людмила Александровна, жена Алексея Кузьмина-Тарасова.
(обратно)569
Литовцева Нина Николаевна (настоящая фамилия Левестамм), жена В. И. Качалова, российская актриса и режиссер.
(обратно)570
Пьеса Кнута Гамсуна (1896).
(обратно)571
Сын В. И. Качалова и Н. Н. Литовцевой – Вадим Васильевич Шверубович, театральный деятель, педагог. Один из основателей театра “Современник”.
(обратно)572
Веретенникова Инна Петровна.
(обратно)573
Студия чистой импровизации “Семперантэ”, основана в Москве в 1917 г., позже преобразована в Московский театр импровизации.
(обратно)574
Лицо не установлено.
(обратно)575
13 ноября 1940 г. в газетах появилось сообщение ТАСС о пребывании В. М. Молотова в Берлине.
(обратно)576
В это время на сцене МХАТа шла комедия английского драматурга Ричарда Шеридана “Школа злословия” (1777).
(обратно)577
В 1934 г. МХАТ поставил “Пиквикский клуб” по Ч. Диккенсу с декорациями и костюмами театрального художника П. В. Вильямса.
(обратно)578
Актрисе Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой в это время было 72 года, и в зрительном зале она появлялась чаще, чем на сцене. В театре Ольга Леонардовна оставалась до 1958 г.
(обратно)579
О. Н. Андровская исполняла роль леди Тизл.
(обратно)580
Panta rhei (греч.) – все течет.
(обратно)581
Село Яблунивка находится на берегу реки Рось в Белоцерковском р-не Киевской обл., в 15 км от Белой Церкви и в 95 км от Киева.
(обратно)582
Леонилла Рудкевич года через 2–3 покончила с собой (“от бессмыслицы жизни”). Впрыснула морфий, после этого, посидев около часу с гостями сестры, сказала, что хочет спать, тепло простилась со всеми, уснула и не проснулась. – Примеч. В.Г Мирович.
(обратно)583
Возраст кипариса (фр.).
(обратно)584
Братом-ослом называл свое тело св. Франциск Ассизский.
(обратно)585
Неточная цитата из стихотворения А. Н. Майкова “Fortunata («Счастливая»)” (1845).
(обратно)586
Пушкин А. С., “Евгений Онегин”, глава 6 (1823–1831).
(обратно)587
Августовская пуща – девственный хвойный лес на северо-востоке Польши (рядом с городом Августов) и западе Белоруссии в междуречье Немана и Вислы. В Первую мировую войну 12 сентября 1914 г. наступлением немцев на наши позиции на реке Неман началось Августовское сражение.
(обратно)588
Из стихотворения Ф. И. Тютчева “Весенняя гроза” ().
(обратно)589
Алексей Кузьмин-Тарасов.
(обратно)590
Залесский Борис Алексеевич.
(обратно)591
Кастальский Александр Дмитриевич, русский композитор, сочинял в том числе и духовную музыку.
(обратно)592
Бёкк Ричард Морис.
(обратно)593
Коваленский Александр Викторович.
(обратно)594
Константин Георгиевич Тарасов, сын Георгия Константиновича Тарасова.
(обратно)595
Приорова Екатерина Сергеевна – двоюродная сестра Н. Д. Шаховской-Шик.
(обратно)596
Сын Екатерины Сергеевны – Николай Николаевич Приоров, инженер-авиастроитель, директор вертолетного завода им. Н. И. Камова.
(обратно)597
“И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы (тела) небесные.” (Мф. 24:29–31).
(обратно)598
Лк. 23:46.
(обратно)599
Ин. 15:13.
(обратно)600
Угодский завод – село в Калужской области, недалеко от Малоярославца, на р. Угодка, притоке Протвы. Ныне г. Жуков.
(обратно)601
Шик Арсений Львович.
(обратно)602
Алексей Толстой “Я призываю к ненависти”. Статья опубликована 28 июля 1941 г. в газете “Правда” (№ 207 [8615]).
(обратно)603
Часть тетрадей была утрачена.
(обратно)604
Во время Великой Отечественной войны Малоярославец подвергся непродолжительной оккупации (18 октября 1941 г. был взят 19-й танковой дивизией вермахта и освобожден в ходе контрнаступления советских войск 2 января 1942 г.), в ходе ожесточенных боев город также сильно пострадал.
(обратно)605
Полиевктова Татьяна Алексеевна.
(обратно)606
“Тебе Самой оружие пройдет душу” (Лк. 2, 35).
(обратно)607
Ерденево, деревня в 9 км от Малоярославца.
(обратно)608
Шаховская Наталья Сергеевна.
(обратно)609
Шаховская Анна Дмитриевна – геолог, организатор музейного дела, деятель кооперативного движения. В 1937–1943 гг. работала в Москве в Институте геохимии и аналитической химии АН СССР, была личным референтом академика В. И. Вернадского. Основатель и первый хранитель (1953–1959) Мемориального кабинета-музея В. И. Вернадского в Москве в ГЕОХИ РАН. Принимала активное участие в подготовке к печати “Избранных сочинений” ученого в 5 т. (М., 1954–1960).
(обратно)610
Сиротинина Юлия Николаевна, сестра матери Н. Д. Шаховской.
(обратно)611
Сиротинина Клавдия Николаевна, сестра матери Н. Д. Шаховской.
(обратно)612
Роковой, фатальный (устар.).
(обратно)613
Г. Юхнов Калужской обл. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. город был оккупирован немецкими войсками 5 октября 1941 г. Освобожден 5 марта 1942 г. войсками Западного фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции.
(обратно)614
Константинович (в замужестве Мамчич) Софья Александровна, двоюродная сестра В. И. Вернадского.
(обратно)615
Лицо не установлено.
(обратно)616
Тарасова Ольга Георгиевна.
(обратно)617
Цитата из поэмы Н. А. Некрасова “Мороз Красный Нос” (1862–1863).
(обратно)618
Шаховская Наталья Сергеевна.
(обратно)619
Мк. 13:8.
(обратно)620
Москва оставлена (нем.).
(обратно)621
Неточная цитата: Пушкин А. С., “Евгений Онегин”, гл. 7.
(обратно)622
Цитата из стихотворения Ф. Н. Глинки “Москва” (1840).
(обратно)623
Неровный вольный ритм (итал.) – муз. термин.
(обратно)624
Чулкова Надежда Григорьевна.
(обратно)625
Пронин Василий Прохорович, в 1939–1944 гг. председатель исполкома Моссовета.
(обратно)626
Пушкин А. С., “Евгений Онегин”, гл. 6, XXI.
(обратно)627
Комаровская Антонина Владимировна.
(обратно)628
Малявин Филипп Андреевич (1869–1940) – русский живописец, создавший знаменитую серию “цветущих русских баб” с элементами стиля модерн.
(обратно)629
Беллона – в мифах древних римлян богиня войны (bellum – война, лат.). Считалась матерью (иногда сестрой или кормилицей) Марса и богиней подземного мира.
(обратно)630
Русакова (по мужу Еремеева) Галина Сергеевна, соученица Даниила Андреева. Долгая неразделенная юношеская любовь Д. Л. Андреева; оба они сохранили на всю жизнь глубокие дружеские отношения. Ей посвящен стихотворный цикл “Лунные камни”.
(обратно)631
Шестов Лев Исаакович.
(обратно)632
В поэме “Эпипсихидион” Шелли оплакал участь, прекрасной молодой итальянки Эмилии Вивиани, пожизненно заключенной в монастырь по указанию Ватикана. Звучание поэмы оптимистично. Любовь, по мнению поэта, “сильней, чем смерть”, ибо “она всему дает блаженство нового рождения”.
(обратно)633
Лицо не установлено.
(обратно)634
Бессарабов Борис Александрович.
(обратно)635
Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова “Завещание” (1840).
(обратно)636
Таманцева Рипсиме Карповна, с 1919 г. заведовала репертуарной конторой МХАТ, с 1924 г. – секретарь дирекции театра и личный секретарь Станиславского. Рипси – так ее называли мхатовцы. Прототип Августы Менажраки в “Театральном романе” М. А. Булгакова.
(обратно)637
Клясться и божиться (от старослав.).
(обратно)638
Красусская Софья Романовна.
(обратно)639
Цитата из стихотворения В. С. Соловьева “Бедный друг, истомил тебя путь…” (1887).
(обратно)640
Флобер Г. Письма (опубл. 1887–1893). Наряду с автопортретом самого Флобера переписка содержит наблюдения о людях и нравах эпохи Второй империи.
(обратно)641
Кузьмин-Тарасов Алексей Александрович, его жена Людмила Александровна, их дочь Елена.
(обратно)642
Из “Автобиографии” Д. Андреева 4 июня 1943 г.: “В октябре 1942 г. я был мобилизован. В продолжение полугода работал старшим писарем-машинистом Политотдела 196 КСД. После того как эта должность стала внештатной, я был переведен на аналогичную должность сначала в штаб КАД, затем в штаб 863 СП, наконец переброшен в команду погребения при Отделе тыла 196 КСД”.
(обратно)643
Неточная цитата из стихотворения Е. Гуро “Звенят кузнечики” (1012).
(обратно)644
Готовцева Евгения Сергеевна.
(обратно)645
Уже после смерти Михаила Булгакова МХАТ впервые поставил его пьесу “Последние дни (Пушкин)” (режиссеры В. Станицын и В. Топорков). Премьера спектакля состоялась 10 апреля 1943 г.
(обратно)646
Кузьмин-Тарасов Алексей.
(обратно)647
Усова Татьяна Владимировна. В автобиографии от 4 июня 1943 г. Д. Л. Андреев написал: “В настоящее время я женат на Татьяне Владимировне Усовой, научном сотруднике Института Геологии при Академии Наук СССР. Брак не зарегистрирован. Ввиду невозможности обмена комнат в военное время, мы живем на разных квартирах”. Т. Усова была репрессирована и осуждена на десять лет по делу Д. Л. Андреева.
(обратно)648
Готовцева (Смирнова) Евгения (Женя) Сергеевна.
(обратно)649
Смирнова Татьяна Сергеевна.
(обратно)650
Сологуб Ф., “Н. Г. Чулковой” (“Из Элизийской светлой дали.”, 1921). Сын Чулковых Володя умер в сентябре (?) 1020 г.
(обратно)651
Розанова Татьяна Васильевна, старшая дочь В. В. Розанова. Всю жизнь жила в Сергиевом Посаде. Сохранила рукописи отца. Написала воспоминания о нем “Будьте светлы духом”. М., 1999.
(обратно)652
Чтобы поесть (фр.).
(обратно)653
Йордис – главная героиня драмы Г. Ибсена “Северные богатыри, или Воители Хельге-ланде” (1857). Пьеса впервые поставлена на русской сцене в 1802 г.
(обратно)654
Неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского “Где сладкий шепот…” (1833–1834).
(обратно)655
Шик Сусанна Яковлевна, жена С. М. Шика.
(обратно)656
Разум (лат.).
(обратно)657
Пьеса французского драматурга Эжена Скриба “Стакан воды” (1840). В репертуаре филиала Малого театра комедия в 5 действиях шла с 15 января 1941 г.
(обратно)658
Церковь Илии Пророка (Ильи Обыденного) в Обыденском переулке (1702–1706 гг. Колокольня 1865–1868 гг.) – архитектор А. С. Каминский. Храм не закрыли после 1917 г. Колокола с храма были сброшены в 1930-е гг. В 1941 г. здание сильно пострадало от упавшей рядом бомбы, но было восстановлено и исправлено сразу же.
(обратно)659
Розанова (Верещагина, Соколова) Надежда Васильевна, младшая дочь В. В. Розанова. В книге Розанова “Опавшие листья” изображена под семейным прозвищем “Пучок”.
(обратно)660
Эничка Вилькина.
(обратно)661
Красюковка – территория в Сергиеве, включающая улицы Бульварная, Огородная и Полевая.
(обратно)662
Семья Александра Петровича Голубцова, доктора богословия, профессора московской Духовной академии жила в Сергиеве на Красюковке (угол Березового пер. и Огородной ул., дом сохранился). В семье было двенадцать детей, четверо из них посвятили себя служению Церкви. В их доме В. Г. Мирович с матерью и О. Я. Бессарабова жили некоторое время в 1921–1923 гг.
(обратно)663
В доме Быковых на Красюковке в Сергиеве В. Г. Мирович с матерью жила в 1923 г.
(обратно)664
Алексеева Мария Виссарионовна.
(обратно)665
Новые богатые, нувориши (фр.).
(обратно)666
Лундберг Евгений Германович.
(обратно)667
“Утренняя звезда”, стихи посвящены Эсфири Пинес, приятельнице А. Ф. Добровой. Хризалида. С. 202–204.
(обратно)668
Село Сенькино Тульской губернии Каширского уезда (до 1917 г.).
(обратно)669
Роман В. Я. Брюсова “Огненный ангел” (1907–1908).
(обратно)670
См. цикл В. Мирович “Орион”, посвященный М. В. Шику. Хризалида. С. 187–191.
(обратно)671
Письмо В. Г. Мирович матери из Ростова 19 апреля 1920 г., переписанное Ольгой Бессарабовой в свой дневник. (Дневники О. Бессарабовой, с. 309). “Мамочка, родимая моя, нужно ли говорить, как я потрясена письмом Лиса? Не сумею тебе описать того чувства вины, боли душевной и праведного суда Божьего над грехом всей моей жизни по отношению к тебе. Если хочешь снять с меня этот грех, обещай мне не противиться моему плану…
Я бы выехала и послезавтра, но мне важно получить платную командировку, разрешение хоть на небольшое количество припасов и обратный пропуск для тебя и для меня. Отдай мне остаток твоей жизни, как я хочу отдать на служение тебе остаток моей. Переезд не будет трудный, я об этом похлопочу. В Ростове мне обеспечена работа, на зиму обеспечено тепло, т. к. здесь останутся Скрябины, которые пользуются всякими привилегиями благодаря имени Скрябина. Посылаю с этим письмом 2 тысячи. Если можно будет приложить хоть немного белых сухарей, передам вместе с деньгами. Потерпи еще немного, еще одну недельку, мамочка, мама, и прости”.
(обратно)672
Хризалида. С. 204.
(обратно)673
Речь идет об отношениях В. Г. Мирович и доктора Лаврова.
(обратно)674
Николай Петрович Россов (настоящая фамилия Пашутин), актер-самоучка, известный русский трагик. Играл только роли классического репертуара. Написал пьесы “Орел в тенетах” (о Бакунине), “Соперник несравнимый” (о Бетховене), перевел “Гамлета” и несколько пьес В. Гюго, печатался в журналах “Театральное искусство”, “Рампа и жизнь” и др.
(обратно)675
Гоголь Н. В., “Выбранные места из переписки с друзьями”, (1847).
(обратно)676
Здесь ошибка памяти. История с изобретением Всеволода Бессарабова относится к 1922 г. (см. письмо В. Мирович О. Бессарабовой 1/14 января 1922 г. в кн.: Дневник О. Бессарабовой, с. 418–420). Через П. Г. Смидовича В. Г. Мирович достала для Всеволода рекомендацию к Г. М. Кржижановскому, возглавлявшему тогда Госплан. Николай Егорович Жуковский, основоположник современной аэродинамики, умер в 1921 г.
(обратно)677
Кор. 7, 31.
(обратно)678
Луначарский Анатолий Анатольевич, журналист. В ночь на 10 сентября 1943 г. шел на сторожевом катере № 036 в Новороссийск, чтобы написать ряд очерков для флотской печати, и героически погиб вместе с десантниками. Посмертно был награжден орденом Отечественной войны II степени.
(обратно)679
Ульянов Николай Павлович, советский живописец, театральный художник.
(обратно)680
“Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет” (Мф. 2:17, 18).
(обратно)681
Люся – невестка А. В. Романовой.
(обратно)682
Еккл. 7:24.
(обратно)683
Усадьба Исаака Шварцмана, отца Льва Шестова, находилась на Контрактовой площади (угол ул. Межигорской и бывшей Набережно-Никольской, ныне ул. Григория Сковороды). Застройка усадьбы не сохранилась. В начале 1930-х гг. на этом месте построили в стиле конструктивизма новый клуб пищевиков (архитектор Николай Шехонин) – теперь здесь Детский музыкальный театр. Киево-Братский Богоявленский монастырь разрушен в 1935 г.
(обратно)684
По всей видимости, тетради нашлись.
(обратно)685
Неточная цитата из исторической хроники У. Шекспира “Жизнь и смерть короля Джона” в пер. А. В. Дружинина (1899).
(обратно)686
Сиделка (фр.).
(обратно)687
В ряде стихотворений Елены Гуро отражена тоска по умершему сыну “Вильгельму Нотенбергу”. В действительности детей у нее не было.
(обратно)688
Никодим Святогорец (1749–1809) – афонский монах, богослов, переводчик сочинений Лоренцо Скуполи “Брань духовная” и “Невидимая брань” (в рус. пер. Феофана Затворника).
(обратно)689
Бессарабова Наталья Ивановна (урожд. Табах), художница, скульптор-керамист. С конца 1943 г. работала художником в лаборатории керамики и камня НИИ художественной промышленности в Москве. Способствовала возрождению гжельской и скопинской керамики. Первая жена художника В. Ф. Рындина. С 1922 по 1935 г. жена Б. А. Бессарабова.
(обратно)690
Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина “Под небом голубым страны своей родной.” (1825).
(обратно)691
Разрыв Лундберга с Л. Шестовым и эмиграцией случился после того, как в конце 1921 г. Лундберг уничтожил тираж брошюры Шестова “Что такое русский большевизм?”.
(Подробнее об этом см. в кн.: Русский Берлин 1921–1923, Paris – Москва, 2003. С. 29–32, и Владимир Белоус. Вольфила. Т. 2. М., 2005).
(обратно)692
М. В. Шик был расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой 27 сентября 1937 г. Родные узнали об этом только в 1991 г., а о месте казни – в 1994 г. Весной 1994 г. там был установлен Большой Поклонный крест – по проекту скульптора Д. М. Шаховского, сына М. В. Шика и Н. Д. Шаховской. Там же по его проекту был воздвигнут деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских.
(обратно)693
Намек на брата В. Г. Мирович – Николая Малахиева, который был женихом Ольги Бессарабовой.
(обратно)694
Хризалида. С. 287.
(обратно)695
Жуковский В. А., “Выбор креста (Из Шамиссо)” (1845).
(обратно)696
Оратория Ф. Мендельсона “Илия” (1846) была создана на тексты Священного Писания.
(обратно)697
В усадьбе “Грачевка” в Ховрино с 1937 г. находилась Московская областная клиника физических методов лечения, ныне Московский областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации.
(обратно)698
Дворец Дориа-Турси (палаццо Муниципале) в Генуе был заложен в 1564 г. Сейчас это здание занимают одновременно Муниципалитет и местный Музей изобразительных искусств.
(обратно)699
Балаховская (в браке Давыдова) Татьяна Григорьевна, сестра Д. Г. Балаховского.
(обратно)700
Шлем Мамбрина – таз для бритья. Мамбрин – персонаж поэмы “Влюбленный Роланд” Боярдо (XV в.), мавританский король. Дон Кихот принял медный таз, надетый на голову цирюльника, за шлем Мамбрина и самого цирюльника за короля.
(обратно)701
Полусвет (фр.).
(обратно)702
Павлович Надежда Александровна, писательница, поэт, близкий друг А. Блока.
(обратно)703
Карточки, устанавливающие нормы потребления основных продовольственных товаров, дифференцировались по категориям населения. “Энэровские” карточки от НР – научный работник.
(обратно)704
Усова Мария Васильевна, мать Татьяны Усовой, педагог, переводчица. Переводила с французского Рембо, Верлена, Верхарна, Бодлера и др., с немецкого Гёльдерлина, Рильке.
(обратно)705
Стихотворение В. Мирович “Во дни Содома и Гоморры”. См. “Хризалида”. С. 285.
(обратно)706
Булгурлу – гора на малоазиатском берегу Босфора, при его повороте в Мраморное море. У ее подошвы расположен город Скутари (азиатская часть Константинополя, по-турецки Искюдар), на месте древнего Хрисопола, близ которого Константин Великий одержал победу над Лицинием.
(обратно)707
Сидоров Сергей Алексеевич (протоиерей Сергий). С 1923 по 1925 г. служил в церкви Петра и Павла в Сергиеве.
(обратно)708
“Любовный суд” или “суд любви” (фр.) – средневековая куртуазная игра, имевшая форму суда, во время которого рыцари и дамы поэтически состязались в обсуждении тонких любовных вопросов.
(обратно)709
Домработница Тарасовых.
(обратно)710
Слова из басни И. А. Крылова “Плотичка” (1819).
(обратно)711
Мансуровы Сергей Павлович и Мария Федоровна.
(обратно)712
В Упанишадах – древнеиндийском философском трактате – сказано: “Все существующее есть порождение радости”. Р. Тагор в центре мироздания ставит радость.
(обратно)713
Янушевская Мария Васильевна, киевская приятельница Тарасовых. В Москве жила на ул. Воровского (Поварской), д. № 28.
(обратно)714
Янушевский Диодор Михайлович, инженер-строитель, был арестован 28 февраля и 25 апреля 1938 г. расстрелян в Коммунарке Московской обл.
(обратно)715
Миллер (Бирукова) Нина Всеволодовна умерла в августе 1944 г.
(обратно)716
Беклемишева Вера Евгеньевна умерла в 1944 г.
(обратно)717
Третий муж А. К. Тарасовой – Пронин Александр Семенович, генерал авиации.
(обратно)718
Слова из покаянной молитвы Ефрема Сирина.
(обратно)719
Собака Тарасовых.
(обратно)720
Речь о книге Т. Л. Щепкиной-Куперник “О М. Н. Ермоловой” (1940).
(обратно)721
Неточная цитата из воспоминаний А. Белого “На рубеже двух столетий” (1930): “Дети рубежа двух столетий: два поколения, два типа детей: сыны и “сынки” <…> появляются квартирки, кружочки, к которым ведут протоптанные стези, – одинокие тропки среди сугробов непонимания <…>”.
(обратно)722
О. Порфирий – иеромонах, игумен, старец и духовник Черниговского и Гефсиманского скитов в Сергиеве.
(обратно)723
Цитата из рассказа И. С. Тургенева “Лес и степь” (1849).
(обратно)724
Ветер с Кавказа. Впечатления. [С предисловием автора.] 1928.
(обратно)725
Неточная цитата из стихотворения В. Брюсова “Одиночество” (1907).
(обратно)726
Людмила Александровна Кузьмина-Тарасова.
(обратно)727
Предчувствие Варвару Григорьевну не обмануло. По “делу Даниила Андреева” после его ареста (23 апреля 1947 г.) была арестована Татьяна Усова (август 1947 г.). 30 октября 1948 г. она была приговорена к 10 годам заключения в ИТЛ. Ее мать, Мария Васильевна, не дожив до приговора, умерла в 1948 г. Ирина Усова успела уехать из Москвы, и ее не стали разыскивать.
(обратно)728
Как днем (итал.).
(обратно)729
Роман В. Гюго “Отверженные” (1862).
(обратно)730
Галядкин Андрей Дмитриевич, муж Е. Н. Бируковой, отбывал заключение с 1940 по 1945 гг. в Унженских лагерях (Унжлаг) – Сухобезводное и Лапшанг Горьковской обл.
(обратно)731
Вероятно, речь идет о поэте Олеге Горбове, герое романа Даниила Андреева “Странники ночи”, рукопись которого была изъята при обыске в апреле 1947 г.
(обратно)732
По официальным данным, от атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи.
(обратно)733
С. Цвейг “Звездные часы человечества” в первом рус. пер. “Роковые мгновения” (1927).
(обратно)734
Скотт Роберт (1862–1912), полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса.
(обратно)735
Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского “Смерть” (1829).
(обратно)736
Анна Александровна Бруни (Полиевктова) и ее дочери. В ноябре 1937 г. муж Анны Александровны Николай Бруни был во второй раз арестован, всю семью выслали в Малоярославец. Во время оккупации она работала переводчицей у немцев, затем была увезена вместе с детьми в Германию. После возвращения домой в 1945 г. арестована, получила 10 лет лагерей. Вернулась в 1955 г. сломленная и больная. Умерла в 1957 г.
(обратно)737
Хмелёв Николай Павлович умер во время генеральной репетиции спектакля “Трудные годы” А. Н. Толстого, в котором исполнял роль царя Ивана Грозного.
(обратно)738
Легендарного основателя буддизма Сиддхартху Гаутаму в детстве оберегали от знаний о человеческих страданиях и смерти.
(обратно)739
Михальский Федор Николаевич.
(обратно)740
Ф. А. Добров умер 23 апреля 1941 г. (см. запись от 23–28 апреля 1941 г. – с. 438–443).
(обратно)741
Речь идет об Ольге Бессарабовой.
(обратно)742
Радуйся, подлинная чистота (лат.).
(обратно)743
Имение Ольги Алексеевны Челищевой (урожд. Хомяковой) – сельцо Федешево Каширского уезда Тульской губернии.
(обратно)744
О поездке Шестова к Толстому см. в кн.: Н. Б-Ш. Жизнь Л. Ш. Т. 1, с. 105–110: “Он поехал в Ясную Поляну 2 марта 1910 г. (о разрешении приехать в Ясную Поляну запрашивала Толстого друг Шестова – писательница В. Г. Малахиева-Мирович). Еще в 1900 или 1901 г. Шестов послал Толстому свою книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше». Л. Н. Толстой записал в свой дневник 2 марта 1910 г.: «Приехал Шестов. Мало интересен – «литератор» и никак не философ”. (Толстой, т. 58, с. 21).
(обратно)745
Ильинская Екатерина Владимировна, родная сестра Нины Владимировны, жены Георгия Владимировича Вернадского; в 1931 г. сослана в Сибирь по религиозным убеждениям (баптистка). После освобождения жила в семье В. И. Вернадского. Скончалась в Тарусе в 1962 г.
(обратно)746
Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова “Как в ночь звезды падучей пламень…” (1832).
(обратно)747
Ватагин Василий Алексеевич, биолог, художник-анималист, скульптор – рисовал, лепил, вырезал из дерева и камня зверей. Иллюстрировал научные издания и детские книги, среди них “Маугли” Р. Киплинга (1926) и собственную книгу – “Изображение животного. Записки анималиста”, впервые опубликованную в 1957 г. Последнее издание – “Образ животного в искусстве” (М., 2004).
(обратно)748
Шергин Борис Викторович, писатель, фольклорист, публицист и художник. Родился в Архангельске. В Москву приехал в 1922 г.; работал в Институте детского чтения Наркомпроса, выступал с рассказами о народной культуре Севера с исполнением сказок и былин, в основном перед детской аудиторией.
(обратно)749
Дом в Дурновском переулке на Арбате, где 6 января 1945 г. умер В. И. Вернадский. Его библиотеку и архив разбирала А. Д. Шаховская, личный секретарь.
(обратно)750
Н. А. Бердяев. Смысл творчества (опыт оправдания человека). М., 1916.
(обратно)751
Цитата из церковнославянского текста Библии: “Вкушая, вкусих мало меду, омочив конец жезла, иже в руку моею, и се аз умираю”. (1 Цар. 14: 43 – слова Ионафана). Перевод на современный русский язык: “.я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду; и вот я должен умереть”.) Эпиграф к поэме М. Ю. Лермонтова “Мцыри” (1839).
(обратно)752
Романс П. И. Чайковского (1869) на слова Л. А. Мея (1858) “Отчего?”.
(обратно)753
Притча о блудном сыне (Лк. 15:11–32).
(обратно)754
Здесь, вероятно, речь идет об Алле Андреевне, жене Даниила Андреева.
(обратно)755
Мое бедное дитя, что с ним сделали! (нем.).
(обратно)756
Чернышева (по мужу Ершова) Ольга Михайловна, училась во ВХУТЕМАСе вместе с Верой Мухиной, скульптор. Выполняла специальные задания для действующего Военно-морского флота. В Загорске жила на углу Бульварной улицы и Березового переулка, дом 22/2 по Березовому переулку.
(обратно)757
Елена Гуро.
(обратно)758
“Памяти Елены Гуро” В. Г. Малахиевой-Мирович. 1-13 июня 1922 г. Сергиев.
(обратно)759
Муж Елены Гуро – Михаил Васильевич Матюшин, художник, композитор, скрипач.
(обратно)760
“На каменную балюстраду”. В. Г. Малахиевой-Мирович. Сергиев. 1921 г.
(обратно)761
“В одном из альбомов (1908–1910) находятся рисунки М. В. Матюшина, среди них два наброска карандашом портрета Елены. <…> В альбомах много автопортретов, еще больше портретов Матюшина, портреты писательницы В. Г. Малахиевой (Мирович). <…> См. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома за 1974 г.
(обратно)762
Башня из слоновой кости, башня чистая (лат.).
(обратно)763
Пьеса Оскара Уайльда “Идеальный муж” (1895) поставлена на сцене МХАТ в 1946 г. режиссером И. Я. Гремиславским.
(обратно)764
Джеймс У. Зависимость веры от воли. СПб., 1904.
(обратно)765
Горе одинокому (лат.).
(обратно)766
Красусская Софья Романовна.
(обратно)767
11 апреля 1919 г. в Троице-Сергиевой лавре были вскрыты мощи преподобного Сергия Радонежского. В 1920 г. на территории Лавры был организован историко-архитектурный музей. В 1929 г. были закрыты последние скиты близ Лавры и сброшены колокола. В течение 1946–1947 гг. государство возвращало мощи святых. Мощи преподобного Сергия были переданы наместнику по акту вечером 20 апреля 1946 г. и перенесены в Успенский собор.
(обратно)768
“Пошехонская старина” (1888) – последнее произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина, посвящено жизни помещичьей семьи в усадьбе при крепостном праве.
(обратно)769
В 1941 г. погибли сыновья Фаворских – старший Никита, художник-гравер, и семнадцатилетний Иван, художник.
(обратно)770
Имеется в виду Эдуард Карпентер, английский писатель и философ, “Любовь и смерть” (прижизненное издание – Петроград, 1915 г.). В публичной лекции “Гомогенная любовь и ее значение в свободном обществе” (1894) открыто выступил в защиту однополой любви.
(обратно)771
Каннабих Юрий Владимирович, советский психиатр. В 1909–1917 гг. заведовал медицинской частью подмосковного санатория “Крюково”, который был ориентирован на лечение различных пограничных состояний.
(обратно)772
Хоть и далеко не со всеми мыслями. И даже в магистрали их расхождение: для него первоисточник, первопричина – атом, электрон с протонами, клеточка. – Примеч. В. Г Мирович.
(обратно)773
Мощи святой великомученицы Варвары хранились в Киеве в Златоверхом Михайловском соборе, а после его разрушения в 1930-х гг. были перенесены во Владимирский собор. Считалось, что кольца с ее руки (или просто из раки) приносят счастье.
(обратно)774
Митрополит Гурий (в миру – Вячеслав Михайлович Егоров) – епископ Русской Церкви. С 1945 г. – почетный настоятель Ильинской церкви в Загорске. В 1945–1946 гг. – наместник вновь открытой Троице-Сергиевой лавры. На этом посту активно восстанавливал монашеские традиции.
(обратно)775
Правильно: в Выдубичах. Выдубичи – урочище на южной окраине старого Киева (на территории исторической местности Зверинец).
(обратно)776
Выдубицкий мужской монастырь основан между 1070 и 1077 гг. Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого. Являлся семейным монастырем сына Всеволода Владимира Мономаха и его потомков. В конце XVII в. на территории монастыря построена Георгиевская церковь, поэтому монастырь иногда называют Выдубицкий Свято-Георгиевский монастырь. Ныне действует.
(обратно)777
Соловьева Поликсена Сергеевна, поэтесса, дочь историка С. М. Соловьева.
(обратно)778
Манасеина Наталья Ивановна, детская писательница. Манасеину и Соловьеву связывали многолетняя дружба и сотрудничество в издательстве и журнале “Тропинка”.
(обратно)779
Извращенный характер (фр.).
(обратно)780
Возможно, перевод К. Д. Бальмонта. Эпипсихидион: [Перевод поэмы П. Шелли] // Русская мысль. 1805. № 11. С. 28–55.
(обратно)781
“Скажи, любила ль ты, волшебное созданье, / погибших навсегда? Скажи, видала ль ты / непоправимого бесплодные страданья” – неточная цитата их стихотворения Ш. Бодлера “L'Irreparable” (“Непоправимое”, пер. с фр. Эллиса).
(обратно)782
Рыбальская улица в Киеве существует и теперь, дом не сохранился.
(обратно)783
Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина “Портрет” (1828).
(обратно)784
Гедике Александр Федорович (1877–1957), русский композитор немецкого происхождения, пианист, органист. Исполнил все органные произведения И. С. Баха.
(обратно)785
Татаринова Александра Павловна, переводчица, секретарь редакции журнала “Русская мысль”. В. Я. Брюсов, вдохновленный ее образом, написал обращенное к ней стихотворение “Женский портрет” (ранее называвшееся “Портрет”), впервые напечатанное в журнале “Русская мысль” (1913. № 10. С. 1). Автограф стихотворения был приложен к письму В. Я. Брюсова к А. П. Татариновой от 8 сентября 1913 г. (РГАЛИ. Ф. 56, оп. 3, ед. хр. 29).
(обратно)786
Виноградов Анатолий Корнелиевич, писатель-биограф, романист. В состоянии безумия покончил с собой 26 ноября 1946 г.
(обратно)787
“Да отступят сны и призраки” – неточная цитата или отсылка к гимну св. Антония Те Lucis ante terminum.
(обратно)788
Пьесу Николая Погодина “Кремлевские куранты” МХАТ показал впервые в эвакуации в Саратове 22 января 1942 г. Постановка В. И. Немировича-Данченко.
(обратно)789
Калмыкова Екатерина Павловна.
(обратно)790
Герцык А. К., “Осень” (не позднее 1907 г.).
(обратно)791
Чулкова Надежда Григорьевна.
(обратно)792
В пол-листа (лат.).
(обратно)793
То, чем можно пожертвовать (фр.).
(обратно)794
Иван Алексеевич Новиков в 1897–1901 гг. учился в Москве в Петровской академии на агронома. Окончив академию, работал в киевской агрономической лаборатории ученым-агрономом первого разряда, был редактором журнала “Земледелие” и секретарем Киевского общества сельского хозяйства. В Киеве он написал два романа (“Из жизни духа” 1906 г., “Золотые кресты”, 1908 г.), несколько пьес, стихи, выпущены первые книги рассказов. Сборник рассказов “К возрождению”, изданный в это время в Киеве, был уничтожен по постановлению суда.
(обратно)795
Неточная цитата из Екклезиаста: “Далеко то, что было, и глубоко-глубоко: кто постигнет его?” (Еккл. 7-24).
(обратно)796
Мансурова Мария Федоровна.
(обратно)797
Я – раба Господня (лат.).
(обратно)798
Речь идет, вероятно, о Екатерине Вячеславовне Менжинской, дочери В. Р. Менжинского, государственного и партийного деятеля. Е. М. Шик в “Воспоминаниях об отце” (“Альфа и омега”, № i (12). 1997) пишет: “<…> О. Михаил служил дома, конспиративно (антиминс у него был), принимая приезжавших из Москвы духовных детей. Среди них я помню <…> Е. В. Менжинскую (да, дочь «того самого» Менжинского) <…>”. Отсюда следует, что Екатерина Вячеславовна была близка семье Шаховских. Дневниковая запись от 5 февраля 1947 г. уточняет дату ее смерти, указанную неверно (1942) в некоторых источниках.
(обратно)799
Шик Михаил Владимирович.
(обратно)800
Речь о семье Веселовских.
(обратно)801
Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева “В Альпах” (1886).
(обратно)802
Возможно, перекликается со строками из стихотворения Ф. Сологуба “На меня ползли туманы.” (1807).
(обратно)803
Евгения Петровна, мать Игоря Ильинского.
(обратно)804
См. в предисловии об Ольге Бессарабовой.
(обратно)805
Г. Чулков. Годы странствий. Воспоминания. М., 1930.
(обратно)806
Вероятно, это была последняя встреча перед арестом Даниила Андреева 23 апреля 1947 г.
(обратно)807
Алла Андреевна Андреева.
(обратно)808
Из стихотворения Г. Гейне “Лотос”: “На листах душистых блещет / Чистых слез его роса, / И любовью он трепещет, / Грустно глядя в небеса”. (Пер. М. Л. Михайлова, <1853>.)
(обратно)809
Карева Мария, двоюродная сестра В. Г. Мирович.
(обратно)810
Приходят и уходят (фр.).
(обратно)811
Бируковы.
(обратно)812
Призраки (лат.).
(обратно)813
Постановка М. Н. Кедрова, Н. Н. Литовцевой, И. Я. Судакова. В роли Елены Андреевны – А. К. Тарасова.
(обратно)814
Шестов Лев Исаакович.
(обратно)815
Л. ван Бетховен. In questa tomba oscura: В могиле темной и тесной / Я обрел свой покой; / Мертвым тебе я стал дорог, / В гробу любим тобой. (Пер. с ит. А. Глобы.)
(обратно)816
Роман Р. Роллана (1904–1912).
(обратно)817
Постановка В. И. Немировича-Данченко (1940). В поли Маши – А. К. Тарасова.
(обратно)818
“Воспоминания о В. А. Серове” вышли только в 1964 г.
(обратно)819
12 Ошибка памяти: летом 1920 г.
(обратно)820
Политова Анна Иосифовна, оперная певица.
(обратно)821
Тверской бульвар.
(обратно)822
Зеленина Маргарита Николаевна, урожд. Шубинская, дочь актрисы М. Н. Ермоловой; переводчица пьес, автор воспоминаний.
(обратно)823
Во второй раз А. Д. Галядкин был арестован в 1947 г. по “делу Даниила Андреева”.
(обратно)824
Шаховская Н. Д. Майкл Фарадей: повесть о жизни и трудах маленького переплетчика, ставшего великим ученым. М.; Л., 1947.
(обратно)825
Ин. 14:27.
(обратно)826
Неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона “В. П. Г-вой” (“Испытывал ли ты, что значит задыхаться.”) (1884).
(обратно)827
В декабре 1925 г. М. В. Шика арестовали “по делу митрополита Петра” (митрополит Крутицкий Петр после кончины патриарха Тихона избрал путь бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу. Расстрелян в сентябре 1937 г.). Полгода М. В. Шик сидел в тюрьме, затем был отправлен в административную ссылку в г. Турткуль (Туркестан). 12 июня 1927 г. принял сан священника. Вернулся домой в начале 1928 г.
(обратно)828
Мансурова Мария Федоровна.
(обратно)829
Гуро Е., “Звенят кузнечики” (1912).
(обратно)830
Клиника психиатрии им. С. С. Корсакова – старейшее московское лечебное психиатрическое учреждение.
(обратно)831
Чулкова Надежда Григорьевна.
(обратно)832
Разумеется, даже это заставит вас поверить и сделает вас дураком (фр.).
(обратно)833
В этом фрагменте подчеркивания и вопросительные знаки в рукописи сделаны другими чернилами – позже или другим человеком (возможно, Ольгой Бессарабовой).
(обратно)834
Херн Патрик Лафкадио (1850–1905) – ирландско-американский прозаик, переводчик, востоковед, специалист по японской литературе.
(обратно)835
Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова “Воздушный корабль. (Из Зейдлица)”(1840).
(обратно)836
Дидрахма (две драхмы) – греческая серебряная монета, ежегодная подать на храм.
(обратно)837
Фея из сказки Г. Гауптмана “Потонувший колокол” (1896).
(обратно)838
Т. В. Усова была арестована по “делу Даниила Андреева”. Срок отбывала в Тайшетских лагерях с августа 1947 по январь 1956 г. После реабилитации работала в Институте мерзлотоведения вместе с академиком В. А. Обручевым.
(обратно)839
Село недалеко от Золотоноши. – Примеч. В. Г Мирович.
(обратно)840
Дело происходило в семье сахарозаводчика Балаховского, где я в молодости была один год гувернанткой, а в 1918 г. они во время войны с Петлюрой, с немцами и т. д. приютили у себя часть интеллигенции, не успевшей эвакуироваться. – Примеч. В. Г Мирович.
(обратно)841
Балаховская Евгения Даниловна (в замужестве Пресс).
(обратно)842
Балаховский Георгий Данилович, его жена – Надежда Черноярова.
(обратно)843
Исх. 20:2.
(обратно)844
Лермонтов М. Ю., “Пророк” (1841).
(обратно)845
Неточная цитата из “Северной симфонии” (1-я, героическая) А. Белого (1900).
(обратно)846
Племянница М. Ф. Мансуровой – Комаровская Антонина Владимировна, дочь графа Владимира Алексеевича Комаровского и Варвары Федоровны Комаровской (урожд. Самариной), родной сестры Марии Федоровны, отбывала ссылку в г. Уржуме Кировской обл.
(обратно)847
Полная покорность судьбе, безропотное смирение.
(обратно)848
“Свидетельство бедности” (лат.) – признание слабости и несостоятельности в чем-либо.
(обратно)849
21 декабря 1947 г. состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся в Российской Федерации, Украине, Армении, Молдавии, Карело-Финской ССР.
(обратно)850
Неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого “То было раннею весной.” (1871).
(обратно)851
В. Фигнер написала мемуары “Запечатленный труд” в 3 тт.
(обратно)852
Неточная цитата из романса М. Глинки на стихи П. Рындина (1843).
(обратно)853
Горная вершина в Швейцарии.
(обратно)854
Затеплинская Валерия Станиславовна.
(обратно)855
Усова Мария Васильевна, мать Татьяны Усовой.
(обратно)856
Бруни Лев Александрович умер в Москве 26 февраля 1948 г.
(обратно)857
Веселитская Лидия Ивановна (псевд. В. Микулич, Л. Чернавина), русская писательница, мемуарист. переводчик. “Мимочка” (СПб., 1892), “Зарницы” (Северный вестник. 1894. № 1–4).
(обратно)858
Первая жена – Ильинская Татьяна Ивановна, комедийная актриса, умерла во время войны (1944) от тифа. Смерть жены заставила Ильинского потерять интерес и к творчеству. Он взял бессрочный отпуск и почти на два года ушел из Малого театра. Вернулся в 1948 г.
(обратно)859
В раннем детстве И. Ильинский, под впечатлением посещения театров, открыл свой “театр”. Назвал его “Киу-Сиу”. Играл трагедию собственного сочинения. Действующими лицами были два героя: Мирольф и Геруа.
(обратно)860
Цар. 19:12.
(обратно)861
Весной – осенью 1947 г. по “делу Даниила Андреева” были арестованы Даниил Андреев, его жена Алла Андреева, Татьяна Усова, Александр Коваленский, его жена Шурочка Доброва, Александр Добров и его жена Галина Хандожевская – и многие другие.
(обратно)862
Софокл. Трагедии / Софокл; пер. с древнегреч. С. В. Шервинского, ред. и примеч. Ф. А. Петровского. М., 1954. Имя Е. Н. Бируковой в этом и в последующих изданиях не значится.
(обратно)863
Ошибка: автор пьесы “Кремлевские куранты” – Николай Погодин. МХАТ впервые показал пьесу в эвакуации в Саратове 22 января 1942 г.
(обратно)864
Похьёла, Сариола (темное царство) – в финской и карельской мифологии северная страна, иной мир (“страна людоедов”, “злая страна”).
(обратно)865
Блаженное одиночество (итал.).
(обратно)866
Аженор Клерамбо, поэт и ученый, герой романа Р. Роллана “Клерамбо” (1920).
(обратно)867
Сиделка (фр.).
(обратно)868
Речь идет о Сергее Павловиче Мансурове, священнике Русской православной церкви, историке церкви, умершем 2 марта 1929 г. в Верее.
(обратно)869
Хибарка (фр.).
(обратно)870
Епифанова Татьяна Дмитриевна, сотрудница Гослитиздата.
(обратно)871
Муж Евгении Бируковой – Галядкин Андрей Дмитриевич.
(обратно)872
В намерениях (нем.).
(обратно)873
Пьеса Г. Ибсена “Брандт” (1865) была поставлена на сцене МХТ в 1906 г. с В. И. Качаловым в главной поли.
(обратно)874
Усова Мария Васильевна.
(обратно)875
Листопадов Сергей Львович, побочный сын Л. И. Шестова и Анны Листопадовой, горничной семьи Шварцманов. Окончил реальное училище, зарабатывал уроками. С 1912 г. входил в круг друзей Бориса Пастернака (упоминается в “Охранной грамоте”). В 1914 г. ушел на фронт вольноопределяющимся, дослужился до прапорщика, получил два Георгиевских креста. Погиб не позднее января 1916 г., что следует из письма В. Г. Малахиевой-Мирович матери от 24 января 1916 г.: “Иду к «Нечаянной радости». Надежда Сергеевна просила отслужить панихиду по Сереже (сыну Л. И. Шестова)”. (См.: М. Цветаева – Б. Бессарабов. Дневники Ольги Бессарабовой. 1915–1925. М., 2010. С. 105).
(обратно)876
Речь о Татьяне Владимировне Усовой, отбывающей срок в лагерях.
(обратно)877
Пушкин А. С., “Пир во время чумы” (1830). Последняя строка неверно: “Их обретать и ведать мог”.
(обратно)878
Новикова-Принц Ольга Максимовна, жена писателя И. А. Новикова.
(обратно)879
Шик Михаил Владимирович.
(обратно)880
Никольская Александра Ивановна.
(обратно)881
Няня в семье Бируковых.
(обратно)882
Ignorabimus et ignorabimus (лат.) – не знаем и не узнаем.
(обратно)883
Неточная цитата: Л. Толстой, “Исповедь”, гл. 9. // Собр. соч. в 22 т. Т. 16.
(обратно)884
Александровская (открыта в 1875 г., ныне Центральная городская клиническая) больница в Киеве находится недалеко от Бессарабской площади (Бессарабки).
(обратно)885
Евгения Бирукова была арестована 31 марта 1949 г. и приговорена к пяти годам ИТЛ.
(обратно)886
Стихотворение немецкого поэта А. Шамиссо (1834).
(обратно)887
Лермонтов М. Ю., “Демон” (1838).
(обратно)888
Евр. 13:14.
(обратно)889
12 марта 1950 г. проходили выборы в Верховный Совет СССР.
(обратно)890
Гогоберидзе-Лундберг Елена Давыдовна.
(обратно)891
Пепа – домашнее прозвище Бориса Ильича Збарского.
(обратно)892
Лундберг Евгений Германович.
(обратно)893
Дом построен в 1930-х гг., существует и поныне – ул. Новогиреевская, 7.
(обратно)894
Строка из стихотворения Г. Гейне “Азр” (1851).
(обратно)895
Дервиз Елена Владимировна.
(обратно)896
В. Г. Мирович жила в то время в доме Голубцовых в Сергиеве.
(обратно)897
Поскольку души объединены любовью и слиты во Всеединстве (и в Отчей любви), ни для одной души нет ничего постыдного и унизительного ощутить себя на низшей ступени, как ощутила ведь я себя по отношению к о. Анатолию, – потом к Наташе (матери “детей моих”), к Ирис, в последний месяц нашего общения, еще к двум, трем лицам на протяжении всей жизни. – Примеч. В. Г Мирович.
(обратно)898
Речь о Данииле Андрееве.
(обратно)899
“Пещное действо” – название древнего русского церковного обряда с элементами театрализованного представления, совершавшегося в предпоследнее или последнее воскресенье перед Рождеством в XVI–XVII вв.
(обратно)900
Неточная цитата из стихотворения “Я лег и спал – так сладко спал” Г. Гейне в пер. Л. А. Мея (1858).
(обратно)901
Веретенникова Инна Петровна.
(обратно)902
Бутова Надежда Сереевна.
(обратно)903
Эйгес Олег Константинович.
(обратно)904
Олечка приезжала ко мне на “именины” часа на два. – Примеч. В. Г.
(обратно)905
Совершенно не помню где. И, по-моему, это язык описания природы Лисика. – Примеч. В. Г Мирович.
(обратно)906
Не знаю, о каких временах идет речь. – Примеч. В. Г Мирович.
(обратно)907
“Я говорю бабушке: за что вы так ее не любите? Она хорошая. А бабушка говорит: прежде она была правда хорошая. А теперь с ней только возня”. – Примеч. В.Г Мирович.
(обратно)908
А. М. Эфрос. Профили. М., 1930.
(обратно)909
Неточная цитата из стихотворения В. Брюсова “В ответ П. П. Перцову” (1902).
(обратно)910
Эйгес Екатерина Петровна.
(обратно)911
Ильинская Екатерина Владимировна.
(обратно)912
Никольская Александра Ивановна. У В. Г. Мирович это “вторая” Сольвейг.
(обратно)913
А. И. Куприн приехал в Киев осенью 1894 г., сотрудничал в газетах “Киевское слово”, “Жизнь и искусство”, с февраля 1895 г. – в газете “Киевлянин”. Более сорока рассказов, составивших книги “Киевские типы” (1896) и “Миниатюры” (1897), были изданы в Киеве.
(обратно)914
Хризалида. С. 428.
(обратно)915
Тарасова Ольга, дочь Юрия (Георгия) Тарасова.
(обратно)916
“Фея Фантаста” – сказка Н. П. Вагнера, “русского Андерсена”. Николай Петрович Вагнер, ученый-зоолог, автор беллетристических произведений под общим названием “Повести, сказки и рассказы Кота-Мурлыки” (Собр. соч. в 7 т., СПб., 1890-99). С 1990-х гг. “Сказки Кота-Мурлыки” неоднократно переиздавались.
(обратно)917
Лицо не установлено.
(обратно)918
Речь об отношениях Ольги Веселовской с дочерью.
(обратно)919
Беккер Эдди Мэри (1821–1910), основательница секты “Христианская Наука”, автор книги “Наука и Здоровье с ключом к Священному Писанию” (1875), о новом способе лечения, основанном на особом понимании Библии.
(обратно)920
Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина “Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…” (1834).
(обратно)921
Бруни-Трещалина Алла Николаевна, Бруни Татьяна Николаевна.
(обратно)922
См. повесть А. И. Герцена “Записки одного молодого человека” (1840).
(обратно)923
Нина Константиновна Тарасова умерла.
(обратно)924
Ветхий денми (ветхий днями) – символическое иконографическое изображение Иисуса Христа в образе седовласого старца.
(обратно)925
Неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина “Полтава” (1828–1829): “Сегодня покидая свет, / Питайся мыслию суровой”.
(обратно)926
Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич.
(обратно)927
Пьеса Лопе де Вега. “Фуэнте Овехуна” (“Овечий источник”), 1619.
(обратно)928
Ошибка В. Г. Мирович, город находится в Псковской губернии.
(обратно)929
Красусская Софья Романовна.
(обратно)930
Чулкова Надежда Григорьевна.
(обратно)931
Янушевская Мария Владимировна.
(обратно)932
Имеются в виду мемуары Л. А. Авиловой “А. П. Чехов в моей жизни” (1940).
(обратно)933
В марте 1953 г. проведена всеобщая амнистия – выпущено из тюрем более 1 миллиона 200 тысяч заключенных. Е. Н. Бирукова реабилитирована и восстановлена в СП СССР (см. документы личного дела Бируковой Е. Н. в архиве Отдела творческих кадров СП России). Умерла 1 января 1986 г. в Москве.
(обратно)934
Сын Е. Н. Бируковой и А. Д. Галядкина.
(обратно)935
Комаровская Антонина Владимировна.
(обратно)936
Мансурова Мария Федоровна.
(обратно)937
Софья Григорьевна Балаховская-Пети умерла в Париже в июне 1966 г., похоронена на кладбище Пасси.
(обратно)938
Пушкин А. С., “Воспоминание” (1828).
(обратно)939
Некрасов Н. А., “Одинокий, потерянный.” (1861).
(обратно)940
Пьеса А. М. Якобсона “Ангел-хранитель из Небраски” (МХАТ, 1953 г., реж. Г. Г. Конский). Галина Калиновская – в роли г-жи Ивенсен.
(обратно)941
Вяземский П. А., “Петербургская ночь” (1840).
(обратно)942
Каждому свое (лат.).
(обратно)943
Последняя запись в тетради сделана рукой Ольги Бессарабовой. Прах В. Г. Малахиевой-Мирович покоится на Введенском кладбище. Впоследствии рядом с могилой Варвары Григорьевны была похоронена семья Тарасовых. – Примеч. Н.Г.
(обратно)

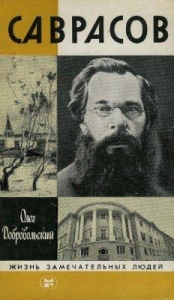
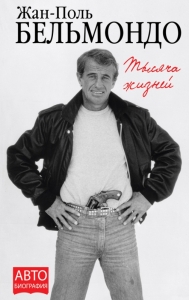

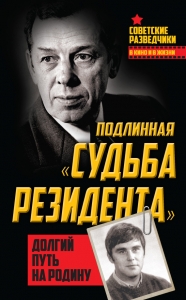
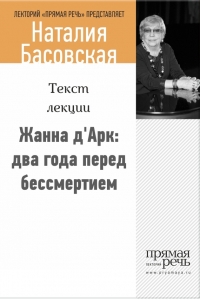

Комментарии к книге «Маятник жизни моей… 1930–1954», Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович
Всего 0 комментариев