О. И. Грабарь Непобедимые гуманисты
Непобедимые гуманисты
© О. И. Грабарь, 2008.
© ООО «КМК», 2008.
* * *
Человек ренессанса
Когда заходит речь об Игоре Грабаре, часто задают вопрос – как мог один человек столько сделать за свою жизнь? Пожалуй, прежде всего благодаря своему уникальному здоровью, как физическому, так и нравственному. Это исключительное здоровье помогало ему на протяжении всей жизни ставить и решать задачи, преодолевая любые препятствия, и стойко переносить удары судьбы, двигаясь в выбранном направлении.
Первый удар – широкая газетная травля в 1915–1916 годах, вызванная перевеской картин в Третьяковской галерее, попечителем которой он тогда являлся. Когда страсти улеглись и перевеску сочли успешной, он был уже достаточно закален и вполне готов к новым потрясениям.
Вскоре произошла революция. Вместо привычной, обеспеченной усадебной жизни в Дугине, где можно было спокойно размышлять и творить, на руках у него в тесной квартире на Пятницкой оказалась обширная семья не приспособленных к жизни людей, прозванных в ту пору «лишенцами».
И. Э. Грабарь. Мюнхен. 1898 г.
В создавшихся условиях он проявил большую изобретательность, каким-то особым чутьем поняв, что в первую очередь необходимо обзавестись всевозможными разрешительными бумагами. Сохранились удивительные по своему содержанию справки на разрешение отоваривать карточки, хранить дома муку и прочие продукты, фотографировать, передвигаться с места на место и т. п. Апофеозом этого бумаготворчества стала справка, выданная в 1918 году Наркомпросом за подписью Н. И. Троцкой, которая удостоверяла, что «Грабарь принадлежит к Интеллигентному Пролетариату, состоит на службе в Отделе по делам музеев и охране памятников… а посему мебель, книги, костюмы, обувь и украшения… не могут подлежать реквизиции».
Заручившись таким удостоверением, можно было жить и действовать дальше.
Однако с наступлением «великого перелома» (начало 30-х годов) на него обрушился новый удар: на этот раз – «безбожная» кампания, сопровождавшаяся повальным разрушением храмов и разгромом созданных им реставрационных мастерских. Снова безработица и карточки, причем самая низшая, четвертая категория. Выход из создавшегося положения был вскоре найден.
Исследователи творчества Грабаря справедливо отмечают, что в 30-е годы он целиком обратился к портрету, быстро нащупав уязвимое место людей, достигших определенного положения в обществе, – желание быть увековеченными. Заказы не заставили себя ждать.
Все портреты с 1930-го по 1936 год были написаны в мастерской на Кудринской. Основными заказчиками являлись, как правило, академики, известные артисты и политические деятели. Если с учеными и артистами все шло более или менее гладко, то с политиками происходили постоянные конфузы. Едва он успеет сделать с кого-нибудь набросок – глядь, а того уже объявили врагом народа. Приходилось быстро замазывать холст и убирать его подальше. А Горбунову[1] в картине «Ленин у прямого провода» пришлось приделать бороду, что превратило его в некоего безымянного телеграфиста.
И. Э. Грабарь в мастерской. Дугино. 1904 г.
На Кудринской стали появляться ученики. Самыми первыми были Рубан, Зелинская и Чащарин, ставшие впоследствии известными мастерами. Однако попадались ученики и весьма сомнительного свойства.
Наиболее колоритной фигурой среди таких учеников был некто Шурка, которого однажды привели в мастерскую ярославские иконописцы. «Способный да расторопный, – сказал один из них, сильно окая. И шепотом присовокупил: – из богомазов».
Внешне Шурка походил отнюдь не на богомаза, а скорее на трактирного полового, и отличался не столько расторопностью, сколько бесцеремонностью и наглостью. Всем подряд говорил «ты», нарочито подыгрывая под местный говор, этюды писал неохотно и при каждом удобном случае заваливался на диван.
Удивительным образом Грабарь, не принимавший никаких советов от своих близких (никто и помыслить об этом не мог!), не только терпел Шурку, но даже прислушивался к его замечаниям, проявляя порой не свойственную ему доверчивость.
И. Э. Грабарь. Адлер. 1920-е гг.
Помнится, однажды он привез с дачи незаконченный женский портрет в ярком платке, написанный на фоне снежной поляны и уходящей вдаль деревеньки.
– Ангельска картина, божественна картина, – почти нараспев запричитал Шурка. И вдруг без всякого перехода изрек: – только зачем ты ей избу на голову припаял?
Отец ничего не ответил, однако спустя некоторое время он, передвигаясь на разное расстояние от мольберта, стал пристально вглядываться в картину, прикладывая руку козырьком ко лбу и меняя угол зрения.
Сам же Шурка к указаниям учителя относился спустя рукава, большей частью отделываясь фразой, ставшей впоследствии в нашем доме крылатой.
– Тебе-то хорошо, заслужённому, – говорил он. – Что ни мазни, все возьмут.
До поры до времени Шурке все сходило с рук, но однажды он, видимо, перешел границы. Отец неожиданно прозрел, и Шурка исчез так же внезапно, как появился. Порывать отношения с разочаровавшими его людьми сразу, не принимая никаких объяснений, было свойственно отцу на протяжении всей его жизни.
* * *
В публикациях, посвященных Грабарю, обычно подчеркивается многообразие его творческих интересов. Иногда звучат даже такие слова, как «человек эпохи Ренессанса».
К сожалению, в наши дни это понятие значительно сузилось. Оно предполагает, главным образом, разностороннее образование и широту взглядов.
Между тем, человек Ренессанса – персонаж, наделенный особым характером.
Он способен впадать в безумный восторг, не стесняясь слез. Он может упасть на колени и просить о любви или прощении, захрапеть в гостях от скуки, как это случалось с Фальстафом, или залезть из озорства под стол.
В равной мере человек Ренессанса бывает подвержен приступам гнева и ярости, не соразмеримыми с вызвавшим их поводом.
При этом его мало заботит, какое впечатление он производит на окружающих.
Подобного рода люди встречались редко уже во второй половине XIX века, когда, как с грустью заметил Честертон, закончилась пора романтизма и героем художественной прозы стал клерк.
Будучи человеком, болезненно приверженным к аккуратности и порядку, отец совершенно не терпел неряшливого обращения с предметами, особенно с масляными красками. Его легко приводила в ярость случайно испачканная краской посуда или переставленный с привычного места стул. Он мог разразиться гневом и в таком неподходящем месте, как Высшая аттестационная комиссия, где однажды при утверждении диссертации, посвященной технологии изготовления резины, он неожиданно взял слово и ни с того, ни с сего обрушился на скверное качество советских прорезиненных плащей.
Ошибаясь, отец почти всегда был готов признать свою неправоту и старался, как мог, исправить положение.
Иногда он вдруг откладывал все дела и посвящал нам с братом целый день, чтобы сводить нас в зоопарк или кино. Что-то детское пробуждалось в нем в такие минуты, и мы не ощущали разницы в возрасте.
В середине 30-х годов Москва буквально бредила «Чапаевым». Выстояв на морозе километровую очередь, мы, наконец, попали со второго раза в кинотеатр «Художественный». Места были плохие, в последних рядах балкона, но это не имело никакого значения. Зал жил одним дыханием. Каждая сцена вызывала у зрителей либо замирание, либо бурный восторг, а когда Чапаев пустился вплавь, спасаясь от пуль, все вскочили с мест и, размахивая головными уборами, громко завопили: «Давай, давай!» Взглянув на отца, я увидела, что и он, вскочив и размахивая своей каракулевой шапкой-тиарой, кричит во весь голос: «Давай, давай!»
Действительно, он не был бы настоящим артистом, если бы не мог испытывать минуты подлинного восторга. В наибольшей степени это касалось восприятия музыки. «Largo» Генделя и увертюра к «Тангейзеру» Вагнера неизменно вызывали у него слезы. В театре это могло произойти только при неожиданном столкновении с очень высоким искусством, таким, каким было, например, потрясающее по внутреннему драматизму исполнение Хмелевым сцены прощания Тузенбаха с Ириной.
Пафоса он не выносил органически, считая его проявлением безвкусицы. С удовольствием пародировал манеру исполнения трагиков французской школы, с характерными мелодраматическими завываниями. Был также равнодушен к разного рода сетованиям, жалобам на трудности жизни и бытовой слезливости. Готов был помочь, если нужно, но уклонялся от всяких разговоров на подобные темы. Скорбеть и сострадать ему было дано только в сфере искусства.
Пожалуй, лучше всего Грабарь выразил свой характер сам в статье, опубликованной в журнале «Весы» еще в 1906 году: «Начинаешь тоскливо ожидать… хоть одной настоящей ошибки, нелепой, но великолепной, увлекающей и убеждающей… Лучше десять раз оказаться в противоречии с самим собой и сегодня бешено ненавидеть то, что вчера еще любил, нежели плыть по течению трюизмов, хотя бы и приправленных превосходной гастрономией»[2].
И. Э. Грабарь с детьми, Ольгой и Мстиславом. 1932 г.
* * *
В послевоенные годы на Масловке отец строго придерживался установленного им распорядка дня. Ложился спать ровно в десять вечера, вставал в шесть утра и совершал ежедневную прогулку вокруг стадиона «Динамо», после чего работал еще два часа, сидя за старым секретером, до отъезда в созданный им Институт истории искусств, а возвращался домой только вечером. Так продолжалось 15 лет.
По воскресеньям вся семья собиралась на Масловке за большим обеденным столом, накрытым белой скатертью, со множеством закусок и разноцветных графинчиков с водкой, а также неизменной кулебякой.
На протяжении всей жизни Грабарь ставил перед собой и решал те или иные задачи. Некоторые из них на время приходилось откладывать, но он никогда о них не забывал и при первой же возможности к ним возвращался.
Уже после смерти отца в 1960 году мы узнали из случайно сохранившейся записки, датированной 1928 годом, что он поставил себе, среди множества других, одну важную задачу – дожить до 90 лет. Ему это почти удалось, не хватило нескольких месяцев. Последняя его фраза была: «Ухожу к доисторическому человеку». Так закончил он свой жизненный путь, открывая перед собой новую, неизведанную страницу.
Историк искусств и реставратор
На одном из собраний, посвященных памяти И. Э. Грабаря вскоре после его кончины в 1960 году, присутствовал весь художественный синклит. С пафосом говорили о его значении в искусстве, о создании им основ научной реставрации и о многом другом.
Неожиданно к микрофону подошла скромно одетая женщина. Выяснилось, что в течение нескольких лет она служила в бухгалтерии Института истории искусств, который в то время возглавлял Грабарь, и однажды засиделась допоздна с квартальным отчетом. «Когда я уходила и запирала дверь, – рассказывала она, – кто-то положил мне руку на плечо. Я оторопела – это был наш директор.
– Вы любите работать? И я люблю! – радостно воскликнул он.
Никогда прежде я не видела его таким счастливым».
Рассказ этот меня ничуть не удивил. С самого раннего детства я помню отца постоянно работающим, либо у мольберта, либо за письменным столом: склоненная над рукописью голова и лампа с зеленым стеклянным абажуром.
Смыслом его жизни было служение искусству.
«Искусство, искусство и искусство. С детских лет и до сих пор оно для меня – почти единственный источник радости и горя, восторгов и страданий, восхищения и возмущения, единственное подлинное содержание жизни!» – писал он в своей «Автомонографии»[3].
Страсть, с которой он отдавался искусству, распространялась на все виды его деятельности, будь то живопись, развеска картин в Третьяковской галерее, проблемы реставрации или многотомная «История русского искусства».
После создания своих лучших произведений – «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904), «Хризантемы» (1905) – Грабарь внутренне отвергает для себя поиски новых живописных концепций взамен уходящего импрессионизма. В 1908 году он пишет свои последние полотна в этой манере, среди которых выделяются «Дельфиниум» и особенно «Сказка инея и восходящего солнца» – настоящий гимн лучезарному зимнему дню.
В течение последующих пяти лет – ни одной картины. На смену живописи приходит неистовая, до самозабвения, работа над «Историей русского искусства», к которой были привлечены такие выдающиеся мастера, как Бенуа, Билибин, Васнецов, Дягилев, Щусев и многие другие.
Уже в 1910 году в издании И. Кнебеля вышел первый том этой подлинной энциклопедии искусств, посвященный допетровской эпохе в архитектуре[4].
Рассуждая о самобытности русского искусства, Грабарь пишет:
«На вопрос, есть ли сейчас, на заре двадцатого века, в России великое искусство, ответить никто не в праве, ибо судить об этом не нам, современникам.
На вопрос, было ли в России великое искусство, мы вправе без малейшего колебания ответить: да, оно было. Россия в своем прошлом имеет таких блестящих мастеров, таких поистине великих зодчих, живописцев, скульпторов и декораторов, что имена их она с гордостью может противопоставить именам многих мастеров запада»[5].
Той же страстью, с которой Грабарь отдавался созданию своих лучших живописных полотен, пронизаны написанные им страницы «Истории русского искусства», посвященные церковному зодчеству древних русских городов.
Он говорит о храмах с такой теплотой и любовью, словно это живые существа.
«Дальше новгородцев в сторону интимной и уютной архитектуры пошли псковичи, выработавшие тип прелестных небольших церковок со звонницами». «Чаще всего это очаровательные небольшие сооружения, проникнутые тонкой поэзией и чутьем прекрасного»[6].
И. Э. Грабарь. Нью-Йорк. 1924 г.
«Самая прекрасная из звонниц стоит у церкви Вознесения. Она изумительно стройна по своим пропорциям, в которых ничего нельзя изменить к лучшему»[7].
Маленькие, двухпролетные звонницы он именовал не иначе, как «звоннички», не уставая восхищаться их «дивной красотой».
Описывая стенные украшения храмов, Грабарь не скупится на ласкательные названия деталей («арочки», «впадинки», «кирпичики»), составляющих «неописуемый по очарованию узор»[8].
* * *
С 1919 по 1930 годы были организованы по инициативе И. Э. Грабаря более пятнадцати экспедиций в различные районы страны для охраны и реставрации произведений искусства. К участию в них привлекли лучших специалистов (Анисимова, Померанцева, Тюлина, Чирикова и др.), которым надлежало обеспечить неприкосновенность памятников архитектуры и сокровищ живописи от потрясений в условиях гражданской войны.
Первые, особенно северные экспедиции (по течению Волги и Северной Двины) проходили в трудных условиях.
«Бесценная моя Валюшка, – писал отец маме из Петрограда 1 июня 1920 года, – …долго пришлось здесь застрять в ожидании пропуска в Псков, который весьма в прифронтовой полосе…». И в другом письме из Архангельска от 28 августа того же года: «…полное отсутствие на станциях продуктов, ни яиц, ни молока, ни масла нигде. До Вологды еще иногда кое-кому удавалось выхватить бутылку молока… и с тех пор ничего, кроме брусники, и то на обмен за хлеб».
В результате экспедиций были обследованы монастыри и соборы на многих территориях бывших русских губерний, освобождены от более поздних записей и укреплены уникальные фрески, а также обнаружены не известные ранее иконы.
«Эта работа на время заслонила все интересы Грабаря, став отныне его любимым детищем, его страстью, областью самых больших восторгов и огорчений», – отмечает искусствовед О. И. Подобедова[9]. «Если подвести итог только за два года экспедиций (1919–1920), то объем работы даже для нынешних реставраторов… окажется грандиозным, а работоспособность и энергия маленькой группы энтузиастов, находившихся в крайне трудных условиях, покажется легендарной. Именно этой маленькой группе людей советское искусствознание обязано наибольшим числом открытий подлинно мирового значения»[10].
* * *
В мае 1918 года при Отделе по делам музеев Наркомпроса по инициативе Грабаря и под его руководством была создана Всероссийская реставрационная комиссия, преобразованная впоследствии в Центральные государственные мастерские (ЦГРМ). В Москве и Ленинграде, а позднее в Европе и Америке проходили многочисленные выставки реставрированных икон.
Подлинным триумфом стала выставка русской иконы в Берлине (1928 год) и других городах Западной Европы. Особый интерес вызвали лекции Грабаря «Об изначальном и искаженном лике художественного произведения», посвященные открытиям в области реставрации в Советском Союзе. После доклада в Париже председательствующий произнес следующие слова: «Вы, верно, не представляете себе, как непрерывно в стенах Сорбонны произносится Ваше имя, и с каким почетом произносится»[11].
* * *
Едва ли кто-нибудь мог в то время предположить, как горько «аукнется» нашим реставраторам их просветительская деятельность, да и само участие в экспедициях по спасению жемчужин древнерусского искусства.
25 марта 1931 года в газете «Безбожник» была опубликована статья Л. Лещинской и Козырева (по поручению рабочей бригады имени Лепсе) под зловещим названием «Реставрация памятников искусства или искусная реставрация старого строя?»
Приводимые выдержки из этой статьи настолько красноречивы, что не требуют разъяснений.
«Пора после 13 лет замкнутого от советской общественности существования ЦГРМ дать информацию широкой общественности о фактах, вскрытых во время чистки аппарата ЦГРМ и характеризующих отчетливо линию классового врага, проводимую в работе органов Госохраны памятников старины и искусства под руководством И. Э. Грабаря и А. И. Анисимова».
«Причины ее рвения ясны: моменты личного благополучия (работа в Государственной комиссии, широкая возможность разъездов по территории РСФСР, продовольственный паек, льготы по жилищной площади и проч.) тесно сплетались и увязывались с моментами охраны памятников старины и искусства, что давало возможность спасать и себя, и памятники».
«Интересно и то обстоятельство, что в силу «научно-исследовательских функций» работники ЦГРМ… имели мандаты на право фогографирования, обмеров, съемки чертежей и даже картографических работ. Для реставрации памятников подобные географические работы специального назначения никак служить не могут».
В заключение руководство ЦГРМ обвинялось в «явно враждебно-классовой и скрытой контрреволюционной работе, проводившейся до последнего времени».
В результате этого приговора наши замечательные реставраторы и искусствоведы не только были лишены возможности продолжать любимое дело, но многие из них оказались в ссылке, а некоторые и вовсе сгинули.
И. Э. Грабарь был вынужден надолго покинуть все административные посты, целиком посвятив себя литературным трудам и живописи. К вопросам реставрации он вернулся лишь после Великой отечественной войны, когда возникла необходимость восстановления исторических архитектурных ансамблей и храмов.
Реставраторы вновь оказались востребованными, но время изменилось: настала пора технократии. Описание научных открытий приобрело строгий, упорядоченный характер, слог сделался сухим и академическим. Канула в прошлое способность выражать чувство непосредственного восхищения увиденным, которое так украшает страницы кнебелевского издания «Истории русского искусства», мгновенно передаваясь читателю.
Вспоминая Грабаря
Когда я родилась – это произошло в мае 1922 года – моему отцу было уже за пятьдесят, но ни я, ни мой младший брат не воспринимали его как пожилого человека. По своей неукротимой энергии, самозабвенной отдаче творчеству, будь то живопись или работа над очередной книгой, он превосходил многих молодых родителей наших сверстников.
В начале тридцатых годов в доме на Кудринской, где мы тогда жили, часто бывали гости. Их принимали с неизменным хлебосольством и радушием, унаследованными мамой, Валентиной Михайловной Мещериной, от своих родных, обитавших до революции в подмосковном имении Дугино. За столом царило веселье, сыпались шутки. Хорошо помню семью Чуковских, дипломата Сурица, арфистку Дулову, физика Лазарева и многих других.
* * *
Среди гостей иногда появлялись иностранцы. Близким другом отца был итальянец Этторэ Доменико Ло Гатто, исследователь русской литературы. Он вполне сносно владел русским языком, хотя с отцом предпочитал говорить по-итальянски. В нашей семье его звали просто Гектор Доминикович. Нас с братом он поразил тем, что преподнес отцу невиданный до того продукт – плавленый сыр, уложенный треугольничками в круглую коробку (точь в точь как «Виола»). На обложке коробки красовался полосатый тигр с оскаленной пастью. Казалось, ничего более вкусного мы никогда не пробовали, и Гектор Доминикович получил прозвище «человек с тигром».
Однажды в доме появился и настоящий охотник за тиграми, только что вернувшийся из Бенгалии. Это был американец, видимо, богатый коллекционер, имени которого никто, кроме отца, выговорить не мог. По-русски он не знал ни единого слова, только сверкал белоснежными зубами. Зато отец не скупился на рассказы об охотничьих подвигах американца. Выяснилось, что тот сражался с питонами, ядовитыми змеями, скорпионами и однажды ухитрился даже прокусить шею какому-то диковинному четвероногому зверю.
И. Э. Грабарь. Портрет Этторэ Ло Гатто. 1931 г.
Вряд ли мы запомнили бы этого человека, если бы не один забавный случай. В нашей стране уже действовала карточная система на продукты и, помимо сладкого домашнего пирога, к чаю подали купленные по карточкам конфеты со странным названием
«Третий промфинплан». Американец с любопытством развернул бумажную обертку вонзил свои белоснежные зубы в конфету но (увы!) вынуть их обратно уже не смог: пришлось размачивать конфету горячим чаем и извлекать ее изо рта по частям. Оказалось, что прокусить шею дикому обитателю джунглей значительно проще, чем справиться с изделием «Третьего промфинплана». Кондитерская фабрика с этим названием до сих пор процветает на берегу Волги.
И. Э. Грабарь и Э. Ло Гатто. Вишняково (Салтыковка).1931 г.
Больше американец в нашем доме не появлялся, и ознакомиться с достопримечательностями Москвы ему не удалось. В гостинице его доконали местные клопы, и он срочно покинул город.
* * *
В то время наша семья перебиралась на лето в подмосковную Салтыковку, где отец снимал дачу в поселке Вишняково. Его привлекали живописные окрестности и большой красивый пруд, обрамленный плакучими деревьями и кустарником. Правда, от железнодорожной станции до дома нужно было идти километра полтора по пыльной проселочной дороге, но это никого не смущало.
Отец был в то время очень активен и подвижен. Он часто ходил на этюды, совершал далекие прогулки, любил купаться в широком пруду и легко переплывал его туда и обратно.
Однажды на террасе дома появился насквозь пропыленный, измученный человек, в котором с трудом можно было распознать обычно элегантного и подтянутого синьора Ло Гатто.
– Мама миа! – воскликнул он, рухнув на стул. – Раньше я считал Италию густонаселенной страной, но сегодня, по дороге в Салтыковку, мне показалось, что все жители Апеннин могли бы уместиться в одной электричке.
Впоследствии отец не раз возвращался к этому эпизоду, уснащая его красочными подробностями и прекрасно имитируя акцент Ло Гатто. Доставалось и американскому охотнику за тиграми, не сумевшему одолеть советскую конфету и клопов.
Последнее лето в Салтыковке запечатлелось в моей памяти особенно ярко, и отец запомнился нам с братом как счастливый веселый человек, радующийся жизни.
* * *
Незаметно обстановка в доме изменилась. Вероятно, все началось с болезни мамы. У нее стало развиваться сложное гормональное расстройство, которое в то время трудно поддавалось лечению. Врачи, как правило, применяли лишь вытяжки из отдельных эндокринных желез. Иногда это помогало, а в некоторых случаях приводило к плачевным результатам. Маму положили в клинику профессора Казакова, где в общей сложности она провела несколько лет с небольшими перерывами.
Потребовался человек, который мог бы вести дом. С этой целью отец пригласил пожилую энергичную даму, бывшую выпускницу Института благородных девиц, свободно владевшую французским языком.
Даму звали Елизавета Петровна, но для нас она была «madame». Первое время мы искренне верили, что «madame» не понимает по-русски, и дома звучала только французская речь.
Постепенно отец становился все более молчаливым. Иногда во время обеда он вообще не произносил ни слова, и всем хотелось скорее выйти из-за стола. На наши с братом вопросы он отвечал отрывистыми, короткими фразами, а меня все чаще отсылал к словарям.
Ольга Грабарь и Мстислав Грабарь. Вишняково.1932 г.
Семья И. Э. Грабаря. Слева направо: М. И. Грабарь, И. Э. Грабарь, ММ. Мещерина, ВМ. Мещерин, О. И. Грабарь, ВМ. Грабарь. Вишняково.1933 г.
В доме стало уныло, приемы гостей прекратились, а собиравшиеся по воскресеньям родственники, стараясь объясняться на полузабытом с дореволюционных времен французском языке, веселья не привносили.
* * *
Отец целиком погрузился в работу над портретами, заказы на которые поступали регулярно. После ликвидации Государственных реставрационных мастерских это был основной источник его доходов. Во время сеансов он считал необходимым беседовать с позирующим ему человеком, чтобы, как он выражался, «лицо не каменело». Впрочем, подобные диалоги никак нельзя было назвать беседой – говорил в основном тот, кто позировал. Отец, как правило, вставлял лишь отдельные фразы, иногда невпопад, но ему каким-то образом удавалось «разговорить» собеседника.
Заказы поступали от самых разных лиц, чаще всего от известных ученых и артистов. Последних не нужно было побуждать к беседе. В большинстве своем они отличались многословием и охотно рассказывали забавные истории и анекдоты из театральной жизни. Отец время от времени согласно кивал головой или, напротив, произносил «вряд ли», «не думаю».
Со временем он все чаще стал прибегать к этому приему и в домашних условиях. Видимо, разговоры утомляли его. Мы с братом повзрослели, и наша активная жизнь проходила, главным образом, в школе. Отца в то время мы видели очень редко.
* * *
Те, кто успел застать Грабаря в поздние годы жизни, хорошо помнят его привычку выражать свое отношение к сказанному кивком головы.
Как-то раз уже в пятидесятые годы на дачу в Абрамцево приехал художник Нерадовский, которого отец очень любил. Они удалились в мастерскую и пробыли там довольно долго.
– О чем они беседуют? – поинтересовался кто-то.
– А они не беседуют, – ответила сторожиха, которая носила им чай. – Сидят молча и головой кивают; то один кивнет, то другой.
Много позже я осознала, что близкие по духу люди могут понимать друг друга не только с полуслова – им достаточно одного кивка головы.
* * *
В послевоенные годы на Масловке отец ежедневно перед завтраком совершал часовую прогулку. О чем он размышлял в это время – никому не известно. У него не было привычки делиться своими мыслями с домашними. Все силы он отдавал Институту, находя время для живописи и литературных трудов.
По воскресным дням отец, как правило, не работал. За обеденным столом собирались дети с внуками, приходил старший брат отца с женой и еще кто-нибудь из родственников. Было шумно, оживленно, звучали новые анекдоты, но все это как-то проходило мимо отца, во всяком случае, без его участия. После обеда он быстро уходил к себе: дневной сон был ему необходим как воздух.
Посторонних приглашали редко. Исключение составляла жена художника Сварога – Лариса Семеновна, жившая в том же подъезде. Сам Сварог к тому времени был уже тяжело болен и прикован к инвалидному креслу. Лариса, высокая крупная женщина с красиво уложенными седыми волосами, отличалась необычайным остроумием и великолепно имитировала маститых художников. Во время ее коротких визитов отец преображался, и мы снова слышали его смех. Он восхищался стойкостью и мужеством Ларисы, никогда не терявшей присутствия духа и в одиночку боровшейся за жизнь безнадежно больного мужа.
* * *
С возрастом художественные пристрастия отца постепенно менялись. Он становился все более категоричным и избирательным в своих оценках. В последний период жизни он читал лишь отдельные страницы из произведений Чехова, видимо ощущая то, что так образно выразил Пруст в своем знаменитом романе «В
Воскресный обед в доме на Масловке. Слева направо: А. К. Крайтор (ученица Грабаря), Л. С. Сварог, И. Э. Грабарь, ММ. Грабарь. 50-е гг.
* * *
В конце жизни отца возил в просторном ЗИЛе один и тот же шофер, которого заранее предупредили, что академик не переносит разговоров в машине. Каково же было его удивление, когда отец неожиданно спросил его о каком-то зелье, видимо, мази, которая помогает при боли в суставах, но не продается в аптеках. Выяснилось, что теща шофера успешно пользуется этим снадобьем и знает, где его достать.
Отец, который не любил лечиться у докторов, с радостью ухватился за представившуюся возможность. Он охотно поведал шоферу о других своих недугах и просил ничего не говорить жене.
* * *
После войны дачу в Абрамцеве круглый год сторожили приехавшие с Украины бобыли, дядя Вася и тетя Паша. Обитая рядом с известным художником, дядя Вася и сам заразился страстью к живописи. Он подбирал старые, не нужные отцу кисти, тюбики красок, обрезки холстов, которые умело крепил на подрамники, и смастерил себе настоящую палитру. Ко всеобщему удивлению, отец охотно, не жалея времени, обучал дядю Васю начаткам рисования и показывал, как накладывать краски на холст. Так полуграмотный «художник-примитивист» из далекого села стал еще одним собеседником отца.
Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Мне не раз приходилось наблюдать, как у творчески одаренных людей, ум и сознание которых полностью сформированы, независимо от возраста утрачивается потребность выяснять истину в спорах, приводить аргументы в пользу своей точки зрения и выслушивать чьи-то доводы. Им просто становится нестерпимо скучно, и они быстро устают.
Другое дело – неискушенные собеседники со свежим взглядом. От них всегда можно услышать что-нибудь эдакое, неожиданное, что самому и в голову не придет.
* * *
Когда в возрасте 89 лет в мае 1960 года отец скончался, дядя Вася сильно горевал, не уставая повторять с укором: «Я ему твердил, что в марте нужно валенки надевать, а он не послушался. Глядишь, до осени бы и протянул».
Дядя Володя
О старшем брате отца, Владимире Эммануиловиче Грабаре, известном юристе-международнике и тонком знатоке истории международного права, можно рассказать немало интересного. Он помнил все. Войны, переделы земель, распады государств. Родившийся в эпоху отмены крепостного права, он застал Александра II, Бисмарка, Стейница. Стоило ему услышать упоминание о какой-нибудь знаменательной дате, как тут же следовала реплика: «А, 1877-й? Год взятия Плевны». Или: «1881-й? Как сейчас помню. Подошел к ограде отец Василий и произнес: «Убили императора…»»
Семейный портрет Грабарей Слева направо: Владимир, мать Ольга Адольфовна, Игорь, отец Эммануил Иванович. 90-е гг. XIX в.
Его короткие рассказы со старомодными оборотами речи были доверительно-будничными, глаза при этом искрились юмором.
«Мои лекции в Московском университете, – любил он вспоминать, – носили несколько либеральный оттенок, и поэтому я бывал неоднократно вызываем в канцелярию Плеве. В конце концов, я предпочел покинуть пределы России и переехал в Париж. Гуляя однажды по Елисейским полям, я встретил своего московского коллегу. «Слышали потрясающую новость? – спросил он меня. – Плеве убит!» (Это случилось в июле 1904 года.) «Что вы говорите? – воскликнул я. – Лучшего подарка ко дню моего Ангела нельзя было и придумать!» Разумеется, я тотчас же возвратился в Россию».
«В бытность мою в коллегии Галагана мне презентовали серебряные часы, но впоследствии я их утратил. Мошенники арабы стащили в Марокко. Ничуть не уступают нашим!» Слово «Марокко» произносилось так обыденно, как если бы это была Малаховка. Когда-то, еще в XIX веке, у дяди Володи была пассия в Аргентине. Однажды инстинкт Подколесина безошибочно подсказал ему, что пора бежать. Однако это оказалось непросто, были подстроены ловушки. «Ты знаешь, – лукаво сообщал он, – я почувствовал себя в полной безопасности, лишь достигнув берегов Греции».
Когда произошел октябрьский переворот, дядя Володя, зная, что остается в России, принял несколько мудрых решений, от которых затем никогда не отступал. Благодаря этому, он, прежде всего, смог уцелеть, что было совсем не просто. Как-никак во время первой мировой войны он служил юрисконсультом в ставке Верховного главнокомандующего и носил генеральскую форму, а за одно это уже легко ставили к стенке. Впрочем, справедливости ради, следует сказать, что из ставки он был удален после того, как подал протест в Международный Красный Крест по поводу обстрела русскими самолетами австрийского санитарного поезда.
В. Э. Грабарь. Юрьев (Тарту). Конец 90-х гг. XIX в.
Хождением в народ дядя Володя никогда не занимался, просветительских лекций не читал. Мудрость его заключалась в том, что он отчетливо представлял себе, с кем и с чем придется иметь дело в будущем.
Его немало удивляло и огорчало, что наши ученые-юристы, прекрасно знающие историю международного права и не менее хорошо знакомые с особенностями тиранических правлений, не извлекают из этого должных уроков и рвутся к участию в заграничных конгрессах по признанию молодой советской республики. Он-то хорошо понимал, чем это чревато. И правда, почти все международники того времени пошли под гильотину как шпионы или свидетели.
Дядя Володя каждый раз, когда его приглашали участвовать в подобных затеях, вовремя сказывался больным и деликатно устранялся от поездок, а вскоре и вовсе подал прошение о пенсии по состоянию здоровья.
В. Э. Грабарь. 1914 г.
Разделавшись со службой, он принял еще одно важное решение – полностью прекратить всякую активную деятельность, иначе говоря, исчезнуть, чтобы о тебе забыли. И действительно, в первом издании Большой советской энциклопедии (знаменитом «красном» издании, куда впоследствии надлежало вставлять вкладыши с новыми текстами взамен изымаемых – о врагах народа) о нем уже было написано чуть ли не в прошедшем времени, с весьма ядовитыми ремарками: «к советскому международному праву относится критически, отрицая его роль… В этом отношении пошел дальше сменовеховцев». С такой характеристикой в тридцатые годы уверенно могли себя чувствовать только покойники. Между тем, дядя Володя прожил после революции целых сорок плодотворных лет, пережив войну, дождавшись смерти Сталина и став свидетелем многих других замечательных событий политической, шахматной и музыкальной жизни того времени.
Дядя Володя мало менялся на протяжении этих сорока лет. Старея и даже дряхлея, он продолжал сохранять удивительную подвижность, выносливость, ясность ума и чувство юмора. О таких говорят: законсервировался. Внешне он законсервировался в облике советского служащего тридцатых годов – кепка, бесформенное пальто, галоши, неопределенного цвета костюм, галстук веревочкой. Впрочем, никто не обращал на это внимания, и меньше всего сам дядя Володя. Мощный его интеллект жил своей отдельной жизнью, как будто совершенно в другом измерении.
В. Э. Грабарь. Начало 40-х гг.
Профессорская коммунальная квартира на Крымской, где поселились после революции дядя Володя с женой, была типичной «вороньей слободкой». Ее обитатели не различались, однако, по сословному признаку. Поэтому «они» – это всегда были правители, то есть все те же большевики, а заодно ликующий и одобряющий их народ, управдомы и любая власть на местах. Под словом «мы» подразумевалась интеллигенция и все потерпевшие. Говорить об этом вслух считалось неприличным. К чести жильцов, ни одного политического доноса из этой квартиры не последовало. Неизбежные склоки носили сугубо бытовой и потому скорее комический характер. Надо сказать, что будучи правоведом, дядя Володя принимал в разбирательстве этих склок живейшее участие, а однажды выступал даже в суде как свидетель по делу об адюльтере.
Война застала дядю Володю в Абрамцеве, где они с женой и провели первую, самую тяжелую зиму. Дядя Володя ловко обрабатывал огородик, возил из Москвы в рюкзаке продукты, воевал из-за урожая со сторожихой. Он не прерывал своих занятий в области права и благополучно пережил войну. Правда, в послевоенные годы за ним стали замечаться кое-какие странности: время от времени он потаскивал овощи с чужих грядок, что хорошо просматривалось с верхнего балкона к вящему удовольствию сторожихи. Давно прошло голодное время, и добыча оказывалась мизерной, но он уже не мог расстаться с этой привычкой. Так некоторые мои сверстники, отбывшие срок в лагере, припрятывали впоследствии за обеденным столом пирожки под тарелкой.
К старости, несмотря на ясную голову, бытовые события у него стали смещаться во времени, причем приятные неизменно приближались. «Марусенька, – говорил он жене, – помнишь, в позапрошлом году в Мисхоре…». «Володя, последний раз мы были в Мисхоре шесть лет тому назад». Неприятные ощущения, напротив, отодвигались в прошлое: «Когда десять лет тому назад мне делали операцию…». «Не десять лет, а четыре года тому назад». Это особенность защитного свойства памяти – отбираются и закрепляются преимущественно хорошие воспоминания.
Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек, жена В. Э. Грабаря. 1947 г.
В. Э. Грабарь. 1954 г.
Дядя Володя легко привыкал к переименованию улиц и городов, однако названия стран и представления о них сохранялись в его сознании прежними. «Наши друзья уехали путешествовать по северным губерниям России» – это о Прибалтике. Или в ответ на замечание о том, что в Крым теперь переселились украинцы: «Странно. Мы много гуляли в окрестностях Мисхора, но не встречали никого в малороссийских костюмах».
Первый и последний официальный юбилей дяди Володи (90-летие) состоялся в 1955 году в Институте международного права. Тогда же, во время чествования, мы впервые узнали некоторые поистине удивительные подробности его научной жизни. В начале века он обнаружил неточности в знаменитом учебнике международного права немецкого ученого Листа. Тот счел комментарии дяди Володи настолько существенными, что в дальнейшем учебник стал выходить уже под двойным авторством и выдержал несколько изданий. Не менее замечательна и другая история, когда в 1911 году золотая медаль Академии наук за лучший труд о Босфоре и Дарданеллах (вечная тяга России!) была присуждена по конкурсу дяди Володиной рецензии на одну из книг на эту тему. Ибо, как было отмечено, В. Э. Грабарь проявил в своем отзыве лучшее знание предмета и архивных материалов, чем автор представленной монографии. Сам он никогда об этих случаях не упоминал.
В 1956 году дяди Володи не стало. Он простудился, проболел три дня и тихо скончался ночью на своем неизменном диване, сплошь заваленном книгами. За день до смерти он работал над канонами Юстиниана. Его отпевали дома, в кругу родных, а провожали на кладбище из института. Сколько пришло народу! Он лежал в гробу маленький, сухонький, такой же, каким был всегда.
Позднее известный юрист А. М. Ладыженский написал, что Владимир Эммануилович отличался поистине беспредельной эрудицией в области истории и теории международного права, что он был человеком, перед которым невольно хотелось обнажить голову. Вместе с тем, уважение к нему не порождало чувства дистанции, с ним было очень просто и уютно. Мы, близкие, ощущали это в полной мере.
Утраченная гармония
Обитатели подмосковной усадьбы
В 1904 году по приглашению художника Николая Васильевича Мещерина мой отец И. Э. Грабарь приехал в его подмосковную усадьбу Дугино, где, по его собственному выражению, «застрял» на долгие годы. Его, исколесившего до этого всю Европу, в буквальном смысле слова ошеломило и покорило радушие и гостеприимство хозяев. «Гощу я у одного приятеля художника Мещерина в имении, – пишет он своему другу, редактору «Нивы» А. А. Луговому. – У него великолепная мастерская, живет здесь сам, с женой, а летом его братья, дети, родственники, словом человек 20 за столом – это норма, а бывает и 40!»[12]
Исследователи русской усадебной культуры как своеобразного художественного явления справедливо полагают, что оно возникло во взаимодействии различных видов искусства, интеллектуальной и общественной жизни, а также повседневного безмятежного быта и живописной русской природы. И, хотя с этим трудно не согласиться, все же главной причиной, побуждавшей творчески одаренных людей не просто гостить в подмосковных имениях, но надолго там задерживаться, создавая нередко лучшие свои произведения, была, несомненно, окружавшая их атмосфера радушия, гостеприимства и подлинного понимания того, чему они себя посвятили. Если же хозяин усадьбы и сам был человеком творческим, то подобное содружество оказывалось на редкость плодотворным.
Именно такая атмосфера сложилась на рубеже XIX–XX веков в подмосковном имении Дугино, доставшемся по наследству от отца художнику Николаю Васильевичу Мещерину – родному дяде моей матери.
Имение Дугино. Начало XX века
Дом со стороны въезда в усадьбу
И. Э. Грабарь и В. М. Мещерина в день свадьбы. 1913 г.
По свидетельству современников, имение по тогдашним меркам было небольшим и не приносило доходов, однако отличалось необычайной живописностью. Располагалось оно на высоком берегу реки Пахры, с которого открывался великолепный вид на далеко простиравшиеся леса, солнечные поляны и окрестные села. Весной вокруг усадьбы расцветали удивительные по красоте вишневые сады – с высоты холмов они выглядели как стада белых барашков, столпившихся на горных пастбищах. Не удивительно, что Дугино стало на долгие годы притягательным местом для многих известных художников и других представителей мира искусства.
В 1913 году отец женился на одной из племянниц Н. В. Мещерина – Валентине Михайловне, моей будущей матери. Со свойственным ему восторгом он так описывает это событие в одном из писем своим родителям: «Дорогая моя мамочка, могу тебе сообщить весьма необыкновенную и даже просто невероятную новость: я женюсь! Чудесная девушка, очень славная, добрая, умная и талантливая, и любит меня очень, как и я ее. На Красной горке обвенчаемся здесь в Дугине, т. е. в церкви соседнего села»[13].
Дугино. Игра в крокет
Вишневые сады в окрестностях Дугина. 14 мая 1887 г. Фото Н. В. Мещерина
* * *
Я появилась на свет в то время, когда имение давно уже перешло государству, и многих его обитателей не было в живых.
Тем не менее, с самого раннего детства слово «Дугино» постоянно присутствовало в домашних разговорах, за обеденным столом, даже в отдельных репликах: «Смотри, скатерть совсем, как в Дугине!» или «В Дугине так на стол не накрывали» и тому подобное. Со временем мне стало ясно, что для моих родителей и ближайших родственников понятие «Дугино» заключает в себе некий особый мир нравственных ценностей, которыми необходимо дорожить, ни в коем случае их не растрачивая.
О жизни в Дугине вспоминали весело, с юмором, без тени озлобленности или сожаления об утраченном. Иногда во время рассказов из альбомов извлекались старые фотографии, выполненные с большим мастерством, – они прекрасно сохранились и по сей день. Особенное чувство испытываешь, всматриваясь в групповые снимки на природе. Сколько усилий затрачивает порой художник или режиссер для выбора мизансцены! А на этих фотографиях никто не позирует, каждый занят своим делом. Одни играют в крокет, другие беседуют, кто-то сидит на скамейке или движется в отдалении. Так естественно ведут себя люди, находящиеся в гармонии с окружающим миром.
* * *
У моего прадеда, купца первой гильдии Василия Ефремовича Мещерина было четверо детей: три сына и дочь. Сыновья учились в Практической академии, но ни малейшей склонности к приумножению капитала не проявляли, постепенно растрачивая нажитое, пока не наступила революция.
Старший сын, впоследствии известный художник Николай Васильевич Мещерин, умер в 1916 году и похоронен в Дугине, где протекла вся его жизнь. Мой отец, И. Э. Грабарь, бывший в течение многих лет его близким другом и постоянно гостивший в Дугине, полагал, что более радушного хозяина и доброжелательного человека редко можно было встретить. В то же время Н. В. Мещерина отличала изрядная неврастеничность и фантастическая мнительность, особенно в вопросах питания. Были у него и свои причуды. Так, он искренно верил, что, употребляя ежедневно «мечниковскую», как ее в то время называли, простоквашу, можно существенно продлить жизнь. К подобным панацеям он относил и редьку с квасом, от приготовления которой в доме стоял порой невыносимый запах. Основную же пищу составляли яйца всмятку и зернистая икра.
а)
б)
в)
г)
Мещерины. (а) Николай Васильевич, (б) Михаил Васильевич, (в) Андрей Васильевич, (г) Александра Васильевна. 80-е гг. XIX в.
Естественно, что при таком рационе он постоянно недужил, преждевременно состарился и умер довольно рано. Впрочем, судьба оказалась к нему милостивой, так как он один из трех братьев не дожил до конфискации имения в 1917 году и последующего его разорения.
Несмотря на неврастенические выходки и чудачества, домочадцы и друзья обожали Николая Васильевича. Будучи женатым, но бездетным, он крестил всех своих племянников, называвших его не иначе, как «папа Коля» и души в нем не чаявших. «Расскажите еще про папу Колю», – просила я в детстве. И все рассказывали с удовольствием, причем непременно что-нибудь смешное.
При упоминании о его жене Лидии Ивановне (урожденной Горячевой) лица рассказчиков неизменно хмурились. В семье ее недолюбливали за властный характер и алчность. Настоящая Глафира из «Волков и овец» Островского – так отзывались о ней родные. Став женой Николая Васильевича, она оттеснила от управления хозяйством его сестру, тихую Александру Васильевну или Сашеньку, как обычно звали ее окружающие, а впоследствии прибрала к рукам и само имение. После революции Лидия Ивановна постоянно проживала в Москве, но я ее ни разу не видела, так как Мещерины не поддерживали с ней отношений.
Елизавета Ильинична Мещерина с дочерью Валентиной.
Мария Ильинична Гуськова (б). 1890-е гг.
Мещерины. Слева направо: Александра, Николай, Михаил Васильевичи и Лидия Ивановна. 1910-е гг.
Что касается Сашеньки, то судьба ее сложилась печально. Полюбив школьного учителя, она не смогла с ним обвенчаться – братья Мещерины наотрез отказались делить капитал. В довершение всего предложили учителю отступное, и тот уехал в неизвестном направлении. Сашенька чуть было не наложила на себя руки, но потом смирилась и постепенно зачахла. Тоже сюжет для Островского.
И. Э. Грабарь в Дугине на пленере
Второй сын Василия Ефремовича, Михаил Васильевич Мещерин, был моим дедом по матери. По рассказам родных он являл собой полную противоположность Николаю Васильевичу, будучи жизнелюбом, жуиром и весельчаком. Любил кутить у «Яра» и однажды въехал на тройке прямо в витрину кондитерской Эйнема.
Он был женат на дочери купца Гуськова Елизавете Ильиничне и от этого брака имел троих детей: Валентину (мою мать, вышедшую в 1913 году замуж за И. Э. Грабаря), Марию и Василия. Дети появлялись на свет один за другим, в период с 1892 по 1895 годы, после чего у Елизаветы Ильиничны постепенно стала развиваться меланхолия, сопровождавшаяся приступами слезливости, и она, как выражались в старину, «удалилась на свою половину». На деле это означало неформальное прекращение брачных отношений. На семейных фотографиях можно видеть бабу Лизу за обеденным столом и в кругу семьи, но очень редко с детьми, которыми постоянно занималась гувернантка – швейцарская француженка Анна Пеперс (mademoiselle), добрейшее и милейшее существо, а также незамужняя сестра бабы Лизы Мария Ильинична (баба Маня), постоянно проживавшая в Дугине и посвятившая всю свою жизнь семье Мещериных.
Дугино. Березовый парк. 15 сентября 1886 глда. Фото Н. В. Мещерина
Старая дорога у Ширяева оврага. 1 сентября 1886 глда. Фото Н. В. Мещерина
К. В. Мещерин
Я хорошо помню бабу Лизу, которая дожила до глубокой старости, кочуя по клиникам для душевнобольных и окончательно утратив связь с внешним миром. Несмотря на то, что она была моей крестной матерью, в раннем детстве я ее сторонилась. Меня пугал ее взгляд, устремленный в одну точку, и я не могла понять причину ее неожиданных слез. Бабу Маню, напротив, я нежно любила и бежала к ней за утешением, если мне доставалось от родителей. Она скончалась в 1927 году, когда мне было пять лет.
Мой дед Михаил Васильевич после распада брака с Елизаветой Ильиничной недолго оставался в одиночестве и обратил свой взор на сестру Лидии Ивановны Мещериной – Анну Ивановну, которая часто гостила в Дугине вместе с мужем, хроническим алкоголиком, и двумя маленькими дочерьми. В отличие от Лидии Ивановны, Анна Ивановна отличалась терпеливым и даже кротким характером. Будучи несчастлива в замужестве, она всей душой потянулась к доброму и щедрому Михаилу Васильевичу. Эта связь тщательно скрывалась от детей и знакомых. Пьяница-муж вскоре помер, а дочек на время отправили с гувернанткой за границу. Но тут случилось непредвиденное – революция.
Мещерины потеряли все: имение, фабрику, два дома в Москве и вынуждены были переселиться в тесную квартиру на Пятницкой, где я и появилась на свет в 1922 году. Дедушку помню смутно. Он скончался от рака в 1925 году, когда мне было три с небольшим года. Чтобы увести меня из комнаты, где стоял гроб с телом, мне дали конфету «раковую шейку» – это едва ли не первое мое отчетливое воспоминание.
По рассказам родных, Михаил Васильевич так и не оправился от событий, связанных с революцией, хотя многие помещики пострадали куда больше. От вынужденного безделья он начал тучнеть, у него появилась одышка. Несмотря на это, он ежедневно брал в руки два бидона молока, которое привозили из Дугина в голодное донэповское время крестьяне, и с вязанкой дров за плечами пешком отправлялся с Пятницкой на Большую Никитскую, где жила с дочками Анна Ивановна. Когда наступил НЭП, и жизнь в Москве более или менее наладилась, он был уже тяжело болен.
Младший сын Василия Ефремовича, Андрей Васильевич Мещерин, после революции также жил на Пятницкой. Он умер в 1930 году, и его я помню очень хорошо. В юности он проявлял незаурядные способности к математике и технике, но потом как-то сник и приобретенные в Практической академии знания ни к чему не приложил. Тихо обитал в Дугине.
В период жизни на Пятницкой это был, как мне казалось, глубокий старик, полностью ушедший в себя. Из своей комнаты он выходил крайне редко, в основном к обеду и ужину, в одном и том же позеленевшем от времени пальто, и ел молча, но иногда вдруг начинал тыкать вилкой в десерт, перебирая пирожные, и тогда кто-нибудь из присутствующих с досадой говорил: «Вы бы, дяденька, шли к себе, вам принесут». И он, сгорбившись, уходил из-за стола.
Единственным развлечением дяденьки были самодельные игрушки, например, «морской житель» в бутылке, старые часы с боем, которые он любил разбирать и чинить, и другие предметы. Иногда он приглашал меня и моего младшего брата Мстислава посмотреть на игрушки, но когда однажды трехлетний Славик потянулся рукой к бутылке, он едва не набросился на него с кулаками.
– Почему дяденька такой странный? – спрашивала я няню.
– Его, деточка, бык забодал, – отвечала она.
В обширной семье Мещериных-Грабарей ни в одном из последующих поколений не было никого, кто интересовался бы техникой. «Был когда-то один, – скажут потомки, – да и того бык забодал».
Лишенцы
После октябрьской революции 1917 года многие люди в России были лишены гражданских прав. «Лишенцами» оказались бывшие белогвардейцы, дворяне, помещики и их дети, родственники лиц, уехавших за границу, а впоследствии также семьи нэпманов и раскулаченных крестьян. Лишенцев не принимали даже на самую низкооплачиваемую государственную работу. Они не имели трудовых книжек и не могли получать продуктовые карточки. Каждый выживал, как умел: дворяне становились учителями танцев или краснодеревщиками, их жены – домашними портнихами, кто-то промышлял на барахолке. Многие постепенно деклассировались и нередко спивались.
Самой незащищенной категорией лишенцев стали гувернантки, приехавшие в Россию на заработки и не успевшие вовремя вернуться к себе на родину. Они очутились в настоящей ловушке. В конце 20-х годов выезд из страны им был запрещен, а здесь отказано в праве на работу.
Ада Робертовна
Тяжелее всего в ту пору пришлось пожилым гувернанткам, единственным источником существования которых служили частные уроки иностранных языков. К их числу принадлежала Ада Робертовна, по происхождению швейцарская немка.
Ада Робертовна занимала маленькую комнатку коммунальной квартиры в не существующем теперь Кудринском переулке. Убранство безукоризненно чистой комнаты было предельно скудным: узкая железная кровать; шкаф, служивший и буфетом, и гардеробом; три простых стула и небольшой складной столик с изогнутыми ножками. За этим столом и проходили уроки. Ада Робертовна занималась только с детьми младшего школьного возраста, владевшими разговорным немецким языком. Она принимала одновременно не более двух учеников, видимо, по числу свободных стульев, а может быть, это входило в систему ее преподавания. Моим товарищем по занятиям был болезненного вида соседский мальчик Кирюша, который, как и я, в течение трех предшествующих лет посещал дошкольную немецкую группу. Других учеников Ады Робертовны я ни разу не видела.
* * *
Ада Робертовна была худощавой женщиной выше среднего роста, никогда не горбившейся, с прямо посаженой головой. Лицо ее казалось почти аскетическим: щеки были впалыми, губы слегка поджатыми, глаза смотрели строго. Однако мы с Кирюшей не испытывали перед ней страха и воспринимали занятия как нечто совершенно естественное. Ада Робертовна не делала нам замечаний, лишь изредка прибегая к паузам и поглядывая на нас поверх очков, которые надевала только во время уроков.
Со временем я поняла, что программа занятий была ею тщательно продумана, и мы сразу же погрузились в увлекательный мир древнегерманского эпоса и античной мифологии. Само собой разумеется, что не только преподавание, но и упоминание этих предметов в средней школе тех лет было запрещено. Небольшая библиотека Ады Робертовны состояла из книг, по большей части в кожаных переплетах, с прекрасными иллюстрациями. Мы с Кирюшей быстро освоили готический шрифт, как печатный, так и письменный, что впоследствии очень пригодилось мне во время войны, когда пришлось работать с немецкими документами.
* * *
Ада Робертовна исповедовала лютеранство и по воскресеньям посещала церковные богослужения в «кирке» – единственном протестантском храме в Москве, который располагался в Старосадском переулке на Маросейке. Позднее его закрыли и переделали в кинотеатр «Арктика», но Ада Робертовна до этого времени не дожила.
Чем питалась Ада Робертовна, не получавшая продуктовых карточек, остается загадкой. Иногда мы видели, как она разогревает на маленькой спиртовке желудевый кофе с добавлением цикория. Все остальное можно было приобрести только на рынке, по коммерческой цене. На Рождество – запрещенный в то время праздник – Ада Робертовна позволяла себе неслыханную роскошь: чашку натурального кофе и самолично испеченный «кухен» – маленький сухой пирог из муки, сахарина и все того же цикория.
* * *
От мифологических сюжетов Ада Робертовна постепенно переходила на исторические темы. Собственно говоря, тема была одна: правление и процветание кайзеровских династий. Будучи убежденной монархисткой, Ада Робертовна бережно хранила альбомы с фотографиями последнего кайзера Вильгельма II и членов его семьи. Как известно, Вильгельму II на редкость повезло. Проиграв первую мировую войну и будучи низложен, он мирно закончил свои дни в Голландии. Ада Робертовна с удовольствием зачитывала нам вслух отрывки из писем своей подруги, которая в начале двадцатых годов сопровождала бывшего кайзера в обувной магазин для покупки галош.
* * *
У Ады Робертовны был свой метод постепенного усложнения материала. Она старалась не повторять пройденного, предпочитая закреплять знания учеников с помощью домашних заданий. Поэтому на ее уроках можно было всегда узнать что-то новое, и интерес к ним не ослабевал.
К концу первого года занятий мы уже бойко декламировали стихотворения Шиллера, Мюллера и Рильке, а в дальнейшем сумели одолеть такие сложные сочинения, как «Эгмонт» и «Гетц фон Берлихинген» Гёте, нравоучительные драмы Лессинга и многое другое. Каким-то непостижимым образом Ада Робертовна умела вдохнуть жизнь в персонажи этих философских, сухих, совершенно не сценических пьес, и поведение каждого из них становилось понятным и доступным детскому восприятию. Наши герои любили, страдали, впадали в ярость, раскаивались и получали прощение.
Мы с нетерпением ждали, когда дойдет очередь до «Фауста», но летом тридцать третьего года Ада Робертовна неожиданно скончалась. Занятия немецким языком больше не возобновлялись, а «Фауст» так и остался непрочитанным.
Варвара Михайловна
Это была исконно русская женщина, ставшая лишенкой в силу драматических обстоятельств. В двадцатых годах ее семья получила разрешение на выезд в Париж, но внезапно заболел младший сын. Муж благополучно отбыл вместе со старшими детьми, и предполагалось, что Варвара Михайловна в скором времени последует за ними. Однако болезнь затянулась. Кажется, это была тяжелая форма сыпного тифа, осложнившаяся менингитом. Когда сын, наконец, выздоровел, отъезд за границу был уже невозможен – мышеловка захлопнулась.
Варвара Михайловна, никогда и нигде не служившая, оказалась одна, без средств к существованию, с физически крепким, но умственно неполноценным взрослым сыном на руках. К тому же Боречка, как она его называла, доставлял ей немало хлопот.
К счастью, в Москве у Варвары Михайловны нашлись друзья, которые посоветовали ей давать частные уроки музыки. В свое время Варвара Михайловна с блеском окончила консерваторию, и за ней тянулся шлейф громких имен. Она была ученицей знаменитой немецкой пианистки Софии Ментер, которая, в свою очередь, была ученицей Листа, а на выпускном экзамене Варвару Михайловну поздравил сам Петр Ильич Чайковский, предрекая ей блестящее будущее.
Предсказание не оправдалось. Варваре Михайловне не суждено было концертировать. Она вышла замуж, обзавелась большой семьей, но с роялем не расставалась. Это и спасло ее впоследствии.
У Варвары Михайловны не было никаких навыков преподавания, не говоря уже о системе. Ее уроки заключались в обучении детей простейшей нотной грамоте и разучивании, путем многократного повторения, традиционных этюдов Черни и других несложных фортепьянных пьес.
Если ученик оказывался неспособным или ленивым, Варвара Михайловна не огорчалась. Она садилась за рояль сама и с удовольствием исполняла что-нибудь из Шопена, Бетховена или Мусоргского. Играла она замечательно, и слушать ее можно было бесконечно. Ее скрюченные, распухшие от домашней работы пальцы стремительно перемещались по клавишам, извлекая волшебные звуки из старенького «Беккера».
Иногда Варвара Михайловна могла вдруг задремать во время урока, но эти паузы длились не более нескольких минут, и, встряхнувшись, она продолжала занятия.
Никто точно не знал, сколько лет Варваре Михайловне. Казалось, что бесконечно много. Она всегда приходила на урок в одном и том же порыжевшем пальто до пят, напоминавшем салоп боярыни Морозовой, такой же длинной юбке и неопределенного цвета вязаной кофте. Но ее белая блузка была всегда тщательно накрахмалена, а шею прикрывала бархотка.
* * *
Однажды Варвара Михайловна не пришла на занятия, никого не предупредив. Телефона у нее не было, и меня послали разузнать, в чем дело. Было мне тогда лет десять или одиннадцать. Я без труда нашла густонаселенную коммунальную квартиру в доме на Садово-Каретной и нажала на кнопку звонка. Дверь открыл саженного роста человек, одетый в рубашку, дореволюционное галифе и домашние войлочные туфли. Узнав, что я пришла к Варваре Михайловне, он жестом пригласил меня войти в переднюю.
– Здравствуйте, вы придерживаетесь вегетарианства? – спросил он строго и, не дожидаясь ответа, произнес: «Честь имею!». После чего повернулся кругом, изобразив войлочными каблуками подобие щелчка, и тут же исчез.
Через несколько минут появилась неузнаваемая Варвара Михайловна в ситцевом халате, неприбранная, с торчащими прядями седых волос и руками, покрасневшими от стирки в горячей воде.
Оказалось, что утром, когда Варвара Михайловна готовилась, как обычно, идти на урок, к ней явился участковый милиционер по поводу небольшой потасовки, учиненной накануне во дворе обожаемым Боречкой.
Дело было в том, что Борис, который обычно вел себя тихо, начинал приходить в состояние крайнего возбуждения перед главными советскими праздниками: Первым мая и Седьмым ноября. Видимо, в нем пробуждались какие-то дремавшие инстинкты, искавшие повод для взрыва. В такие дни он выбегал во двор и начинал сооружать из всякого хлама баррикады.
Дворники относились к подобным занятиям снисходительно и даже с юмором. «Ступай, ступай, дурачок, – приговаривали они, легонько подталкивая его метлой. – Вон сколько мусору натаскал, нет бы чем полезным заняться». Как правило, все завершалось благополучно. Борис быстро остывал и отправлялся домой, понурив голову. Однако на этот раз он не на шутку разъярился и набросился на дворника с кулаками, а тот побежал в милицию.
К счастью, все обошлось. Участковый, давно знавший обстановку в квартире, сделал краткое внушение притихшему Борису, пригрозив в случае повторения отправить его на Канатчикову дачу, а Варваре Михайловне сказал: «Сочувствую, мамаша, но все-таки вы за ним следите». Соседи жалели Варвару Михайловну. «Вообще-то Борис смирный, – говорили они, – только на него временами что-то находит». Тем дело и кончилось, а Варваре Михайловне пришлось застирывать грязную одежду.
Варвара Михайловна жила еще очень долго, продолжая давать уроки музыки и пережив сына. Она умерла во время войны в эвакуации, куда взяли ее с собой добрые люди.
Последний Мещерин
Василий Михайлович Мещерин (дядя Вася) был младшим братом моей матери. Он родился в 1895 году, и его детство прошло в подмосковном имении Дугино, где обучением и воспитанием дяди Васи и двух его старших сестер занимались домашние учителя и гувернантка-француженка. В дальнейшем сестры поступили в московскую гимназию, а дядю Васю отправили во Францию, где он успешно окончил в 1912 году «Эколь де Рош» (Йcole dеs Rосhеs) – училище, дающее право продолжать образование в высших учебных заведениях Франции.
В. М. Мещерин. Дугино. Начало 1910-х гг.
Прожив несколько лет за границей, дядя Вася приобрел лоск и хорошее французское произношение, однако особого рвения к дальнейшему обучению не проявил. Вернувшись в Дугино, он наслаждался неспешным течением усадебной жизни: игрой в крокет или лаун-теннис, далекими прогулками по живописным берегам Пахры и коротанием вечеров за популярной среди светских любителей карт партией в «винт».
Пока ему подыскивали подобающее занятие, грянула первая мировая война. Дядя Вася тут же записался вольноопределяющимся и оказался в действующей армии. В сражении на Ипре он попал под немецкую газовую атаку, после чего был демобилизован по состоянию здоровья и вновь очутился в Дугине.
Однако прежний образ жизни ушел безвозвратно. Война еще не закончилась, а уже произошла революция, и имение было конфисковано. С установлением советских порядков дядя Вася был причислен к безнадежной категории лишенцев как сын помещика и домовладельца.
***
Не имеющий никакой специальной подготовки дядя Вася готов был браться за любое дело, но, как правило, из этого ничего не получалось. Его знаний французского не хватало для того, чтобы давать частные уроки. К тому же он был внутренне несобран, нетерпелив и быстро уставал от умственного напряжения. Видимо, по этой причине он оказался не в состоянии выполнять даже несложную счетоводческую работу, которую тайком предоставляли лишенцам ожившие во время НЭПа частники.
Пробовал себя дядя Вася и в качестве натурщика. Художники охотно приглашали его позировать. Он был высок ростом, правильного телосложения, с хорошо вылепленной головой. При взгляде на его лицо с прямым носом, красиво очерченным ртом и твердой линией подбородка создавалось обманчивое впечатление волевого, знающего себе цену человека. В действительности же дядя Вася был не уверен в себе, доверчив и подвержен посторонним влияниям. Длительные сеансы в художественных мастерских изнуряли его, и вскоре он от них отказался.
Лучше всего дядя Вася чувствовал себя среди людей, стоящих ниже его по социальному положению и образованию.
– Васька-то с приказчиками якшается, – судачили тетушки, – и водку с ними пьет. Стал говорить «магазин».
Бывшие приказчики, сделавшиеся нэпманами, охотно доверяли дяде Васе ведение разного рода переговоров. Он никогда не требовал больше того, что ему платили, а его представительная внешность часто приносила успех. Поручали ему и переброску товаров. Он с удовольствием ездил за город, отмеривая при этом многие километры пешком.
В. М. Мещерин. 1914 г.
Однако НЭП рухнул, а вместе с ним улетучилась возможность получить хоть какую-то работу, и дядя Вася вновь ощутил себя лишенцем, находя утешение лишь за бутылкой горячительного в компании таких же неудачников. Из всех доступных ему напитков он предпочитал настойку зверобоя, которую ласково именовал «зверюшкой».
В.M. Мещерин. 1939 г.
* * *
В своих бедах дядя Вася естественно винил большевиков, о чем не стеснялся говорить вслух в состоянии подпития. Удивительно, что в тридцатые годы на него не донесли. Скорее всего, он просто не был ни для кого помехой. Полутемная комната в коммунальной квартире на Дубининской, где он проживал с женой, не могла служить предметом зависти.
Единственным источником дохода в семье было жалованье жены, служившей в библиотеке. Иногда дядя Вася занимал деньги у родных под очередную попытку устроиться на работу, но это был мучительный процесс, сопровождавшийся оговорками и назиданиями. Зато его охотно приглашали летом на дачу присматривать за домом.
На природе дядя Вася оживал. Он любил совершать далекие прогулки в лес, прихватив с собой племянника и окрестных мальчишек. Выбрав подходящее место, дядя Вася умело разводил кос-
тер и угощал детвору печеной картошкой и леденцами, рассказывая им старые армейские истории и анекдоты. В такие минуты он отдыхал душой.
* * *
Периодически дядя Вася продолжал поиски работы. Он уже давно не обновлял гардероб и полностью утратил былой шарм. От постоянного курения дешевых папирос его сотрясал тяжелый кашель. На лице образовались глубокие складки, и он выглядел много старше своих лет. Пытаясь получить трудовую книжку, дядя Вася совершал поездки в другие города, но безрезультатно. Почтовые открытки, которые он посылал оттуда, полны безысходной тоски.
Когда началась Отечественная война, дядя Вася немедленно записался в ополчение. Его часть попала под Вязьмой в окружение и понесла большие потери. Дяде Васе повезло: несмотря на крайнее истощение, ему удалось добраться до дома. Едва окрепнув, он пошел работать на военный завод. Теперь брали всех, о лишенцах никто не вспоминал. Однако здоровье дяди Васи, подорванное еще в первую мировую войну, не выдержало, и вскоре он заболел крупозным воспалением легких, а в феврале 1943 года его не стало. Время было тяжелое, и гроб с телом дяди Васи погрузили на дровни и отвезли на Даниловское кладбище, где с давних времен покоится прах Мещериных.
Коломенские староверы
Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском… Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина, гармония красоты, законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь и долго стоял ошеломленный…», – писал в 1868 году французский композитор Берлиоз, дважды посещавший Россию во второй половине XIX века[14].
В старых справочниках значилось, что бывшее подмосковное село Коломенское находится в семи километрах к югу от Москвы. Расположенное на высоком берегу Москвы-реки, оно приобрело известность благодаря уникальному комплексу сооружений XVI–XVII веков. Выдающимся памятником этого древнерусского зодчества стала каменная шатровая церковь Вознесения, воздвигнутая в 1532 году неизвестными мастерами в ознаменование рождения у царя Василия III сына – будущего Ивана Грозного.
Семидесятиметровую церковь обрамляла круговая галерея с широкими лестничными всходами. В архитектурный ансамбль Коломенского входили и другие замечательные храмы, но почти все они, как и церковь Вознесения, еще в XIX веке начали приходить в упадок.
* * *
В 1928–1929 годах наша семья: отец, мать и мы с младшим братом, переезжала на лето из Москвы в Коломенское, где отец снимал две небольшие комнаты с пристроенной к избе верандой у местного дьякона отца Николая. Когда мы впервые приехали в Коломенское, мне только что исполнилось шесть лет.
Коломенское. Церковь Вознесения
Коломенское славилось своими заливными лугами, благодатными для огородничества и скотоводства. Лес едва виднелся на горизонте, в самом селе деревьев было немного, но их с лихвой заменяли яблоневые сады и разросшиеся вдоль дороги кустарники. В этих садах и зарослях ребятишкам было раздолье. К речке без взрослых спускаться не разрешалось, зато какое удовольствие доставляла нам беготня по круговой галерее Вознесенской церкви, с ее причудливым расположением лестниц, где звучало эхо и можно было играть в прятки.
Богослужения проходили лишь в одном храме, расположенном на краю села. Собственно говоря, все село состояло из одной широкой улицы, заворачивающей к Москве-реке. По обеим сторонам ее красовались чистенькие избы с ухоженными палисадниками. На многих калитках был обозначен деревянный крест.
– Так принято у староверов, – объяснила няня. – Они по древним книгам молитвы читают. В большой строгости живут.
* * *
Действительно, большую часть населения Коломенского составляли староверы, или старообрядцы. Много позже я узнала, что в середине XVII века в русской православной церкви произошел раскол. Все началось с исправления текста церковных книг, затронувшего, якобы, их единство. Это движение, отражавшее новшества в обществе, возглавил патриарх Никон.
Староверы сопротивлялись нововведениям никонианцев с неистовой силой, вплоть до самосожжения. Со временем страсти утихли, и число истинных, или «истых» староверов стало убывать. Постепенно они разбились на небольшие общины, разбросанные по разным уголкам страны.
Я заметила, что на калитке нашего дома крестик отсутствует. Видимо, отец Николай не считал себя старовером.
Рассказывали, что в юности он собирался стать оперным певцом и брал уроки вокала вместе со знаменитым впоследствии солистом Большого театра Максимом Дормидонтовичем Михайловым. Затем неожиданно для окружающих принял духовный сан. Природа одарила его баритональным басом редкой красоты. На богослужения в Коломенское съезжались жители всех окрестных деревень. «Отца Николая послушать», – говорили они. И действительно, казалось, стены храма раздвигаются от его мощного голоса.
Семья и родные И. Э. Грабаря в Коломенском. Слева направо: В. Э. Грабарь, В. М. Мещерин, В. М. Грабарь, О. И. Грабарь, ММ. Мещерина, М. И. Грабарь, И. Э. Грабарь. 1928 г.
Отец Николай, которого ребятишки звали просто дядя Коля, выглядел как настоящий русский богатырь: высокий, широкоплечий, лицо обрамляла аккуратно подстриженная борода каштанового цвета.
В обычной жизни это был веселый, добродушный человек, вечно окруженный детворой. Хозяйством заниматься он не слишком любил, предоставляя домашние дела жене. Его гордостью был малинник, простиравшийся далеко в сад. Кусты малины превышали человеческий рост, на ветвях сверкали ягоды величиной со сливу.
Иногда по вечерам мы забирались с дядей Колей на чердак, где он хранил свои сокровища. Главным их них был старенький граммофон, а также набор пластинок с романсами и ариями из опер в исполнении известных артистов. Там, на чердаке, я впервые услышала Шаляпина и Собинова.
Ольга Грабарь и Мстислав Грабарь. Коломенское. 1928 г.
И. Э. Грабарь с женой и детьми. Коломенское. 1928 г.
Пластинки были заиграны, голоса сипели, иногда вовсе замирали. Послюнявив большой палец, дядя Коля ухитрялся приводить пластинку в движение, и вновь прорывались таинственные слова: «Уймитесь волнения, страсти…» в неповторимом шаляпинском исполнении.
* * *
В Коломенском у меня появилась подружка Лена. Хотя деревенские девочки были постоянно заняты в хозяйстве, после обеда их отпускали погулять на часок-другой с младшими братьями и сестрами.
В свободное от работы время Лена преображалась. Она снимала постоянно повязанный платок, стоптанные сапоги, надетые на босу ногу, и мы с ней убегали в заросли, где играли в прятки и залезали на раскидистые яблони. Лена знала много забавных историй из жизни обитателей села, но по прошествии отпущенного времени она внезапно останавливалась, приговаривая: «Пора домой, сейчас коров пригонят», обувалась, надевала платок и убегала, забирая с собой малышей.
Мне не приходило в голову спрашивать Лену, почему она и другие коломенские девочки носят платок и ходят в длинных юбках. «Наверное, так заведено у староверов», – думала я, не вникая в смысл этого понятия.
* * *
Истые староверы твердо придерживались уклада жизни, принятого их отцами и дедами: не пили вина, не курили, посторонних к столу не приглашали. Исключение составляли дети младшего возраста. Мы с братом чувствовали себя у родных Лены как дома.
Повседневный быт староверов был продуман до мелочей. Они жили большими семьями и трудились от зари до зари.
Мужчины выгоняли на пастбище скот, косили траву, плотничали, лудили, чинили, красили строения и заборы. Женщины доили коров, пололи гряды, занимались домашним хозяйством.
Церковь Вознесения. Вид со стороны реки
Лена и ее старшие сестры с утра делали уборку: мыли посуду скребли полы, стирали потные мужские рубахи, помогали взрослым готовить обед.
Не оставался без работы и старенький дед, который плохо передвигался, но сохранил зрение. Когда созревали огурцы, его сажали на завалинку и ставили перед ним четыре плетеные корзины. Сортировкой огурцов занимались дети, а дед ими руководил. В первую корзину отбирали огурцы без единой отметины (высший сорт), во вторую, тоже хорошие, однако не такие однородные (первый сорт), в третью – огурцы крепкие, но разной формы (для домашней засолки). Наконец, в четвертую корзину шли треснутые и перезревшие огурцы – они предназначались свиньям. Если кто-нибудь из малышей кидал огурец не в ту корзину, он получал от деда легкий щелчок по лбу.
Когда корзины заполнялись, ребятишкам разрешали погулять недалеко от дома. Они должны были вовремя вернуться к обеду, который начинался ровно в полдень и длился не менее часа. За длинный деревянный стол садилась вся семья. Посреди стола стоял огромный дымящийся котел с супом, в котором плавали куски мяса, лук и картофель. Тарелки отсутствовали. Каждый дотягивался до котла столовой ложкой и вылавливал мясо, помещая его на большой кусок хлеба, заранее нарезанного и уложенного горками на разных концах стола.
Передние въездные ворота и церковь Вознесения. Вид с запада
Открывал эту процедуру хозяин дома, предварив ее короткой молитвой. Староверы ели медленно, тщательно пережевывая мясо и стараясь не капать на стол. Взрослые помогали детям.
Вслед за обедом наступал черед отдыха. Спали на лежанках, на чердаке, на печке, но в сад не выходили. Детей отпускали на волю, и это было наше с Леной любимое время.
Семья Лены несомненно принадлежала к консервативной части староверов. Другие были не так ревностны.
В просторной комнате приходского священника отца Петра стоял квадратный стол, накрытый белой скатертью с красной каймой. На столе постоянно дымился самовар. Старший сын батюшки Юрий Петрович не пошел по стопам отца, а выучился на инженера и служил в Москве, приезжая в Коломенское только по воскресеньям. Дочь Шура работала где-то на окраине города и жила в общежитии. Отец Петр относился к выбору своих детей спокойно, требуя от них лишь неукоснительной веры в Господа и соблюдения постов. В храм ходили всей семьей.
* * *
В период НЭПа, вплоть до середины 1929 года, Коломенское процветало. В центре села располагалась торговая лавка Брыкиной. Меня часто посылали в лавку за хлебом, сахаром и всякой мелочью. В свободное время ко мне присоединялась Лена.
Удивительно заманчиво выглядели душистые пряники, большие тульские и маленькие вяземские, с застывшей на них сахарной слезой. Но особенный восторг у нас вызывали «сахарные головы» – спрессованный в пирамидальную форму сахар в синей обертке, прозванный местными жителями «синий мундир – белая подкладка». «Сахарные головы» мало кто покупал. Они стоили дорого, сахар нужно было откалывать специальными щипчиками и пить чай «в прикуску». Народ предпочитал сахарный песок.
В лавке Брыкиной водилась всевозможная снедь: копченая, соленая и заливная рыба, окорока, студень, колбасы – да чего там только не было. Впрочем, селяне не имели обыкновения лакомиться и жили в основном натуральным хозяйством. Едой считали хлеб и мясо, овощи к столу не подавали. Каждый мог пойти в огород и сорвать огурец или сжевать пучок зеленого лука, съесть на ходу морковку, яблоко. Огороды охраняли только от птиц, втыкая в землю тряпочное чучело.
Цековь Вознесения, 1532 г. Церковь Георгия Победоносца, вторая половина XVI в. Водовзводная башня, 1630-1640 гг.
* * *
После уборки урожая коломенцы готовились к свадьбам. Это было незабываемое зрелище.
В предвечернее время главную улицу подметали. По одной стороне, там, где находился наш дом, не спеша, прогуливались взад и вперед молодые парни в светлых косоворотках и смазных сапогах, с картузами на головах. По противоположной стороне улицы плавно шествовали невесты.
Куда только девались нескладные юбки и вечные платки! Девушки были одеты во все городское. Никаких головных уборов, модные прически и туфли на каблуках.
Не могу сказать, участвовали ли в этом молчаливом представлении дети истых староверов, но женихов и невест было много. Гулянья длились несколько дней, причем девицы каждый раз обновляли наряды.
К сожалению, обряд венчания мне не довелось увидеть. В самый разгар свадебных торжеств пришла пора уезжать в Москву.
* * *
Жизнь в Коломенском протекала так спокойно, что, казалось, никакие обстоятельства не могут нарушить размеренный ход событий.
Беда пришла внезапно. Случилось это, скорее всего, в августе 1929 года. Помнится, брат заболел свинкой, и нас с ним отправили на неделю в город. Когда мы вернулись, я не поверила своим глазам. Коломенское опустело и стало неузнаваемым. Все дома с крестами на калитках были наглухо заколочены, единственная действующая церковь закрыта. Тогда же я впервые увидела пьяного мужика, валявшегося в канаве.
Перед обедом меня, как обычно, послали за хлебом и сахаром к Брыкиной. Но ее лавка была забита досками, а на соседней избе сверкала надпись, выведенная алой краской на белом полотнище: «Продмаг».
В продмаге мне продали буханку сыроватого черного хлеба, сахара не было и в помине.
– Завтра привезут три мешка, – хриплым голосом пояснил продавец в засаленном фартуке. – Соленых огурцов не желаете? – и он зачерпнул половником из кадки два разбухших огурца. – Теперь все дешево будет, новая жизнь начинается. Брышке конец, – добавил он.
* * *
Забрав буханку хлеба и сдачу, я опрометью бросилась домой.
– Что случилось, где люди? – спрашивала я родителей.
Они отвечали коротко: «Переселились в другую деревню».
Няня оказалась словоохотливее.
– Ночью приехали на грузовике военные. Староверов выгнали из домов, кто в чем был, погрузили на баржу и отправили в Соловки.
– Что такое Соловки?
– Это самое глухое место на земле. Оттуда назад пути нет.
– За что их отправили?
– Видать, хорошо работали. Кому-то обидно стало. Ну, все, спать пора.
* * *
Понемногу из отдельных домов начали осторожно выходить люди. Это были коломенские жители, не числившиеся староверами. А в новый продмаг стали поступать товары. Привезли обещанные мешки с сахаром, но почему-то он был сырым, и в нем попадались зерна овса. Спички тоже оказались подмоченными, их приходилось сушить в печке. Появились и конфеты – слипшиеся карамельные подушечки, которые продавали кучками. Сахарные головы исчезли бесследно.
Необычный принцип раскулачивания постиг Коломенское. Изгнали не зажиточных крестьян и богослужителей, как происходило повсеместно в годы «великого перелома», а только староверов.
Уцелел и домик нашего хозяина, хотя отец Николай, единственный дьякон в селе, был известен далеко за его пределами. Даже малинник не пострадал.
Тяжело было смотреть на дядю Колю в эти дни. Он ходил по дому молча, как потерянный, с опущенными плечами, и его лицо приобрело странное выражение, словно он в чем-то провинился.
Через некоторое время мы покинули Коломенское и больше туда не возвращались. Чтобы поддержать отца Николая, решили сделать проводы. Дома оказалась водка и соленая красная рыба из старых запасов. Дядя Коля взбодрился и даже спел вполголоса старинный романс. Но веселья не получилось. На прощанье родители обнялись с ним, оставили ему московский адрес и просили непременно приезжать, обещая помощь и поддержку.
* * *
Прошло немало лет, прежде чем я снова увидела дядю Колю. Это случилось в Доме художников на Масловке, где наша семья жила с 1936 года. Дядя Коля привез в город небольшую икону для продажи, решил посоветоваться с отцом и ждал, когда тот вернется из мастерской.
Он сидел на стуле в передней, по-крестьянски держа ладони на коленях. На нем был старый пиджак и посконные штаны. Увидев меня, он поздоровался, слегка приподнявшись, и вновь принял прежнюю позу. Внешне он мало изменился, но чувство вины так и запечатлелось у него на лице.
Неунывающий народ
Сказочница
Никогда не забуду свое первое впечатление от коммунальной квартиры на Волхонке. Нужно было срочно осмотреть комнату, доставшуюся мне осенью сорок шестого года по обмену. Из всех коммунальных квартир, когда-либо увиденных мной, эта была самая безрадостная.
К дому пришлось спускаться со двора по ветхим, мокрым от сырости ступенькам. Входная дверь болталась, едва держась на ржавых петлях. Не успела я переступить через порог, как меня встретила громким мяуканьем туча бездомных кошек, бросившихся под ноги откуда-то сверху.
Квартира, которую я искала, находилась на втором этаже. Дверь в нее была обита войлоком, рядом виднелся замызганный звонок. Предназначавшаяся мне комната располагалась сразу за дверью, справа от нее.
Трудно поверить, но со временем в этой комнате удалось разместить просторную тахту, гардероб, детскую кроватку, обеденный стол, кресло и несколько стульев. Все это – не считая дровяной плиты. Часть узкого коридора, примыкавшую к комнате, можно было использовать для поленницы. Там же умещалась громоздкая детская коляска.
* * *
Все жилые комнаты располагались по правой стороне длинного, узкого и темного коридора. Рядом с нами проживала средних лет вдова с сыном-подростком, малозаметная женщина. Ее соседкой была въедливая старушонка Катерина Мироновна, любившая пожаловаться на свои болезни.
– Мне инвалидность не дають, а в голове-то давить и давить, – сетовала она.
По воскресным дням Катерина Мироновна посещала действующий храм, что не мешало ей, проходя по коридору, прихватывать и быстро засовывать под кофту полено из нашей дровяной клади.
Самыми колоритными жильцами были здоровенная баба Клавдия и ее хлипкого вида муж Степан, большой охотник пропустить стопку-другую. Их комната располагалась в самом конце коридора, оттуда постоянно слышалась брань.
– Это они деньги делят, – поясняла Катерина Мироновна. – Когда получку домой приносят, крупные бумажки на пол кидают, а потом за ними ползают. Кто сколько подберет, все его. Клавдия-то пошустрее будет, вот Степан с горя и напивается.
Обо всем этом я узнала, разумеется, позже. А, переступив впервые порог квартиры, пришла в ужас. «Ни одна няня не согласится пойти в такую дыру к четырехмесячному малышу», – первое, что пришло мне в голову.
«Тетя Маша пойдет», – заверили меня рекомендовавшие ее люди.
Тетя Маша
* * *
Тетя Маша явилась незамедлительно.
Это была сутуловатая женщина среднего роста с крупным носом и патлами седых волос. Взгляд у нее был насупленный, суровый, и всем своим видом она напоминала бабу Ягу. Бросались в глаза ее руки, длинные, жилистые, с цепкими пальцами. Она передвигалась размашистым шагом, твердо, уверенно, но не ступала, а шныряла, подавшись вперед, будто что-то высматривала. На вид тете Маше можно было дать лет семьдесят. Потом оказалось, что ей нет и шестидесяти.
Тетя Маша сразу взялась за дело. Она отличалась необычайным проворством. Держа в одной руке тарелку с кашей, а другой прихватив младенца, она ухитрялась не только его кормить, но одновременно орудовать кочергой в плите. Не было случая, чтобы при этом была разбита какая-нибудь посудина или подгорела в кастрюле еда.
Существенное место в представлении тети Маши об обязанностях няни занимала процедура укачивания («качания») ребенка. Безрессорная коляска приводилась для этого в полувертикальное положение, и, качая ее отрывистыми движениями взад-вперед, тетя Маша рассказывала сказку. Сказка была всегда одна и та же.
– Значить, так, – начинала она тихим голосом. – Прыгает по лесу зайчик, идет своей дорогой, никому не мешает. Вдруг ему навстречу серый волк. Как заорет: «Куды ты, заяц, прешься, черт паршивый, всю дорогу загородил!»
Последнюю фразу тетя Маша выкрикивала истошным воплем, на одном дыхании. Конец сказки был примирительным. «Зайчик прыгать перестал и посторонился. Чего, мол, с дураком связываться? И пошел своей дорогой!»
Как ни удивительно, но убаюкиваемый толчками ребенок быстро засыпал под эту сказку. Дождавшись заветного момента, тетя Маша ловко спускала коляску со второго этажа во двор и загоняла ее в подворотню, приговаривая: «Кто тебя украдет, кому ты, на хрен, нужен! Теперь можно и хозяйством заняться».
* * *
К ведению хозяйства тетя Маша относилась серьезно, нередко пускаясь в наставления.
Перед приходом гостей она придирчиво оценивала количество купленной водки.
– Гостя сразу нужно водкой ошмандорить, – деловито говорила она.
– Зачем?
– Чтобы меньше ел.
– Так ведь от водки аппетит разгорается.
– Это если стопками пить, а если стаканами – пропадает.
– Для чего тогда угощение?
– Чтобы от людей не стыдно было. Чай, не бедные.
– Ну, и пусть себе едят на здоровье, зачем ошмандоривать?
Исчерпав запас аргументов, тетя Маша резко меняла тему, чтобы последнее слово осталось за ней. Понятие «ошмандорить гостя» прочно засело у нее в сознании, видимо, еще с тех времен, когда хлебное вино стоило намного дешевле закуски.
– Поступайте, как знаете, а мне малого качать нужно, – ставила она точку в разговоре.
* * *
Спасительное восклицание «А мне малого качать нужно!» тетя Маша использовала при разных обстоятельствах.
Как-то раз, придя домой раньше обычного, я застала тетю Машу шастающей по комнате в состоянии сильного возбуждения, что обычно служило преддверием очередной выдуманной истории.
– Тут двое без вас приходили, – начинала она мимоходом. – Сам такой видный, сама красивая. Я им, как полагается, предложила присесть, а он ей и говорит: «Чем нам с вами в душной комнате сидеть, пойдемте пройдемся». Больше не возвращались.
Тетя Маша за работой
Как вскоре выяснилось, никто им посидеть не предлагал. Увидев гостей, тетя Маша прямо с порога сердито буркнула: «Самой, самого дома нет, а мне малого качать нужно». С тем гости и ушли.
* * *
Тетя Маша любила словотворчество. Если слово или какое-нибудь обозначение ей не нравились, она тут же переделывала их по собственному усмотрению.
Название железнодорожной станции «Заветы Ильича» преобразилось в «Лизавету Ильича», «анкета» – в более удобную «антенну» («антенку надо заполнить»). Солдаты, видимо еще со времен гражданской войны, навсегда остались в ее сознании красноармейцами, причем в буквальном смысле слова.
Гуляя со своим питомцем возле вновь воздвигаемого здания, которое строили немецкие военнопленные, тетя Маша приговаривала: «Гляди, гляди, дядечков привезли. Сейчас их будут из машины вытряхать. Кого, кого? Этих, как их, пленных красных армейцев».
Тетя Маша никого не щадила, ни молодых, ни старых. Если кто-то казался ей глупым, она изрекала: «Пустая старуха, об чем говорить, пустая». Неумелых не уважала: «Сразу видать, хозяин хреновый». Своих оценок она, как правило, не меняла. Пригвоздив человека раз и навсегда, она теряла к нему интерес.
Обитателей коммунальной квартиры на Волхонке тетя Маша с первых минут оценила по достоинству. Когда, много лет спустя, она вновь появилась в нашем доме, бросила мимоходом: «Как там жильцы-то, все, поди, передохли?» И, не дожидаясь ответа, занялась своим делом.
* * *
Каким ветром, в какие годы занесло тетю Машу в Москву – навсегда осталось тайной. Скорее всего, ее, как и многих других, пригнал сюда голод. В столице тетя Маша не потерялась. У нее была своя отдельная комната в коммунальной квартире на Таганке.
Ни читать, ни писать тетя Маша не умела, зато складывала и умножала в уме молниеносно. Ни один продавец не мог обсчитать ее ни на копейку.
На протяжении нашей послереволюционной истории появлялись разные типажи нянь – от преданных своим хозяевам стародавних нянюшек, ставших членами семьи, до бежавших из колхоза молодых домработниц тридцатых – пятидесятых годов.
Тетя Маша не подпадала ни под какую категорию. Она существовала вне времени и пространства, будучи совершенно неповторима.
Баловень судьбы
Это было в конце шестидесятых годов. В Москве стояла летняя жара. Вернувшись с работы домой, я увидела в комнате незнакомого человека в рубашке с открытым воротом и засученными выше локтей рукавами. Он сидел за столом в непринужденной позе, перелистывая журнал.
Увидев меня, человек привстал и улыбнулся. Улыбка у него была добрая, застенчивая. Она не сочеталась с его волосатыми руками и обильной растительностью на груди.
– Мой друг Котик, – сказал вошедший в комнату муж. – Только что прибыл из Парижа.
Я подумала, что Котик – просто шутливое прозвище, настолько это слово не соответствовало облику сидевшего передо мной человека. Упоминание о Париже тоже показалось мне шуткой.
Но я ошиблась.
Выяснилось, что наш гость – Константин Гайкович Адамов – народный артист Азербайджанской ССР, один из ведущих актеров русского драматического театра в Баку. И «Котик» – вовсе не прозвище, а обычное бакинское сокращение имени Константин.
КГ. Адамов. 1940-е гг.
Котик родился в Баку, а высшее образование получил в Москве. В 1946 году он стал актером Центрального детского театра, затем вернулся в Баку, но часто бывал в Москве – проездом и на гастролях.
Театральная карьера Котика развивалась стремительно. Ему поручали главные роли в спектаклях русских драматических театров Баку и Еревана. Его популярность у зрителей была огромна. Народ ходил на Котика. «Играет ли он Сирано де Бержерака или Войницкого в «Дяде Ване», он везде узнаваем, ибо творчество Адамова не отделимо от его индивидуальности, – писал один из критиков. – В исполняемых ролях особенно ярко проявляются удивительные качества таланта артиста – смешить, не улыбаясь, насыщать образ тончайшими интонациями, органически совмещая комедию с драмой».
От друзей не было отбоя.
В обычной обстановке, вне театра, Котик был человеком простым и общительным. Он обладал даром рассказчика и своеобразным чувством юмора, лишенным внешнего блеска. Его поступки и решения, иногда неожиданные для окружающих, были для него совершенно естественны. На протяжении всей жизни он оставался мастером «грустной комедии».
* * *
Знакомые считали Котика баловнем судьбы.
В шестидесятые годы, когда за границу попадали лишь немногие, Котик регулярно навещал в Париже своих родственников. Поездки «по приглашению» удавалось осуществлять далеко не всем, но бакинские чиновники проявляли снисходительность к любимому артисту.
Чаще всего приглашения приходили от родного дяди Котика по материнской линии – нефтяного магната, бежавшего из Баку во время революции. Сумев выгодно вложить средства в судоходные и гостиничные компании, он и за границей не бедствовал. Жил в роскошных апартаментах в самом центре Парижа. Будучи человеком одиноким, ни в чем себе не отказывал. Собирал картины и предметы старины. За столом ему прислуживал лакей в белых перчатках и ливрее.
Впрочем, несмотря на многочисленные причуды, дядя не забывал о благотворительности, за что был удостоен ордена Почетного легиона.
* * *
Котик любил рассказывать о своем парижском дяде.
– Сидим мы как-то раз в кафе на Елисейских полях, – начинал он. – Дядя, его друг Гастон, оба с орденом Почетного легиона в петлице, и я с таким же орденом, потому что в дядином пиджаке.
– Видишь ли, Котик, – рассуждал дядя. Как все эмигранты, он свободно говорил по-русски. – Мне нравится ваша страна, у вас много талантливых людей. Но они бедно живут, а я не люблю бедных. Что ты на это скажешь?
Котик за словом в карман не лез.
– Я, дядя, люблю богатых, – не задумываясь, отвечал он.
О положении дел в Советском Союзе дядя имел самое смутное представление.
– Котик, объясни мне, почему ты, известный и талантливый артист, не можешь жить в столице и играть в приличных театрах?
– Дело в том, что у меня нет московской прописки.
– Что такое прописка?
– Это штамп в паспорте, удостоверяющий, что ты проживаешь по определенному адресу.
– Во Франции не существует понятия «прописка». Зачем она нужна?
– Для того чтобы знать, где ты живешь.
К. Г. Адамов в роли Круглаковского в пьесе И. Соболева «Хозяин»
– Консьержка знает.
После долгих разъяснений дядя, наконец, просиял.
– Кажется, я понял, – сказал он. – Прописка – это то же самое, что дореволюционная «черта оседлости».
* * *
Дядю не покидала мысль побывать на родине. В начале семидесятых годов ему удалось получить визу и приехать в Баку.
Котик рассказывал, как он, пятясь назад и поворачиваясь боком, осторожно вел дядю по коридорам большой коммунальной квартиры и вздохнул с облегчением, когда они благополучно миновали соседей и вошли в просторную комнату с балконом.
Но дядя ничего не упустил.
– Я собираюсь переехать в другую квартиру, – сказал Котик.
– И чем скорее, тем лучше, – сердито произнес дядя.
Выпив бокал отменного кавказского вина, он расчувствовался.
– Наконец-то я дома, – сказал дядя и сообщил, что привез из своей парижской коллекции подлинник Матисса. – Хочу передать картину в дар Бакинскому художественному музею.
Котик тут же позвонил в музей, чтобы договориться о торжественной церемонии. После короткого телефонного разговора с директором дядя неожиданно рассердился.
– Котик, по-моему, директор музея – коммунист.
– Ну да, конечно. А почему ты так решил?
– Он задал только один вопрос: «Когда?»
* * *
Будучи человеком практической складки, дядя не раз советовал Котику выучить французский язык.
– Во Франции сейчас большая тяга к русской культуре, – говорил он. – Ты мог бы ставить у нас спектакли ваших авторов и играть на парижской сцене.
Дядя словно в воду смотрел.
В результате неудачной хирургической операции у Котика перекосило лицо, и ему пришлось отказаться от исполнения ведущих ролей. Оставалась, правда, возможность режиссуры, но Котик был прирожденным артистом.
Публика стала быстро его забывать. Однажды незнакомый человек обратился к нему на улице: «Простите, вы не брат Котика? Очень на него похожи!»
В глазах у Котика появилась тоска. Наступило безденежье. Главная опора – богатый парижский дядя – к этому времени скончался, а другие родственники оказались людьми не столь широкими.
– Приезжай погостить, – говорили они, – но помочь мы тебе ничем не можем. Вот если бы ты знал французский…
Котик охотно принимал приглашения, однако бродить по Парижу с пустым карманом было невесело.
В Баку Котика ожидало еще одно испытание. С некоторых пор на армян стали поглядывать косо, а в конце восьмидесятых годов грянула их депортация из республики. Народный артист Азербайджанской ССР Адамов, некогда любимец бакинской публики, был навсегда изгнан из родного города, пополнив собой многочисленную армию лиц без определенного места жительства.
В поисках работы Котик скитался между Ереваном и Москвой, останавливаясь у друзей и перетаскивая из квартиры в квартиру чемоданы. Бывшие коллеги по театру выслушивали его, качали головой и разводили руками. Котик оказался никому не нужен.
К. Г. Адамов в Париже
Наконец, мелькнул просвет. В Ереванском драмтеатре ему обещали место режиссера-консультанта. Но судьба распорядилась иначе. Накануне вылета из Москвы Котик скончался в одноместном номере аэрофлотовской гостиницы, так и не добравшись до Еревана. Возле его кровати стоял небольшой французский саквояж с вещами – все, что осталось после Котика.
В отсутствие своей деятельности…
Суконцев горестно вздохнул. И зачем только послушался он тогда жену и согласился стать председателем институтского профкома. Она надеялась квартиру в новом доме получить. Держи карман шире! Как был Суконцев мелкой сошкой, так и остался. Никаких привилегий, одни хлопоты.
Вот и сейчас. На днях состоятся похороны известного академика, и ему поручено представлять институт. Директор в отпуске, а парторг по обыкновению заявил, что в этот день его вызывают в райком. Пойди, проверь! Небось, когда юбилей с банкетом, про райком и не вспоминает. А если неприятность… «Нехорошо так думать, – мысленно поправил себя Суконцев, – похороны – святое дело». От института будет траурный венок и соболезнование. Теперь Суконцеву не отвертеться.
– Тебе и выступать не нужно, – заверил его парторг. – Скажешь несколько слов родным от имени нашей дирекции, а письменное соболезнование передашь в похоронную комиссию. Но, главное, проследи, чтобы венок не затерялся, и ленточки были на виду. Еще сопрут, чего доброго. Так что не вздумай смыться раньше времени.
* * *
Облачившись в темный костюм и повязав галстук, Суконцев заблаговременно прибыл на директорской машине в здание президиума Академии наук на Ленинском проспекте.
Все было обставлено с подобающей торжественностью. Гроб с телом покойного академика установили на постаменте в большом красивом зале, где играла приглушенная траурная музыка.
Родные сидели плотной группой на стульях возле стены, и Суконцев без особого труда справился с первой частью своей миссии. В зал подносили все новые венки, и вскоре их стало так много, что Суконцеву приходилось то и дело незаметно вытаскивать институтский венок на передний план. «Опытный парень парторг, поднаторел на похоронах. Досконально изучил вопрос», – одобрительно подумал Суконцев.
Между тем, народ постепенно прибывал, и траурная церемония началась.
Верно говорят, нигде столько глупостей вслух не произносится, как на похоронах. Каждый выступавший старался, в силу своих способностей, подобрать наиболее яркие слова и выражения.
Один академик воскликнул с пафосом: «Это был титан, вобравший в себя весь диапазон мировой науки!». А другой оратор, желая подчеркнуть неукротимый характер покойного, отметил, что тот «не делал перерывов в отсутствие своей деятельности». «Точь в точь, как наш кот – спит целыми днями», – нечаянно улыбнулся Суконцев, но тут же спохватился и состроил постную мину.
Больше всего его поразило выступление маленького человека с южным акцентом. Это был заместитель покойного академика по хозяйственной части, видимо, искренне к нему привязанный. Он никак не мог найти подобающую форму обращения, сбиваясь с привычного «вы» на высокопарное «ты», отчего все время путался и нес ахинею. «Мы старались купить вам самый лучший венок, – говорил он. – Если бы ты его увидел, вы были бы очень довольны». Свою необычную речь он завершил словами: «Ты избавил нас от вас, и мы тебя никогда не забудем!»
Наконец, церемония закончилась, и люди двинулись в сторону выхода. Суконцев внимательно следил за тем, как венки выносят на улицу и складывают в отдельную машину. «Ну, кажется, все, – подумал он с облегчением. – Теперь на Новодевичье – и домой». Но не тут-то было! Из опустевшего здания президиума донесся странный шум. Выяснилось, что кто-то из рабочих в суматохе потащил к выходу вместе с венком декоративную пальму, украшавшую вестибюль. «Она же оприходована!» – услышал Суконцев чей-то отчаянный вопль. Потом все затихло, и траурный кортеж двинулся на кладбище.
Общество с ограниченной ответственностью
Последние дни Николай Иванович Сапрыкин пребывал в приподнятом настроении. В научно-исследовательском институте, где он большую часть жизни проработал младшим научным сотрудником, ему выделили бесплатную путевку в санаторий общего типа города Кисловодска.
Сапрыкин, у которого были слабые легкие, всегда мечтал о Кисловодске. Море отпугивало его, а влажный воздух приморских городов не способствовал лечению.
И вот мечта его сбылась. Сухой предгорный климат, зеленые рощи, цветущие деревья, пешие прогулки по щадящим маршрутам – что может быть лучше!
Друзья предупреждали: в стране полным ходом идет перестройка – всех жуликов повыпускали. Теперь они по поездам шастают, а проводники их прикрывают.
– Да у меня и взять-то нечего, – улыбался Сапрыкин. – Один старый чемодан, да и тот наполовину пустой. А денег только на карманные расходы.
Беспокоило его совсем другое.
«Только бы не с грудным ребенком», – вздохнул он, разглядывая железнодорожный билет на скорый поезд Москва – Кисловодск. Он редко путешествовал, но каждый раз ему попадались шумные, не в меру говорливые соседи. А в самолете сзади него то и дело раздавался детский плач. Смущал его и номер нижнего спального места. Какой-то он большой, необычный. Наверное, в крайнем купе, рядом с туалетом. Но тут уж ничего не поделаешь, придется перетерпеть.
Сомнения и страхи всегда опережали события в жизни Сапрыкина. Вот и сейчас мысли его унеслись далеко вперед, и он стал думать, какой сосед по комнате попадется ему в санатории. Хорошо, если тихий и некурящий, как сцепщик товарных вагонов из Курска Валера, с которым он отдыхал три года тому назад в санатории «Рабочий уголок» недалеко от Алушты. Валера впервые в жизни попал к морю. Он аккуратно выполнял назначения врачей, не пропускал ни одной процедуры, но оставался равнодушным к морским красотам, упорно не желая загорать. Даже рубашку ни разу не снял. Сапрыкин с одобрением вспоминал Валеру.
«А вдруг какой-нибудь пьяница попадется или склочник?» – с опаской думал он. Но до этого было далеко, и мысли Сапрыкина быстро вернулись к тому, что ожидает его сейчас.
Купе действительно оказалось крайним, но не стандартным, а трехместным. Положив зачехленный чемоданчик под нижнее сиденье, Сапрыкин снял плащ и сел на свое место.
* * *
Его соседи появились вдвоем перед самым отходом поезда. Первым в купе вошел тот, что помоложе, рыхлый человек с одутловатым лицом и мутными глазами.
– Владимир из Пятигорска, генеральный директор О… О… О…, – представился он заплетающимся языком и сильно подался вперед.
– Виктор, из того же ведомства, – сказал тихим голосом второй попутчик, сухой, поджарый человек. – Извините, общество у нас с ограниченной ответственностью, вот Володя и устал. Сейчас мы его уложим.
С этими словами Виктор достал стремянку и, придерживая своего компаньона сзади, ловко водворил его на единственную в купе верхнюю полку.
– Ну вот, сейчас уснет, – с удовлетворением завершил он свои действия и сел напротив Сапрыкина. – А вас как величать?
– Николай Иванович, – неуверенно произнес Сапрыкин. Он никак не мог определить, что это за люди. На первые взгляд, разные, но в то же время что-то общее проскальзывало. Бледность в лице и дорожные сумки у них одинаковые. Может быть, вместе из больницы выписались?
Но Виктор отнюдь не производил впечатления больного. Неторопливыми движениями он вынул из сумки колбасу, хлеб, помидоры, постелил на столик газету и достал бутылку водки.
– Присоединиться не желаете? – вежливо спросил он Сапрыкина.
– Благодарю, к сожалению, у меня сахарный диабет, – сказал тот первое, что пришло ему в голову. – Не буду вам мешать, – добавил он и с этими словами вышел в коридор.
Сапрыкин вернулся в купе с опаской, но со стола уже было убрано, и Виктор спокойно сидел на своем месте с незажженной сигаретой во рту.
– Старая привычка, – пояснил он. – Недавно бросил – здоровье не позволяет. Но руки сами тянутся. А что, диабет считается теперь излечимой болезнью?
Вопрос не застал Сапрыкина врасплох. Он вспомнил содержание газетной статьи, недавно прочитанной в любимой им рубрике «Уйди, болезнь!», и стал подробно его пересказывать. Виктор слушал с интересом и время от времени задавал вполне осмысленные вопросы.
– А как обстоит дело с гипертонией? – поинтересовался он.
И тут Сапрыкин оказался на высоте. С некоторых пор у него стало пошаливать артериальное давление, и по совету врача он начал принимать новый препарат «капотен» совместного производства фирмы Нью-Йорк – Старая Купавна.
Сапрыкин охотно делился своим опытом. Он не привык к тому, что его так внимательно слушают, и испытывал от этого удовольствие. Ему нравился Виктор. «Какой пытливый человек, – думал он. – Интересуется достижениями медицины и заботится о своем спутнике. Да, я был прав: они вместе лечились в клинике – вот что их объединяет».
Неожиданно на верхней полке послышался шум, затем с нее свесилась часть туловища, и Сапрыкин с ужасом почувствовал, что падение неминуемо. Но Виктор был настороже. Вскочив с места, он сумел быстро затолкать Владимира обратно. Виновник происшествия не сопротивлялся, однако голову не убрал. Окинув взглядом своих спутников, он бессмысленно улыбнулся.
– Кто вам больше нравится, Ален Делон или Бельмондо? – спросил он, обращаясь к Сапрыкину.
– Помолчи, зараза, дай с умным человеком поговорить, – произнес Виктор, отчеканивая каждое слово.
На полке стало тихо.
– Что такое маргинал? – без всякого перехода задал Виктор свой очередной вопрос.
Это была новая тема, однако Сапрыкин так втянулся в разговор, что вопрос его ничуть не удивил.
– Маргинал, – начал он, – это человек вне общества, на обочине. Если говорить подробнее…
Но Виктор его не дослушал. Поезд как раз подъезжал к очередной станции, и на платформе мелькнула группа людей в камуфляжной форме.
– Мы, пожалуй, тут сойдем, – сказал Виктор. – Интересно было вас послушать. Спускайся, ограничено ответственный, – скомандовал он.
Владимир самостоятельно спрыгнул с полки. Наклонившись к Сапрыкину, он заговорщически прошептал:
– Если к тебе в Пятигорске пристанут, скажешь им одно только слово: Вовка-мокрый! Никто пальцем не тронет.
Пока Сапрыкин приходил в себя, попутчиков и след простыл, а поезд продолжал свой путь в Кисловодск. Зачехленный чемоданчик, как ни в чем не бывало, лежал под сиденьем.
Под сенью сухого закона
Много чудес принесла с собой перестройка, но такого, признаться, никто не ожидал. Запретить продажу водки! Как справедливо заметил один наблюдательный гражданин, «чтобы ввести сухой закон в этой стране, нужно совсем не иметь чувства юмора».
К принятию сухого закона родина шла долго.
Надо сказать, что с водкой было плохо уже в конце застойного периода. Ее стали продавать в отдельных магазинах, которые наш жизнерадостный народ быстро окрестил «очагами сопротивления». Вообще словарь русского языка значительно расширился и обогатился. Появилось понятие «бутылка», звучавшее, как талисман. Поллитровая бутылка водки получила название «большая» (она же «белая»), а четвертинка – «маленькая». Качество водочных изделий стало оцениваться по двум основным признакам, сообразно форме закупоривающего устройства: «с винтом» (хорошая) и «без винта» (похуже). В пределах второй категории различали, в свою очередь, два сорта: «бескозырка» (плотно прилегающая алюминиевая крышечка) и «малая земля» (крышечка с боковым навесом – «пупочкой», для удобства).
«Бутылка» сделалась основным разменным товаром, а «дать на бутылку» – расхожим выражением. «С тебя сколько за ремонт содрали? – Пять бутылок».
Если счастливчик, ставший обладателем бутылки, хотел распить ее, не заходя домой, с приятелями или просто с кем придется, он заходил с ними в подъезд близлежащего дома. Поскольку собутыльников было, как правило, не более трех, этот обряд получил название «на троих».
Вино, даже самое хорошее, разменной монетой не являлось. Шампанское добавляли в качестве «нагрузки» к продуктовым наборам («заказам»), которыми снабжали разные категории привилегированных лиц. Поэтому вина получили презрительные клички: «сушняк», «огнетушитель» (шампанское), а дешевые сорта собирательно окрестили «бормотухой». Пить бормотуху считалось дурным тоном. Но скоро в ход пошли тройной одеколон и технические средства, содержащие спирт.
* * *
Чтобы люди не мучились, было вынесено, наконец, мудрое решение: вино-водочные изделия запретить!
Но бестолковый наш народ никак не хотел понять, что все делается для его же блага, и продолжал отчаянно сопротивляться. Поскольку запрет коснулся всех слоев населения, люди сплотились в едином порыве. Началось повальное самогоноварение.
Мораторий решили вводить постепенно, и водку стали продавать по спецталонам. Это обстоятельство было увековечено известной частушкой: «По талонам белая, по талонам сладкая. Что же ты наделала, голова с заплаткою!»
Пунктов продажи водки по талонам было мало, и очереди сделались многочасовыми, растягиваясь порой на несколько кварталов. С птичьего полета такая очередь могла бы показаться гигантским удавом, который медленно ползет, извиваясь и дыша.
Очередь жила по своим законам. Одни читали газету или книгу, другие занимали место и отлучались по делам. Но большинство предпочитало коротать время за разговорами.
Чего только не наслушаешься в очереди!
Бойкая тетка в платке с бахромой заявляет, ни к кому не обращаясь:
– Сейчас все советуют приобретать недвижимость. Вот и мы с Федотычем записались на финский холодильник.
– А у меня теща на газовую плиту упала, – вздыхает человек неопределенного возраста в потертой кепке. – Врачи говорят, вряд ли выживет.
– Сейчас хорошие мази есть против ожогов, импортные, – немедленно откликается один сердобольный человек.
– Неужели выживет? – с негодованием восклицает человек в кепке.
– Смотря, какие ожоги. Если сильные – не выживет, – успокаивает его кто-то со стороны.
– Она ведь по хозяйству много делала, и внуки к ней привыкли, – снова вздыхает «кепка».
– Ты, милый, определись сначала, чего хочешь, тогда и выступай, – резонно замечает сердобольный.
Очередь теряет интерес к ожоговой теме, но вопросы медицины остаются животрепещущими.
– А у меня теща умом повредилась, – прорывается долговязый мужчина. – С покойниками, как с живыми разговаривает.
– Это старческая псевдоамнезия, – разъясняет пожилой человек в шляпе.
– Вы специалист? – уважительно спрашивает долговязый.
– В прошлом невропатолог, сейчас представитель нетрадиционной медицины.
– Как Кашпировский?
– Кашпировский – шарлатан! – гневно восклицает «шляпа». Очередь умолкает, но не надолго. Медицинская тема неисчерпаема, и каждому есть что вспомнить.
– У нас в Балабанове, – говорит молодой парень, – одну тетку паралич разбил. Сказать ничего не может, только губами перебирает: «Па… па… па…». Приходит к ней соседка и говорит: «Твоя сноха с завмагом спуталась». Тетка глаза вылупила, да как крикнет: «Па… па… паразитская морда!». С тех пор нормально разговаривает.
Очередь одобрительно гудит.
Между тем, шаг за шагом, люди приближаются к заветной цели. В дверях магазина стоит милиционер.
– У вас в районе такой же бардак? – задает он время от времени один и тот же вопрос и, не дожидаясь ответа, командует: – По двое, заходи!
История одного гаража
Не страна, а сплошное отечество», – говаривал в свое время наш выдающийся биолог Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, негодуя по поводу очередного бюрократического произвола. Но и народ не дремал. В период «развитого социализма» он наловчился на каждую чиновничью глупость изыскивать свой противоход.
* * *
Иван Петрович Мохов был человек маленький, особыми талантами не блистал. Имел ученую степень кандидата наук и занимал скромную должность младшего научного сотрудника в одном из московских НИИ. Жена трудилась в библиотеке, сынишка заканчивал седьмой класс. После расселения из коммуналки семья проживала в однокомнатной квартире.
Прихватив с собой гамак, батон хлеба, вареную колбасу и пару бутылок кефира, Иван Петрович с женой и сыном раз в неделю выезжали за город, где с пользой для здоровья проводили выходной день.
Иван Петрович был всем доволен и не помышлял ни о каких переменах.
Неожиданно в его тихую размеренную жизнь вторглось событие, изменившее привычный распорядок. Скоропостижно скончался старший брат Михаил, занимавший пост в средних эшелонах власти, и Иван Петрович получил по завещанию подержанные «Жигули» и гараж в центре города.
Тут-то все и началось.
Вступив в права наследования и обзаведясь необходимыми бумагами, Иван Петрович отправился смотреть гараж. Он ожидал увидеть обычную «железку» – самодельное устройство размером чуть больше автомобиля. Каково же было его удивление, когда он подошел к указанному в документе строению во дворе одного из переулков и обнаружил, что его гараж – это бывшая трансформаторная будка, настоящий кирпичный дом с отоплением и всем необходимым для ухода за автомобилем, вплоть до ремонтной ямы. Видимо, покойный брат был отличным хозяином и любил свою машину. Кузов блестел как новенький, пробег был небольшим.
Заперев двухстворчатые двери гаража, Иван Петрович, не долго думая, отправился в ЖЭК. Начальник оказался на месте.
– Вам повезло, товарищ Мохов, – сказал он, протягивая руку через стол. – Меня застать трудно, дело в том, что я себе не принадлежу.
Эту загадочную фразу Иван Петрович не раз слышал из уст чиновников разного ранга.
– Ну, что ж, документы о наследовании у вас в порядке, – продолжал начальник. – Но продлить договор об аренде гаража мы не можем. Вашему брату, Михаилу Петровичу, гараж был выделен за особые заслуги перед районом, в которой он проживал. А вы, товарищ Мохов, прописаны в соседнем районе.
– Что же мне делать? – осторожно спросил Мохов.
– Подыскать гараж в своем районе.
– Где же я найду такое помещение? Туда столько вложено! – взмолился Иван Петрович.
Начальник взглянул на вытянувшееся лицо посетителя. «Сейчас начнет приводить доводы, потом писать письма. А у брата были связи. Черт с ним, – решил он. – Все равно мне скоро отсюда уходить».
– Ладно, – сказал он вслух. – Оформим аренду гаража на год, а за это время вы что-нибудь подыщете.
И снова протянул через стол руку.
* * *
Миновал год, но Иван Петрович так ничего и не подыскал. «Буду платить по прежней таксе, – решил он. – Если что, пришлют извещение».
Прошло еще несколько лет. Иван Петрович аккуратно перечислял в ЖЭК арендную плату, и его никто не беспокоил. Но однажды, подойдя к гаражу, он обнаружил на двери записку. На грязном листке, вырванном из школьной тетради, чернильным карандашом было выведено: «Немедленно освободите в 2-недельный срок помещение. И.О. начальника ЖЭК». Далее следовала неразборчивая подпись.
По совету институтских приятелей Мохов заручился рекомендательным письмом в исполком района, где располагался гараж. Письмо подписал директор НИИ, известный академик, лауреат Государственной премии, частый гость телевизионных передач. В письме значилось, что научный сотрудник института (слово «младший» было опущено) систематически выезжает в командировки по Московской области с целью получения материалов, имеющих первостепенное значение для развития отечественной науки, в связи с чем ему необходим хорошо оборудованный гараж для содержания личного транспорта в надлежащем виде. Академик охотно подписывал подобные, ни к чему не обязывающие и подчас лишенные всякого смысла письма, что способствовало его репутации в научных кругах как человека доброжелательного и отзывчивого.
* * *
Положив в папку письмо академика вместе с собственным заявлением, копиями дипломов и характеристикой, из которой следовало, что И. П. Мохов, хотя и беспартийный, но честный гражданин, Иван Петрович направился в райисполком.
Стояло лето, и посетителей было немного.
– Завтра в 15.00 вас примет зампред, – сказала секретарша, забирая папку с бумагами.
В назначенное время Мохова пригласили в кабинет.
Его поразила внешность сидевшего перед ним человека. Это была точная копия Генерального секретаря компартии Брежнева, только уменьшенного размера. Гладкие, зачесанные назад волосы с залысинами, густо нависшие над глазами брови, обрюзгший подбородок.
– Присаживайтесь, м… м… Иван Петрович, – произнес зампред голосом генсека, – скосив глаза на лежавший перед ним текст. – Исполком рассмотрел ваш вопрос. Аренда гаража вам не положена, поскольку вы проживаете в другом районе.
По совету своих опытных коллег Мохов избрал тактику молчаливой покорности. Лицо зампреда оставалось непроницаемым, словно маска.
Наступила пауза.
Мохов заметил, что взгляд зампреда остановился на письме популярного академика.
– Вот что, – вымолвил, наконец, двойник Брежнева. – Аренду мы вам продлить не имеем права…
У Мохова вытянулось лицо.
…но временное использование помещения разрешим.
Мохов просиял и закивал головой.
– Имейте в виду, – суровым тоном продолжил зампред, – временное! В любой момент может подъехать бульдозер, и гаражу придет конец. В центре не хватает площадей.
– Понимаю, – позволил себе реплику Мохов.
– Хорошо, что понимаете. А вот они не понимают.
Зампред махнул рукой в сторону окна, и у него передернулось лицо.
Мохов понял, что под застывшей маской бушуют нешуточные страсти. Действительно, зампред всей душой ненавидел соседний район, где земли навалом, а у него норовят отхватить последний кусок.
Через мгновение маска вернулась на место. Резолюция гласила: разрешить временное использование помещения.
– Помните, исполком вас предупредил, – завершил зампред аудиенцию.
* * *
Первое время после посещения исполкома Мохов чувствовал себя тревожно. Ему снилось, что к гаражу подъехал огромный бульдозер, сметающий все на своем пути. Постепенно он успокоился, а потом и вовсе забыл про встречу с зампредом.
Прошло несколько лет. В стране началась перестройка. Кругом царила неразбериха. В центре города шла бойкая торговля, по улицам текла грязная жижа. «Теперь уж точно никому не будет дела до моего гаража», – опрометчиво решил Мохов, переводя очередную символическую плату за помещение.
Среди ночи его неожиданно разбудил телефонный звонок.
– Это Мохов? Второй день не могу до тебя дозвониться, – услышал он грубый мужской голос. Человек не счел нужным представиться. – Немедленно освобождай помещение трансформаторной подстанции. Зажирели, чиновники!
Говоривший бросил трубку.
На этот раз Мохов не стал советоваться с коллегами, а позвонил фронтовому другу.
– Выручай, Леня!
– Держись, Иван. Говори, куда приехать, в ЖЭК? Отставного полковника прихватить для подкрепления? Будем в восемнадцать ноль-ноль.
Друзья приехали ровно в шесть. Полковник был в кителе и лихо подкручивал ус. В помещении бывшего склада, заставленном столами, толпились посетители, а сидевшие за столами люди пытались от них отбиться.
Не без труда удалось Мохову найти человека, ответственного за распределение площадей. Им оказался чахоточного вида мужчина средних лет в ковбойке и поношенном пиджаке. Время от времени его сотрясали долгие приступы кашля. Оторвавшись от кипы бумаг, человек посмотрел на друзей.
– За что фронтовика обижаете? – не здороваясь, выпалил полковник.
Ответственный был явно озадачен.
– Выйдем во двор, здесь дышать нечем, – сказал чахоточный, когда его отпустил кашель. И добавил: – Перекурить охота.
Они остановились около урны. Выслушав Мохова, ответственный успокоился.
– Мы освобождаем помещения, незаконно присвоенные брежневскими прихвостнями, – пояснил он.
– Странный выбрали способ освобождения – будить людей среди ночи. Между прочим, наш товарищ – герой Курской битвы, имеет ранения и награды.
– Фронтовиков мы уважаем, – поторопился заверить друзей чахоточный. – Извините, произошла накладка, за всем не уследишь.
– Учитесь управлять страной, гражданин, – наставительно произнес полковник. – А пока пиши бумагу на гараж, – скомандовал он. – Без бумаги все равно не уйдем.
Они вернулись на склад.
Получив на руки бумагу неопределенного содержания, Мохов почувствовал облегчение и перестал думать о гараже.
* * *
Прошло еще несколько лет, и Мохова никто не беспокоил. Но однажды, придя в гараж после отпуска, он обнаружил, что прежний замок, который он заказал когда-то мастеру-умельцу, заменен на новенький, немецкого производства. Оглянувшись, он с удивлением увидел свой автомобиль прижатым к забору неподалеку от гаража. Мохов побледнел от негодования.
– Идите в управу, – сказали ему в бывшем ЖЭК’е, переименованном в ДЭЗ. – Решения о распределении площадей принимают там.
В управе, размещавшейся в здании бывшего райисполкома, Мохова приняли без записи.
– Приносим извинения за вынужденную замену замка, – сказал ему улыбнувшись, молодой человек в строгом костюме и рубашке с галстуком. – К сожалению, вы долго отсутствовали, а центр города остро нуждается в площадях, – произнес он до боли знакомую фразу. – Помещение должно использоваться по назначению – это распоряжение мэра.
Говоривший снова улыбнулся, но в голосе его звучал металл.
– Как же так… – начал было Мохов, но тут же осекся, почувствовав всю бесплодность своих возражений.
– Вам необходимо срочно освободить помещение, – продолжал молодой человек. – Сейчас там работают наши люди, они помогут вынести вещи. Всего доброго, – закончил он и переключился на телефонный разговор.
Мохов уныло поплелся к гаражу. Дверь в него была приоткрыта, и там бойко орудовали трое дюжих, коротко остриженных молодцов в кожаных пиджаках.
– Господин Мохов? – спросил один из них, не здороваясь. – Вот ваше имущество. – Он указал на три большие клетчатые сумки. – Не беспокойтесь, мы сами погрузим их.
Человек улыбнулся, но Мохову почему-то стало жутковато и захотелось поскорее уехать.
* * *
Так закончилась история с гаражом.
– Скажи спасибо отечеству, что столько лет задарма простоял, – утешали Мохова друзья по работе. – И не вздумай суетиться. Это серьезные ребята, и пистолеты у них бесшумные. Никаких концов не найти.
Сноски
1
Н. П. Горбунов – в 20-е годы крупный государственный и партийный деятель.
(обратно)2
«Весы». 1906. № 6. С. 66.
(обратно)3
«Искусство». М.-Л., 1937. С. 14.
(обратно)4
История русского искусства. М., Издание И. Кнебель. 1910. Т. 1.
(обратно)5
Там же. С. 4.
(обратно)6
Там же. С. 8.
(обратно)7
Там же. С. 266.
(обратно)8
Там же. С. 254.
(обратно)9
Подобедова О. И. Грабарь. Сов. худ. М., 1964.
(обратно)10
Подобедова О. И. Комментарии // Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М., Наука. 1966.
(обратно)11
Подобедова О. И. Указ. соч.
(обратно)12
Грабарь И. Э. Письма. М., Наука, 1974. Т.1. С. 185.
(обратно)13
Там же. С. 286.
(обратно)14
Цит. По: Мещерина В. М. Коломенское. М., 1958. С. 12–13.
(обратно)

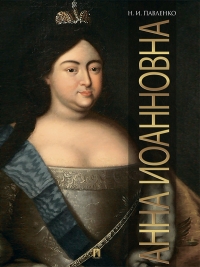

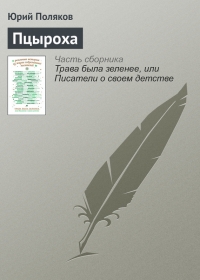

Комментарии к книге «Непобедимые гуманисты», Ольга Игоревна Грабарь
Всего 0 комментариев