Полнота памяти и историческое сознание. Век тоталитаризмов и духовное преображение Василия Гроссмана.
Трудно вообразить, как наши потомки будут думать о стоящем у нас за спиной веке, какой приговор вынесут о долгом и извилистом пути, влившемся в новое тысячелетие, которое во многих отношениях продолжает прошлый век. Несомненно, он будет расцениваться как поворот, как глубокая метаморфоза по сравнению с предшествующими столетиями, хотя его корни там, как нечто, лежащее между концом эпохи замыслов и ожиданий и началом уже другого времени, отмеченного разочарованием и неопределенностью. Могут возразить, что новое время как таковое - это эпоха «отрезвления» (в веберовском смысле), эпоха рациональности, развеивающей старые верования и новые иллюзии, но ведь именно в двадцатом веке восторжествовало мифологическое мировосприятие, обусловленное не архаическими пережитками, а новым фидеизмом.
Этот парадокс нельзя объяснить, как у Лукача, «разрушением разума», вызванным социально-классовым вырождением буржуазии, которое привело к высвобождению темных иррациональных сил, якобы призванных противостоять восхождению другого класса – пролетариата, мнимого носителя светлого будущего. Не объяснить этого и «диалектикой Просвещения», как это делают Хоркхаймер и Адорно, то есть гипертрофией разума, понимаемого сугубо инструментально, который, восторжествовав в эпоху энциклопедистов, в дальнейшем превратился в собственную противоположность, породив новую мифологию.
Дело скорее в радикальном перевороте, охватившем глобальную реальность и вытолкнувшем на мировую арену, где ранее царил Запад со своими религиозными и светскими ценностями, остальное человечество, роль которого все более и более возрастает, что придает новый характер великой драме Истории. Пока драма эта завершилась утверждением либерально-демократических принципов западной цивилизации, что заставило некоторых заговорить о «конце Истории», хотя эта драма вовсе еще не подошла к финальному акту и новые конфликты усложняют ее сюжет.
Неоспоримо, что в двадцатом веке, как бы его ни оценивать, научно-технический прогресс, благодаря которому материальная жизнь значительной части человечества улучшилась, сопровождался этико-политическим регрессом и деградированием духовной жизни главным образом той части человечествa – eвропейского Запада, которая была и является движущей силой этого процесса, и возникновением новых форм варварства. Обозначив эту деградацию и это варварство словом «тоталитаризм», мы можем порадоваться, что его яды обезврежены в конце концов демократическими противоядиями, носителем которых является сам Запад, показавший тем самым, что организм, здоровый в своем существе, способен преодолеть собственные недуги.
Однако было бы опасно считать, что тоталитарная травма прошла бесследно и не может заново предстать под другими личинами.
Профилактическая мера против такой опасности состоит, в первую очередь, в анализе былой тоталитарной болезни и в отказе от ее забвения. Оставим сложный вопрос о природе тоталитаризма и о том, что отличает его от всевозможных форм традиционного авторитаризма или деспотизма. Скажу лишь, что особенность исторического периода, начавшегося в двадцатом веке с тоталитарной патологии, - в частности в том, что были преступлены Пределы насилия. Спору нет – вся история состоит из насилия, и было бы излишне напоминать здесь об особенно кровавых и жестоких эпизодах, которыми человечество запятнало себя и на Западе, и на Востоке. Но в прошлом столетии, насыщенном войнами и революциями, мы наблюдаем пароксизм насилия, порожденного не столько новыми техническими средствами уничтожения, которые, конечно же, безмерно умножили возможности убийства и разрушения, сколько, главным образом, новыми идеологиями, для которых уничтожение истинного или мнимого врага является первейшим условием утверждения их идеалов Порядка и Справедливости, то бишь «нового мира» и «нового человека», каким бы ни было это замышляемое новое.
С этими «новшествами» связан возникший в двадцатом веке неологизм «геноцид», понимаемый как массовое уничтожение, ставящее целью окончательное устранение какой-либо группы по расовому, этническому, социальному, религиозному признаку ради утверждения идеала однородной и чистой общности. Немецкие лагеря и Гулаг стали основной формой осуществления этого нового типа массового истребления. Можно сказать, что опыт Двадцатого века продемонстрировал несостоятельность двух главных присущих XIX веку светских или атеистических суррогатов трансцендентных религий: как позитивистской и буржуазной «религии прогресса», так и марксистского и пролетарского «культа революции». Живы и обновляются именно религиозная вера и интеллектуальный скепсис, как перманентный поиск.
Как тоталитаризм, воплощающий эти идеологии двадцатого века, в корне отличается от автократий прошлого, так и физическое и духовное насилие тоталитаризмов, качественно и количественно в корне отлично от насилия прошлых эпох и привело к чудовищному росту в мире насилия вообще. Новый терроризм есть плод гипертрофии насилия, рожденного в прошлом веке: это терроризм, осуществлявшийся тоталитаризмами на государственном уровне и нашедший новое продолжение в фундаментализме наших дней. Возможно, старый термин «терроризм» уже неадекватен и точнее было бы говорить о «хорроризме», если бы не еще одно, тоже ужасающее явление: привыкание к кошмарам терроризма нового типа, а то и его оправдание.
Двадцатый век - век массового Гипернасилия, не только чисто физического, повлекшего за собой десятки миллионов жертв, но и насилия духовного, идеологического, в результате которого была перейдена еще одна граница: предел лжи. Как насилие переплетено с тысячелетним историческим процессом, так и ложь и обман сопровождают этот процесс с использованием разнообразных форм мистификации. Не только в двадцатом веке утвердилась Мегаложь, подчинив себе огромные массы, а также мнимую интеллектуальную элиту, которая часто была ее автором и орудием. В наши дни тоталитарная Мегаложь в основном кажется преодоленной благодаря демократическому распространению информации, которая, при всех ее несовершенствах и изъянах, не имеет ничего общего с тоталитарными системами дезинформации. Но сегодня и в открытом обществе существует опасность мистификации, прямо касающейся прошлого, а косвенно и настоящего. Это стихийное беспамятство и беспамятство навязанное, забвение того, что было или, что куда хуже, фальсифицированная память о былом. Все равно, стирается ли память о прошлом, особенно ближайшем, которое еще живо в настоящем, по лени, угасает ли она в вынужденном молчании, искажается ли искусственно, - мистификация не прекращается и в демократическом обществе, которое именно в силу такого забвения менее демократично, чем себя считает. Этому упорству Мегалжи необходимо противопоставить Правду, понимаемую не как монологический Абсолют, а Правду историческую, которая предстает во всем своем конкретном многообразии через поиски, диалог и сравнение, и только в постоянном пересмотре результатов можно обогатить ее новыми гранями и перспективами, сохраняя интеллектуальную честность, которая является главным врагом любой тоталитарной идеологии и практики.
Истина и справедливость нерасторжимы, и русское слово «правда» содержит в себе оба эти понятия, хотя, к сожалению, оно в качестве названия печально знаменитой советской газеты стало символом Гипернасилия и Мегалжи самого главного тоталитаризма XX века, тоталитаризма основанного на извращении и правды, и справедливости. Я упоминаю здесь об этом почти совершенном, или наименее несовершенном по сравнению с другими, тоталитаризме не для того, чтобы анализировать его идеологические и политические структуры. Просто я хочу коротко рассмотреть один случай, вскрывающий, каков был этот тоталитаризм в реальности. Имеется в виду «случай» Василия Гроссмана, автора книги «Жизнь и судьба». Все необыкновенно: и книга, и ее автор. В определенном смысле, жизненный путь Гроссмана повторяет биографию других, которые от приятия коммунизма перешли в оппозицию к нему и из лояльных подданых советского режима превратились в его беспощадных критиков. Но случай Гроссмана поразителен тем, что он один из многих русских евреев, сжившихся с советской действительностью, как бы вытеснил из сознания свое еврейство и стал и считал себя частью не столько русской, сколько советизированной русской культуры, внутри которой в середине 30-х годов занял прочное положение как писатель. Литературное крещение Гроссмана произошло самым что ни на есть советским образом: на писательство благословил его Горький, он был верен канонам как раз в то время провозглашенного «социалистического» реализма. Для Гроссмана это не было подчинение из низменных интересов, он совершенно естественно включился в новый курс в литературе, объявленный по воле Горького, за спиной которого стоял не кто иной, как Сталин.
Второй этап биографии Гроссмана – это его участие в антигитлеровской войне в качестве специального корреспондента армейской газеты «Красная звезда», где в течение всей войны печатались его статьи и был опубликован роман «Народ бессмертен». Все это, естественно, в духе находившейся у власти идеологии. Третий этап начинается с публикации в 1952 году первой части большой эпопеи «За правое дело» на тему войны с фашизмом. В атмосфере паранойи последних сталинских лет эта публикация не вызвала официального одобрения, как раньше, а обрушила на автора шквал абсурдных обвинений, от которых в те времена не были защищены и литературные ортодоксы. Таким образом, вплоть до этого момента все шло самым естественным, с точки зрения советскости тех лет, путем, естественным был также эпизод, составивший, так сказать, вершину официальной карьеры Гроссмана и одновременно запятнавший ее, о чем он впоследствии горько сожалел. Во время пресловутого «заговора убийц в белых халатах», а именно, сфабрикованного органами в ходе антисемитской кампании дела группы врачей-евреев, облыжно обвиненных в намерении отравить руководителей партии, Гроссман в числе других поставил свою подпись под открытым письмом в «Правду», требовавшим примерного наказания мнимых отравителей, - в надежде, что это поможет спасти остальных евреев от повального преследования. Впрочем, террор, достигший в то время в СССР своего апогея, не оставлял ему никакого выхода.
Затем последовала метаморфоза, открывающая финальную фазу биографии Гроссмана: этот безукоризненно советский писатель, советский не из двурушничества, а по естественному складу, написал самое что ни на есть антисоветское произведение, где еще до Солженицына не только разоблачал ужасы Гулага и других форм коммунистического насилия, но и дошел до сопоставления коммунизма с нацизмом. Более того, увидел их родство, причем сделал это не в полемическом запале, а в выстраданном убеждении, благодаря которому его непримиримый антифашизм естественно вылился в непримиримый антитоталитаризм. Речь идет о второй части эпопеи «За правое дело» - романе «Жизнь и судьба», являющемся по сути прямой противоположностью первой, несмотря на одних и тех же героев.
Поражает в этой истории и то, что Гроссман не оставил рукопись такой крамольной книги в письменном столе, а отнес ее в редакцию «Знамени», одного из крупнейших советских толстых журналов, откуда рукопись немедленно была передана в КГБ. Комитетчики вломились в квартиру Гроссмана, чтобы изъять все копии, не оставив и следа от этой взрывоопасной книги. Но какой же безграничной должна была быть вера писателя в серьезность антисталинских намерений Хрущева, если он обратился к хозяину Кремля с письмом, в котором просил «освободить» рукопись и дать разрешение на ее публикацию. Письмо осталось без ответа, зато партийный идеолог Суслов пригласил этого странного антисоветского советского писателя на собеседование и не стал угрожать арестом, а милостиво, в соответствии с «оттепельным» духом времени, видимо, и сам обескураженный простодушием писателя, объяснил тому, что книга, выйди она в свет, сыграла бы на руку врагу, нанеся вред не только советскому народу, но и всем борцам за коммунизм за пределами Советского Союза. Суслов сравнил книгу с «атомными бомбами, которые наши враги держат против нас наготове» и прибавил, что такой роман можно напечатать не раньше, чем через 200-300 лет. Он промахнулся с предсказанием, потому что не прошло и двадцати лет, и «Жизнь и судьба» вышла на Западе, а за десять лет до того в 1971 году, на том же Западе был опубликован еще один роман «нового» Гроссмана, «Все течет…», в известном смысле дополняющий историко-философскую часть «Жизни и судьбы». Неизданной осталась подготовленная Гроссманом совместно с Ильей Эренбургом большая книга, в которой были собраны свидетельства о нацистском геноциде на оккупированных советских территориях: запрещенная сталинской цензурой, эта «Черная книга» смогла увидеть свет в России и на Западе только после падения коммунистического режима. Гроссман умер в 1964 году, в одиночестве, отторгнутый за пределы литературной среды, правила которой он осмелился нарушить даже в период «оттепели», как в открытую нарушили их два других писателя – Борис Пастернак и Александр Солженицын.
История жизни Гроссмана как нельзя лучше передает суть тоталитарного мира в его наиболее воплотившемся, коммунистическом, варианте. Этот мир Гипернасилия и Мегалжи, обреченный рухнуть, не смог загасить искру свободы даже в тех, кто были его неотъемлемой частью. И здесь невольно приходит на память имя Андрея Сахарова, его твердость, с какой он отказался от своих положенных за научные заслуги привилегий и выбрал путь непримиримого и гонимого оппозиционера. Во всех этих случаях тоталитарная система продемонстрировала непредвиденную слабость: она недооценила внутреннюю энергию того, что называется совестью, голос которой, угасший или задушенный во многих, у немалого числа людей оказался неодолимым. В случае Гроссмана пробудило совесть и придало ему способность трезво мыслить его еврейство, долгое время в нем молчавшее и ожившее, когда Гроссман своими глазами увидел гитлеровские зверства, одним из первых посетив в качестве военного корреспондента один из нацистских лагерей уничтожения. А дальше, в результате медленного, но неостановимого процесса совесть писателя и осознание им своей принадлежности не только к еврейству, но и ко всему человечеству привели его к тому, что он распознал и отверг еще один тоталитаризм – коммунистический, составной частью которого поневоле был и сам. Для Гроссмана сравнение двух тоталитаризмов, проводимое на наиболее ярких страницах «Жизни и судьбы», было не просто историко-компаративным приемом, а жизненной необходимостью, выстраданной правдой, мучительным прозрением, к которому он с честной отвагой хотел приобщить прежде всего своих соотечественников, тех советских людей, которые, как и он, верили и боролись и в ходе войны против фашизма постепенно становились и антикоммунистами, что поначалу выражалось в форме антисталинизма. Гроссман, как я уже говорил, принадлежал к русско-советской культуре, но ядро свободолюбия подлинной русской культуры взяло в нем верх, разорвав лживую оболочку советскости. В «Жизни и судьбе» Гроссман толстовски-эпичен, но прельщает его скорее чеховская простота, чеховская героически-ироничная скромность, чеховская способность видеть вещи и людей в их обыденной правде, вне громогласных идеологий, которые своими искусственными построениями давят на жизнь, ставя препоны на ее изменчивом пути. Особенно близок был Гроссману чеховский принцип, который этот писатель объявил не для других, а стремился применить прежде всего к себе. И этого принципа Гроссман придерживался в собственной жизни и судьбе: речь идет о призыве Чехова выдавливать из себя по капле раба, который сидит в каждом из нас. Задача нелегкая, но только в результате такого выдавливания, благодаря обретенной свободе, возможно подлинное общение и деятельная солидарность с другими. На этом пути Василий Гроссман завоевал свою свободу и вошел в сонм Праведников.
Стать свободным – вот задача, стоящая перед теми, в ком горит искра совести и сознания, как в Василии Гроссмане, чье духовное преображение приобретает значение образца, как и духовная эволюция всех тех, кто сумел стать свободным. Если тоталитаризм во всех его разновидностях означает прежде всего внутреннее, а потом уже внешнее порабощение, то свобода, как освобождение, есть его противоположность. В этом урок, который нам могут преподать Гроссман и «инакомыслие», понимаемое как духовная независимость. А этой ценностью нужно дорожить и в демократическом обществе.
(Traduzione di Clara Strada Janovic)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


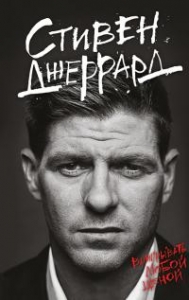

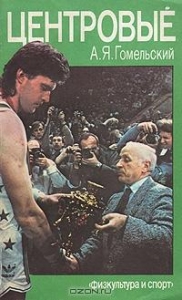

Комментарии к книге «Полнота памяти и историческое сознание. Век тоталитаризмов и духовное преображение Василия Гроссмана.», Витторио Страда
Всего 0 комментариев