П. Г. Светлов Александр Александрович Любищев 1890—1972
Под редакцией П. Г. СВЕТЛОВА
Издательство «Наука», 1982 г.
Ленинградское отделение 1982
Утверждено к печати
Редакционной коллегией научно-биографической серии Академии наук СССР
Книга посвящена известному биологу А. А. Любищеву, интерес к творчеству которого особенно возрос после выхода в свет повести Д. А. Гранина «Эта странная жизнь». В работе освещен жизненный путь ученого, его вклад в морфологию, систематику, теорию эволюции, математическую биологию, сельскохозяйственную энтомологию, науковедение, философские проблемы естествознания. Приведены сведения об уникальном архиве А. А. Любищева.
Для биологов и читателей, интересующихся общими проблемами развития науки.
РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «НАУЧНО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» И ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ АН СССР ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНЫХ БИОГРАФИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ
Предисловие
Мысль о небольшой книге, в которой кратко, но по возможности всесторонне был бы охарактеризован профессор Александр Александрович Любищев (1890—1972) как человек и ученый, возникла в кругу его друзей почти сразу после его смерти. Мысль эта встретила сочувственное отношение со стороны Редакционной коллегии научно-биографической литературы Академии наук СССР, что послужило основанием для организации в 1973 г. авторского коллектива научных работников, немедленно приступившего к составлению текста задуманной книги.
При ознакомлении с итогами творчества А. А. Любищева прежде всего обращает на себя внимание широта круга проблем, разработке которых он посвятил жизнь, равно как их изумляющее разнообразие. Просматривая оглавление предлагаемой книги и список научных трудов А. А. Любищева (см. приложения 1—2 в конце книги)^ каждый может убедиться в том, что обширности его научных интересов соответствует глубина и цельность оставленного им научного наследия.
В поисках подходящих слов для краткой характеристики творчества А. А. Любищева в целом я вспомнил о критерии Джона Рескина, который он применял при оценке не известных ему ранее художественных произведений. Он называл свой критерий «идеей о силе художника», — такой обозначал интуитивно сложившееся у него представление о степени его одаренности, за которым следовал анализ достоинств и недостатков этого художника. Разумеется, формирование такой идеи при восприятии любого вида деятельности человека покоится на сравнении его с другими работниками того же профиля. Применяя этот сравнительный подход к оценке А. А. Любищева как ученого и мыслителя, каждый, хоть немного его знавший, мог бы немедленно убедиться в исключительной силе его дарования, проявлявшегося на каждом шагу уже с детства. Изумляющая память, быстрое освоение языков и выдающиеся математические способности, проявившиеся очень рано, обеспечивали ему блестящие успехи в средней и высшей школах, а врожденное трудолюбие и воспитывавшаяся в себе им самим дисциплинированность и устремленность к научному познанию как основной цели жизни создавали почву для раннего развития его научного творчества и (что особенно для него характерно) острого критического мышления. При этом формирование его как ученого- мыслителя шло очень быстрыми темпами. Как он пишет в дневнике, идея о возможности создания «математической морфологии» живых организмов возникла у него в 1910 г. (когда ему было 20 лет), а первый набросок сочинения «Линии Демокрита и Платона в истории культуры» {1 Рукописи, конспекты, письма, дневники и другие материалы А. А. Любищева в основной своей части хранятся в Ленинградском отделении Архива АН СССР (фонд № 1033); небольшая часть материалов осталась у наследников и учеников Александра Александровича. Цитаты, не сопровождающиеся цифровыми сносками, взяты из рукописей А. А. Любищева, цифры в квадратных скобках означают номера опубликованных его работ, цифры со звездочкой справа, например [5*], означают номера в списке литературы об А. А. Любищеве.} (А. А. называл эту работу «главным сочинением» своей жизни) был им сделан уже в 1917 г., т. е. по достижении всего лишь 27-летнего возраста.
Разнообразию, мощи и обилию результатов научного творчества Любищева соответствуют глубина ставившихся им вопросов и высокий уровень их литературной обработки. Необходимость иметь поистине громадную эрудицию для выполнения таких задач была ясна для него с юности, вследствие чего значительную часть своих поистине исполинских трудов он посвящал углубленному изучению литературы, прежде всего капитальных сочинений по разным отделам математики и философии; литературой же по теоретической биологии и ряду специальных вопросов он владел в совершенстве. Однако наряду с этим Любищев успевал читать литературу, подчас очень далекую от тематики его постоянных занятий, в частности художественные произведения, знакомство с которыми вызывало у него потребность провести анализ тех или иных затрагивающихся в них проблем. Результаты этого анализа он сразу же сам печатал на машинке. Таким образом возникли оригинальные этюды, по размерам достигавшие иногда объема крупных литературоведческих трактатов.
На всем написанном А. А. Любищевым лежит печать глубокой оригинальности. Смелость, полная откровенность, стремление выявить себя до конца и не упустить случая высказать несогласие там, где оно возникало, были характерными чертами всех его произведений. Полемика была одним из любимых им жанров в литературе и в устных беседах, парадоксальное даже привлекало его (например, он очень любил Честертона). Благодаря этим свойствам Любищев часто оставался непонятым. Особенно трудно было характеризовать общее направление его мыслей каким-либо одним словом, отнести его к какой- нибудь группе мыслителей; однако попытки такие делались, что приводило к появлению по отношению к нему эпитетов «антидарвинист», «виталист», «идеалист». Насколько мало подходят эти (и аналогичные) эпитеты Любищеву (особенно без дополнительных разъяснений), показано во многих местах этой книги, особенно в гл. 1 и 6. Здесь же достаточно сказать, что этот «антидарвинист» высоко ценил талант Дарвина, с юности превосходно знал его сочинения и не отрицал важного значения естественного отбора в процессе эволюции. Сущность «витализма» Любищева состоит в отрицании механистического воззрения на природу (т. е. крайнего редукционизма), защите биологии как науки, главная цель которой — изучение закономерностей, специфически свойственных живым организмам, что у него как последовательного рационалиста неразрывно соединялось с отрицанием существования каких-либо факторов, познание которых недоступно для разума. Любищев безоговорочно принимал реальность внешнего мира и не знал иных источников познания, кроме человеческого разума, в принципе ничем не ограниченного.
А. А. Любищев всегда симпатизировал и глубоко интересовался сочинениями Пифагора и Платона, его особенно привлекал математический стиль их мышления. Но на этом основании квалифицировать Любищева как идеалиста было бы неоправданным упрощением действительности, так как сказанное относится не к принятию им какой-то философской системы, а лишь к характеристике общей направленности его мышления на поиски диалектических связей между разными уровнями реального бытия.
Этими немногими словами об общем характере творчества Любищева мы и ограничим наши вводные замечания к предлагаемой книге. Добавлю, что при составлении текста мы проявляли посильную заботу о том, чтобы сделать его возможно более доступным и интересным для широкого круга читателей самых разных специальностей.
Член-корреспондент АМН СССР профессор П. Г. Светлов
Часть I Биографический очерк
I. Петербург—Петроград
Мой отец родился в Петербурге 5 апреля 1890 г. в семье очень богатого лесопромышленника, жившей в собственном доме на Греческом проспекте, в огромной квартире со множеством прислуги. Образ жизни этой семьи был обычным для петербургской крупной буржуазии. Благополучие, основанное на частной собственности, насколько мне известно, стало у отца моего с раннего возраста вызывать протест. Но отца своего он любил, с уважением относился к его активной деятельности, к его религиозности и таким чертам его характера, как доброта, щедрость и здравый смысл. Мать отца, моя бабушка, в его рассказах по своему образу мыслей и поступкам выглядела непривлекательной, хотя ничего дурного в ней не было. Самой отрицательной чертой вообще и в ней в частности отец считал равнодушие к судьбам других, «не своих» людей. Несогласия отца с родителями не выражались в скандалах и криках, не было и споров. Примерно с одиннадцати лет он установил для себя свой собственный режим жизни, занятий и развлечений. В семье, например, соблюдались церковные обряды, регулярно посещалась церковь. Отец очень рано от этого отказался; дед мой потом часто вспоминал' что это,делалось отцом отнюдь не в оскорбительной форме, а так, что причины отказа вызывали уважение, — отец был «всегда занят».
Учился отец в 3-м Реальном училище. С очень раннего возраста он избрал определенный путь в науку, поделив все области знания и культуры на обязательные для себя и ненужные. К последним он отнес тогда полностью всю художественную литературу, театр, искусство. В те времена он многое в человеческой культуре считал порождением «буржуазного образа жизни и праздных вкусов».
Отец избегал пользоваться услугами горничных, сумел добиться у родителей переустройства комнат для прислуги. От забот своей матери об его одежде, устройстве и комфорте он рано и решительно уклонился. По его рассказам я знаю, что тогда он считал корнем всех бедствий человечества частную собственность, называя ее воровством. По сбивчивым, наивным и путаным позднейшим рассказам бывших горничных их дома я знаю, что отец и перед ними, молодыми тогда девушками, развивал свои идеи. Но из дома он не ушел. И жил, хотя и ограничив себя скромными рамками, на «прибавочную стоимость». Потом в нашей семье, когда мы стали подрастать и обобщать виденное и слышанное, это выражение стало даже предметом шуток.
Занимался отец очень много. Еще мальчиком он преуспел в определении насекомых и изучил серьезные труды по естествознанию. В школе он выделялся математическими способностями, ему прочили карьеру именно в точных науках. В классе он был первым учеником, реальное училище окончил с золотой медалью. К истории и литературе он интереса не проявлял и ничем тогда по этим предметам не отличался. Но он вовсе не считал этого пробелом в своем образовании, просто не находил возможным тратить время и силы, предназначенные только науке, на такие «неважные» вещи, как художественная литература и история. Как все это изменилось потом!
Отец в школе много занимался с отстающими учениками, своими товарищами. Он потом говорил нам, что это было ему самому чрезвычайно полезно и вполне заменяло подготовку заданий и проработку обязательных программ. В сочинении «О школе» он во многом ссылается на свой собственный ученический опыт. Метод обучения, систему заданий и проверки, даже учебные программы он находил целесообразными и хорошо продуманными. Ничем лишним учеников не обременяли. Развитию отвлеченного мышления особенно способствовали сочинения на заданные темы, смысл которых надо было самому «раскрыть» и дать собственное толкование. Курс математики был обширный, в последних классах проходили начала дифференциального исчисления и аналитической геометрии. Требования к ученикам были очень высокими. В классе, где учился отец, из 25 человек, поступивших в первый класс, до конца без отставания дошло всего 5.
Конечно, отец понимал, что условия были тогда иными, обучение не носило массового характера, как сейчас, но тем не менее многое из системы преподавания в 3-м Реальном он считал возможным позаимствовать при современной организации образования.
Никого из школьных товарищей отца я не знаю. Все они рассеялись по жизни, никаких связей между ними не сохранилось. Вероятно, отец отличался от большинства школьников своими склонностями, занятиями и образом жизни. Спорт, однако, он очень любил, особенно лыжи и коньки. Как он рассказывал нам, в зимние каникулы он обычно уезжал на родительскую дачу в Териоках (ныне Зеленогорск), ходил там на лыжах и таким образом избегал общества, собиравшегося на праздниках у них в доме. Этого общества он чуждался, даже несколько презирал барский его уклад. Некоторые из бывших служащих моего деда рассказывали мне в тридцатых годах, что старшего сына деда они даже толком не знали, так он был от всего далек, так безучастен к делам семьи. Но все знали, что он слывет «подрывателем основ», нигилистом. Нигилистом считал себя и он сам, но его представления об этом, конечно, отличались от представлений тех, кто рассказывал об этом потом.
Можно считать, что у отца моего еще в школе сформировались планы и цели жизненного пути. Тогда же определились и его общественно-политические взгляды — он стал решительным республиканцем и отрицателем права частной собственности. Но активно заниматься политикой ему было некогда — на это он также не отпустил себе времени.
В ранней юности отца в семью деда з качестве репетитора моих теток-гимназисток ходил студент-технолог Леонид Иванович Елькин. Он был значительно старше моего отца, но они подружились, и эта дружба оказала большое влияние на формирование у отца революционных идей. Л. И. был «крайне левым», сторонником решительных действий. И был он в высшей степени светлой личностью, человеком высокого душевного благородства, самоотвержения и долга. Я познакомилась с ним в двадцатых годах в Перми.
Отголоски настроений того времени прошли через все наше детство. Революция избавила три поколения нашей семьи от бремени собственности. С этой весьма нешуточной собственностью (состояние моего деда перед революцией оценивалось в 30 млн. рублей), почти все члены семьи расстались с легкостью и без сожаления, это я могу свидетельствовать с полной ответственностью. Само понятие собственности в семье моего отца и для нас, детей, стало звучать как нечто совершенно порочное. Детским ругательством стало слово «собственник». Такое умонастроение возникло, конечно, под влиянием некоторых — очень лаконичных — замечаний отца, а понять смысл его мировоззрения мы смогли только гораздо позже. Я и теперь часто спрашиваю себя, в чем же была сила этого влияния, — ведь с отцом мы бывали очень мало, большей частью с нами находились разные няни, иногда бабушка. Думаю, что идеи разума и справедливости даже для маленьких детей всегда покоряющи и очевидны. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!...» — воодушевленно пел нам папа. И мы с ним вместе «со страшной силой» отрекались и отрясали...
Впрочем, все это относится ко временам гораздо более поздним, т. е. к двадцатым годам, а в годы, когда происходило духовное становление отца, т. е. до революции, нас ведь и на свете еще не было.
Окончив реальное училище, отец в 1906 г. поступил в Петербургский университет. К этому времени он был уже очень образованным человеком в области естественных наук. Кроме того, в детстве и в школе он в достаточной мере овладел французским и немецким языками; «Анну Каренину» он прочел в немецком переводе, чтобы, знакомясь с классическим русским произведением, не терять зря времени и заодно практиковаться в немецком языке, весьма необходимом для науки. «Анну Каренину» он нашел скучным и заурядным образцом беллетристики.
Английский язык отец выучил позднее по собственному методу, который заключался в том, что используются все «отбросы времени» — езда в трамваях, стояние в очередях, скучные заседания и т. д. — на чтение иностранных книг. Сначала, конечно, все будет непонятно, следует пользоваться словарем и ознакомиться с основами грамматики, все это делать «на ходу». Но необходимо все время читать, читать и читать! «Постепенно, — говорил он, — словарный запас возрастает и всякие затруднения исчезают. А говорить — вообще очень просто после этого: надо начать письменно излагать содержание прочитанного, таким образом создастся привычка к составлению фраз, а уж говорить потом — проще простого!».
Отец считал, что лучше всего он владеет именно английским. На этом языке он большей частью переписывался и разговаривал с иностранными учеными. Свободно читать он мог и на итальянском, позднее прочитал в подлиннике «Божественную комедию» Данте (много споров, даже конфликтов с близкими друзьями возникло у него по поводу оценки этого творения). Не вызывала у него затруднений также и литература на испанском, голландском и португальском языках. Он слыл всю жизнь полиглотом, был этим знаменит среди друзей и знакомых.
С ранней юности отец предназначил себя для науки. Он считал, что для этого необходимо строжайшим образом выделить все то, что знать обязательно, и только тем и заниматься, иначе не хватит жизни. Но после тщательного отбора круг необходимых знаний оказался столь широким, что стала ясной неизбежность наиболее полного и целесообразного использования времени, отпущенного на жизнь, — в этом он видел свой непременный долг.
О пребывании в университете отец рассказывал нам часто применительно к разным случаям нашей жизни. Это были рассуждения о целенаправленности студента, о системе преподавания и о нравах того времени. Система обучения не вызывала у него осуждений; тогдашняя форма университетского образования соответствовала, очевидно, требованиям, предъявляемым отцом к себе при обретении необходимых знаний: студенты не были обременены лишними обязанностями, от них не требовалось занятий по тем предметам, которые не были им нужны в аспекте избранных ими самими специальностей.
В университете отец занимался морфологией полихет в лаборатории профессора В. Т. Шевякова и побывал на практике на морских зоологических станциях в Неаполе (1909 г.) и Виллафранке (1910 г.). Первая научная статья отца была опубликована в 1912 г. в трудах Неаполитанской станции[1].
В 1911 г. отец окончил естественное отделение физико- математического факультета Петербургского университета с дипломом первой степени. Его дипломной работой было сочинение «О перитонеальных клетках и окологлоточной перепонке у полиноид» [2].
По окончании курса летом 1912 г. он работал на Мурманской биостанции в г. Александровске, заведовал которой Герман Александрович Клюге. Вместе с отцом там работали его университетские друзья: В. Н. Беклемишев, Д. М. Федотов, И. И. Соколов, Б. Н. Шванвич, С. И. Малышев и многие другие. О мурманской жизни мне пришлось слышать очень много рассказов отца и его товарищей, сохранилось много фотографий того времени. Все они жили вместе, работали очень много, развлекались, совершая длительные экспедиции по Кольскому полуострову, плавали на поморских лодках, купались в Екатерининской Гавани в восьмиградусной воде, потому и назывались моржами. В их рассказах вставал перед нами Ледовитый океан, скалистый холодный полуостров, своеобразие добывавших там тогда рыбу суровых поморов; до сих пор мне кажется, что я ясно вижу Мурман — так называлось тогда мурманское побережье Баренцева моря.
Вскоре после окончания университета отец женился на моей матери, Валентине Николаевне Дроздовой. Она была дочерью священника, профессора философии Духовной академии в Петербурге. Мать моя окончила Высшие женские архитектурные курсы Багаевой и работала в мастерской архитектора Шмидта. Родители мои познакомились в поезде Петербург—Териоки, во время поездок на дачу. Это случайное знакомство сыграло важную роль в жизни и чувствах отца. Ведь до этого он, как я уже упоминала, избегал общества вообще, и в частности того, которое собиралось у них в доме, в том числе и девушек своего возраста. Все они казались ему чужими и далекими, у них с ним не было никаких общих интересов; отец был скромен и не стремился «обличать нравы», но несомненно, судя по его рассказам, у него было чувство пренебрежения к «буржуазному обществу». В ранней юности на него сильное впечатление произвел Писарев, особенно его сочинение «Крушение эстетики». Идеи нигилизма, стремление к опрощению жизни и привычек с высокой целью установления социального равенства и всеобщего труда были основой жизненных устремлений отца в его юности и молодости. Кроме того, он считал себя некрасивым и неинтересным, полагая, что ничем не сможет заинтересовать женщину. Но эти мысли не тяготили его, в этом он не видел для себя трагедии — просто пришел к такому выводу и остался спокоен. А внешне он действительно, как мне рассказывали другие, выглядел с точки зрения светской «непрезентабельно»: большой, сильный, небрежный в манерах, в потрепанной тужурке, он ходил пешком в университет, никогда не пользуясь отцовскими выездами, и выглядел обычным, даже нуждающимся студентом. Многие его, оказывается, таким и считали. Встреча с моей матерью на некоторое время резко изменила его жизнь. После свадьбы родители мои уехали за границу, совершили большое путешествие по Греции, Италии и Египту, были там, куда ездят смотреть чудеса зодчества, ваяния и живописи. По возвращении они стали жить отдельно от родителей — в большой квартире в доме моего деда. Отец стал с покорностью хорошо одеваться, ездить в оперу, в другие театры, в гости, с визитами. Скоро у них родились дети — мы, трое, один за другим. Я была старшей, за мной два сына — Всеволод и Святослав.
Война 1914—1918 гг. была воспринята отцом как бедствие, порожденное «империализмом великих держав». Я знаю это из его ответов на мои вопросы, когда он потом рассказывал нам, детям, о событиях. мировой истории. Перед войной он уже прочитал К. Маркса (конечно, в подлиннике), вполне разделял'его взгляды на политико-экономические вопросы и с этих позиций объяснял нам устройство общества. Однако эти разговоры он относил к сфере идеологии, настоящим же своим делом он считал единственно науку. До революции ему довелось преподавать естественные науки и математику рабочим в кружках Выборгской стороны, но, как он сам признавался, его плохо понимали. Настроения его были чрезвычайно левыми; известно, что дед мой уговаривал его уехать за границу и там в тиши работать, чтобы за него не волноваться. Февральская революция была восторженно встречена всеми, кого я знаю из близких нашей семьи.
Сколько смогу, расскажу об эволюции научных взглядов отца в те годы, пользуясь его собственными воспоминаниями на эту тему. Первые мысли о возможности математизации морфологии возникли у отца вследствие самостоятельного чтения и размышлений. Он упоминает, в частности, книгу Скиапарелли о сравнительном изучении естественной органической и чистой геометрической формы. В воспоминаниях передан разговор с В. Н. Беклемишевым на Мурманской биостанции в 1912 г. о гармонических очертаниях придатков тела морских кольчатых червей; уже тогда у отца возникла мысль о возможности математического описания этих придатков (параподий).
В студенческие годы отец был «ортодоксальным дарвинистом», как и большинство преподавателей университета.
В 1906—1910 гг. он был поглощен лабораторными исследованиями и относился к «философствованиям», по выражению К. Н. Давыдова, «с нескрываемым омерзением». В философии он считал себя «сознательным варваром», т. е. полным ее отрицателем. И именно в таком умонастроении он услышал в 1911 г. в Биологическом обществе при Академии наук{2 Петербургский филиал Международного Биологического Общества — Societe de Biologie de France et de Belgique.} доклад Александра Гавриловича Гурвича «О механизме наследования форм», в котором была развита идея, впоследствии получившая название морфогенетического поля. В своих воспоминаниях об А. Г. Гурвиче отец пишет, что доклад произвел на него «ошеломляющее впечатление... математическим подходом, смелостью идей, исключительной новизной и убедительностью». После встречи с А. Г. у отца изменился масштаб оценки человека; как он сам пишет, «огромное большинство знакомых мне ученых много потеряло в моих глазах. И это несмотря на то, что нас с А. Г. вряд ли можно было назвать единомышленниками. Почти по всем вопросам как науки, так и общего мировоззрения у нас были длительные споры, и мы редко договаривались до согласия...». Я с детства хорошо помню А. Г. Гурвича. Он был на 16 лет старше отца. Его образ, дополненный рассказами разных лиц, остается живым до сих пор; особенно запечатлелось в памяти то, что отец всегда называл его «своим дорогим учителем и другом».
1 января 1914 г. отец поступил ассистентом на кафедру профессора С. И. Метальникова на Высших женских Бестужевских курсах в Петербурге, а с осени 1915 г. на тех же курсах стал ассистентом профессора А. Г. Гурвича, что еще более способствовало сближению отца с А. Г. Однако военная служба (по призыву) в Химическом комитете Главного артиллерийского управления прервала начатую работу.
II. Симферополь—Пермь
Научная работа отца возобновилась в,1918 г. в Таврическом университете в Симферополе, куда А. Г. Гурвич был приглашен профессором, а отец — ассистентом на его кафедру. Всей семьей (с няней и горничной) мы поехали
в Крым. Переезду и организации его очень помог Яков Ильич Френкель, ровесник моего отца (живший в то время в Крыму), который с тех пор стал его близким другом. Подружились и наши семьи. Смутно помню темные вагоны, страх при пробуждении по ночам: солдаты, штыки, везде вооруженные люди, иногда тревожные крики... Помню отца своего веселым и спокойным. Ему было тогда 28 лет.
В Таврический университет съехались со всех концов России выдающиеся ученые: Н. М. Крылов, В. И. Смирнов, О. В. Струве, А. А. Байков, Н. И. Андрусов, В. А. Обручев, В. И. Вернадский, В. И. Палладии, Л. И. Кузнецов, Г. Ф. Морозов, С. И. Метальников, Э. А. Мейер, П. П. Сушкин, Б Д. Греков, Я. И. Френкель, И. Е. Тамм и многие другие. Состав университета стал блестящим, им мог бы гордиться любой университет мира.
В Крым отец приехал уже как биолог с теоретическим уклоном. Еще в 1917 г. он написал свою первую натурфилософскую статью «Механизм и витализм как рабочие гипотезы». Впоследствии в университете в Крыму он сделал четыре сообщения по общим вопросам биологии; среди них следует выделить доклад «О возможности построения естественной системы организмов», содержание которого легло в основу работы [5].
Мы прожили в Крыму три года. Время было очень трудное. Жалованья отца для семьи в пять человек (да еще няня) не хватало. Отец искал дополнительный | заработок, работал грузчиком на виноградниках, на пилораме. Кроме того, давал уроки в семьях местных жителей. Мать поступила в одно из советских учреждений секретарем. И все же еды было мало, я хорошо помню, что часто мы испытывали голод. Помню «изъятие излишков»: солдат у дверей, женщину, которая рылась в чемоданах и кофрах, отца, совершенно спокойно выдвигавшего ящики и отдававшего все, что у него хотели «изъять». Нам с няней было очень страшно. Но — странное дело — я помню, что отец казался даже довольным происходящим. Он ведь не впустую произносил и тогда и позже любимую крылатую фразу: «Чем меньше вещей — тем больше свободы у человека». Уже тогда мы знали, что горевать из-за потери вещей — очень скверно, стыдно и даже низко.
Когда произошла революция, наш дед был в Англии. Он вернулся на родину, в Ялту, как раз в то время, когда ее заняла Красная Армия. Вскоре деда вызвали по распоряжению Совнаркома в Петроград для работы по экспорту
леса. Его пригласили на работу как знатока дела, которым он занимался всю жизнь. В Петрограде дед поселился снова в своей большой квартире. Он много ездил в командировки за границу, где участвовал в налаживании торговых и промышленных связей СССР с другими странами.
Мы уехали из Симферополя в 1921 г. Ехали очень долго, в теплушках, полных людей и вещей. До Петрограда добирались, кажется, целый месяц. Причиной отъезда отца из Крыма было приглашение его в Пермский университет, где он был избран доцентом. Видимо,. большую роль в переезде сыграла предстоящая возможность общения отца с его старым другом В. Н. Беклемишевым, находившимся там же. А. Г. Гурвич очень удерживал отца, но потом согласился, что ему пора выходить на самостоятельную работу.
Пермский университет был создан в 1916 г. как отделение Петроградского стараниями богатого местного промышленника Н. В. Мешкова. Он передал университету комплекс новых домов на окраине города — Заимке.{3 «Заимками» в Сибири и на Урале зовут места, занятые под пашню, расчистку леса и пр. В Перми Заимкой называются кварталы на окраине города, прилегающие к железнодорожной станции Пермь-2.} Там помещались физические, химические и биологические лаборатории, а также квартиры профессоров и преподавателей. Гуманитарные факультеты и медицинский, библиотека и Правление университета находились в самом городе. С 1918 г. Пермский университет стал самостоятельным.
Отец переехал в Пермь в 1921 г., а мы все переселились туда в 1923 г. Два года отец прожил в Перми без семьи, время от времени приезжая к нам в Петроград. В Перми он заболел сыпным тифом, болезнь вспыхнула внезапно, во время экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру. Его оттуда буквально на своих плечах вынес его друг, доктор Владимир Григорьевич Вайнштейн, бывший тогда ассистентом профессора Ансерова в университете. Именно болезнь отца ускорила переезд всей семьи в Пермь.
На Заимке, в большой и благоустроенной квартире, мы прожили четыре года. В конце этого периода мне исполнилось 12 лет, и я хорошо помню многое из нашей жизни в Перми. Работа в этом городе оставила у отца самые светлые воспоминания. Среди сотрудников университета были его близкие друзья: заведующий кафедрой зоологии Д. М. Федотов, профессора В. Н. Беклемишев, А. А. Заварзин, А. Г. Генкель, В. К. Шмидт, Д. А. Сабинин, А. М. Сырцов, А. П. Дьяконов, Б. Ф. Вериго, а также П. Г. Светлов, А. О. Таусон, Ф. М. Лазаренко, Ю. А. Орлов, — почти все они уже ушли в вечность.
Отец занимал должность доцента кафедры зоологии. Объем его преподавательской деятельности был весьма обширен. Он вел разные курсы, основным из которых была общая биология. Читал он введение в эволюционную теорию, биометрию, генетику, зоопсихологию, специальный курс эволюционной теории для студентов четвертого курса. Кроме того, были курсы зоологии позвоночных, зоогеографии, истории биологии и, наконец; в последние годы пребывания в Перми — учение о сельскохозяйственных вредителях. Этот последний теоретический курс, а также проводимые отцом практические занятия, побудили его вернуться к энтомологии и заинтересоваться прикладными проблемами (см. гл. 5). Продумывание лекций по генетике привело отца к «совершенно иному пониманию природы наследственных факторов» по сравнению с обычным; оно изложено в его работе «О природе наследственных факторов» [10]. Отец считал эту статью наиболее крупной из всех своих теоретических работ (см. гл. 2).
В тесной связи с педагогической находилась и научная деятельность отца. В Перми он закончил три небольшие статьи по кольчатым червям [3, 6, 7] и начал печатать свои первые труды по биометрии и общей биологии, подготовленные еще в Крыму. Три из них — «О критерии изменчивости организмов», «О форме естественной системы организмов» и «О природе наследственных факторов»— были доложены на 1-м Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде в 1922 г. Последняя работа вызвала острую дискуссию; против нее выступали Ю. А. Филипченко и особенно Н. К. Кольцов, которые защищали общепринятые тогда взгляды. Тогда же была опубликована статья «Понятие эволюции и кризис эволюционизма» [9].
Отец был действительным членом Биологического научно-исследовательского института при Пермском университете, а один год исполнял обязанности заведующего Биостанцией в Нижней Курье на Каме. В воспоминаниях отца Биологическому институту и его первому директору, профессору Алексею Алексеевичу Заварзину, отведено особое место. Главными деятелями института были профессора и преподаватели Пермского университета,
уже упомянутые мной. Деятельность института, по словам отца, «во многих отношениях была своеобразна и замечательна». Особенностью того времени был опыт перехода к новым формам организации всех отраслей хозяйства и науки; им во многом и определялась работа в университете. Вопросы публикации трудов, обмен с иностранными учеными, оплата сотрудников института — все требовало больших усилий, энергии и часто дипломатии. Надо было в центре утверждать фонды расходов на развитие института, уметь доказывать, убеждать. Между университетами, Пермским и Свердловским, шла конкуренция, не исключена была возможность закрытия университета в Перми. По-видимому, лишь после приезда комиссии во главе с А. В. Луначарским и ознакомления его самого с деятельностью университета и Биологического института эта опасность исчезла.
Биологический институт сумел заинтересовать своей работой научные центры многих стран: Линнеевское общество в Лондоне, Биологическую станцию на Гельголанде, Зоологическую станцию в Неаполе, академии наук Швеции, Пруссии, Баварии, Австрии, Голландии, Королевское общество в Эдинбурге, научные общества и институты в Мексике, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Колумбии, Чили, Японии, Иране, Индии, Египте, Алжире и в Южно- Африканском Союзе, в Австралии и Новой Зеландии.
Во многих семьях университетских преподавателей в те времена дети — в том числе и мои братья — собирали коллекции почтовых марок. Мне кажется, что братья были только номинальными коллекционерами, а отец сам увлекся этим делом и страшно ликовал, принося домой марки экзотического вида и необыкновенной редкости. Когда стал подрастать мой младший сын (это было уже в конце пятидесятых годов), мой отец и его стал поощрять в коллекционировании марок и не раз присылал ему пакетики иностранных марок: заграничная корреспонденция отца всегда была обширна, расширяясь или сужаясь в зависимости от обстоятельств.
Хозяйственная деятельность Биологического института, особенно ее финансовая сторона, в силу неопределенности доходов была очень трудной. Однако атмосфера товарищества и взаимного доверия определяла успех всех начинаний. В воспоминаниях отца университетскому товариществу посвящены целые страницы. Основная мысль сводится к тому, что «университетский дух» возникает именно в провинциальных университетах в силу малочисленности сотрудников, особенностей замкнутой среды. В этом отношении отец, сравнивая Петербургский (Петроградский) университет с Таврическим и Пермским, безоговорочно отдавал предпочтение последним.
По впечатлениям моего детства, такой интересной товарищеской среды, такого тесного интеллектуального общения между людьми разных характеров, возрастов, специальностей, как в Перми, мне больше не доводилось встречать. Самые яркие мысли, самая горячая полемика с изысканной аргументацией просвещенных умов — все это было «климатом» (как деперь говорят) нашего детского вхождения в жизнь. Мы, дети, конечно, были изолированы в своих комнатах, но многие из папиных коллег любили поговорить с нами, осторожно и неназойливо просвещая и обучая. Разумеется, нам всегда было интересно послушать, что говорят «большие» и как они говорят. А говорить они умели. Часто то, что говорилось, было нам, детям, совершенно непонятно, но казалось чрезвычайно увлекательным.
Все работавшие в Пермском университете разделялись на две части (два «общества»): одну из них составляли жившие на Заимке (заимковцы), другую—жившие в городе. Заимковцы отличались большой сплоченностью, которая сохранилась потом на всю жизнь, после того как все разъехались. Судьбы у всех оказались очень разными. Однако ни жизнь в разных городах, ни работа в разных областях науки, ни разная степень продвижения по службе не помешали заимковцам помнить друг о друге и поддерживать связи друг с другом (не так давно большой друг нашей семьи профессор-хирург В. Г. Вайнштейн сказал мне, что он до сих пор остается «заимковским всеобщим доктором»).
Многие из тех, кто жил и работал в Перми в двадцатых годах, заслуживают большого внимания и интереса как личности, не говоря уже о научной ценности их работ. Общество, которое собиралось в заимковских домах, было ярким и интересным. Бурные споры, часто вспыхивавшие за столом, являли собой образец «состязающихся умов». Споров было очень много. Полемика шла горячая и неистовая, аргументы приводились на самом высоком уровне осведомленности во всех областях культуры и развития мысли.
Жизнь на рубеже новой эпохи была очень сложна. Того, что теперь называют «обеспеченностью», в нашем обществе не было. Правда, все жили в больших и хороших квартирах, почти у всех были домработницы, дети (некоторые сверх школьных занятий) частным образом учились общеобразовательным предметам, особенно иностранным языкам, но денег у всех было мало, заработки очень скромные. Крупных приобретений никто не делал, не мог делать, и никакого интереса к этому не проявлялось. Одежда у большинства была с дореволюционных времен.
Самой близкой семьей для отца и для всех нас стала тогда и на всю жизнь семья В. Н. Беклемишева. Отца моего и Владимира Николаевича дружба и сходство взглядов связывали со студенческих лет. Эта дружба прошла через всю их жизнь, близость духовная и научная испытывалась временем и укреплялась все больше. Для меня же семья Беклемишевых стала второй моей семьей.
Одной из весьма значительных фигур в воспоминаниях отца о Перми был Анатолий Иванович Сырцов, профессор- философии. Отец называл его «умнейшим и образованнейшим человеком». Подружился с ним отец на домашних собраниях и посещал его семинары по философии. Один из семинаров был по теории причинности, другой — по философии Гегеля. В первом из них отцом был сделан доклад «Об эволюции понимания причинности в древней и новой философии». Этот доклад показал, что к тому времени отец имел уже очень серьезные знания в области гносеологии, что было отмечено А. И. Сырцовым в разборе этого доклада. Именно на семинарах Сырцова отец понял, что руководству семинарами «мы, естественники, должны учиться у таких высококвалифицированных представителей философии», и с успехом использовал этот опыт в своей дальнейшей работе. Любопытны политические взгляды и отношение к советскому строю Сырцова, выяснившиеся в личных разговорах ученого с отцом. При царизме он был против революционных переворотов, а в двадцатые годы он говорил, что «сейчас было бы подлинным преступлением говорить о возможности возврата к старому строю. Сейчас надо в рамках советского строя — в основном прогрессивного — стремиться к развитию нашей страны и бороться за устранение недостатков».
Живя в Перми, отец неоднократно принимал участие в работе всесоюзных зоологических съездов. О I Съезде я уже упоминала; на III Съезде в 1927 г. в Ленинграде отец сделал доклад о номогенезе и несколько раз выступал в прениях по общим вопросам биологии.
В 1927 г. вследствие интенсивной умственной деятельности отец переутомился, у него началось острое нервное расстройство, и он в возрасте 36 лет ощутил потерю работоспособности. Благодаря доброму отношению к нему со стороны администрации и поддержке товарищей ему удалось подлечиться (он ездил в санаторий в Севастополе) и восстановить свои силы. Чрезвычайно остро переживал отец невозможность работать так много, как он стремился, как предписывала ему его железная система, его план, им самим себе составленный и строжайшим образом выполняемый, по его словам, в «оправдание существования».
В 1926 г. университет представил отца к званию профессора. Но в уже опубликованных работах (встретивших большую поддержку Н. И. Вавилова и Л. С. Берга) «О форме естественной системы организмов», «Понятие .эволюции и кризис эволюционизма» и особенно в книге «О природе наследственных факторов» отец выступил с позиции, которую многие тогдашние биологи восприняли как чересчур диалектичную. К тому времени его взгляды полностью сформировались, пройдя сложный путь от ортодоксального дарвинизма и механицизма к признанию номогенеза (с некоторыми оговорками) и ирредукционизма (см. гл. 1). Все это в те времена считалось недопустимой ересью. Друзья предупреждали отца, что опубликование этих работ может послужить препятствием к получению профессуры. Так и случилось: хотя ректор Пермского университета поддерживал представление его к званию профессора, а декан биологического факультета лично ходатайствовал за отца, из Государственного Ученого совета (ГУС) был получен отказ. Однако в ответ на одновременно поданное отцом заявление на участие в конкурсе на замещение должности заведующего кафедрой зоологии в сельскохозяйственном институте в Самаре в конце 1926 г. он был назначен на эту должность и утвержден в звании профессора этого института.
Отец пишет в своих воспоминаниях по поводу отказа ГУС в утверждении его в звании профессора университета следующее: «Хотя опубликование моих работ й послужило препятствием для утверждения меня в звании профессора, я нисколько не раскаиваюсь в напечатании этих работ, так как глубоко убежден, что эти статьи представляют наибольшую научную ценность из всего мной написанного, и остаток моей жизни [воспоминания писались в 1955 г.] я намерен посвятить дальнейшей разработке намеченных там идей».
Заканчивая описание пермского периода нашей жизни, хочу прибавить, что для становления личности многих начинавших ученых атмосфера Пермского университета сыграла огромную роль, а для нас, детей, жизнь в обществе, образовавшемся на Заимке, стала «открытием мира» с его многообразием мыслей, чувств и норм поведения, интеллектуальной школой жизни.
III. Самара (Куйбышев)
В Самаре мы прожили три года (1927—1930). У нас была прекрасная большая квартира в особняке над Волгой, в центре города, с каменной террасой, откуда открывался вид на волжские просторы и Жигули. Отец приехал туда в начале 1927 г., а мы всей семьей присоединились к нему в июле.
Самарский сельскохозяйственный институт помещался в здании бывшей духовной семинарии. Лекции и занятия по зоологии шли в семинарской церкви, алтарь и ризница которой были приспособлены под энтомологический кабинет, а для себя отец устроил уголок на хорах. Для него это помещение было удобно: «Во-первых, там не было случайных посетителей, во-вторых, я всегда слышал ведение занятий моими ассистентами внизу и мог поэтому их корректировать...». Надо сказать, что отец мог распределять свое внимание (почти в равной мере) на несколько дел, которые выполнял одновременно, и совершенно отключался от всего того, что его не касалось и не интересовало. Сколько я помню, дома почти никто из присутствовавших в квартире не мог ему помешать, если только к нему непосредственно не обращались или не ссорились между собой дети, — последнее обстоятельство его всегда очень огорчало и расстраивало.
Письменный стол отца помещался на самом краю хоров, там же стояла и непрерывно стучала его пишущая машинка, а часть хоров была использована им под лабораторию. Оборудование последней было самым примитивным, но отца оно вполне устраивало. В этих условиях он написал свою основную работу по прикладной энтомологии [15], за которую (вместе с другими) ему в 1936 г. присудили ученую степень доктора наук.
Однажды кинооператоры хотели произвести съемки лабораторий сельскохозяйственного института. Придя на хоры в отсутствие отца, они заявили: «Здесь, конечно, заниматься научной работой невозможно!». Нетребовательность отца к условиям работы с точки зрения общепринятых представлений о комфорте была очень для него характерной. В своих многочисленных экспедициях и в одиноких странствованиях для сбора насекомых он часто пользовался любыми случайными видами транспорта и не имел никаких претензий к организации своего ночлега и отдыха.
Работа по хлебному пилильщику и изосоме была первой прикладной работой отца, в которой он, по его собственному мнению, получил отчетливые результаты. Он пишет об этом: «... первые мои попытки в Перми по клеверному семееду дальше попыток не пошли, но дали мне некоторое понимание сложности экономических проблем в энтомологии...». В Самаре отцу удалось справиться с рядом довольно трудных проблем в этой области, где он стал чувствовать себя достаточно прочно. Преподавание в Институте он совмещал с прикладными работами и исследованиями по систематике земляных блошек. Именно в Самаре он сумел основательно разработать род Хальтика и наметить план на будущее. Занимался он и общими вопросами. Пребывание в Самаре сильно расширило его кругозор в области агрономии. Отец поддерживал тесную связь со специалистами селекционерами, участвовал в дискуссиях между сторонниками и противниками Вильямса и составил себе ясное представление о сущности споров по сельскохозяйственным вопросам (см. гл. 5).
Вспоминая о жизни в Самаре, отец писал: «Занятия прикладной энтомологией мне были не бесполезны и для моих чисто научных занятий. При работе с пилильщиком и изозомой я довольно хорошо практически овладел приемами математической статистики, а это уже привело впоследствии к углубленному знакомству с теми методами, которые я сейчас намерен применять в области систематики насекомых. Если я успею выполнить свои главнейшие планы, то придется сказать, что мое отвлечение в область прикладной энтомологии не было ошибкой, а ответ на это можно будет дать только на смертном одре».
В 1930 г. отец переехал в Ленинград, где в это время был организован Всесоюзный институт защиты растений (ВИЗР). В этом же году произошла реорганизация Самарского сельскохозяйственного института, который разделился на два: в Самаре и Кинели оставили отделения агрономического факультета, а зоотехнический и ветеринарный перевели в Оренбург. По планам того времени кафедры зоологии в агрономическом институте не было. В ВИЗР отца настойчиво звали, да и родители отца, мои дед и бабушка, очень просили его вернуться в Ленинград.
Главной причиной переезда для отца (помимо, конечно, формального повода — реорганизации института) была надежда на то, что освобождение от преподавательской деятельности увеличит время на работу как по прикладной энтомологии, так и по общим проблемам биологии. Именно в этом он и ошибся: научной работой в Ленинграде ему пришлось заниматься очень мало.
Незадолго до переселения в Ленинград (в начале мая 1930 г.) отец ездил на IV Съезд зоологов в Киеве. Там были поставлены доклады по общебиологическим вопросам, в том числе (по предложению И. И. Шмальгаузена) доклад отца: «О логических основаниях современных направлений в биологии» [14]. Отец писал: «Мой доклад носил общий характер и был дальнейшим развитием доклада на III Съезде „Понятие номогенеза“. Номогенез, конечно, не является отрицанием морганизма, но ограничивает его, и поэтому на IV Съезде тогдашние защитники морганизма были в числе моих противников». Прения по докладу вызвали большое оживление; многие участники Съезда защищали в то время чистый морганизм. Среди них были М. Л. Левин, С. Г. Левит, Б. М. и М. М. Завадовские, А. С. Серебровский, И. И. Презент, И. М. Поляков, Е. А. Финкельштейн, М. М. Местергази. Против этой группы выступало значительное число зоологов, «не объединенных какой-либо общей идеей». Их позицию особенно ярко выразил палеонтолог Д. Н. Соболев. Имея в виду постоянные ссылки «морганистов» .на классиков марксизма, он убедительно показал неправомерность прикрытия постулатов морганизма цитатами из работ Маркса и Энгельса. Ю. А. Филипченко произнес в защиту свободы научных убеждений блестящую речь, вызвавшую наибольшее количество аплодисментов.
IV. Ленинград
Ленинградский период деятельности отца (1930—1938) следует, вероятно, считать самым бурным и самым трудным по многим причинам. Переезд совпал с реорганизацией Института прикладной ботаники, возглавляемого Н. И. Вавиловым, во Всесоюзную Академию сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Один из отделов был преобразован во Всесоюзный институт защиты растений (ВИЗР). Для института был отведен Елагин дворец, где он находился пять лет, до создания на Елагином острове Парка культуры и отдыха. Отец, как и другие научные работники ВИЗР, поселился с семьей в бывшем фрейлинском доме. Этим он очень огорчил своих родителей, которые настоятельно просили его жить вместе с ними, в их большой и удобной квартире, но он этого не захотел.
О первом директоре института, Н. В. Ковалеве, все работавшие с ним сохранили самое теплое воспоминание. Но он недолго оставался директором ВИЗР: в середине 1931 г. он стал заместителем Н. И. Вавилова во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР). Новым директором был назначен М. М. Бек, о котором отец писал: «Бек сначала отнесся скептически к моей статье об учете потерь,{4 По-видимому, речь идет о работе [16].} но не препятствовал ее публикации. Ему же я обязан появлению в сборнике ВИЗР двух моих работ: ,Подсчитывается ли армия вредителей?» и «Эффективность мероприятий и учет потерь». Мои статьи Бек читал внимательно, не сразу с ними соглашался, но постепенно мне удалось его полностью убедить. Наиболее острой моей статьей, направленной против ОБВ (Общества по борьбе с вредителями), была статья «Эффективность мероприятий и учет потерь». Она была опубликована в 1933 г. и представляла собой автореферат моего доклада на Съезде ОБВ, во главе которого стоял Зеленухин. Последний очень подозрительно ко мне относился из-за моей первой статьи об учете потерь... Возможно, он вполне искренне меня подозревал в прямом вредительстве и даже хотел привлечь меня к ответственности. Моя работа «Эффективность мероприятий...» имела довольно большой эффект и была впоследствии использована комиссией по ревизии деятельности ОБВ. Как известно, дело кончилось ликвидацией ОБВ. Мне говорили, что эту статью внимательно читал С. М. Киров".
Плановой работой отца в ВИЗР было определение экономического значения вредителей — злаковых мух, т. е. продолжение работы, начатой им в Самаре. Применяя методы математической статистики, отец рьяно взялся за дело и "постарался выяснить истинное значение ряда вредных насекомых, не считаясь с общепринятыми представлениями о степени их вредоносности". В результате своих работ он пришел к выводу, что "экономическое значение вредителей, как правило, значительно преувеличивается" [2*]. На основании многочисленных поездок по сельскохозяйственным районам страны и математической обработки полевых материалов отец показал, что сильное или хотя бы заметное повреждение зерновых злаков насекомыми представляется скорее исключением, чем правилом [15] (см. также гл. 5).
За время работы в ВИЗР отец часто ездил на опытные станции для проверки их деятельности и для консультаций: за 1935 г. он объездил Белоруссию, Крым, Нижнее Поволжье, Закавказье и Узбекистан и близко познакомился с опытными и производственными учреждениями. В последние годы работы в ВИЗР отец по предложению Н. Н. Богданова-Катькова читал курс лекций по экономике сельскохозяйственных вредителей в Сельскохозяйственном институте и в Ленинградском институте по борьбе с вредителями. Первые лекции показались студентам слишком трудными, так как были построены на использовании математической статистики. Однако, отчасти после вмешательства Богданова-Катькова, отчасти потому, что студенты постепенно вникли в теорию, отец расстался с ними в наилучших отношениях. Ленинградскому периоду работы отца посвящен большой раздел его воспоминаний, где рассказывается о возникавших тогда проблемах и дискуссиях по ним.
К тридцатым годам относится знакомство отца с американским ученым Честером Блиссом, приглашенным в СССР в качестве специалиста. Отец, владевший английским языком, должен был встречать его на аэродроме. С того самого дня возникла и крепла их дружба, сохранившаяся до смерти моего отца. Блисс проработал в ВИЗР около трех лет. Он не сумел выучиться русскому языку, хотя был искренне расположен к нашей стране и к ее народу. Они с отцом оказались очень близки по научным интересам и направлениям исследований — математизации биологии.
К тому же времени относится и активное участие отца в дискуссиях с известными американскими генетиками Мёллером и Бриджесом, долгое время жившими в СССР по приглашению нашей Академии наук. Выступая на этих дискуссиях, отец развивал свои представления о соотношениях между генами и признаками, высказанные им ранее в работе 1925 г. [10], сильно расходившиеся с тогдашними мнениями упомянутых американских генетиков по этим вопросам.
После того как директором ВИЗР стал И. А. Зеленухин (бывший директор ОБВ), в положении отца наступил самый острый период. Уже с 1936 г. он начал думать об уходе из ВИЗР. Причиной тому было недовольство плохим планированием научной работы, частой сменой тематики, не позволявшей как следует углубиться в решение научных и производственных вопросов. Особенно чувствителен отец был к сопротивлению, оказываемому Зеленухиным внедрению математических методов в научные исследования института. На организованном Зеленухиным в 1937 г. заседании Ученого совета ВИЗР при обсуждении научных работ отца было выдвинуто обвинение в намеренном преуменьшении им экономического значения вредителей. Это было очень серьезное обвинение — по всей стране велись кампании по борьбе с вредительством в сельском хозяйстве и в промышленности. Ученый совет решил ходатайствовать перед ВАК о лишении отца докторской степени, а Зеленухин уволил его "за невыполнение плана работ". Однако еще до этого И. И. Шмальгаузен пригласил отца на должность заведующего Отделом экологии Института зоологии украинской Академии наук и к тому времени отец уже был зачислен на работу в Киеве. Безработица ему не угрожала, но, как написано им в дневнике того времени, чувствовал он себя неважно.
Надо сказать, что ВАК подтвердил свое прежнее решение о присуждении отцу докторской степени. Многие из знавших его считают, что именно тогда наиболее ярко проявились его особенности ученого и человека — стойкость в убеждениях, сила воли и антипатия к компромиссам. Позиция отца в оценке значения вредителей злаковых растений была подтверждена в послевоенных работах крупных специалистов биологов (см. гл. 5).
V. Киев—Пржевальск—Фрунзе
Драматичность положения отца в то время усугубилась внезапной болезнью старшего сына, у которого в 1936 г. открылся острый туберкулез с кавернами в обоих легких. Сыну было тогда 19 лет. С деньгами было очень туго, на лечение потребовались большие средства (дед, который до 1931 г. много помогал нашей семье, к этому времени уже не работал). На помощь отцу пришли друзья, чем он был глубоко тронут. А. Г. Гурвич, Я. И. Френкель, В. Н. Беклемишев и другие одолжили отцу на неопределенный срок крупные суммы, отцу удалось отправить сына на длительное лечение на курорт; крсГме того, врачи вообще настаивали на перемене климата для него. Поэтому приглашение занять руководящую научную должность на Украине оказалось чрезвычайно кстати. В 1938 г. отец и мать вместе с внуком (моим двухлетним сыном) переехали в Киев. Брат мой сначала лечился на юге, а в 1939 г. приехал в Киев. Процесс в легких был приостановлен, брат продолжал учение в Киевском Политехническом институте.
Жизнь и работа отца в Киеве складывались удачно. Атмосфера на работе была благоприятной, он встретил поддержку и дружеское внимание коллег и сотрудников. Семья жила в хорошей квартире на Малой Подвальной улице, в центре города. В Институте биологии Академии наук УССР отец совмещал теоретические исследования с работой в Отделе защиты растений Украинского института плодоводства. Если не считать постоянной тревоги за сына, все шло благополучно.
Война заставила отца с семьей эвакуироваться из Киева. События развивались с ужасающей быстротой. Отец проводил своего старшего сына на завод в Харьков (за несколько дней да начала войны он защитил дипломный проект). Из Харькова завод вскоре спешно эвакуировался в Сталинград, где в ходе грозных и трагических событий брат мой оказался в смертельной опасности: у него снова стал прогрессировать процесс в легких, охвативший затем весь организм; брат до того ослабел, что не мог даже ходить. Однако все это стало известно отцу значительно позже. Когда началась эвакуация Академии наук и за ней других научных учреждений Киева, отец решил, что ему следует подождать, — он не верил, что немцы смогут пройти так далеко... Он переехал с женой и внуком (брат был уже в Харькове) на левый берег Днепра и поселился там в колхозе, стал работать и получил справку о выполнении норм, чем чрезвычайно гордился. Однако вскоре наступила пора страшных бед, им пришлось буквально бежать, когда немцы в июле 1941 г. неожиданно подступили к Киеву. Ехали они самостоятельно, сначала на пароходе по Днепру; пароход подвергся воздушному налету, капитан и несколько человек из команды были убиты, судно потерпело аварию. Дальнейший путь на восток с маленьким ребенком был страшно тяжелым. Только в августе 1941 г. они добрались до Пржевальска, где, как отец случайно узнал в пути, требовались профессора и преподаватели в Педагогический институт. Там он получил должность заведующего кафедрой зоологии. Условия жизни и быта были трудными, как почти всюду во время войны. В Пединституте отец читал курсы анатомии человека, гистологии, физиологии человека, дарвинизма и зоогеографии. Все это он мог делать, по мнению сотрудников и коллег, только в силу широкого образования и уменья быстро осваивать новые области науки. Сохранились конспекты его лекций — десятки мелко исписанных толстых тетрадей, иногда сшитых из листков бумаги различного происхождения, с отличными рисунками. Рисовал он с ювелирной точностью.
В Пржевальске в июле 1942 г. отец получил из Сталинграда известие, что сын его смертельно болен и находится в опасности, что он очень ослабел и помочь ему в Сталинграде никто не может. И отец тронулся в путь за сыном. Наверно, этот путь был еще тяжелее, чем путь эвакуации, но папа все преодолел и вывез из Сталинграда, почти на руках, своего умирающего двадцатипятилетнего сына. Как он смог это сделать — я до сих пор не могу понять и представить: он сам был сильно изнурен, ослаблен недоеданием, денег у него не было. Ожидание катастрофы — смерти сына — приводило его в отчаяние. Однажды он уже пережил подобное состояние перед войной. Брат умер в Пржевальске 23 августа 1942 г., прожив там всего несколько дней. Отец чрезвычайно тяжело перенес его болезнь и смерть. Это было самым тяжелым горем, самым большим испытанием в его жизни. К постигшей его утрате присоединились неустроенность в бытовом отношении и острая нужда в средствах на жизнь. Он стал совершенно больным от истощения и горя. Я все это время была в Ленинграде, пережила блокаду, работала на военном заводе. Сведений об отце и матери я не имела очень долго, но постепенно узнала все, что им пришлось вынести. Второй мой брат окончил в 1941 г. Военно-медицинскую академию и с первых дней войны был на фронте. Связь между ним, мной и родителями была скудной и редкой.
В 1943 г. во Фрунзе был создан филиал Академии наук СССР (КИРФАН); должность заведующего его эколого-энтомологическим отделом была предложена отцу. Он переехал во Фрунзе сначала один, а мать и мой сын Андрей оставались до августа 1944 г. в Пржевальске. В июле 1944 г., после снятия блокады, мне удалось на несколько дней съездить во Фрунзе. Я приехала в великолепный, сияющий солнцем город, зеленый, яркий, экзотический. Но отца своего я нашла в ужасном состоянии: он был худ, черен, оборван, жил в разваливающемся доме. Кроме того, его еще и обокрали. В лице его я прочла тоску, в тусклых глазах — неутешное горе и уныние...
Позже положение его улучшилось, как, впрочем, и у всех. Мать с Андреем в августе переехали к нему. Сначала они жили в холодном и сыром доме, но потом получили хорошую квартиру, и материальное положение несравненно улучшилось — повысилась заработная плата, появились академические пайки, отца уже не так обременяли житейские тяготы.
Во Фрунзе отец читал лекции в Педагогическом институте, а в 1945—1946 гг. заведовал кафедрой зоологии Киргизского сельскохозяйственного института и в течение четырех лет был председателем Государственной аттестационной комиссии на трех факультетах — биологическом, физико-математическом и географическом. Все годы работы во Фрунзе он успешно занимался научными исследованиями, особенно систематикой жуков, называемых земляными блошками (Halticinae), пополняя свою обширную коллекцию новыми сборами в различных районах Киргизии. Там же была им написана книга "К методике количественного учета и районирования насекомых", в которой критически рассмотрены методы полевого изучения насекомых, преследующие как теоретические, так и практические цели. В книге изложены новые приемы статистической обработки, основанные на применении дисперсионного анализа Р. Фишера. Материалом для анализа послужили его любимые земляные блошки (см. гл. 4—5). Книга была издана с большим запозданием — только в 1958 г.
Работа и общие условия труда в КИРФАН некоторое время вполне удовлетворяли отца. У него появились ученики, которые его высоко ценили и дорожили его помощью и руководством. Отец стремился заполнить пробелы в их образовании — в математике и даже в иностранных языках. Все они (Р. П. Караваева, М. Шапиро и др.) занимались прикладными вопросами биологии, никого из них отец не прочил в ученые теоретического плана, но в каждом стремился посеять сомнения в догмах общепринятых формулировок и умение думать самостоятельно.
Во Фрунзе у матери моей обострился порок сердца, которым она страдала смолоду. В 1947 г. случился первый приступ, а в феврале 1948 г. она умерла. В этом же году, в августе, отец женился на Ольге Петровне Орлицкой, с которой был знаком с ранней юности в Петербурге. Переписка с ней была редкой и нерегулярной, но их связывала взаимная дружеская приязнь. О. П. в 1947 г. демобилизовалась. Всю войну она была в армии. О. П. прожила с отцом 24 года. Сразу же по выходе за него замуж она стала отцу близким другом, секретарем, стенографисткой, хранительницей его архива. Она облегчила и устроила его жизнь во всех отношениях, взяла на себя все житейские хлопоты. Она с жаром включилась в его деятельность, стала жить его интересами. Со стороны отца было к ней горячее и сильное чувство все 24 года их совместной жизни. После смерти мужа О. П. начала быстро слабеть и чахнуть и умерла через четыре месяца после него, утратив всякий вкус к жизни.
С течением времени условия работы отца в КИРФАН ухудшились. Он, как всегда, совершенно открыто всюду высказывал свои мысли по научный вопросам. Отношение к отцу со стороны многих руководящих деятелей КИРФАН круто изменилось. Стало очевидным, что из Киргизии нужно уезжать.
VI. Ульяновск
Отец послал в Москву в Управление высшей школы письмо с просьбой о предоставлении ему профессорской должности в любом вузе страны, кроме Москвы и Ленинграда (последняя оговорка объясняется отрицательным отношением отца к жизни в столицах вообще), и получил несколько предложений, в том числе в Ульяновск. Он выбрал Ульяновск — у него сохранились воспоминания о том, как они с Ч. Блиссом были там однажды и стояли на Венце, любуясь Волгой и Заволжьем. Еще тогда отец подумал, что хорошо бы было ему на закате жизни поселиться именно в Ульяновске. И вот он переехал туда, став заведующим кафедрой зоологии Ульяновского педагогического института. В этой должности он проработал с 1950 по 1955 г. Читал зоологию беспозвоночных, гистологию и эмбриологию, специальные предметы. Прожил он в Ульяновске до самой смерти, всего 22 года. В 1955 г. ему исполнилось 65 лет, и он решил уйти на пенсию, чтобы иметь возможность отдать все силы и все время работе по собственному плану над вопросами теоретической биологии и философии, разработка которых была целью его жизненного пути. На работе в Педагогическом институте у него не раз возникали трения с администрацией, но именно годы, проведенные в Ульяновске, оказались самыми плодотворными. Там отец был окружен дружеским вниманием учеников и коллег, видел преданность и верность и, что самое главное, интерес к его идеям. В Ульяновске у него появились новые друзья, многие сопутствовали ему до конца жизни и проводили его в последний путь.
Выйдя на пенсию, отец продолжал исследования по теоретической биологии, начало которым было положено в ранней юности — он ведь поставил перед собой задачу создать естественную систему организмов. Накопленный материал ждал обработки. Отец составил план, разделенный на пятилетия. Эти планы сохранились в его дневниках. Он должен был обработать весь материал и создать стройную систему естественных форм. Отец начал и полагал, что успеет закончить книгу "Линии Платона и Демокрита в развитии культуры". Сначала он замышлял эту работу как предисловие к книге по систематике организмов, в которой он собирался выразить также и свои философские взгляды на развитие жизни. В ходе работы оказалось, что именно противопоставление идейных линий Платона и Демокрита в истории культуры создает нужный угол зрения для надлежащей постановки и решения вопросов, наиболее сильно волновавших его в науке. Отец настолько увлекся рассмотрением линий Демокрита и Платона, что отложил все, считавшееся раньше в его плане основным (см. гл. 1 и 3).
После того как отец вышел на пенсию, работа многих его учеников и сотрудников продолжалась под его руководством. В определенные дни недели они приходили к нему и занимались с ним, — кажется, это были среды. Бывшие его сотрудники — Рэм Владимирович Наумов, Нина Николаевна Благовещенская, Виктор Степанович Шустов — стали его близкими друзьями, поддержкой и опорой в этот последний период жизни.
В шестидесятых годах были опубликованы работы отца, которым он сам придавал большое идейное значение. В 1962—1963 гг. вышли статьи, посвященные понятию сравнительной анатомии [48], общей таксономии и эволюции [50], а также применению дискриминантных функций в таксономии [47], и работа о новых видах земляных блошек [51].
Вообще жизнь отца в пенсионный период шла относительно спокойно, научная продуктивность в это время была, по-видимому, самой высокой: он был свободен от официальной деятельности. Еще перед концом войны он твердо решил, что в Ленинград не вернется. Нам, своим детям, он много раз говорил и раньше о своем неприятии ленинградского и московского образа жизни и стиля работы, связанных с поездками по городу на большие расстояния, суетой больших городов, многочисленными заседаниями и сверхобилием ежедневных текущих дел. Он понимал, конечно, что в Москве и Ленинграде концентрировались главные культурные силы, но свое стремление покинуть город, в котором он родился, вырос, учился, где сложились основы его духовной жизни и направления творчества, он обосновывал тем, что ему будет гораздо спокойнее и лучше жить в маленьком городе, работать там большую часть года, а в большие центральные города лишь наезжать, чтобы участвовать в конференциях, съездах, работать в библиотеках и музеях. Все, что от него самого зависело в этом отношении, он выполнил: каждый год приезжал в Москву и Ленинград, где нередко имел возможность выступать с докладами и сообщениями. В последние годы у него завязались новые творческие связи, особенно с представителями молодого поколения ученых. Большей частью это были физики и математики, именно они проявляли особенный интерес к работам и идеям отца. В Академгородке Новосибирска он также встретил молодых ученых, с интересом и сочувствием слушавших его выступления. Среди них были люди той же специальности, что и отец, — биологи, в том числе и энтомологи, но немало было и представителей точных наук. В Ленинграде он делал доклады на биоматематическом семинаре факультета прикладной математики университета, на семинаре в Институте цитологии АН СССР, во Всесоюзном энтомологическом обществе. Несколько раз он выступал и в различных научных обществах Москвы. Его доклады неизменно встречали исключительно живой интерес у слушателей, который подчас переходил в те или иные формы длительного научного общения.
В апреле — мае 1972 г. отец был в Ленинграде. В этот приезд его выступления собирали особенно большие аудитории, к нему ежедневно приходило очень много людей разного возраста, работающих в разных областях науки. Он жил в атмосфере милой его сердцу полемики и обмена мнений. Передвигался он на костылях вследствие случайного перелома ноги в шейке бедра в 1968 г., но несмотря на это чувствовал себя счастливым, о чем не раз говорил мне. В Ульяновск он вернулся в середине мая. Жена его писала мне, что целую неделю он "счастливо отсыпался" после бурных ленинградских впечатлений. В начале августа 1972 г. отец поехал с женой в г. Тольятти по приглашению директора Биостанции АН СССР Николая Андреевича Дзюбана. Там он должен был .прочесть небольшой цикл лекций, но успел — только одну: в ночь после выступления он заболел и сразу же был помещен в больницу г. Тольятти, где его положение было признано тяжелым. Рано утром 25 августа я прилетела в Тольятти и провела с ним последние семь дней его жизни.
31 августа он умер. Его смерть была всеми воспринята как внезапная катастрофа: он не был постепенно угасающим старцем, кончина которого показалась бы закономерной. До конца своих дней он был таким, как всю жизнь, — человеком разумным и добрым. Он считался очень крепким. Все близкие, так же как и он сам, надеялись на его силы и здоровье. Отец думал, что проживет дольше, так же, как и его отец, мой дед, т. е. по крайней мере до 87 лет. Но его настигла тяжелая болезнь, о которой никто не подозревал.
Похоронили его в Тольятти. Дирекция и сотрудники биостанции взяли на себя организационные хлопоты. Тело моего отца было предано земле там, куда он приехал полный энергии, полемического пыла и творческих планов. Гроб с его телом стоял сначала на крыльце биостанции над Волгой. Там же произошло и прощание. Было сказано много добрых, проникновенных слов...
Ч а с т ь II Научные труды А. А. Любищева
Глава 1 Работы по проблемам системы, эволюции и формы организмов
22 марта 1944 г. А. А. Любищев писал своему давнему другу Е. С. Смирнову, что он считает основной задачей своей жизни "подвинуть систематику в направлении от искусства к науке..." Эти слова — не преувеличение. Свой путь в науке Любищев начал с занятий по определению жуков еще в детстве, а его последняя вышедшая при жизни статья озаглавлена "К логике систематики" [69]. О систематике, ее перспективах, значении, методах пишут сейчас немало. Часто после чтения итоговых и программных статей создается впечатление, что построение совершенной системы организмов — дело времени и техники. Нужно собрать еще больше фактов, привлекая всю мыслимую исследовательскую технику, и обобщить их с традиционных, устоявшихся точек зрения. Конечно, обобщить массу сведений нелегко, но если привлечь ЭВМ...
Любищев смотрел на проблему системы иначе. Он полагал, что дело не в недостатке фактов. Мы никогда не построим совершенной системы организмов, если не откажемся от некоторых теоретических постулатов. Главный из них касается соотношения проблем системы, эволюции и формы организмов.
При всем разнообразии современных теоретических взглядов в биологии, наиболее распространенное убеждение, унаследованное от классического дарвинизма, таково: самой триады проблем "система — эволюция — форма" не существует. Все сводится к единственной проблеме — эволюционной. Эволюция творит форму, из эволюции и только из нее вытекает и система. Естественные группы организмов — не более чем ветви филогенетического древа. Форма организмов — всего лишь внешний результат, чистый эпифеномен эволюции, руководимой средой и функцией, а через них — естественным отбором. Поэтому вне теории эволюции не может быть теории системы организмов. То же относится и к форме организмов. Если и обнаруживается в ней нечто независимое от физиологии и среды, то это обычно считается уже не биологической проблемой. Итак, признается связь, но не равноправие членов упомянутой триады. Существует лишь одна главная проблема — эволюционная — с ее частными аспектами.
Забегая вперед, кратко изложим взгляды Любищева. Действительно, в системе организмов нашла отражение их эволюция. Но не одна лишь историческая общность ответственна за существование естественных групп организмов. Конечно, в форме организма запечатлелись следы прошлой истории, эта форма не безразлична к функции и среде, но есть в ней и нечто самостоятельное, нечто такое, чего мы никогда не поймем и не объясним, обращаясь лишь к физиологии, экологии и истории развития. Да и сама эволюция — не просто сумма утилитарных приспособлений. Это сложный процесс, ход которого контролируется множеством факторов, не сводимых друг к другу и не выводимых друг из друга. Но совокупность их рождает нечто совершенно новое — собственные законы эволюции, или номогенез. Стало быть, связь между членами триады теснейшая, но от этого не исчезает самостоятельность каждого ее члена, т. е. необходимо выявить независимые имманентные законы системы, законы эволюции и законы формы. В такой последовательности мы и будем рассматривать идеи Любищева. Начинать удобнее с теории системы, поскольку в конечном счете именно на знании системы основываются соображения о ходе эволюции и о законах формы.
* * *
Любищев пришел в биологию в критический период ее развития, накануне первой мировой войны. К этому времени, говоря словами Синнота,[1 Синнот Э. Морфогенез растений. М., 1963.] "энтузиазм, вызванный идеей эволюции, уступил место более здравому представлению, что эта теория не разрешает всех биологических проблем" (с. 18). В справедливости трансформизма большинство биологов уже не сомневались, но по вопросам о факторах эволюции, месте естественного отбора среди них, о природе наследственности и о механизме онтогенеза
оставались острейшие противоречия. В биологических кругах России в то время преобладали дарвинистские взгляды, и недаром ее даже называли второй родиной дарвинизма. В письмах Любищев не раз писал, что свой путь в биологии он начал именно с этих взглядов. Однако еще на студенческой скамье, в частности под влиянием лекций Д. Д. Педашенко и других, он стал задумываться, так ли все просто на самом деле, "как представлялось нашим учителям" (из письма, написанного в 1931 г.). На него произвели большое впечатление общие полифилетические идеи Штейнмана (хотя конкретные выводы и показались подозрительными). Еще раньше Любищев с удивлением отметил повторение одних и тех же тез и антитез в разных местах определительных ключей. Наконец, еще будучи студентом, он размышлял о возможности математического описания форм организмов (в частности, раковин аммонитов). Но самое главное, что уже тогда Любищев понял неразрывную связь и в то же время самостоятельность проблем системы, эволюции и формы организмов, о чем писал в своем дневнике за 1917—1918 гг. Так он стал на тот путь, по которому шел вплоть до своей кончины.
Вскоре Любищев уже смог выступить по этим трем проблемам в печати. В 1923—1925 гг. вышли его, может быть, самые главные статьи: "О форме естественной системы организмов" [5], "Понятие эволюции и кризис эволюционизма" [9] и "О природе наследственных факторов" [10]. В первой же из этих статей он выступил сразу против нескольких доныне широко распространенных убеждений. Во-первых, система не обязательно должна быть иерархической, она может иметь форму, скажем,лестницы или сети. Во-вторых естественная система не обязательно является отображением филогенеза. В-третьих, проблема системы организмов может быть решена лишь с учетом принципов систематики любых объектов, в том числе неживых. Главный же вывод заключался в том, что в вопросах систематики мы не можем пользоваться языком эволюции. Прослеживание линий эволюции — бесплодная работа для систематики. Надо строить систему, отрешившись от эволюционного подхода.
На чем же основаны эти утверждения? Главные доводы таковы. Прежде всего — огромное количество данных о полифилетическом происхождении групп, таких, которые всегда казались вполне естественными. Отсюда ограничение дарвинистского тезиса "сходство есть доказательство и мерило родства". Второе обстоятельство — сетчатая, комбинативная форма системы на низком таксономическом уровне, особенно хорошо показанная Н. И. Вавиловым в его "гомологических рядах", хотя именно на этом уровне, по доктрине Дарвина, можно ожидать наиболее четкую иерархичность. Третье обстоятельство — "преобладание параллельного развития в хорошо изученных палеонтологических рядах" [5, с. 100].
В этой статье Любищев поставил два фундаментальных вопроса, а именно — что следует в данном случае понимать под системой и каким требованиям должна она удовлетворять, чтобы считаться естественной. Он исходил из представления, что "понятие системы в самом широком смысле ... идентично с понятием внутренней (имманентной) упорядоченности данного комплекса" [5, с. 102]. Естественной же следует считать такую систему, где все признаки объекта определяются его положением в ней. Поэтому идеальным представляется случай, когда объекты размещаются в системе по немногим признакам, с которыми другие признаки связаны коррелятивно. Именно такова система химических элементов, где положение элемента определяется одним параметром и где свойства закономерно связаны с положением элемента в периодической таблице. В биологии подобного типа естественная система, которую Любищев называл "коррелятивной", а позднее [52, с. 53] — "параметрической", едва ли может быть реализована в близком будущем.
Какую же форму имеет система организмов? Решительно отвечать на этот вопрос Любищев, естественно, не взялся. Наличие в системе иерархичности он, конечно, не отрицал, но против адекватности чисто иерархической системы, по его мнению, свидетельствуют четыре группы фактов: постоянная перестройка иерархической системы, наличие комбинативности, существенное единство заведомо не монофилетических групп по огромному количеству признаков, преобладание параллелизма в палеонтологических родословных. Поскольку наблюдается некоторая корреляция между комбинирующимися признаками, можно предполагать, что система организмов совмещает черты комбинативной и коррелятивной форм.
В течение сорока последующих лет Любищев продолжал работать над общими проблемами системы организмов, написал несколько работ, из которых наиболее важна оставшаяся неопубликованной "Программа общей систематики" [ш. и . После того как для него снова открылись возможности для публикации, он изложил свои взгляды в нескольких статьях [50, 52, 55, 56, 58, 65—67, 69]. К этому времени по теории систематики уже накопилась огромная литература. Развилось математическое направление, утратило одиозность сравнение живых и неживых систем, серьезные успехи были достигнуты палеонтологией в установлении филогении многих групп организмов, с новой остротой встал вопрос о природе таксонов и их реальности. Однако введению в систематику новых методов, в том числе математических, не сопутствовало существенное изменение в стиле мышления. Любищев показал это на примере лидеров современной нумерической школы в систематике, которые, критикуя традиционную систематику, "остановились на полпути и оказались в плену многих традиционных логических, общебиологических и философских представлений" [55, с. 693]. Как и в 20-х гг., естественная система продолжала считаться изоморфной филогенетическому древу, и, следовательно, филогения по-прежнему признавалась основным объяснительным принципом самого существования естественной системы организмов.
Между тем если не в теоретической, то в практической систематике все больше проявляется стремление освободиться от груза филогенетических гипотез как основы для выделения естественных таксонов. В этом направлении систематики Любищев выделил три типа. Во-первых, нумерическую, или неоадансоновскую систематику, для которой все признаки имеют априорно равный классификационный вес и естественная система строится чисто индуктивно. Недостатком этого подхода Любищев считал связь со сложной вычислительной техникой, огромную избыточность регистрируемых данных и в то же время огромную потерю информации из-за невозможности полноценного учета индивидуальной изменчивости. С гораздо большей симпатией Любищев относился к конгрегационной систематике Е. С. Смирнова. Используя метод последовательных приближений (игнорируемый нумерической школой), конгрегационная систематика сводит к минимуму избыточность учитываемых систематических признаков. Каждый признак получает определенный вес, но не априорно, а в результате исследований, на основании прошлого опыта. Система строится "снизу", от более мелких единиц к более крупным, т. е. путем введения иерархии конгрегаций разного ранга. Систематику третьего типа Любищев называет номотетической. Она основана на вскрытии законов в пределах системы. Это направление еще практически не разработано.
В статьях 60—70-х гг. Любищев возвращается к сравнению систем и принципов систематики в живой и неживой природе. В общем его позиция остается той же, что и в 1923 г. Понятия системы организмов и любых других объектов совпадают при самом широком (и единственно оправданном) подходе, когда система понимается как упорядоченное многообразие, сочетающееся с целостностью. Природа этой целостности может быть совершенно различной, и связь между элементами системы не обязательно должна быть генетической. Примеры таких внеисторических, чисто структурных, идеальных связей между элементами системы мы видим в неживой природе. То же должно быть и в системе организмов. Не имея права отождествлять систему с филогенетическим древом, мы должны отвергнуть исключительно историческое объяснение системы и признать в ней свои имманентные законы. Если так, то нельзя не считаться с такими законами эволюции и морфологии, которые не являются только историческими.
Из сказанного не следует делать вывод, что Любищев нацело отрицал взаимозависимость системы и филогении, всякую связь сходства и родства, вообще исторический подход к систематике. В силу многофакторности эволюции в форме системы организмов сочетаются иерархичность и комбинативность, а поскольку имеется корреляция признаков, то нужно предположить присутствие и параметрического компонента. Совмещение этих компонентов, а также структурного и исторического подходов Любищев рассматривал [69] на примере модели, предложенной Старком и Заварзиным.[2 Заварзин Г. А. Несовместимость признаков и теория биологической системы. — Жури. общ. биол., 1969, т. 30, № 1, с. 33—41.] Эти исследователи выдвинули принцип несовместимости признаков и показали, что чем меньше признаков, характеризующих данную группу, тем свободнее они комбинируются. Имеются запрещенные сочетания признаков, причем количество запрещений растет быстрее, чем количество самих признаков. Поэтому если у низших групп система имеет вид решетки свободно комбинирующихся признаков, то с усложнением организмов решетка начинает вырождаться. Это представление о системе организмов как о решетке, вырождающейся в иерархию, казалось Любищеву очень правдоподобным, и он высказывал мысль, что комбинативная система в свою очередь может рассматриваться как вырождающаяся форма параметрической, если параметры последней приобретают независимость. "Весьма вероятно, что существует и "первичная иерархия", возникающая не вследствие запрещения, а в силу того принципа дивергенции, который был в дарвинизме" [69, с. 60]. Однако в любом случае в системе организмов обнаруживаются свойства, не сводимые к одной лишь исторической (филогенетической) обусловленности. Поэтому Любищев полагал, что дискретность таксонов не есть следствие только вымирания и неполноты геологической летописи. Формы, входящие в таксон, могут быть связаны друг с другом не только прямой генетической преемственностью, но и идеальной структурной связью. Отсюда становится понятным и решение Любищевым проблемы реальности таксонов: "Есть связность у сходных организмов, совершенно не "реальная" в современном смысле слова, но вполне "реальная" в смысле средневековых реалистов ("универсалии до вещи")... Значит ли это, что решение проблемы реальности приобрело совершенно субъективный характер?.. Нет, концепция реальности — политетическая концепция, путем комбинации различных критериев получаем вполне объективный метод оценки реальности... можно видеть "лошадность", но не нашими, а интеллектуальными очами..." [64, с. 78—79].
Любищев понимал, что построение параметрической, или номотетической системы организмов — дело отдаленного будущего, так как ни ведущих параметров, ни законов системы мы пока не знаем. Поэтому в нынешней повседневной практике мы можем использовать лишь доступные сейчас признаки организмов и строить систему не "сверху", на основании заранее принятого классификационного веса признаков или иного априорного принципа, а "снизу", путем последовательного объединения конгрегаций (см. выше). В силу действительной или потенциальной изменчивости любого систематического признака мы лишены возможности строить систему "сверху". Именно поэтому справедлив знаменитый афоризм Линнея: "Не признаки определяют род, а род определяет признаки". Любищев [67, с. 66] приводил характерный пример: Петров крест, сохранив основные признаки своего порядка (Scrophulariales), утратил свойственный растениям хлорофилл, что не мешает считать его растением. Если бы строили систему "сверху" и пытались отделить растения от животных по одному, хотя и очень важному признаку, — присутствию хлорофилла, то Петров крест не оказался бы среди растений.
К сожалению, эволюционные взгляды Любищева не так полно, как системные, отражены и аргументированы в его работах (и опубликованных, и рукописных). Для понимания этих взглядов, пожалуй, наиболее важны две его статьи [9, 50], а также тезисы предполагавшегося доклада на симпозиуме по философским проблемам эволюционной теории [63], причем изменение взглядов Любищева за время, прошедшее между опубликованием этих двух статей, было довольно значительным. Рассмотрим сначала статью 1925 г. "Понятие эволюции и кризис эволюционизма" [9]. Ее заголовок требует пояснения. В середине 20-х гг. острый кризис селекционизма, наблюдавшийся в начале века, сменился ростом его популярности. Этому немало способствовало появление популяционной генетики. Открытие генетической гетерогенности природных популяций дало возможность объяснить их направленное изменение движущей формой отбора (векторизованным отбором). Тем самым снимались важные аргументы, направленные против селекционизма, в частности представление о преимущественно консервативной, стабилизирующей деятельности отбора. Любищев был хорошо знаком с этими работами, и тем не менее он считал, что эволюционизм еще не вышел из тяжелого кризиса и, более того, найти выход из этого кризиса, оставаясь на позициях селекционизма, невозможно.
Слово "эволюция" настолько привычно, что чаще всего мы даже не задумываемся над его точным смыслом. Сейчас оно стало почти синонимом "исторического развития". Однако, как известно, этим далеко не исчерпывается содержание понятия "эволюция"; смысл его Любищев выявляет через указание противоположных понятий, выдвигая четыре пары основных антитез эволюционного учения: 1) эволюция (или трансформизм)—постоянство; 2) эволюция (или преформация, развертывание зачатков, уже имевшихся заранее)—эпигенез (т. е. развитие с новообразованием); 3) эволюция—революция; 4) эволюция—эманация (т. е. регрессивное развитие). Из этих антитез только первая окончательно решена в пользу трансформизма, хотя и в общих чертах.
Особенно дискуссионным (и в наше время) остается противоположение "эволюция (преформация) —эпигенез". Термин "преформация", по Любищеву, имеет двойной смысл: 1) ряд преобразований, следующих в силу определенного закона, 2) реализация некоей конкретной программы, заложенной в организме до начала его развития. Обычно преформацию понимают только во втором смысле, по-видимому вспоминая знаменитую дискуссию преформистов и эпигенетиков в XVII—XVIII вв. Говорить о такой преформации в историческом развитии можно, имея в виду проявление в ходе эволюции неких скрытых до этого потенций. Простейший пример — фенотипическое проявление рецессивного аллеля. Однако более важно понимание преформации в первом смысле. С чем связано ограничение многообразия органического мира, вытекающее из многочисленных параллелизмов, — с влиянием внешних условий и сужением возможностей преобразования (как считает селекционизм) или с тем, что эволюция следует твердым законам (как утверждает номогенез) ?
Любищев отдавал безусловное предпочтение номогенетической точке зрения, но тем не менее сразу указал на недостаток теории номогенеза Л. С. Берга и Д. Н. Соболева: "Оба автора недостаточно проводят различие между строгой закономерностью самого процесса и ограниченностью многообразия, известной предопределенностью конечных или наиболее устойчивых этапов, собственно преформацией" [9, с. 141].
Принятие преформационного элемента в историческом развитии организмов находит опору в многочисленных фактах параллелизма, но, с другой стороны, встречает трудности в решении проблемы целесообразности. Не случайно Берг был вынужден признать целесообразность имманентным, далее неразложимым свойством живых существ. Выход из этих трудностей Любищев представлял иначе. Преформацию и, следовательно, номогенез, с его точки зрения, не следует понимать как фатальную необходимость, а лишь как сильное ограничение возможностей. Кроме того, факты преадаптации и смены функций "вступают в резкое противоречие с представлением о тесной и тщательной приспособленности определенного органа, подобной, например, приспособлению ключа к замку..." [9, с. 143].
Противоположения эволюции и революции, а также прогрессивной и регрессивной эволюции мы рассматривать не будем, хотя эти проблемы и поныне оживленно обсуждаются в литературе. Дело в том, что самого Любищева они интересовали в меньшей степени. В их разработке он далеко не продвинулся, а лишь ограничился изложением разных точек зрения.
В 30-х гг. началось становление синтетической теории эволюции (СТЭ), в которой была предпринята попытка соединить данные генетики (в частности популяционной) с несколько видоизмененной дарвиновской теорией естественного отбора. Любищев внимательно следил за работами ее создателей — Ф. Н. Добжанского, Д. Гекели, Д. Г. Симпсона, Э. Майра и др. В статьях, вышедших в 60—70-х гг., он выступал с резкой критикой СТЭ, ибо считал, что в рамках этой теории основные противоречия классического дарвинизма не только не разрешены, но даже и не осознаны. Эти работы как бы продолжают его статью 1925 г. Методически они построены так же. Любищев выделил несколько пар антитез, количество которых, однако, сильно увеличилось. Эти пары таковы: 1) номогенез—тихогенез; 2) автогенез (эндогенез)—эктогенез, 3) ателогенез (неприспособительный характер эволюции)—телогенез (приспособление — ведущий фактор эволюции) ; 4) геронтогенез—педогенез (противопоставление отражает отнесение основных эволюционных преобразований к поздним или, наоборот, ранним стадиям онтогенеза); 5) психогенез (отведение большой роли психике) — гилогенез; 6) мерогенез (изолированное развитие) — гологенез (эволюция комплексов видов и географических ландшафтов); 7) эволюция—эманация (соотношение прогрессивной и регрессивной эволюции); 8) эволюция— инволюция (проблема обратимости в историческом развитии); 9) эволюция (как непрерывный и монотонный процесс)—революция (в широком смысле, т. е. как квантовый трансформизм или сальтационная эволюция) [52, 63, 67, 72 и др.].
В эволюционных теориях члены этих пар могут комбинироваться по-разному, и Любищев подсчитал общее возможное количество эволюционных теорий. Конечно, имеются и запрещенные комбинации антитез. Главное условие истинности эволюционной теории — такое сочетание пар, когда и сами они, и их члены не исключают, а дополняют друг друга. Для самого Любищева главными компонентами эволюции, ее достаточно независимыми, но взаимно дополняющими друг друга факторами были:
1) тихогенетический (эволюция на основе случайных, непредвидимых мутаций);
2) номогенетический (наличие твердых законов развития и ограниченности формообразования);
3) эктогенетический (внешние по отношению к организмам факторы);
4) телогенетический (активная адаптация организмов) [52, с. 54].
Это сочетание компонентов, или факторов эволюции, предложенное Любищевым, не вполне выдержано логически (наблюдается некоторое перекрытие ими друг друга). К тому же не вполне понятно, что конкретно он имеет в виду под тихогенетическим компонентом.
Естественный отбор как фактор эволюции Любищев признавал, но считал его "великим Разрушителем, но очень слабым Созидателем" [64, с. 80]. Сторонники селекционизма (или СТЭ) связывают филогенетическую радиацию с появлением новых экологических ниш, ненасыщенных жизненных пространств. В этом случае усиление формообразования объясняют "недостаточной конкуренцией, т. е. ослаблением естественного отбора. Таким образом, наиболее "понятная" форма радиации связана с ослаблением того фактора, который современная "синтетическая" теория эволюции считает ведущим. Можно вспомнить старую поговорку "чем черт не шутит, пока бог спит" и модернизировать ее, принимая во внимание, что естественный отбор в мировоззрении неодарвинистов исполняет обязанности всемогущего бога: "чего только автогенез и номогенез не производят, пока естественный отбор спит"" [58, с. 19]. Естественный отбор, по Любищеву, играет роль стабилизатора, фактора, способствующего регрессу и некоторым идиоадаптациям, бракера и "квартирмейстера". В подобных ролях, считал он, естественный отбор выступает и в неорганическом мире [63].
Будучи сторонником номогенеза, Любищев предъявлял серьезные претензии номогенетической концепции Берга, в которой он видел три главных недостатка. Об одном (нерасчлененность понятия номогенез) мы уже говорили. Другие два недостатка — "непонимание необходимости полного пересмотра наших представлений о форме системы" [58, с. 26] и неверная связь учения о номогенезе с проблемой целесообразности. К последней Любищев после статьи 1925 г. возвращался неоднократно и посвятил ей большую рукопись. В опубликованных статьях он касался проблемы целесообразности лишь попутно с другими вопросами [50, 58, 63, 67, 72].
А. А. Любищеа 1910-е годы.
Пермь, университет (1922 г.). Сидят (слева направо): В. Н. Беклемишев, А. О. Таусон, Д. М. Федотов, —, А. А. Любищев; стоят: —, —, Г. М. Фридман, Б. В. Властов, Д. Харитонов, П. Г. Светлов, уборщица лаборатории.
А. А. Любищев на энтомологической экскурсии. Ловля земляных блошек ("кошение"). Ульяновск, 1964 г.
Владимир Николаевич Беклемишев.
Ольга Петровна Орлицкая, жена А. А. Любищева.
А. А. Любищев у себя дома в кабинете. Улъяновск, 1965 г.
А. А. Любищев и О. П. Орлицкая, Ульяновск, 1962 г.
Проанализировать представления Любищева о целесообразности в рамках настоящей главы совершенно невозможно. Отметим только, что если в статье 1925 г. он считал эту проблему второстепенной, то в рукописи 1946 г. и более поздних работах его позиция несколько изменилась. Любищев пришел к выводу, что эволюцию нельзя считать полностью неадаптивной, но и неверно рассматривать организм лишь как комплекс адаптаций. Роль неприспособительного (ателического) компонента в эволюции гораздо больше, чем считал Дарвин и считают его последователи. Необходимо различать целесообразность (как синоним полезности) и активное приспособление, граничащее с целеполаганием. В природе есть и то, и другое. Любищев упоминает решение схоласта Иоанна Скотта (Johannus Duns Scotus), принимавшего творческие агенты в природе "помимо Бога, несозданного Творца". "Но наука не может допускать существования реальных целеполагающих агентов! А почему нет? Мы, человеческие существа, несомненно являемся целеполагающими агентами. Если мы примем, что только человек имеет истинное сознание, а все животные — чистые машины, мы возвращаемся к концепции Декарта..." [64, с. 80].
Разбирать остальные перечисленные выше пары антитез мы не будем, тем более что Любищев высказывался о них довольно кратко. Отметим лишь, что он придавал большое значение симбиогенезу как фактору эволюции. Симбиогенез был для него прекрасным доказательством полифилетической эволюции, демонстрировал сальтационную эволюцию и свидетельствовал о том, что не только борьба, но и взаимопомощь является фактором прогресса. Любищев глубоко симпатизировал учению П. А. Кропоткина о взаимопомощи и солидарности как факторах эволюции в живой природе и обществе.
Итак, в эволюции, по Любищеву, сочетаются самые различные, в том числе прямо противоположные факторы: борьба и взаимопомощь, номогенез и тихогенез, ателия и истинное целеполагание и т. д.
На такой же плюралистической основе берется Любищев и за решение, а точнее, выявление проблем органической формы (сравнительной анатомии в широком смысле, или просто морфологии). С приходом дарвинизма, с тех пор как вся эволюция стала сводиться к приспособлению, контролируемому естественным отбором, в учении о форме воцарились исторический, функциональный и адаптивный подходы.
По словам Любищева [48, с. 193], "историческая морфология пожрала конструктивную", которую просто перестали понимать. Под конструктивной морфологией Любищев понимал не совсем то, что имел в виду автор этого термина Г. Вебер, для которого историческая морфология была лишь частью конструктивной. Конструктивная морфология Вебера — это результат синтеза чистой ("идеалистической") и функциональной морфологии, выявление и динамики, и статики формы. Конструктивная морфология в понимании Любищева — это скорее то, что обычно называют "идеалистической" (лучше было бы говорить "типологической") морфологией. Защите морфологии от чрезмерных претензий исторического метода и функционально-адаптивных интерпретаций посвящена обширная литература (работы В. Тролля, Г. Вебера, А. Ремане, И. И. Канаева, Л. Я. Бляхера и др.); таков же общий смысл и статьи Любищева "Понятие сравнительной анатомии" [48].
Для Любищева задачи морфологии и систематики тесно смыкались: обе дисциплины должны стремиться к выявлению законов, управляющих многообразием органического мира. Номогенетический компонент эволюции, законы, лежащие в основе системы, отражаются в морфологии. И, наоборот, сходство органов, имеющих разное происхождение, факты неполной гомологии (например, экспериментальная регенерация органов, развивающихся не на своем месте), преадаптированность форм, огромное количество параллелизмов и многие другие морфологические факторы доказывают не только наличие законов формы, но и номотетики системы, номогенетического компонента эволюции. Отказывая функциональному, адаптивному и историческому подходам в праве на гегемонию в морфологии, Любищев выдвигает на первый план изучение архитектоники и проморфологии, т. е. симметрии организмов. Именно через симметрию открываются пути к математической трактовке форм. Сравнительная анатомия "еще ждет своих Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона" [48, с. 211].
В морфологии, так же как в систематике и теории эволюции, Любищев отвергает монизм. Отдавая предпочтение номотетической морфологии, основанной на собственных, структурных законах, он не исключает исторического подхода к органической форме. Не признавая обязательной приспособительной ценности решительно всех структурных особенностей организмов, он не отказывает телеологии в праве на существование. Отрицая монофилетичность всего органического мира, он ищет некие единые для всего органического мира структурные принципы. Более того, для понимания форм живого он допускал возможность и считал даже желательным привлечение аналогий из неорганического мира (например, сравнение растений и морозных узоров): "... проблема органической формы есть многоплановая проблема", и "наряду с такими особенностями органической формы, которые могут быть поняты, только принимая во внимание всю специфику биологических явлений, существуют и такие, где мы можем игнорировать эту биологическую специфику" [58, с. 25].
Попытки понять органическую форму исходя только из ее слагаемых Любищев считал безнадежными. Это не значит, что он отрицал достижения редукционистских методов, например молекулярно-биологических. Его позиция хорошо видна из следующей цитаты: "Несмотря на гетерогенность и исключительную сложность в строении организмов (а новейшие данные науки показали, что организмы, даже самые простейшие, несравненно сложнее, чем думали сто лет назад) , имеется проникающая всю систематику повторяемость сходных форм, наводящая на мысль, что формы организмов не являются эпифеноменами сложной структуры" [58, с. 24],
Квинтэссенция биологического мировоззрения Любищева — вскрытие законов целого, не сводимых к свойствам "кирпичиков". В самом деле, законы системы организмов нельзя свести к простой совокупности свойств организмов, эволюция живых существ не есть простое следствие взаимодействия особей друг с другом и со средой. Античный афоризм "целое больше суммы своих частей" можно взять эпиграфом ко всему биологическому (да и не только биологическому) творчеству Любищева. Мы не можем свести все в окружающем нас мире только к взаимодействию атомов или элементарных частиц.
С этим, кажется, согласны уже все. Но мы не можем * и оставаться на уровне одного лишь целого. Его слагаемые необходимо знать. Однако познание слагаемых не есть* еще познание целого, у которого есть свои собственные законы, идет ли речь о клетке, органе, организме или биосфере.
Глава 2 Критические исследования в области генетики
Время становления А. А. Любищева как ученого совпало с началом бурного развития генетики. Интерес к работам в области теории наследственности и пограничных с нею областей биологии он сохранял на протяжении всей жизни. В его творческом наследии мы находим работы, посвященные разбору основных генетических понятий и постулатов, статьи с критикой современных эволюционно-генетических построений, а также работы, в которых анализируется состояние отечественной генетики в период 1948—1964 гг. Эпиграфом ко всем этим работам можно было бы взять слова А. К. Толстого: "Но спор с обоими досель мой жребий тайный".
В 1925 г. вышла большая статья Любищева "О природе наследственных факторов" с примечательным подзаголовком "Критическое исследование" [10]. Этот подзаголовок, отражающий очень характерную особенность стиля работы Любищева, вполне может быть отнесен и к ряду других его статей [9, 48, 69, 72 и др.]. Любищев обладал редким даром критического всестороннего анализа понятий и постулатов биологии.
В работе [10] впервые в отечественной литературе был сделан теоретический анализ понятия "ген" и прослежена его эволюция в первые два десятилетия развития генетики. Любищев поставил перед собой задачу "синтезировать те разнородные суждения о наследственности, которые были высказаны разнообразными авторами: выделить истинное зерно в каждом учении и соединить в общую систему" [10, с. 107]. В статье процитировано 115 работ, сознательно выбранных таким образом, чтобы они содержали или принципиальные факты, или теоретические представления в области менделизма и хромосомной теории наследственности. Без преувеличения можно сказать, что статья Любищева — первое в нашей стране серьезное исследование по истории и философии генетики; лишь спустя 42 года появилась сходная по замыслу книга А. Е. Гайсииовича "Зарождение генетики". В настоящей главе мы имеем возможность остановиться лишь на некоторых основных положениях этой большой работы Любищева.
Вначале Любищев излагает свои общие взгляды на развитие науки (см. об этом гл. 6). Он полагает, что прогресс науки состоит не в накоплении окончательно установленных истин, а в последовательной смене постулатов, понятий, теорий. "Поэтому не на основе фактов строятся теории, как думают представители так называемой индуктивной науки; всегда на основе теории факты укладываются в систему" [10, с. 16]. Факты, считавшиеся интересными, перестают быть таковыми и забываются, на первое место выдвигаются другие, пребывавшие в тени.
Быструю смену постулатов в науке Любищев прослеживает, анализируя взгляды основоположников генетики. Это касалось прежде всего двух вопросов: считать ли, что каждому признаку организма соответствует отдельный ген, и является ли ген абстракцией или реальностью. Любищев сравнивает [10, с. 10] два определения понятия "ген", данных в первом и втором издании книги известного датского генетика Иогансена (1909 и 1913 гг.). В первом издании: "Слово ген свободно от всякой гипотезы; но выражает лишь тот твердо установленный факт, что многие особенности организма обусловлены особыми, находящимися в гаметах отделимыми и потому самостоятельными "состояниями", "основами", "зачатками" — короче тем, что мы именно будем называть геном ... Каждая особенность, в основе которой лежит особый ген, может быть названа единичной особенностью". Через четыре года в соответствующем месте второго издания Иогансен писал: "Мы ни в коем случае не должны себе представлять, что отдельному гену (или особому виду генов) соответствует отдельная особенность, "единичная особенность", или "признак", как любят выражаться морфологи. Подобное ранее распространенное представление должно быть обозначено не только как наивное, но и как совершенно ложное. В действительности все реализованные признаки являются реакциями всей конституции данной зиготы ..."
Эти два высказывания характеризуют собой два периода менделизма. Выяснилось, что столь элементарные, казалось, признаки, как окраска цветка или цвет глаз, могут зависеть от множества генов. С другой стороны, было показано, особенно в опытах Ф. Добжанского на дрозофиле (1924 г.), что любая мутация, как правило, затрагивает множество признаков. Что же в таком случае понимать под геном? Биологи, по мнению Любищева, разделились на два лагеря. Одни из них пришли к пониманию гена как чистой абстракции (Бауэр, Бэтсон, Гольдшмит), как удобного словесного термина при гибридологическом анализе. Другие (школа Моргана) пошли по линии связи менделизма с цитологией и, как пишет Любищев, довольно холодно отнеслись к запрещениям, налагаемым на искание конкретных генов. Был сделан ряд блестящих открытий, венцом которых явилось учение о локализации генов в хромосомах.
Однако неопределенность и двойственность в понимании гена все же оставались. Подход Любищева к существовавшему дуализму в этом вопросе (ген как абстракция и ген как реальность) очень интересен. Он считал такой дуализм вполне допустимым и даже естественным. Научное описание явления приводит к появлению понятий, которые могут либо соответствовать материальной реальности, либо нет. Возможны понятия, отражающие некую элементарную реальность, "сущность", и понятия-эпифеномены,[1 "Эпифеномен" — термин В. Н. Беклемишева (по устному сообщению А. А. Любищева). Примеч. Я. Г. Светлова.] возникающие при описании эффектов взаимодействия реальных сущностей. Наконец, в науке имеются понятия-фикции, постулирующие некоторую абстрактность, но дающие зато возможность точного, полного и краткого описания явлений и прогнозирования. Одно и то же понятие в разные периоды развития науки может иметь характер сущности, эпифеномена и фикции. Ген у Иогансена, предложившего это понятие, — фикция, удобный термин, который "совершенно не связан ни с какими гипотезами, но имеет преимущество, заключающееся в краткости и легкости комбинирования его с другими терминами, ... в настоящий момент мы используем термин ген вроде счетной единицы, возможно, природа всего того, что мы обозначаем словом ген, весьма различна" (с. 125) [2 Иогансен В. Элементы точного учения об изменчивости и наследственности. М., 1933.] Ген у Моргана — это уже реальность, локализованная в определенном месте хромосомы.
Любищев учитывает этот естественный дуализм. Он пишет: "Общее всего ген, по-моему, можно определить как абстрактное понятие, которым мы пользуемся для приложения законов Менделя ... и как та реальность, которая соответствует этому абстрактному понятию в половых клетках. Лучше в определение гена слово "признак" не вводить, так как это легко ведет к недоразумениям" [10, с. 31]. В этом смысле подход Любищева совпадает с более поздним высказыванием Моргана. В 1934 г. в своей Нобелевской лекции Морган отметил: "Среди генетиков нет согласия во взглядах на природу генов — являются ли они реальностью или абстракцией, потому что на уровне, на котором находятся современные генетические опыты, не представляет ни малейшей разницы, является ли ген гипотетической или материальной частицей. В обоих случаях эта частица ассоциирована со специфической хромосомой и может быть локализована там путем чисто генетического анализа. В практической генетической работе безразлично, какой точки зрения придерживаться" (с. 258) .[3 Морган Т Избранные работы по генетике М., 1937.]
Переход на молекулярный уровень и выяснение генетической роли нуклеиновых кислот вновь сопровождались сменой представлений о природе генов и большими дискуссиями. Выяснилось, что дискретные участки нуклеиновых кислот имеют лишь информационную, матричную функцию и не принимают непосредственного участия в осуществлении признака. На молекулярном уровне мы имеем дело с целой иерархией генетических единиц (единицы трансляции, транскрипции, репликации), каждая из которых в определенном смысле может быть названа геном. Опасение Иогансена ("возможно, природа всего того, что мы называем термином ген, весьма различна") и предостережение Любищева (не вводить в определение гена слово "признак") оказались справедливыми. Например, хорошо известный в классической моргановской генетике ген bobbed — уменьшенные щетинки у дрозофилы — на уровне ДНК представляет собой скопление многократно повторенных (около 150 раз) генетических единиц двух типов, каждая из которых кодирует определенный сорт рибосомной РНК. При исследовании высших организмов теперь возникает проблема, чему на уровне ДНК соответствуют отдельные гены, выделенные в классической генетике на основе гибридологического анализа. Любищев одним из первых ставит вопрос об отношениях гена и локуса и приходит в 1925 г. к современному выводу, что "следует отличать локус как физическую единицу в хромосоме от связанного с локусом гена" [10, с. 120]. Соотношение локуса и гена Любищев сравнивает с соотношением материи и памяти.
Интересно, что некоторые из свойств гена, казавшиеся реальными, теперь представляются эпифеноменами, например плейотропия — влияние гена сразу на множество признаков. На молекулярном уровне никакой плейотропии нет, каждый ген (дискретный участок ДНК) имеет лишь один эффект и неделим в функциональном отношении: контролирует структуру лишь одной полипептидной цепи. Множественность же проявления гена есть следствие участия продуктов данного гена во многих онтогенетических процессах, т. е. является эпифеноменом. В некотором смысле современный постулат "один ген — один полипептид (или одна молекулярная функция)" возвращает нас к первому периоду менделизма (один ген — один элементарный признак).
В статье 1925 г. Любищев с самого начала подчеркивает, что понимание наследственности распадается на две большие проблемы — передача наследственной информации и ее осуществление в ходе онтогенеза. О необходимости такого разделения первым, по-видимому, писал его учитель А. Г. Гурвич. Большой заслугой Вейсмана Любищев считал попытку единого решения теории наследственности. Однако эта попытка оказалась несостоятельной. Многие крупные эмбриологи (Дриш, Конклин, Гурвич, Леб) и некоторые генетики (например, Филипченко) пришли так или иначе к признанию дуализма наследственной субстанции, т. е. к тому, что преемственность множества дефинитивных признаков обеспечивается генами, а процесс индивидуального развития обусловлен факторами другой природы, связанными со свойствами ооплазмы. Вопрос этот вызывает споры до сих пор и остается нерешенным. Любищев показывает, что принятие указанного дуализма часто покоится на узком понимании гена, характерном для первого периода менделизма. Ряд исследователей противополагали и "основные" и "поверхностные" признаки и отказывались принять, что сложные пространственные соотношения частей могут определяться обычными менделевскими факторами. "Выдвигать же по-прежнему отношения симметрии и т. д. как не подлежащие менделевской наследственности, — пишет Любищев, — значит прямо не желать считаться с фактами: менделирует же у львиного зева двусторонняя и радиальная симметрия цветов ..." [10, с. 61]. Он приходит к выводу, что нет основания принимать какие-либо иные наследственные факторы, кроме генов, и что проблема осуществления есть, как он выражается, проблема актуализации генов в ходе онтогенеза.
Однако это "снятие" дуализма возможно, по Любищеву, при условии понимания гена как потенциальной формы. Он отталкивается здесь от представлений об эмбриональном поле, развитых Гурвичем. "Конечно, для большинства биологов понятие "потенциальная форма" покажется совершенной ересью... Но история науки опровергает такое предвзятое отношение; ведь и понятие ,потенциальная энергия" тоже долгое время отрицалось, как аристотелевское понятие, и, однако, восстановление его сослужило большую службу науке" [10, с. 98]. Хотя после выхода рассматриваемой работы прошло около 50 лет, до сих пор нет общей теории онтогенеза и проблема формообразования остается загадкой. В этом смысле знаменательно, что генетики, долгое время занимавшиеся проблемами морфогенеза, теперь приходят к принципиально сходным выводам. Так, Синнот, обсуждая действие гормонов и других контролируемых генами веществ, пишет: "Эти образуемые генами вещества, по-видимому, скорее всего действуют как эвокаторы, пробуждая или изменяя формообразовательные возможности живого организма ... По-видимому, способность к формообразованию присуща живой организованной системе, которую представляет собой организм. Само признание этого факта, даже если мы не можем его объяснить, уже представляет собой шаг вперед и может избавить нас от слишком наивного понимания природы действия генов на развитие" (с. 472, 474).[4 Синнот Э. Морфогенез растений. М., 1963.] Любищев показывает" что введение понятия потенциальной формы, пусть в качестве научной фикции, позволит освободиться от пут узкомеханистических представлений и даст теоретическую основу для математического подхода к морфологии и филогении.
Следует, однако, заметить, что в своей попытке найти единое решение проблемы передачи наследственных потенций и их осуществления Любищев сделал странное и парадоксальное предположение, что "ген эквипотенциален иду" (под идом Вейсман понимал наследственную информацию, необходимую для построения целого организма). Иными словами, Любищев считал возможным допустить, что "один ген (вернее, набор тождественных генов) принципиально может построить весь организм" [10, с. 79]. Такое предположение делало более понятными факты влияния единичных мутаций на множество признаков (плейотропия), хорошо соответствовало представлениям биологов о целостности и гармоничности всего организма и, как считал Любищев, будучи понятием морфологическим, оно должно примирить с генетикой и физиологию. Однако одновременно с этим Любищев пришел к отрицанию индивидуальности хромосом (в смысле их генного содержания) и к мнению, что хромосомы следует считать лишь "маневренными построениями", изменения в которых не есть причина мутационных событий. Это уже было ошибкой, которую Любищев впоследствии признал, написав в 1955 г., что "некоторые из утверждений моей старой работы для меня самого устарели". И, может быть, вследствие этой ошибки работа Любищева, к сожалению, почти не цитируется в обзорах по истории отечественной генетики. Эта несправедливость, конечно, должна быть осознана.
Второй вопрос, который уместно рассмотреть в связи с темой настоящей главы, это роль генетики в построении теории эволюции. Собственно говоря, необходимость глубоко разобраться в теории генетики возникла у Любищева в связи с тем, что данные о природе наследственных факторов лежат в основе современных теорий эволюции и систематики — центральных тем в творчестве Любищева (см. гл. 1). Генетика привлекла Любищева тем, что "вместо чисто исторического подхода к многообразию форм возник номотетический подход, основанный на знании точных законов наследственности". В уже рассмотренной выше статье 1925 г. он подчеркивает, что установленные Менделем законы наследования признаков (единообразия первого поколения, расщепления и независимого комбинирования признаков) являются на самом деле настоящими естественнонаучными законами, а не правилами, как думали некоторые. Ибо: а) для этих законов установлена точная сфера применения, за пределами которых они нарушаются; б) они дают возможность предсказания и опытной проверки и в) возможность количественного описания и математической формулировки. Этот номотетический подход был чужд многим ортодоксальным последователям Дарвина (например, К. А. Тимирязеву, источники заблуждений которого в вопросах генетики были подробнейшим образом и основательно проанализированы Любищевым). Генетика привела к ограничению или отрицанию многих явных или неявных постулатов дарвиновской теории эволюции, что во многом объясняет причину конфликта между сторонниками селектогенеза и авторами эволюционно-генетических концепций начала нашего века. Действительно, во времена Дарвина изменчивость считалась неограниченной (беспорядочной). Мендель, полагал А. А. Любищев, подчинил этот мнимый хаос строгим математическим законам. При этом число изменений при гибридизации, число форм вводится в рамки расщепления [52]. На низшем, внутривидовом уровне эволюции многообразие становится ограниченным (упорядоченным). Далее, после опытов Иогансена пришлось ограничить "всемогущество" естественного отбора. Оказалось, что индивидуальные уклонения (модификации) не наследуются и что отбор эффективен в популяции до тех пор, пока не исчерпана наследственная гетерогенность. В чистых линиях, несмотря на фенотипическую изменчивость, отбор не дает результатов. С другой стороны, Г. де Фриз показал, что наследственные изменения — мутации, которые отличают один вид от другого, — возникают вне всякого действия отбора, не путем накопления мелких адаптивных уклонений, как постулировал Дарвин. Теория дрейфа генов ограничила принцип дивергенции Дарвина, согласно которому всякое различие между популяциями одного вида или близкими видами есть следствие адаптации. Наиболее же серьезным ограничением постулатов селектогенеза Любищев считал закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. В специальной работе Любищев подчеркивает, что этот закон свидетельствует об ограничении формообразования в эволюции на уровне вида и выше. Закон Вавилова дал систематике живых форм теоретическое обоснование, независимое от филогении. При этом ряд фактов, которые считались доказательством ведущей роли отбора (например, мимикрия), могли быть объяснены с совершенно других позиций. Таким образом, многим тезисам селектогенеза генетика смогла поставить антитезисы. Этот процесс, за которым следует подлинный синтез, Любищев считал совершенно естественным для всякой недогматической теории. В то же время Любищев решительно не мог согласиться с тем, что этот синтез уже достигнут, как полагали сторонники концепций, соединивших данные менделевской генетики с учением о ведущей роли естественного отбора. Совокупность этих концепций в современной литературе получила название синтетической теории эволюции.[6 Майр Э. Зоологический вид и эволюция. М., 1968.] По ряду причин Любищев считал, что союз генетики и дарвинизма еще не привел к подлинному синтезу наших знаний об эволюции. Во-первых, не доказано, что факторы микроэволюции (мутации, изоляция, отбор, дрейф) достаточны для объяснения макроэволюции. Возникновение крупных таксонов может быть вовсе не связано с комбинированием и отбором случайных мутаций (например, лишайники — симбиоз гриба и водоросли). Далее, сама теория наследственности не является полностью разработанной и далеко не все известные в генетике факты привлекаются для построения эволюционных концепций.
Особенно следует остановиться на проблеме наследования приобретенных в ходе индивидуального развития признаков. В современной генетике эта проблема считается уже решенной и "закрытой". Но Любищев, будучи превосходно знаком с генетическими данными, тем не менее не считал вопрос окончательно решенным. На каких же основаниях? Исходя из своих общих взглядов на науку (см. гл. 6), он был убежден, что окончательное доказательство, experimentum crucis, в биологии невозможно. При переходе на новый уровень знания часто приходится в определенной степени возвращаться к давно отвергнутым построениям. Любищев указывал на ряд косвенных данных, природа которых не ясна: существование длительных модификаций, параллелизм наследственной и ненаследственной изменчивости (фено- и генокопии), палеонтологические свидетельства параллельного развития и т. д. Конечно, Любищев был далек от наивной веры в наследование результатов упражнений, адекватных модификаций или других форм прямого воздействия внешней среды. Он полагал, что случаи такого наследования вовсе не повседневное событие и в первом приближении с ними можно не считаться. Так, можно было не считаться с идеями алхимиков о превращении элементов; хотя само превращение возможно, но оно происходит на атомном уровне, а не на молекулярном. Не существуют ли другие формы наследственной изменчивости, кроме мутаций, — вот в чем в данном случае был смысл скептицизма Любищева.
В современной генетике есть данные, свидетельствующие в пользу этого допущения. Оказывается, в геноме может быть закодировано несколько вариантов "онтогенетических программ", каждая из которых осуществляется при наличии соответствующей внешней или генотипической среды, причем путем воздействия извне на геном возможен устойчивый переход с одной программы на другую. Такова система регуляции размножения фагов в клетках бактерий, так называемый двухоперонный триггер. Бактериофаг либо включается в геном клетки, либо начинает ее лизировать, причем выбор между этими двумя возможностями зависит от наличия в среде определенных метаболитов. Остается своеобразная наследственная "память" о состоянии среды, в которой проходил онтогенез (конечно, об онтогенезе фага можно говорить лишь условно). В некотором смысле данные молекулярной генетики возвращают нас к представлениям Геккера (Haecker, 1918) [6 Haecker V. Entwicklungsgeschichtliche Eigenschaftsanalyse. (Phanogenetik). Jena, 1918.] о плюрипотенциальности (множественности потенций). Еще в работе 1925 г. Любищев отмечал, что постулирование плюрипотенциальности указывает и на необходимость введения понятия потенциальной формы. О возможности устойчивого изменения в осуществлении признака путем внешних воздействий свидетельствуют и данные П. Г. Светлова по феногенетике мутаций "вильчатые щетинки" у дрозофилы. Однократное воздействие повышенной температуры во время критического периода развития вызвало изменение в проявлении мутации, которое "запомнилось" и сохранилось в течение многих поколений без повторного воздействия.[7 Светлов П. Г., Корсакова Г. Ф. Адаптация зачатков макрохет у мутантов forked к температурному шоку при повторных нагреваниях. — Журн. общ. биол., 1972, т. 33, № 1, с. 32—38.]
Описана и такая форма наследственной изменчивости, как пара мутации, когда под действием одного аллеля в гетерозиготе другой аллель изменяется, и эта измененная форма в дальнейшем передается гаметически. Как пишут исследователи парамутаций, "этот необычный вид наследственных изменений ... не подтверждает традиционное правило о стабильности гена и целостности его в гетерозиготе".[8 Brink R. A., Styles Е. D., Axtell I. D. Paramutation: directed genetic change. — Science, 1968, vol. 159, N 3811, p. 161.]
Открыты принципиально новые генетические явления, среди которых такие, как 1) факты относительной самостоятельности и способности к саморепродукции ряда цитоплазматических частиц, в том числе обнаружение аналога пола и способности к рекомбинации среди митохондрий; 2) поразительные случаи внедрения и длительного существования в геноме живых организмов специфических и неспецифических вирусных агентов; 3) явление соматической гибридизации тканевых клеток не только одного вида, но и таксономически отдаленных групп (мышь и человек). Все эти явления еще мало изучены и мало осмыслены с эволюционных позиций. Но они, как и ряд других фактов, свидетельствуют о явной недостаточности обычных мутационно-селекционистских толкований, на что постоянно указывал Любищев. Он вполне был в курсе новейших достижений молекулярной генетики, приведших ряд авторов к постулированию так называемой недарвиновской эволюции, когда выяснилось, что большинство эволюционных изменений в белках вызвано, возможно, нейтральными мутациями и генетическим дрейфом и что эволюция, которую мы наблюдаем на фенотипическом уровне, может вовсе не соответствовать изменениям на генотипическом или молекулярном уровнях.[9 King /. H., Jukes Th. H. Non-darwinian evolution. — Science, 1969, vol. 164, N 3881, p. 788—800,]
Разбирая одну из таких работ, Любищев делает вывод: "Я считаю совершенно недоказанным, что различие белков в организмах изоморфно различию самих организмов и что вся эволюция связана с эволюцией белков... Мы имеем разные типы эволюции, идущие с различными скоростями (в смысле морфологической дифференцировки). И как культурная эволюция несводима к генетической, так и разные формы эволюции не могут быть сводимы к одной и той же реальной основе".
Поэтому Любищев решительно не мог согласиться с генетиками, переносившими учение о ведущей роли естественного отбора на эволюцию человека. В 1970 г. он пишет давно задуманную большую работу (более 4 авторских листов), где подробно разбирает социологогенетические взгляды Р. Фишера, крупного математика, специалиста в области теории вероятности и статистики (он разработал метод дисперсионного анализа), автора ставшей классической книги "Генетическая теория естественного отбора" (два издания, 1929 и 1959 гг.). "Эта книга, — пишет Любищев, — евангелие современных селекционистов.., считающих, что после этой книги дарвинизм (селекционизм) и менделизм получили идеальное сочетание и проблема эволюции хотя бы в первом приближении окончательно решена".
Последние пять глав Фишер целиком посвятил экскурсам в социологию, которые и вызвали критику Любищева. Необходимость критического разбора он обосновывает тем, что ввиду авторитета такого выдающегося ученого, как Фишер, его генетико-социологические идеи могут быть восприняты "по доверию". В своих других статьях Любищев приводил много примеров того, что даже выдающиеся ученые помимо "убеждений разума" имеют "убеждения чувств" и в силу последних высказывают ошибочные идеи за пределами своей специальности.
Ошибочными, по его мнению, явились рассуждения Фишера о том, что судьба цивилизации зависит от генетической элиты одаренных людей и что по мере того, как элита уменьшает темп своего размножения, цивилизация приходит в упадок. В качестве возможной спасительной меры Фишер рекомендовал поощрение рождаемости элиты, которая на примере Англии отождествлялась Фишером с социальной верхушкой общества. Любищев пунктуально обосновывает слабость большинства положений Фишера. Не отрицая значения биологических факторов в эволюции человечества, Любищев ведущими считает факторы преемственности, или "идеологической наследственности", связанной с выработкой общечеловеческой морали. Очень интересным и плодотворным является проведенное Любищевым сопоставление сходных черт в генетической и идеологической наследственности и эволюции ("идеологические мутации", атавизмы, градации и т. д.)\
С тех же позиций Любищев рассматривал и интересную попытку известного отечественного генетика В. П. Эфроимсона объяснить возникновение этики с точки зрения эволюционной генетики.[10 Эфроимсон В. Я. Родословная альтруизма (этика с позиций эволюционной генетики). — Новый мир, 1971, № 10, с. 193—213.] Отдавая должное широте в постановке задачи и благородству побуждений автора, Любищев не мог согласиться с чисто селекционистским подходом к становлению этических принципов. Главное звено в эволюции человеческой этики, по мнению Любищева, не естественный отбор групп, а создание и сохранение разумных идейных традиций.
Поскольку генетика в наши дни неизбежно проникает в социологию и возникают проблемы "генетика и здравоохранение", "генетика и образование", "генетика и криминология", знакомство с указанными выше и другими работами Любищева чрезвычайно важно для всех, кто занят или интересуется кругом этих важных проблем.
В этом кратком обзоре генетических работ Любищева совершенно необходимо упомянуть о проделанном им колоссальном труде — анализе развития отечественной генетики и сельскохозяйственной науки в период 1948— 1964 гг.
Любищев активно и смело вступает в борьбу за научную истину. Он знакомит со своими мыслями многих биологов и генетиков, ведет интенсивную переписку со многими учеными, интересующимися проблемами наследственности, и среди них с В. В. Алпатовым, Н. Н. Воронцовым, С. М. Гершензоном, 3. С. Никоро, П. Ф. Рокицким, П. Г. Светловым, И. И. Шмальгаузеном, В. П. Эфроимсоном, А. В. Яблоковым и другими. В этой переписке лейтмотивом звучит мысль, к которой Любищев пришел еще во время написания статьи 1925 г.: "... на определенном этапе развития ученые полагают себя стоящими на строго критической позиции, лишенной всякого догматизма. Но проходит некоторое время и их идейные дети обвиняют их в догматизме, чтобы в свою очередь подвергнуться такому же обвинению со стороны своих идейных детей" [10, с. 19].
И хотя идеал абсолютной, свободы от предвзятости и разного рода ограничений недостижим, критические исследования А. А. Любищева способствуют созданию той атмосферы, без которой само движение к этому идеалу вряд ли возможно.
Глава 3 Математика в научной деятельности А. А. Любищева
Следуя великому диалектическому закону развития науки, в этом прогрессе неоднократно придется возвращаться к великим мыслителям прошлого, начиная с мыслителей несравненной Эллады. Прошлое науки — не кладбище с надгробным,и плитами над навеки похороненными идеями, а собрание недостроенных архитектурных ансамблей, многие из которых не были закончены не из-за несовершенства замысла, а из-за технической и экономической несвоевременности.
А. А. Любищев.
Понятые сравнительной анатомии
Дух математики пронизывает всю деятельность Любищева — от практической энтомологии до обобщений философского характера. Задавшись целью проследить роль математики в его работах и показать значение, которое он придавал ей в дальнейшей разработке интересовавших его проблем, мы приняли следующий порядок расположения материала: от цели, поставленной в молодости, через биометрию, математический способ мышления к математической таксономии и математической трактовке органических форм и далее к "линии Пифагора—Платона". Передать мысли Любищева "своими словами" очень трудно. Вместо этого приводятся выдержки из дневников, заметок и писем, хранящихся в архиве, а также некоторых опубликованных статей. Выдержки расположены почти в хронологическом порядке, а купюры в цитатах отмечены отточиями.
Цель, поставленная в молодости
Защищая постулат, что в основе мироздания — не борьба, а гармония, не хаос, а космос, Любищев поставил перед собой грандиозную задачу: раскрыть законы Гармонии, Порядка и Системы в органическом мире, выразив их четким математическим языком. Дальнейшее творчество Любищева во многом определялось масштабностью этой задачи. Поиски естественной системы организмов потребовали углубления математических знаний. Вместе с тем постепенно раскрывались перспективы математизации биологии.
17 сентября 1918 г. Любищев отмечал в дневнике: "Я сейчас задаюсь целью написать со временем математическую биологию, в .которой были бы соединены все попытки приложения математики к биологии". В 1921 г. этот план наполнился содержанием и приобрел отчетливую направленность: "Три главных направления математической биологии станут ясны, если взять те три основных точки зрения, с которых можно подходить к изучению организмов: 1. Организмы или части организма можно рассматривать с точки зрения их формы. 2. Организм можно рассматривать как определенный процесс или интересоваться процессами, в нем протекающими. 3. Наконец, отдельный сложный организм может быть рассматриваем как совокупность составляющих его элементов или же собрание более или менее однородных организмов рассматривается как некоторая реальная совокупность. Последнее направление, статистическое, развилось позднее других и дало уже наиболее заметные результаты. Второе направление может быть названо физиологическим в широком смысле слова, и, наконец, первое, самое спорное и еще не завоевавшее прав гражданства, является чисто морфологическим.
... Я лишь бегло коснусь той области математической биологии, которая является, так сказать, прямым продолжением механики, физики и химии, так как, вопреки общепринятому мнению, считаю, что не учение о функциях (физиология), а учение об органических формах представляет собой вершину биологического исследования.
... Морфологическое направление находится в зависимости от общего мировоззрения ученых. В самом деле, господствующее механистическое направление считает, что в биологии нет иных проблем, кроме приложения физики, химии и механики, и самостоятельное значение формы оно безусловно отрицает: форма есть следствие процессов. А так как процессы чрезвычайно сложны, то является напрасной тратой времени изучать их конечные этапы, как нечто самодовлеющее ... Довольно распространенный взгляд, что математическая трактовка биологии мыслима только на механистической основе, является простым недоразумением.
... При общем обзоре поражает, какие обширные области чистой и прикладной математики могут быть (вернее, должны быть) использованы... Но вполне возможно, что развитие биологии потребует развития целых отделов математики или даже новых алгоритмов. Возможно также, конечно, что кое-что необходимое для биологов лежит в математических архивах.
... Как математическая физика при начале своего развития была точной копией своей старшей сестры — небесной механики, но затем эмансипировалась и поставила математике ряд новых задач, повлекших за собой развитие особых разделов, так и биология, развиваясь под влиянием своей старшей сестры — физики, сумеет от нее заимствовать только то, что ей нужно, а в остальном пойдет своей дорогой по пути предстоящих ей действительно великих открытий. А эти открытия не окажутся без взаимного влияния и на область чистой математики ... Может быть, развитие учения о биологических формах вызовет к жизни или к развитию новые категории соотношений между геометрическими образами".
Биометрия
Вся моя работа пропитана биометрией, без этого я работать и думать не могу и не желаю, будучи твердо убежден, что недостаточное введение биометрии в биологию приносит ежегодно многомиллионный убыток.
Из письма А. А. Передельскому, 20.8.50 г
В письме О. М. Калинину 31.8.58 г. А. А. Любищев писал: "Первоначально главной задачей я считал применение математики к морфологии организмов ... Однако поставленные задачи оказались несравненно труднее, чем я думал, и постепенно я пришел к более разработанной и более легкой области: применению математической статистики. Я вовсе не разочаровался в возможности математической морфологии, но вижу, что эта область* очевидно, мне не по плечу: тут требуется, возможно, разработка оригинальных математических подходов, а для этого нужны и большие знания, и большие математические способности, чем у меня. Кроме того, я убедился, что хотя математическая биология кажется многим не существующей или не имеющей даже права на существование, на самом деле попыток применения математики к биологии так много, что даже сейчас охватить ее одному человеку, пожалуй, не под силу... Наиболее прочное применение в биологии нашла теория вероятности и математическая статистика. Очень хорошо вошла математика в генетику, методику опытного дела и основательно подошла к теории эволюции, правда, лишь к так называемой микроэволюции. Эта область меня менее интересует, так как вся она основана на дарвинистских предпосылках" [74].
Многие биометрические работы А. А. опубликованы [4, 41—47, 49, 51, 57, 60—62, 90]. Однако наиболее полное воплощение его уникальный опыт математической обработки данных получил в рукописи, написанной в конце 30-х гг. Седьмая глава ее — "Руководство по применению в биологии дисперсионного анализа Р. Фишера", — объемом около 300 машинописных страниц, представляет особый интерес. Это не только доступное для биологов изложение методики Р. Фишера, но и самостоятельный высококачественный учебник по дисперсионному анализу, а также превосходный смысловой анализ математической статистики, увлекательный и поучительный даже для профессионалов-математиков. В этой рукописи Любищев пишет:
"Всякое исследование должно стремиться к тому, чтобы удовлетворить следующим трем требованиям:
1. Оно должно быть целеустремленным, т. е. иметь перед собой определенную, подлежащую решению задачу;
2. Оно должно быть эффективным, т. е. полученные выводы должны быть достаточно надежны, для того чтобы обладать принудительной силой, и мера надежности должна быть известна; 3. Наконец, оно должно быть экономным, т. е. должно быть осуществлено с минимальной затратой сил и средств ... Очень немногие ясно сознают, что даже при правильно организованном исследовании, достаточно гарантирующем от ошибочных выводов, число исследованных объектов и точность должны вытекать из конкретных условий исследования. Если же опыт неправильно организован, то педантичная точность и огромность материала ошибочных выводов не предотвратят. Получается, как говорит Р. Фишер, что не только начинают стрелять из пушек по воробьям, но, что еще печальнее, не попадают в воробьев.
... Без биологически направленной мысли биометрическое исследование может привести только к накоплению совершенно ненужных материалов и оказаться совершенно бесцельным. Но, с другой стороны, без математической обработки часто даже очень изощренная биологическая мысль для решения многих актуальных вопросов не в состоянии преодолеть хаос изолированных фактических данных и пробиться сквозь дебри необоснованных предположений.
...Дисперсионный анализ не представляет собой какого-то насилия над материалом, стремления путем математических выкладок "вымучить" из материала вывод, вовсе не вытекающий из него. Напротив, и этот метод, как все математические приемы, при правильном применении является методом, позволяющим получить надежный вывод и там, где на глаз мы не вполне уверены в надежности: это и есть обычный здравый смысл, только облеченный в точную форму.
... По сравнению с другими методами прикладной математики дисперсионный анализ обладает одним огромным преимуществом. Лежащая в основе его теорема аддитивности, несмотря на трудность ее чисто математического доказательства, чрезвычайно проста для понимания, а главное, доступна для постоянной проверки. Вот эта-то возможность постоянно проверять себя, приспособляя метод к конкретным задачам, и делает возможным то, что разработка этого метода для решения задач новых типов может производиться и лицами, не имеющими основательной математической подготовки. Поэтому эта ветвь математической статистики помимо своей плодотворности является и более простой в своем применении, чем многие классические методы. Задачей настоящего руководства и являлось популяризацией этого метода увеличить эффективность работы биологов".
В принципе эффективности центральным пунктом является диалектика в антитезе правильность—точность, в частности противоположение систематических и случайных ошибок. Увеличивая точность, мы теряем правильность, при наращивании правильности теряется точность (см. гл. 6 этой книги). Существенное место в работе занимает также принцип итеративности, т. е. последовательное приближение к цели от ориентировочных этапов ко все более точным. С этим принципом связана идея комплексирования ряда малонадежных показаний в одно надежное. Линейные комбинации исходных признаков, обеспечивающие надежное различие объектов, как раз и являются дискриминантными функциями, используемыми в практической систематике [47]. Основным критерием истинности служит непротиворечивость результатов, согласованность этапов, интерпретируемость картины в целом. А. А. часто говорил о священном принципе: "Да будет выслушана противная сторона!"
Биометрическая деятельность А. А. протекала в трудной борьбе с противниками проникновения математики в биологию. Результаты этой деятельности имеют огромное экономическое значение. Отсылаем читателя к гл. 4 и 5 этой книги.
Математический способ мышления
Точные науки называются точными не потому, что они достоверны, а потому, что в точных науках ученые знают меру неточности своих утверждений.
А. А. Любищев.
Уроки истории науки
Роль математики в общебиологических работах Любищева не менее важна, чем в его конкретных исследованиях. Ю. А. Шрейдер (гл. 6) отмечает два аспекта математизации: четкость и глубину, сливающиеся в синтезе точности знаний и целостности видения мира. Внедрение математического стиля суждений в биологические науки — одна из главных заслуг А. А. Этот стиль был присущ ему органически. Показательны две выдержки из его переписки с Д. Д. Мордухай-Болтовским.[1 Мордухай-Болтовской Дмитрий Дмитриевич (1876—1952) — известный советский математик, геометр.]
"Я думаю постепенно приводить в порядок кое-какие накопившиеся мысли, и здесь часто имеется контакт с математикой ... Я всегда завидовал богатству воображения у математиков (многомерные и неевклидовы пространства, теория множеств, групп и т. д.), но и сам стремлюсь фантазировать в своей области, стараясь обобщать те данные, которые можно извлечь из наблюдения над существующими организмами" (6.1.47 г.).
"Вашу основную аксиоматическую точку зрения, что интерес представляет не только то, что есть и что было, но и то, что могло бы быть, я полностью разделяю, и здесь я резко расхожусь с большинством биологов, которые в дискуссии часто меня упрекают в том, что я рассуждаю как математик, а не как биолог. Почему большинство биологов не интересуется возможным, а только осуществленным? Потому что одним из ходячих биологических постулатов (хотя и не осознанных) является мнение, что строение каждого организма есть следствие ряда исторических обстоятельств, носящих в значительной мере случайный характер, и что поэтому совершенно праздной является работа по изучению мыслимого многообразия ... Даже на современном этапе и пользуясь совершенно бесспорными положениями можно наметить те ограничения, которые накладываются на эволюцию живых форм" (3.3.47 г.).
О связи математики, физики и биологии А. А. высказывался следующим образом:
"Есть прекрасное выражение: "Математика — это царица и служанка всех наук". Как царица — она всегда останется ведущей, так как только математизация науки способна поднять ее на подлинно высокий уровень. Как служанку — ее ведут другие науки, и она отвечает на запросы, которые ставятся ими. Совершенно несомненно, что ставить вопросы должны представители опытных наук, а для этого они должны тоже кое-что понимать в математике, иначе они не смогут поставить вопроса в понятной для математиков форме. Вот взаимоотношения физики и математики достигли сейчас великолепного уровня.
... Наиболее важный путь контакта между математикой и биологией: внедрение математического способа мышления в биологию. Очень важным для этого является использование эволюции понятия аксиомы и построение аксиоматики биологии. Сейчас аксиомой называют недоказуемое положение, которое хотя и не является абсолютно точной истиной, но тем не менее лежит в основе наших рассуждений и вместе с другими такими положениями образует непротиворечивую систему.
Задачей внедрения такого подхода в биологию является продумывание систем аксиом для разных дисциплин и для разных направлений биологии. Между тем огромное большинство биологов еще находится, так сказать, на Евклидовом уровне, считая многие из своих исходных положений абсолютными истинами. В геометрии, как известно, для законности системы аксиом достаточно отсутствия внутренней противоречивости в системе аксиом, для аксиоматики естественных наук необходима также эффективность системы, т. е. полезность ее для возможно полного и точного описания и прогноза явлений.
... Ведущей в собственном смысле слова можно назвать прежде всего самостоятельную науку, т. е. такую, которая имеет самостоятельные аксиомы, несводимые к аксиомам других наук, причем аксиомы других, более совершенных наук оказываются лишь частным случаем этих аксиом. Поэтому взаимоотношение физики и биологии можно мыслить трояко: а) Физика навсегда остается ведущей наукой, тогда как биология самостоятельной наукой по существу не является; б) И та и другая науки имеют конгруэнтные области, где действуют те же аксиомы, но за пределами этих областей каждая наука имеет аксиомы совершенно самостоятельные, т. е. не выводимые одна из другой; в) Наконец, третьим возможным случаем будет такой, где аксиомы более простой науки целиком выводятся из аксиом более сложной. Вот если осуществится третья возможность, тогда можно будет сказать, что биология действительно заняла ведущее положение в естествознании. Я лично намерен посвятить остаток своей жизни доказательству второй возможности, третья, конечно, мне не под силу".
"Большинство материалистов и механистов в биологии стремятся ограничить роль математики ролью служанки, да и услугами этой служанки пользуются не особенно охотно. Вспомним, что сказал Кант по поводу известного изречения "Философия есть служанка богословия". "Согласен, — сказал Кант, — но ведь служанки бывают разные: одни несут шлейф госпожи, а другие — факел, освещающий ей путь". Последняя роль совсем не унизительна" (из письма О. М. Калинину, 23.3.64 г.).
"Почему Вас так смущает "иррациональность", связанная с номогенезом и другими оппозиционными направлениями в биологии? Ведь прогресс математики был связан с освоением нуля (зачем обозначать то, что не существует), отрицательных чисел, иррациональных, трансцендентных, мнимых, комплексных чисел, кватернионов и др. Прогресс биологии тоже должен быть связан со свободным использованием таких понятий, которые наши философские предрассудки считают "недопустимыми"" (из письма С. В. Мейену, 7.8.68 г.).
Полемизируя с теми, кто остерегался математики, А. А. писал: "Представление о математике, как о каком-то яде, который можно принимать лишь в малых дозах, основано просто на невежестве. Именно "осторожность" в применении настоящей математики ... привела к деградации или косности в биологии, агрономии и других науках и принесла колоссальный материальный и моральный ущерб. Вся осторожность в применении математических методов, как и всяких других методов, заключается в хорошем знакомстве с методами, условиями их применения и постоянном контроле опытом. Никакой особой "опасности" по сравнению с другими методами математические методы в себе не заключают, но в силу своей большей точности имеют то крупное преимущество, что ошибки гораздо легче вскрываются опытом". Ошибки в применении математики в биологии А. А. проанализировал в [61, 62], где, будучи верным диалектике, рассмотрел как "ошибки от недостатка осведомленности", так и "ошибки, связанные с избытком энтузиазма".
Математическая таксономия
Что касается теоретической систематики, то это моя первая и последняя любовь.
Из письма О. М. Калинину.
15.9.61 г.
Мысли А. А. Любищева о систематике, по-видимому, являются стержнем, основой большинства его теоретических построений. Несомненно, они заслуживают специального исследования. Триада "форма — система — эволюция" уже рассмотрена в гл. 1. Опубликованные работы [5, 50, 52, 55, 58, 59, 64, 65, 67, 69, 76, 81, 90] и рукописные материалы дают богатую пищу для размышлений и в других направлениях. Не касаясь здесь практической систематики, ограничимся минимумом высказываний А. А. по теоретической и общей систематике (системологии), имеющих отношение к математике.
"Систематика — альфа и омега каждой науки. Вспомним периодическую систему Д. И. Менделеева, кристаллографическую систематику Е. С. Федорова, классификацию звезд, систематику геометрий и пр. — все эти построения относятся к высшим достижениям точных наук... Систематизация в истинном смысле слова есть нахождение такой системы многообразия, которая допускает возможно полное, краткое и точное математическое описание многообразия с возможностью прогноза" [58].
"Мы выдвигаем задачу построения рациональной системы организмов, т. е. такой, форма и структура которой вытекала бы из некоторых общих принципов, как это делается в системе математических кривых, форм симметрии в кристаллографии, периодической системы в химии, системы органических соединений и т. д... Мы имеем право различать по крайней мере три основные формы системы: иерархическую, комбинативную и коррелятивную (параметрическую). Примером комбинативной системы может быть многообразная комбинация различных независимых генов при наследовании по Менделю, примером коррелятивной — периодическая система элементов".
"Комбинативный подход к классификации любого рода явлений в любой области является тем первичным и основным, с которого надо начинать при попытках систематизации любого многообразия. Иерархия может быть вырождением комбинативной системы в силу запрещения большого числа комбинаций ... Но ни иерархический, ни комбинативный принцип не могут рассматриваться как высшие принципы систематизации. Комбинативную систему можно тоже рассматривать как выродившуюся форму параметрической системы. Для конструкции высших, параметрических систем мы должны пользоваться какими-то более или менее априорными постулатами ... Путь к определению параметров в значительной степени связан с "нащупыванием", многочисленными эмпирическими попытками построения систем ... Важным этапом является комплексирование единичных признаков в более сложные... Из общего целостного принципа могут быть выведены все особенности элементов системы. К такому идеалу стремятся все великие философские системы. На принципе единства, целостности и красоты Космоса строились космологические системы, начиная от Пифагора и вплоть до Кеплера" [69].
"Сейчас уже не приходится защищать положение, что развитие всякой прогрессивной науки тесно связано с внедрением математических методов. Сейчас достаточно широко внедряются методы, связанные с теорией вероятности и математической статистикой: дисперсионный, дискриминантный, канонический и факторный анализы. Положено начало внедрению математической логики в систематику, но эти попытки, как правило, не выходят из рамок иерархического понимания системы... Весьма возможно, что для построения филогении пригодятся математические аппараты совершенно иного характера: топология, теория графов и пр., и, вероятно, потребуется развить совершенно новые математические дисциплины. Здесь потребуется тесное содружество математиков и биологов... Пока же биологи, стремящиеся продвинуть математику в систематику, недостаточно квалифицированы математически, квалифицированные же математики не вполне понимают всю сущность систематических и биологических проблем. Было бы очень полезно, если бы квалифицированные математики, заинтересованные в применении математики к систематике, занялись конкретной систематикой какой-либо группы организмов, хотя бы в порядке хобби... Было бы желательно более тесное взаимное проникновение у одного лица его математической и систематической квалификации" [65].
"Что математика совмещает в себе и высокую науку и высокое искусство — это, конечно, бесспорно, но Вы не правы, что это единственная наука, ставящая условием красоту, изящество и т. д. Эстетические эмоции играют огромную роль и, например, в систематике насекомых... Разница только в том, что у математиков их эстетические эмоции находятся в полной гармонии с их рациональными ощущениями, а у биологов принято отрицать объективную красоту, все сводить на полезностей потом) систематики, будучи эстетами от природы, обычно стесняются в этом признаваться" (из письма Д. Д. Мордухай-Болтовскому, 24.8.51 г.).
Математическая трактовка органических форм
В 1910 г. у меня возникло предположение, что математическая морфология вполне возможна.
А. А. Любищев.
Воспоминание об А. Г. Гурвиче
Проблема формы в работах А. А. Любищева рассматривается С. В. Мейеном в гл. 1, и мы ограничимся здесь лишь несколькими выдержками, непосредственно связанными с математикой.
"Учение о естественной системе возникло как ответ на необходимость навести порядок в огромном разнообразии окружающих нас органических форм... Широкое понимание симметрии и вообще правильности строения организма естественно приводит к математической трактовке органических форм... Для того чтобы получить представление о многочисленных попытках математической морфологии, следует познакомиться с замечательной книгой Д’Арси Томпсона "0 росте и форме".[2 Thompson D’Arcy W. On growth and form. Cambridge, 1942.] Автор пишет, что книга не нуждается в предисловии, так как сама является предисловием от начала до конца. Да, предисловием к новой великой книге о математической трактовке органических форм. Одни биологи, даже с редкой среди биологов склонностью к математике, без помощи высокообразованных математиков ее написать не смогут... Математика начинает проникать разными путями. Открываются перспективы к тому, чтобы сравнительная анатомия заняла почетное место в ряду точных наук. Возможно и внедрение эксперимента, но это уже не так существенно. Ведь образец точной науки — небесная механика — до самых последних лет обходилась без эксперимента, а морфология животных и растений еще ждет своих Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона.
Но раз уже мы наблюдаем проникновение в сравнительную анатомию строгих и точных методов, то открывается и перспектива возможности управления явлениями. Многие выдающиеся представители точных наук полагают, что именно в биологии суждено состояться самым крупным открытиям ближайших десятилетий. Этот путь, как правило, мыслится через внедрение физики и химии, через дальнейшее развитие блестящих достижений современной генетики. Невозможно отрицать перспективность этого направления, но одним путем нельзя постигнуть столь великую тайну, как тайна многообразия организмов... Помимо пути "снизу" законен и другой путь — "сверху", от целого организма... Ренессанс наук, подобных сравнительной анатомии, которые некоторыми чрезмерными почитателями всякого "эксперимента" презрительно называются "описательными", может быть,будет не менее плодотворным, чем внедрение в биологию физики и химии. Но оба направления будут, конечно, широко использовать математику, царицу и служанку всех наук" [48].
Линия Пифагора—Платона
Моя философская система должна дать синтез тех антиномий, которые волновали эллинскую культуру. Она должна заключаться в следующем: пробабилизм против аподиктизма, — и в своем построении должна исходить из определенного, небольшого числа аксиом или постулатов, но этим постулатам не приписывается аподиктическое значение, а придается лишь смысл догадок. (On. 1, ед. хр. 50).
Я склонен считать и философию, и чистую математику совершенно самостоятельными не науками, а метанауками.
Из письма Р. Г. Баранцеву 30.1.66 г.
В 1958 г. А. А. Любищев начал большой труд "Проблема многообразия органических форм", рассчитанный на 7—8 лет. Философское предисловие к нему вылилось в самостоятельное произведение "Линии Демокрита и Платона в истории культуры", работа над которым стала основной темой до конца жизни, но так и осталась незаконченной. Во введении к "Линиям" читаем:
"Эта книга — главное сочинение моей жизни, резюмирующее все те мысли, которые накопились за несколько десятилетий достаточно напряженной работы... Начав работу как узкий специалист, дарвинист и сознательный нигилист типа Базарова, я постепенно расширял круг своих интересов и начинал сознавать необходимость пересмотра самых разнообразных и часто противоречивых постулатов, которые выдвигались как непреложные истины представителями разнообразных направлений, господствующих в тех или иных областях знаний... Первый набросок, зародыш настоящего сочинения, был составлен мной для себя в 1917 г.
Моя работа имеет некоторое сходство по замыслу с известной книгой Бернала "Наука в истории общества" и в значительной мере является антагонистом этой содержательной и интересной книги. Для биологии, сейчас вступающей в новый период своего развития, такой процесс осмысления имеет еще большее значение, чем для неорганических наук, и вместе с тем биология гораздо теснее связана с политическими проблемами, чем физика и другие точные науки; закрывать глаза на это — значит уподобляться страусу.
За всю жизнь я много читал и думал по общебиологическим и философским вопросам; в этом отношении я квалифицирован больше, чем огромное большинство специалистов-биологов. Мой интерес к математике заставил меня познакомиться с рядом разделов этой замечательной науки, и поэтому я легче разбираюсь в философии точных наук, чем биологи, морфологи и систематики, не сведующие, как правило, в математике... С другой стороны, математики и физики, выступающие с общефилософскими работами, как правило, не понимают всей огромной сложности биологических проблем и противоречивости взглядов умных биологов. Все эти соображения давали мне всю жизнь уверенность в разумности предпринятого мной дела, и я имею право утверждать, что если моя книга будет недостаточно убедительна, то во всяком случае обвинить меня в недостатке обдуманности невозможно.
Изложение проблем мной в значительной степени ведется в историческом аспекте, и этот аспект доминирует в первой части, посвященной неорганическим наукам. Моя попытка стремится ... установить, на основе каких философских и общеметодологических представлений достигнуты представителями физики в самом широком смысле слова (т. е. всей наукой о неорганическом мире) их поразительные успехи и какие уроки может извлечь биология из истории философских направлений в физике".
В главе, посвященной математике, А. А. пишет:
"Подлинный прогресс в математике связан с пифагорейской школой. Здесь вполне определился характер математики, как чистой науки, которой интересуются независимо от ее приложений; поэтому многие ученые считают Пифагора родоначальником чистой математики.
Пифагор впервые поднял знамя сплошной математизации наших знаний... Школа, носившая имя Пифагора, сделала великие открытия в области математики... По-видимому, уже пифагорейцам принадлежит открытие правильных многогранников, теория которых была окончательно развита в школе Платона, отчего они и называются до сих пор Платоновыми телами. В платоновской Академии были заложены основы всех тех отраслей математики, которые получили затем пышное развитие в Александрии. Главнейшими фигурами александрийской школы являются Евклид, Архимед, Эратосфен, Аполлоний и Диофант... Длительный процесс создания исчисления бесконечно малых ведет от Евдокса, Архимеда к Ньютону и Лейбницу. Вся эта линия связана с платоновско-пифагорейским направлением... Последователи Платона в современной математике: теоретико-множественный идеализм Г. Кантора, формализм Д. Гильберта, интуиционизм..."
В главе об астрономии читаем:
"Известно, какое первенствующее значение имеет астрономия в истории человеческой культуры. Здесь мы имеем и первое грандиозное проникновение математики в истолкование внешнего мира, исключительной широты синтез в теории всемирного тяготения и, наконец, огромное влияние на формирование мировоззрения.
... Характерные черты пифагореизма: мистика чисел, математизация науки, первичность Космоса... Космос — вовсе не синоним Вселенной. Первоначальный смысл слова "космос" — украшение, красота. Отсюда — косметика, искусство украшения (подобно тому, как кибернетика — искусство управления). Отсюда — родственные понятия порядка, гармонии, симметрии... Философские постулаты пифагореизма заключаются в признании гармоничности, космичности, а не хаотичности Вселенной, в признании существования сравнительно простых, доступных математической формулировке законов. Только такое сочетание гармонического понимания и математической трактовки может называться подлинно пифагорейско-платоновским направлением.
...Надо говорить не о двух линиях — Платона и Демокрита, а по крайней мере о трех. Третья линия, возникшая з лоне платонизма, но потом выступившая в качестве главного оппонента линии Платона, — линия Аристотеля, которую, строго говоря, нельзя отнести ни к чистому идеализму, ни к чистому материализму. Линия Аристотеля утратила веру в возможность точного математического описания Вселенной, она довольствовалась приблизительным описанием, но, потеряв стремление к точности, она усугубила требовательность к доступности в объяснении явлений. В этом и было основание ее успехов в естественных науках, недоступных в то время математическому описанию. Идеалистический же характер философии Аристотеля ясен в первенствующем значении в этой философии телеологического подхода, не чуждого и платонизму, но играющему там второстепенную, а не ведущую роль. Линия Платона дала блестящее развитие космологии, да и не только космологии. Линия Аристотеля склонна к консерватизму и временами приводит к полному застою, но, вообще говоря, она отнюдь не бесплодна, в особенности в биологии и многих других науках. Линия Демокрита привела к полной утрате научной космологии".
Приведем еще две выдержки из "осколков" этой незавершенной работы:
"В области чистой морфологии пифагореизм и платонизм также стучатся в биологию. Это нашло свое выражение в великолепной книге Д’Арси Томпсона "Рост и Форма". Автор — широко образованный человек, в общем держащийся материалистических взглядов, но он не может не признать вторжения пифагореизма в биологию. В Эпилоге мы находим такие слова: "Гармония природы является в Форме и Числе; и сердце, и душа всей поэзии Натурфилософии воплощена в понятии математической красоты... Не только движения небесных тел определяются наблюдением и разъясняются математикой, но и все остальное может быть выражено числом и определено естественными законами. Это — учение Платона и Пифагора и завещание человечеству Греческой мудрости"".
"Титаны науки — Коперник, Кеплер, Галилей и Ньютон — представляют математическую линию, связанную с именами Пифагора и Платона. Биология сейчас выходит на эту линию. Но даже крупнейшего представителя этого жанра — Менделя — можно сравнить с одним из математиков Платоновской школы: Эвдоксом, Менехмом или Теэтетом. До Коперника, не говоря уже о Ньютоне, биологам еще очень далеко" [67].
За 4 месяца до своей смерти в эскизе доклада на биометрическом семинаре ЛГУ А. А. писал:
"Общее развитие наук: Гейзенберг — от Демокрита к Платону; Вейль — Вселенная не Хаос, а Космос; Эйнштейн — пифагорейские воззрения, связанные с взмахом исследований по симметрии; понятие организмов различных уровней вплоть до Геомериды,[3 Геомерида — комплекс биоценозов всего живого, населяющего Землю, рассматриваемая как уникальный организм. См.: Беклемишее В. Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М., 1970 (с. 41).] Эддингтон и современники с отысканием общих априорных законов".
* * *
Ознакомившись с математической стороной деятельности А. А. Любищева, можно с уверенностью сказать, что математика была для него не только методом установления количественных закономерностей, а прежде всего образцом для построения рассуждений во всех науках, т. е. имела гносеологическое значение. Будущее биологии и других наук он видел в свете аналогий из истории математики.
Решение математических задач было одним из самых любимых занятий А. А. Однако, имея громадный опыт вычислительной работы, он называл математику "не наукой производить вычисления, а искусством избегать вычислений". Пристрастие к математике было связано с такими чертами мировоззрения А. А., как рационализ.м и пифагореизм. Будучи рационалистом, он считал, что все прекрасное может быть подвергнуто математической обработке. Будучи продолжателем линии Пифагора, он любил и ценил математику за свободу абстрагирующего ума.
Глава 4 Работы в области энтомологической систематики
Энтомология занимает в творчестве А. А. Любищева особое место. При всем разнообразии своих научных интересов он постоянно обращался к примерам из области энтомологии. Шла ли речь об общих закономерностях конструкции естественной системы организмов, о состоянии современного эволюционизма или характере индивидуальной изменчивости — почти везде теоретические положения аргументировались или иллюстрировались ссылками на энтомологические объекты, на закономерности, выявленные при исследовании их многообразия самим Любищевым либо почерпнутые из энтомологической литературы.
Причины, определившие постоянное привлечение энтомологических примеров при обсуждении проблем общебиологического характера, достаточно ясны. Стоит вспомнить, что интерес Любищева к биологии берет начало от определения насекомых по дихотомическим ключам, с которыми он начал работать еще в школьные годы. По собственному признанию Любищева [65], работа с определительными ключами и их сравнение с системой грамматических правил, построенной на аристотелевой логике, уже тогда навели его на мысль о несовместимости этой логики, отраженной в иерархии родов, с повторяемостью антитез на разных уровнях ключей. Впоследствии эта мысль трансформировалась в систему взглядов, в которой отвергалось представление об иерархии как единственном конструктивном принципе построения системы организмов и развивалась концепция параметрического (коррелятивного) принципа на всех уровнях системы (см. гл. 1). Эта концепция может считаться главным вкладом Любищева в теорию систематики вообще и насекомых в частности.
Юношеское увлечение энтомологией стимулировало интерес к более глубоким проблемам биологии и привело к тому, что Любищев стал профессиональным зоологом. Около трех десятилетий он работал в учреждениях, связанных с энтомологической тематикой. Множество фактов, накопленных при практической работе с насекомыми, многолетнее изучение с позиций специалиста-систематика разнообразия (а порой, напротив, монотонности) органических форм, поиск диагностических признаков и сравнение их с приводимыми в литературе — все это стимулировало склонный к обобщению ум А. А. к заключениям синтетического характера. Следует подчеркнуть, что насекомые представляют собой исключительно удачную модель для рассмотрения общезоологических и общебиологических проблем.
Во многих случаях объект исследования подсказывал необходимость ревизии некоторых считавшихся незыблемыми положений, оказавшихся на деле в противоречии с фактами. Так, разнообразие и несводимость к общему прототипу стридуляционных органов прямокрылых послужили А. А. материалом для критики концепции монофилии и для обоснования одного из новых критериев реальности в таксономии (шестнадцатый критерий) — реальности идеи, воплощенной в материи [64]. Излишне говорить, что значение этого обобщения выходит далеко за пределы зоологии.
Проведенный на основании литературных данных анализ строения звукопроизводящих органов насекомых дал А. А. веские аргументы в пользу разделяемого им положения Л. С. Берга о том, что приспосабливание не всегда является ведущим фактором эволюции. Очевидно, что издавание звуков важно для привлечения особей другого пола. Однако у большинства саранчовых звукопроизводящие органы отсутствуют. Более того, разнообразные стридуляционные органы свойственны подземным личинкам пластинчатоусых жуков, у которых, естественно, издавание звуков не связано с полом. Любищев рассматривал такие факты как "целеустремленные", но вряд ли "полезные" признаки.
Самый обширный материал для размышлений А. А. получал при изучении листоедов подсем. Halticinae — земляных блошек, составляющих для него предмет практической таксономической работы. В пределах этой группы Любищев констатировал наличие сходных "по смыслу", но различных "по выполнению" или по месту нахождения новообразований, таких, как расширенный первый членик лапок и своеобразное видоизменение члеников усиков самца [58]. Эти наблюдения привели Любищева вслед за Н. И. Вавиловым [1 Вавилов Н. И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Саратов, 1922. (Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции; Т. 17).] к заключению об очень широком распространении явлений параллелизма в природе. Важно отметить, что А. А. считал невозможным их объяснение с позиций "синтетической" теории эволюции: "Та же повторяемость, параллелизм развития указывает, что в историческом развитии ... есть законы, лежащие в основе филогенеза, мысль, развиваемая давно многими исследователями и с особой силой выраженная в книге Л. С. Берга "Номогенез"" [2 Берг Л. С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. Пб . 1922. (Тр. Геогр. ин-та; Вып. 1).] [58]. Присутствие на члениках усиков самцов блошек разнообразных, по-видимому не связанных с половым отбором приспособлений — еще одно свидетельство наличия в эволюции момента, не имеющего приспособительного значения.
Человек необычайно высокой культуры, А. А., разумеется, не мог не обращать внимания еще на одну сторону энтомологических объектов — эстетическую. Не случайно, рекомендуя в качестве одной из интереснейших форм "гигиенического хобби" занятие систематикой насекомых, он писал, что эстетическая сторона систематики "превосходит соответствующую сторону всех других хобби" [65]. Резко осуждая сторонников "нумерической таксономии" (Sokal[3 Sokal R. R. Second annual conference on numerical taxonomy. — Syst. Zool., 1969, vol. 18, N 1, p. 103—104.] и др.), . декларирующих в недалеком будущем полную замену нынешней "музейной" морфологии биохимической характеристикой форм, А. А. в числе прочих контраргументов указывает, что при этом была бы полностью уничтожена эстетическая сторона систематики, по его мнению, немаловажная. Действительно, эстетическое, эмоциональное восприятие объекта и природы в целом не только не противоречит научному восприятию, но, вероятно, необходимо для действительно совершенного, гармонического научного синтеза. К сожалению, эстетическая сторона объекта исследования игнорируется большинством биологов начиная уже с середины XIX в. и по сей день. И естественно, что А. А., прогнозируя будущее систематики, выражал надежду, что "по закону диалектического развития произойдет возврат на повышенном уровне к гармоническому пониманию природы ... имевшему место в XVII и XVIII веках и приведшему-к успехам, которыми и сейчас может гордиться биология" [65].
Переходя к собственно энтомологическим работам А. А., отметим, что они могут быть подразделены на два самостоятельных направления: 1) работы в области сельскохозяйственной энтомологии (рассматриваются отдельно в гл. 5) и 2) работы в области энтомологической систематики, включающие как чисто таксономические исследования, так и разработку методов дискриминации и идентификации таксонов.
Оценка описательных таксономических работ А. А. затруднительна вследствие того, что подавляющая их часть, к сожалению, осталась неопубликованной. Не изданы три монографии, посвященные земляным блошкам и совкам Киргизии — группам обширным, сложным для таксономического исследования и представляющим бесспорный практический интерес как вредители сельского хозяйства. На протяжении нескольких десятилетий А. А. интенсивно занимался таксономией земляных блошек и собрал большую коллекцию, ныне находящуюся в Зоологическом институте АН СССР. Статья А. А., посвященная классификации земляных блошек рода Halticae, также не опубликована.
Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) — богатая видами группа, характеризующаяся исключительной монотонностью соматических признаков. Идентификация в большинстве случаев не удается без исследования копулятивных аппаратов самцов, но даже иконографическое определение (сравнение препаратов гениталий с рисунками в определителе) не в каждом случае приводит к успеху. В то же время описания и тезы в определительных ключах изобилуют неопределенными высказываниями, бесполезными.для определения, а подчас просто вводящими в заблуждение.
Разумеется, примитивность методов таксономического исследования не могла не вызвать суровой критики со стороны А. А., всегда предъявлявшего повышенные требования к строгости и точности научного исследования. В первую очередь его критика касалась оценки количественных признаков. В описаниях и ключах постоянно встречаются характеристики типа "тело более продолговатое" или "усики более толстые", а измерения относительных размеров отдельных органов делаются "на глаз". В частности, в определительных ключах постоянно мелькают антитезы вроде: "равен—вдвое больше", или "в 1.5— в 2 раза длиннее". Исходя из таких ключей можно было бы думать, что все количественные соотношения в природе кратны целым числам, а если дробным, то только 0.5 и 1.5. Очевидно, такие округленные значения получены визуальным сравнением единичных экземпляров, без использования даже простейших измерительных средств. Измерения "на глаз" приводят к грубейшим ошибкам, зависящим как от формы измеряемого органа, так и от индивидуальных свойств зрения составителя определительного ключа и определяющего. Несовершенство методов систематики вызывает заслуженную критику представителей других наук, давно вооружившихся точными методами" и низводит систематику до уровня "второразрядной" науки.
Другим существенным недостатком в использовании количественных признаков, по мнению А. А., следует считать несогласованность терминологии. Так, одни исследователи измеряют длину тела жука до конца надкрыльев, а другие — до конца брюшка [61].
Критике А. А. подвергался и господствующий в систематике дихотомический принцип определительных ключей, при пользовании которыми вследствие повторяемости антитез на разных уровнях ключа часто невозможно вовремя обнаружить ошибку. В своих работах Любищев рекомендует более совершенные и наглядные графические методы определения.
По выражению А. А., следует стремиться к такой четкости построения определительных ключей, чтобы надежное определение можно было сделать по одному экземпляру любого вида и чтобы у определяющего получилась полная уверенность либо в том, что он определил совершенно правильно, либо в том, что определяемый вид отсутствует в определителе. Эта цель в большинстве случаев может быть достигнута рациональным построением ключей, повышением точности измерений количественных признаков и учетом внутривидовой изменчивости; последнему А. А. придавал огромное значение. Не будет преувеличением сказать, что именно он ввел в практическую систематику понятие политипического вида, давно используемое в теоретической биологии, но до сих пор не нашедшее подобающего места в практике энтомологической систематики.
А. А. наряду с Е. С. Смирновым [4 Смирнов Е. С. Таксономический анализ. М... 1969.] был одним из основоположников количественной таксономии. Для оценки надежности используемых в таксономии признаков, поддающихся количественной оценке, он ввел выражение коэффициента дискриминации, вычисляющегося с помощью простейшей формулы [43]. Выбор из множества признаков сравниваемых форм небольшого числа признаков с максимальной величиной этого коэффициента избавляет исследователя от субъективности в выборе диагностических характеристик.
Особое внимание А. А. уделял проблеме диагностики криптических форм, у которых наблюдается трансгрессия по всем соматическим признакам, а также форм семикриптических, где невозможность дискриминации относится только к одному полу. Для решения этой проблемы А. А, использовал метод комплексирования признаков. Идея этого метода заключается в создании путем комплексирования из нескольких ненадежных (трансгрессивных) признаков одного надежного. При комплексировании по простому методу Гейнке коэффициент дискриминации комплексного признака приблизительно равен сумме коэффициентов дискриминации комплексирующих признаков. Недостаток этого метода в том, что он приспособлен исключительно для взаимонезависимых признаков, в то время как в действительности признаки обычно коррелируют. А. А. усовершенствовал метод Гейнке, использовав выдвинутое В. И. Романовским [5 Романовский В. И. О статистических критериях принадлежности данной особи к одному из близких видов. — Тр. Туркестан, науч. о-ва при Среднеаз. ун-те, 1925, т. 2.] положение: если у двух форм имеется положительная корреляция двух признаков, но при сравнении этих форм мы имеем увеличение одной средней арифметической при увеличении другой, то трансгрессия комплекса двух трансгрессивных признаков может исчезнуть. Усовершенствованный метод Гейнке успешно применен Любищевым для нахождения различий между личинками двух видов майских хрущей, у которых все признаки трансгрессируют [47].
Дефектом метода Гейнке—Романовского является неполное использование взаимосвязи признаков, поэтому А. А. счел более перспективным метод дискриминантных функций, разработанный Р. Фишером (это направление дисперсионного анализа примечательно тем, что было создано специально для целей систематики). Метод дискриминантных функций А. А. применил для поиска различий видов земляных блошек рода Haltica, от идентификации которых по самкам или самцам без извлечения копулятивного аппарата отказывались даже лучшие специалисты [47, 49]. Комплексирование признаков по методу Фишера привело к чрезвычайному увеличению коэффициентов дискриминации. Надежное и быстрое определение видов достигается использованием помещенных в статьях скаттер-диаграмм. Эти две работы А. А. — блестящее доказательство эффективности метода дискриминантных функций в практике энтомологической систематики (см. гл. 5).
Этот же метод применен Любищевым к трем криптическим видам рода Chaetocnema Steph. [49, 51]. Последняя статья примечательна тем, что это единственная вышедшая в свет при жизни автора работа А. А., содержащая диагнозы новых для науки видов: Ch. heptapotamica Lub. и Ch. heikertingeri Lub. Эта таксономическая публикация чрезвычайно своеобразна по форме: вместо описаний видов (которые, кстати, оказались бы бесполезными для диагностики из-за трансгрессии признаков, но это, к сожалению, систематики не всегда отмечают) приводится таблица количественных признаков, включенных в комплексы, с указанием амплитуды измерений, средних значений и их ошибок. Наряду с определительным ключом, построенным на различиях в копулятивных аппаратах самцов, и рисунками этих аппаратов в статье приведены эллипсы рассеяния в двух вариантах: по признакам строения копулятивных аппаратов и передних лапок самцов. Эти эллипсы рассеяния могут быть использованы даже неспециалистами в области систематики листоедов для вполне надежного определения видов графическим путем.
Объем этой работы невелик (всего 6 страниц, включая рисунки и таблицы), а тема ее носит довольно частный характер. Тем не менее с точки зрения методологии таксономии она заслуживает названия классической, поскольку извечная проблема энтомологической систематики — описание и дискриминация криптических форм — находит в ней великолепное разрешение на конкретном примере. Хочется верить, что эта работа послужит для широкого круга энтомологов-систематиков стимулом революционного совершенствования методов исследования.
Вне сомнения, метод дискриминантных функций, энергично пропагандировавшийся А. А., займет почетное место в методологии энтомологической систематики; в настоящее время он активно используется в систематике других групп животных и растений. Широкому распространению этого метода в энтомологических исследованиях препятствуют не только загруженность систематиков и консерватизм их мышления, но и более объективная причина: ограниченность коллекционного материала. Для исследования количественных признаков с целью отбора среди них пригодных для комплексирования систематик должен располагать достаточно богатым, точно идентифицированным материалом, по крайней мере несколькими десятками экземпляров каждого из криптических видов. В большинстве случаев это может быть достигнуто только интенсивными сборами в районах, где ареалы этих видов не перекрываются.
Метод дискриминантных функций в своем классическом виде позволяет сравнивать лишь два таксона. А. А. предприняты интересные попытки обобщения этого метода для большего числа таксонов {49]. Представляется перспективной дальнейшая работа в этом направлении.
Отдавая предпочтение методу дискриминантных функций, Любищев вместе с тем считал, что для дискриминации и идентификации криптических таксонов могут быть использованы и другие методы. В частности, он упоминал о возможности применения теоремы Эджвурта—Пирсона [46].
Внедрение, развитие и пропагандирование количественных методов систематики и постоянная забота об увеличении строгости и точности таксономического исследования составляют одну из важнейших сторон научного творчества А. А. Совершенствование методов систематики, по его мнению, должно способствовать ее превращению в точную научную дисциплину.
Глава 5 Вклад в сельскохозяйственную энтомологию
Сельскохозяйственной энтомологией А. А. Любищев начал заниматься в пермский период своей жизни — в середине 20-х гг. Приход его в эту область не был случайностью. Скорее это была закономерность. Опыт, накопленный им во время постоянных полевых экскурсий, знание предмета (Любищев в Пермском университете в числе других дисциплин читал курс "Учение о сельскохозяйственных вредителях") искали выхода. Особенно плохо в тот период обстояло дело с оценкой экономического значения вредителей. Существующие характеристики потерь носили, как правило, поверхностный, субъективный характер. Отсутствовали точные методы определения вреда, наносимого растениям насекомыми, не были разработаны сами принципы решения этой сложной биологической задачи, имеющей большое хозяйственное значение. Любищев в силу высоко развитого у него чувства гражданской ответственности не мог пройти мимо этих проблем и с присущей ему энергией углубился в их разработку.
Вскоре он начал понимать, что убытки от известных ему вредителей скорее преувеличены, чем занижены. Однако первая попытка реально оценить потери от одного из вредителей — клеверного семееда, по признанию самого Любищева, удалась далеко не сразу. Тем не менее она позволила подойти к пониманию трудности экономических проблем в энтомологии, в частности при оценке вредоносности личинок этого насекомого. Здесь Любищев впервые в сельскохозяйственной энтомологии предложил использовать регрессионный анализ (о нем речь пойдет далее). В связи со сменой места жительства (см. "Биографический очерк") работа по экономическому значению клеверного семееда апиона была временно прекращена. В дальнейшем эту работу под руководством Любищева выполнил К. А. Васильев.
Переезд в Самару благоприятно отразился на занятиях Любищева прикладной энтомологией. Общение со специалистами сельскохозяйственного института и особенно знаменитой Безенчукской станции — С. М. Тулайковым, К. Ю. Чеховичем и другими — способствовало расширению агрономического кругозора Любищева. Здесь он начинает и успешно заканчивает большой труд по оценке вредоносности хлебного пилильщика Cephus pygmaeus L. и пшеничной узловой толстоножки Harmolita noxiale Portsch. О значении особенно первого вида велись в то время жаркие споры, и ему приписывался большой вред.
Итог двухлетней работы с этими вредителями лаконично краток: личинки хлебного пилильщика, повреждая стебель, вызывают один вид потерь — снижают налив зерна на 6—10%; узловая же пшеничная толстоножка безвредна [14, 15]. Но это только, так сказать, надводная часть айсберга, созданного Любищевым. Еще большее значение имеют опубликованные им работы как методические пособия.
Дело в том, что оба указанных вида насекомых предпочитают повреждать более развитые стебли пшеницы. Это было известно. Устранять маскирующее влияние избирательности хлебного пилильщика энтомологи пытались подбором к поврежденным стеблям идентичных по развитию неповрежденных колосьев. Избежать влияния субъективности при таком подборе было невозможно, и результаты получались ненадежные. Любищев, как и в случае с апионом, применил сравнение не средних арифметических значений продуктивности двух групп стеблей — поврежденных и незаселенных, а линий регрессии продуктивности колосьев (у каждой из этих двух групп) на признак, характеризующий развитие растений,— толщину стебля, длину колоса и др. Это позволило статистическим путем как бы подобрать одинаковые по развитию пары колосьев — с поврежденных и здоровых стеблей — и получить разницу в массе зерен, обусловленную влиянием того и другого вредителя. При этом Любищеву пришлось решить целый ряд методических трудностей. В итоге была создана методика, которая могла уже использоваться для оценки вредности других обладающих избирательной способностью организмов.
Более того, Любищев показал необоснованность позиций многих авторов, полагающих, что надежным методом определения вредоносности является только вегетационный метод при искусственном заражении растений. Была заложена основа полевого метода определения вредоносности повреждающих растения насекомых с устранением влияния сопутствующих факторов (что при полевых исследованиях неизбежно) путем соответствующей статистической обработки цифрового материала. Первым итогом общих методических поисков Любищева был доклад на секционном заседании IV съезда зоологов в 1930 г. "О методике количественного учета", положивший начало серии его выдающихся методических работ.
Второй период деятельности Любищева в области сельскохозяйственной энтомологии связан с его работой во Всесоюзном институте защиты растений в качестве руководителя секции экономического сектора. Здесь в течение семи лет им публикуется еще 11 работ по экономике вредных организмов. В этих работах достаточно полно отображена теоретическая сторона исследований Любищева, его понимание проблемы экономического значения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, трудности оценки наносимого вреда и путей их разрешения.
В 1931 г. появляется программная статья по установлению размера потерь, причиняемых вредными насекомыми [16J. В ней четко и ясно показывается неудовлетворительное состояние экономической основы всего дела защиты растений в нашей стране и за рубежом; впервые дается, классификация типов потерь и групп вредителей, методов оценки вреда; исследуются источники ошибок, биологические их причины. Позднее в работе "Основы методики учета потерь от вредителей" [25] теоретические основы изучения и оценки экономического значения вредных организмов получают дальнейшее развитие. А. А. формулирует программу определения потерь: оценка потерь должна базироваться на сведениях о вредности (ущербе на одно растение или от одной особи вредителя) и вреде (ущербе на единицу площади посева в натуральном выражении), а также включать количественный учет вредных организмов, экономическое районирование и общий синтез потерь.
Согласно этим основным положениям, Любищев проводит углубленные теоретические изыскания. Дальнейшее развитие получает экотопографический метод Хартцеля, или метод биосъемки [17, 19, 28], который Любищев применяет не только для учета численности вредителей, но и для изучения структуры их распределения, оценки размера вреда и уменьшения обрабатываемых ядохимикатами площадей посевов. При разработке методов оценки вредности он по-прежнему главным считает полевое исследование [27] / Существенную роль отводит он использованию статистических методов как при оценке вредоносности, так и при изучении гетерогенности поля с точки зрения распределения вредных объектов [19, 28]. Глубокому исследованию подвергается проблема экономического районирования, намечаются этапы работы и проводятся основы теории зональности вредителя [27]. Все эти теоретические разработки до сих пор не потеряли своей актуальности.
Намеченная программа изучения экономического значения вредных организмов [16, 25] реализовывалась Любищевым и в практической работе. Сначала секция, которой он руководил, занималась вопросами методики определения вредоносности, но позднее тематика секции расширилась: в план была включена разработка методик определения потерь и учета эффективности защитных мероприятий [18, 27]. Задачу секции он видел, с одной стороны, в разработке методик для практических учреждений, а с другой — в получении точных значений и вреда, и вредоносности путем обработки имеющихся материалов (литературных источников, данных наблюдательных пунктов, сведений, получаемых от корреспондентов) и проведения специальных полевых исследований. При разработке методик Любищев считал необходимым получение полевых, производственных данных, применение методов математической статистики, проведение топографического подхода к изучению потерь, т. е. рассчитывал на высокий уровень исполнителей. Он неоднократно подчеркивал, что составлять методики для каждого случая или отдельного вредителя бесполезно; лучше затратить время на подготовку специалистов, чем на написание бесчисленных подробных вариантов инструкций, правильный выбор которых в соответствии с конкретными условиями посилен опять-таки работникам с высокой квалификацией.
А. А. проделывает огромную просветительскую и пропагандистскую работу: читает лекции и проводит практические занятия по учету потерь и биометрическим методам, пишет методические руководства, консультирует сотрудников института и периферийных учреждений, обрабатывает первичный материал. Все летние периоды он находится в командировках и экспедициях в различных районах страны, где его сотрудники ведут полевую работу по изучению распределения и районированию вредоносности таких объектов, как хлебные пилильщики, гессенская и шведская мухи, вредители овощных культур. В эти годы секция начинает заниматься выяснением экономического значения ржавчинных заболеваний злаковых культур и льна, причем используются те же методы, что и при оценке вредоносности насекомых, — биосъемка, сравнение линий регрессии и др. В итоге были получены ценные материалы, только частично опубликованные позднее сотрудниками и использованные самим А. А. [39].
На основании этого материала, накопленного в многочисленных поездках, анализа энтомо-фитопатологических данных селекционных станций и других сельскохозяйственных учреждений А. А. составляет обстоятельную характеристику потерь от вредителей зерновых культур [16]. По его мнению, 5%-ный уровень потерь, причиняемых всеми вредителями хлебных злаков, следует относить не к минимальным, как обычно принимается, а к максимальным потерям; средние потери от этой группы вредных организмов составляют около 3%.
Особенно много сил А. А. потратил на изучение ущерба от злаковых мух, в основном от шведской мушки, которая была одной из главных причин отсутствия посевов пшеницы в ряде центральных областей — на территории так называемого "белого пятна". Первые опыты с этими вредителями были поставлены еще в 1930 г.; позднее, проанализировав многочисленные отчеты сортосети, еще до завершения работы других бригад, специально созданных для изучения проблемы "белого пятна", Любищев дал заключение, что шведская мушка и ее аналоги не являются районирующим фактором для злаковых культур [20, 22, 23]. Одновременно приводится много ценных сведений по экологии шведской мушки, характеризующих ее вредность. К сожалению, сборник по проблеме "белого пятна", для которого А. А. совместно с М. Я. Козловой написал большую статью о роли энтомологического фактора, не вышел из печати. Личный экземпляр рукописи погиб вместе с большей частью его архива в годы войны в Киеве (см. ч. I). Остался неопубликованным и ряд других работ: карты экономического районирования по гессенской и шведской мухам, сводка по экономике и борьбе с сусликами и другие.
Во время трехлетнего пребывания в Киеве Любищев продолжает заниматься экономическим значением вредителей. Он организует исследования по влиянию вредителей на урожай плодовых и овощных культур. Однако полученные материалы, так же как и архив, погибли в 1941 г. В методическом плане Любищев публикует критический обзор по использованию метода искусственных повреждений [30]. В этой статье он возвращается к теме сравнения эффективности полевого и вегетационного методов оценки значимости вредных организмов. Метод искусственного повреждения широко и тенденциозно использовался для нахождения коэффициентов вредности. А. А. Любищев на литературных примерах показал, что техника и методика проводимых опытов по имитации повреждений весьма далеки от совершенства и что поэтому полученные результаты нельзя переоценивать. Опыты с искусственным повреждением дают, по его мнению, ряд полезных сведений о физиологии повреждаемых растений, но мало подходят для оценки вредоносности объектов. Высказывая пожелания в целях улучшения этого направления экспериментальных исследований, А. А. особенно подчеркивает необходимость повышения чистоты и уровня методики проводимых опытов [24, 26, 30]. По анализируемому цифровому материалу он устанавливает наличие у злаков порога устойчивости к повреждениям листовой поверхности, значения которого составляют более 25% от общей площади листьев. В определенных условиях умеренное повреждение листовых пластинок может даже приводить к увеличению урожая зерна или к улучшению его качества [30].
Занимаясь вопросом экономического значения вредителей, А. А. не мог оставить в стороне проблему учета эффективности мероприятий по борьбе с ними. В своей схеме классификации потерь [16] он учел необходимость экономической характеристики обработок. А. А. считал, что защитные мероприятия следует оценивать не по технической эффективности, умноженной на показатель вредности, или даже просто по проценту снижения численности объектов, как это часто делается на практике, а по реальным размерам спасенного урожая [21], т. е. разницей между потенциальными и понесенными потерями. Он критиковал работу "Общества по борьбе с вредителями" (ОБВ), которое, ведая всей защитой растений в стране, носило характер подрядчика, ибо, оценивая пользу от проводимых мероприятий по технической эффективности, не было непосредственно заинтересовано в благосостоянии хозяйств в целом. Вскоре после этого ОБВ было ликвидировано.
Путь к устранению просчетов в оценке эффективности мероприятий А. А. видел в дальнейшем усовершенствовании учета вредителей и болезней, в организации научной оценки потерь [21]. Он неустанно боролся за чистоту постановки опытов, проводимых с целью учета эффективности борьбы с вредителями. Вскрывая наиболее часто встречающиеся ошибки [31, 36], он в то же время рекомендовал способы, при помощи которых удается полностью или частично исправлять допущенные погрешности и тем самым сберегать затраченный труд и немалые средства. С этой целью он использует проверенный уже способ сравнения линий регрессии — дисперсионный анализ — и первым среди энтомологов применяет весьма эффективный метод анализа ковариансы [31].
Свои теоретические взгляды по вопросам оценки экономического значения вредителей и борьбы с ними А. А. обобщает в большой работе, опубликованной в Ульяновске в 1955 г. [39]. Это наиболее полная сводка методических разработок в области изучения вредоносности насекомых, изданных до настоящего времени, вошедшая в число классических методологических работ по сельскохозяйственной энтомологии. Анализируя в целом вклад А. А. в решение проблемы оценки экономического значения вредных для сельскохозяйственных растений организмов, можно без преувеличения считать, что им заложены первоначальные основы экономики защиты растений. Сам он относил себя к курдюмовскому направлению в изучении вредоносности насекомых. Безусловно, талантливые начинания Н. В. Курдюмова (использование коэффициента вредности, например) забывать не следует. Но нельзя не отметить и самостоятельность пути А. А. Признавая целесообразным на первом этапе применение показателей вредности, А. А. неоднократно раскрывал ограниченность этого метода подсчета потерь от вредных организмов [15, 21, 30, 39]. Отсутствие прямо пропорциональной зависимости между степенью повреждения растений и причиняемым ущербом, устойчивость насаждения к повреждениям — эти факторы весьма ограничивают возможности использования коэффициентов вредности. Наиболее целесообразный путь — определение потерь на основе оценки вреда на единицу площади. Этого пути он по мере возможности и придерживался как при разработке теории учета потерь, так и при экспертно-статистической оценке реального ущерба от вредителей злаковых культур.
Следующие десять лет А. А. работает в Средней Азии. Здесь, несмотря на огромную педагогическую нагрузку, он продолжает трудиться над проблемой количественного учета животных [36, 37]. Строго говоря, разработки А. А. в этой области далеко выходят за рамки прикладной энтомологии и служат интересам как зоологии беспозвоночных, так и зоогеографии в целом. Но поскольку работы А. А. по теории учета существенно связаны с сельскохозяйственной энтомологией, уместно рассмотреть их в данной главе.
Над этой проблемой А. А., как мы уже отмечали, начал работать еще в 1930 г. Позже на VII Всесоюзном съезде по защите растений он сделал доклад, в котором выдвинул для обсуждения вопрос о неравномерности размещения насекомых на площади — гетерогенности поля — и о тех следствиях, которые отсюда вытекают [19]. Эта существеннейшая популяционная особенность беспозвоночных стала одним из главных предметов пристального внимания А. А. при разработке приемов учета и способов оценки получаемых данных. Развитие экотопографического метода было только одним из следствий такого внимания. Другим следствием была разработка приема учета насекомых по фиксированным маршрутам или экскурсиям методом текущей регистрации — с детальным описанием топографических отношений (рельефа, растительности и др.) и характеристикой улова по экологически отличающимся отрезкам пути. А. А. описывает и постоянно применяет наиболее эффективный полевой метод учета, получивший в биометрии название послойного учета. Все эти приемы значительно рационализируют работу полевых энтомологов, позволяют им обследовать гораздо большие площади. В связи с этим, по мнению А. А., необходимость в стационарных участках отпадает. Производственные наблюдательные пункты затрачивают большую часть времени и сил на обследования как раз на стационарных участках и получают гораздо меньше сведений, чем при использовании более свободной программы наблюдений и учетов [32, 36, 37].
Большую роль в улучшении результатов количественного учета животных из-за той же неравномерности их размещения А. А. отводит более тонкой обработке учетных данных. Он считает, что недостаточно приводить только средние значения численности объектов (причем чаще не средних арифметических, а средних геометрических), необходимо учитывать структуру распределения популяции вредителя. Первая задача — выявление характера распределения насекомых путем вычисления корреляции соседств и сравнения эмпирических кривых частот значений численности с типами теоретических распределений. При этом может показаться, что А. А. придает вначале несколько излишнее биологическое звучание соответствию учетных данных некоторым теоретическим распределениям [28], но позже [44, 45] он развивает эти положения, выделяя гипергеометрическое и контагиозные распределения. Путем сравнения последних с эмпирическими кривыми можно (правда, не всегда) судить о наличии в поле перерассеяния или скученности в размещении насекомых. От характера распределения численности вредителей зависит и тактика их учета. При равномерном размещении их по полю требуется наименьшее число проб, упрощается и порядок расположения проб. В случае скученности приходится выявлять и обследовать очаги с высокой плотностью насекомых, что значительно увеличивает число повторностей, использовать среднюю геометрическую и т. д.
В 1947 г. А. А. заканчивает рукопись книги "К методике количественного учета и районирования насекомых" [42; см. также гл. 4], в которой подводит итоги проделанной работы по разработке основ теории учета. Наряду с разделами, изложенными им в ранних статьях, А. А. включает и ряд новых: об общеметодической классификации методов учета, о симметризации кривых распределений учетных данных путем их преобразования, о сравнимости данных относительных учетов и переходе от относительного к абсолютному учету и многое другое. Эта превосходная многоплановая, далеко выходящая за рамки сельскохозяйственной энтомологии книга вышла в 1958 г. Вместе с другой методической работой А. А. "К методике полевого учета сельскохозяйственных вредителей и эффективности мероприятий по борьбе с ними" [39] она стала настольной книгой прикладных энтомологов и вошла в число работ, обязательных для изучения при аспирантской подготовке.
В 1943 г. А. А. возглавил эколого-энтомологическую лабораторию в КИРФАН. Считаясь с производственной необходимостью, он начинает работу по изучению массовых вспышек размножения вредителей сельскохозяйственных растений и оценке эффективности проводимых мероприятий. Объектами исследований избираются самые вредоносные виды: вредная черепашка, свекловичный долгоносик, блошки, вредные совки [35, 36].
По земляным блошкам и совкам Киргизии А. А. пишет монографии, которые, к сожалению, не были изданы. В них рассматриваются видовой состав вредителей, их распространение, вредоносность и меры защиты растений. Занимаясь вопросами практической борьбы с насекомыми, А. А. изучает состояние дел по разработке систем защитных мероприятий в стране и находит в них много излишеств [37]. Он напоминает о требованиях к системам, сформулированных В. Н. Щеголевым,[1 Щеголев Владимир Николаевич (1890—1966) —энтомолог, профессор Ленинградского сельскохозяйственного института.] добавляя при этом, что защитные мероприятия должны не только быть увязанными между собой, но и включаться в общий комплекс хозяйственных и специальных мероприятий [21, 37].
Поскольку колебания численности насекомых связаны с миграцией и влиянием экологических факторов на массовое размножение, А. А. как самостоятельную проблему выделяет изучение экологического районирования вредителей. Он отмечает при этом, что горный ландшафт благоприятствует сравнительному экологическому изучению насекомых в связи с обилием экологических контрастов на ограниченной территории. По мнению А. А., при экологических исследованиях должен превалировать путь от биоценоза к биотопу, а не наоборот, как это часто считается. Синэкологический подход более экономичен и позволяет учесть неравномерность распределения интересующих нас организмов и тем самым избежать больших напрасных затрат и методических ошибок [36].
Критически рассматривая применяемые исследователями методы экологического районирования вредных видов, А. А. полагает необходимым а) с большей точностью определять эмпирические границы зон различной вредности; б) изучать формы этих границ в поисках интегральных климатических индексов; в) разработать методы оценки степени совпадения теоретических и эмпирических границ зональности; г) учитывать влияние факторов на организмы, "аккумулированное" в более ранние периоды времени. Он обсуждает возможность использования видов-индикаторов при изучении зональности вредителей и прогнозировании массовых вспышек, считая этот слабо еще разработанный подход весьма перспективным, приводит много ценных соображений по действительному и потенциальному районированию в Киргизии вредной черепашки [36]. Теоретические взгляды А. А. по вопросам экологического районирования насекомых не потеряли своей значимости и четверть века спустя.
Характеристика трудов А. А. будет неполной, если не рассмотреть влияния его работ на развитие количественной агробиоценологии. Впервые применив для оценки трофической связи насекомых с растениями регрессионный анализ, он стимулировал формирование статистического подхода к анализу связи между элементами агроценозов. Путем изучения связи между организмами можно глубже, как это отмечал А. А. [42], проникнуть в структуру биоценоза, сделать в конечном итоге выводы, полезные для проведения защитных мероприятий. Развитие А. А. экотопографического метода учета организмов также обогатило агробиоценологию мощным средством экспериментального исследования.
А. А. выступал за развитие прикладной зоогеографии [40, 41]. Ценным является его замечание, что экономическое и экологическое районирование можно существенно улучшить, используя количественное соотношение видов, особенно в условиях стертости границ [42]. Он придавал большое значение зависимости числа видов от логарифма числа индивидов, собранных при учетах. А. А. считал возможным использовать эту зависимость как метод сравнения богатства фауны и получать дополнительный материал для характеристики массового размножения вредителей. В агроценозах, отмечал А. А., с увеличением числа пойманных экземпляров число видов возрастает гораздо медленнее, чем в дикой природе [42]. Следует подчеркнуть, что теоретическим обобщениям А. А. при изучении им сообществ животных во многом способствовали статистические исследования эмпирического материала.
Мы полагаем, что именно А. А. Любищева следует считать основоположником статистического направления исследований в области экономического значения сельскохозяйственных вредителей и в агробиоценологии.
В заключение отметим еще одну особенность творчества А. А., характеризующую его как большого самобытного ученого. Это — его независимость от влияния авторитетов или общепринятых воззрений. Может быть, поэтому почти все работы А. А. в области сельскохозяйственной энтомологии сейчас не только не потеряли актуальности, но продолжают во многом определять направления и методологию прикладных энтомологических исследований.
Глава 6 Работы по истории и методологии науки
А. А. Любищев придавал величайшее значение научному методу. Ему принадлежит много интересных (порой парадоксальных) мыслей о путях исторического развития науки, о взаимоотношениях естественных наук с математикой и философией, о системном подходе. Анализ этой стороны творческого наследия Любищева показывает, что его работы представляют серьезный интерес для науковедения, логики и методологии научного исследования и общей теории систем, т. е. дисциплин, сформировавшихся в самое последнее время и изучающих науку в целом.
Стремление осмыслить пути развития науки в целом и сущность научных методов было связано у Любищева, с одной стороны, с его размышлениями о том, что есть теоретическая биология, и, с другой стороны, с его убежденностью в величайшем значении науки как средства познания мира.
Сегодня мысль о том, что для развития науки существенно осознание природы науки, ее методов и их оснований, завоевала законное место в культуре. Но для Любищева понимание того, что методология науки важна не только для изучения истории научной мысли, но и для самого развития исследований, было его личным открытием. И то, как он к этому открытию шел, представляется в высшей степени поучительным. Любищев не только предвосхитил сегодняшнее увлечение методологией, он показал, что более глубокое понимание того, что есть наука, расширяет возможности действия в науке. Можно сказать, что методологические проблемы науки он рассматривал более широко — в гносеологическом и даже аксиологическом контексте.
Современное развитие науки в большой степени соответствует идеям Ф. Бэкона о том, что цель науки — расширение власти человечества над природой ("знание — сила") и помощь в конкретном соревновании отдельных коллективов. Иными словами, главная ценность науки — доставляемое ею могущество. Сам Бэкон наиболее яркими научными достижениями полагал изобретение печатного станка, пороха и морского компаса. Полезно, однако, при этом помнить, что Бэкон не сумел оценить достижения Галилея, Кеплера и ряда других своих современников, заложивших основы сегодняшней науки.
Для Любищева же гораздо более важными представляются совсем иные цели науки: повышение уровня знания о мире, увеличивающее свободу человечества. Подлинная наука для него — это прежде всего путь к осознанию мира и природы самого человека. Поэтому и наука для него не есть скопище добытых фактов, гипотез или теорий, но прежде всего уровень понимания мира. Этот уровень меняется в процессе исторического развития науки. Для объяснения механизма этого развития очень естественно использовать представление о науке как о марковском случайном процессе: накопленное в данный момент могущество создает пропорциональные ему возможности дальнейшего роста.[1 Процесс называется марковским, если его состояние в данный момент определяет вероятности возможных изменений.] Таким образом, рост науки определяется (вероятностно) ее состоянием в данный момент. Скажем, наличие определенных энергетических ресурсов или радиоэлектронного оборудования дает новые возможности для физических экспериментов или создания автоматизированных устройств. Достигнутый уровень в некоторой области науки определяет вероятности расширения ее применений и потребностей в смежных науках. Публикации стареют, как дредноуты и самолеты, переставая обеспечивать необходимую мощь ввиду появления новых современных средств.
Это представление в известной мере отражает действительность. Но, как неоднократно подчеркивал Любищев, для подлинной науки важнее совсем иное.[2 В письме от 5.3.71 г. А. А. весьма критически оценивает роль Бэкона и его доктрины.] Степень развития науки Любищев связывал прежде всего не с достигнутым в данный момент уровнем фактического знания, но с умением критически пересматривать принятые догмы, с умением точно формулировать теории, объяснять накопленное и предсказывать новые факты и, наконец, с целбстностью видения мира. Это представление естественно было бы назвать концепцией науки, в которой ее развитие считается даже стохастически непредсказуемым по ее состоянию в настоящий момент.[3 Хотелось бы назвать эту концепцию "немарковской", по аналогии с "неэвклидовой" геометрией или "неньютоновскими" жидкостями.] Скорее это развитие следует связать с общекультурным контекстом, с уровнем философско-методологической рефлексии.
А. А. Любищев очень много писал о математизации науки. По его словам, основной слабостью Аристотеля было его пренебрежение математикой и эта слабость в значительной мере объясняет его популярность в широких кругах и то вредное влияние, которое его последователи, перипатетики, оказали на дальнейшее развитие науки. Математизация науки рассматривается Любищевым в противопоставлении ее а) готовности удовлетворяться приблизительными объяснениями (не качественными, но именно приблизительными, неопределенными, принципиально не уточняемыми) и б) стремлению ограничиться уровнем непосредственного наблюдения, принять в качестве единственной реальности — реальность эмпирическую.
Первое из этих противопоставлений определяет математизацию науки как достижение некоторого уровня четкости утверждений, ясного выделения постулатов, отчетливого понимания статуса различных утверждений (наблюдаемый факт, гипотеза, принятый постулат, логическое следствие из принятых постулатов и т. п.). Например, математизация классической механики заключается не в самих дифференциальных уравнениях, но в принятии того, что в основе механики лежат универсальные физические законы, в ясной формулировке этих законов и доказательстве того, что из этих законов логически следуют все остальные факты. Блестящим примером этого служит вывод Ньютоном законов Кеплера для планетных орбит из закона всемирного тяготения.[4 Интересно, что Ньютон при этом выводе не пользовался уже созданным км к тому времени аппаратом флюксий.]
Второе противопоставление характеризует математизацию как обнаружение некоторой математической структуры, воплощенной в описываемом явлении. Так, закон всемирного тяготения есть общая зависимость, воплощенная во взаимодействии масс. Уравнения общей теории относительности — это математическая структура, воплощенная в многообразии конкретных физических взаимодействий. Законы Менделя — это математическая структура, проявляющаяся в наблюдаемых при скрещивании комбинациях признаков.
Положение Пифагора о том, что числа правят миром, сегодня следовало бы принимать как принцип существования глубинных математических структур, воплощенных в реально наблюдаемых наукой явлениях. Поэтому математизация в естествознании — это не столько измерение, сколько стремление проникнуть в глубь явлений,' увидеть за кажущимся хаосом фактов математический космос — стройную математическую структуру.
Если развитие уровня науки мы начнем, следуя Любищеву, связывать с углублением ее математизации, то окажется, что это углубление определяется не столько достигнутым уровнем, сколько господствующими в данный момент стремлениями. Иными словами, математизация науки зависит не столько от существующих возможностей (здесь наиболее важным является уровень, достигнутый в самой математике), сколько от ощущения необходимости. Скажем, в современной физике господствует представление о необходимости оперировать с глубинными математическими структурами, а в теоретической биологии и лингвистике такое представление только начинает пробивать себе дорогу.
Для Любищева характерно представление о том, что разделение наук на номотетические и идеографические (описательные) связано не с природой той или иной области знания (как это считали неокантианцы), но с достигнутым уровнем развития. Математизация науки означает, согласно Любищеву, лишь средство вывода ее на номотетический уровень.
Рассмотрение Любищевым проблемы математизации науки в двух аспектах — точности и правильности[5 Точность описания связана с верифицируемостью, а правильность — с адекватностью, с проникновением в глубину явлений.] — способствует диалектическому синтезу исторического противопоставления в науке стремлений к точности (и, в конечном счете, полной математизации) знания и целостности видения мира (натурфилософских тенденций). В свое время Гете был ярым противником математизации естествознания. Но именно представления Гете об архетипе, праформе в концепции А. А. наиболее естественно связываются с поиском глубинных математических законов, управляющих формой живых организмов.
Важное место в концепции Любищева занимает его эксплицитно сформулированная точка зрения на роль научных фактов. Он предостерегает от гипноза фактов, особенно когда говорят о Монблане фактов, подтверждающих ту или иную теорию. Здесь существенными являются два обстоятельства. Первое из них заключается в том, что факты могут подтверждать или не подтверждать только достаточно жестко (точно) сформулированную теорию. При расплывчатости самой теории оказывается, что одни и те же факты одинаково легко интерпретируются в конкурирующих теориях. Скажем, громадное количество фактов одинаково хорошо укладывается как в эволюционную теорию Дарвина, так и в теорию Ламарка.
Второе — и не менее важное — состоит в том, что, когда говорят о Монблане фактов, подтверждающих господствующую теорию, часто забывают о Гималаях фактов, ей противоречащих или не находящих себе места в рамках этой теории. Более того, многие факты входят в арсенал науки на то время, пока они приемлемы с точки зрения господствующей доктрины, и отставляются в запасник, когда они не нужны пришедшей на смену доктрине. Любищев подчеркивал необходимость для любой научной теории охватывать объяснением весь комплекс фактов, относящихся к ее сфере. Особенно он обращал внимание на недопустимость пользоваться "убежищем невежества", когда теория опирается на гипотетические, непроверяемые факты. С этой точки зрения он критиковал распространение теорий происхождения хордовых, основанных на реконструировании предка с отсутствующим твердым скелетом.
Современное естествознание придает исключительно большой вес эксперименту. Тем самым роль научного наблюдения, как замечал Любищев, становится незаслуженно преуменьшенной. Однако в некоторых науках (звездная астрономия, палеонтология, космология и т. д.) эксперимент вообще пока невозможен, а эти науки играют исключительно важную роль в научном познании. Заметим, что полеты космических кораблей технически являются, конечно, экспериментом. Но с точки зрения астрономии или астрофизики — это новый способ наблюдений, увеличивающий их возможности. Кроме того, современные эксперименты весьма дороги. Этот фактор неминуемо влияет на выбор перспективных направлений экспериментирования, волей или неволей подчиняя науку практическим нуждам сегодняшнего дня. Когда наука идет по пути наблюдений, она оказывается свободней от этих привходящих факторов и может в большей степени регулироваться интересами чистого знания. Здесь можно допустить большой риск и смириться с серией неудач ради перспективы увеличения глубинных знаний. Наоборот, выпячивание исключительной роли эксперимента привязывает науку к опытно-конструкторским разработкам и увеличивает степень предсказуемости процесса ее развития. Эксперимент при всех важных достоинствах сужает поле зрения: он отвечает на заранее поставленные вопросы. Беспристрастное наблюдение позволяет осмыслить саму постановку вопроса. И уж во всяком случае безусловно необходимое развитие экспериментальной базы не должно вести к пренебрежению наблюдением.
Любищев любил подчеркивать мысль Дюгема о принципиальной невозможности "experimentum crucis", позволяющего однозначно выбрать одну из существующих в науке альтернатив. Типичное положение в науке состоит в том, что сама дилемма оказывается недостаточной (как это было, например, с конкурировавшими гипотезами о волновой и корпускулярной природе света). Развитие научных представлений происходит диалектически, когда две, казалось бы, непримиримые противоположности синтезируются на основе принципа дополнительности.
Сам по себе факт в науке еще не играет решающей роли. Хотя факты — "воздух для науки", невозможно питаться одним воздухом. Факты приобретают научное значение только в рамках осмысляющей их научной теории. Важность этого положения представлялась Любищеву настолько первостепенной, что он подкреплял его парадоксальным тезизом о практической пользе научных фикций и предрассудков, позволяющих извлекать из фактов некоторые научные прогнозы. Так, астрологические суеверия Кеплера позволили последнему построить правильную теорию приливов, основанную на влиянии Луны. Галилей, свободный от этих предрассудков, не мог поверить в возможность влияния Луны на земные события и предложил неверную теорию приливов. Разумеется, научная теория тем более необходима для осмысления фактов.
В одном из своих последних писем (от 7 июля 1972 г.) А. А. дал поучительную формулировку того, что есть подлинно научная теория: "Под научной теорией следует подразумевать такое построение, которое не налагает никаких философских ограничений на свободу мышления и от теории требует только одного: чтобы на основе тех или иных постулатов было получено такое обобщение известных фактов (математическая теория или вообще жесткое обобщение), которое позволило бы объединить огромный комплекс фактов и на основе этого объединения получить прогноз, оправдываемый на практике, и даже управление явлениями. Что касается учения, или доктрины, то оно, исходя из определенных философских постулатов, стремится дать "объяснение" большому комплексу фактов, но в силу "рыхлости" такого объяснения оно не охватывает всех подлежащих охвату фактов и возможность прогноза минимальна... В биологии учение об эволюции в целом не вышло за пределы доктринального уровня, но некоторые части — наследственность, изменчивость — уже перешли теоретический уровень". Характерно, что именно доктрины претендуют обычно на абсолютизм и непогрешимость, в то время как научные теории часто способны оценивать границы своей применимости.
Наконец, нужно подчеркнуть, что подлинная наука рассматривалась Любищевым как необходимая составная часть человеческой культуры и он много думал (и писал) о взаимоотношении науки со всеми аспектами культуры.
Количественные и качественные закономерности, изучаемые сегодня в науковедении, существенно основаны на предположении вероятностной предсказуемости процесса развития науки. Например, так называемый экспоненциальный закон роста различных параметров науки (публикаций, научных работников, финансирования и т. д.) выводится из того, что "приращение науки" пропорционально её нынешнему состоянию. Получаемые количественные закономерности неплохо согласуются с наблюдаемыми за несколько десятков лет данными, но при их экстраполяции возникают серьезные трудности в выявлении компенсирующих этот рост факторов. Вероятно, "немарковская" концепция науки могла бы очень помочь пониманию того, что именно отражает закон роста. Хочется подчеркнуть, что представления Любищева о структуре научного знания могут сыграть роль в дальнейшем углублении науковедческих концепций.
Представления Любищева о номотетичности как идеале научности гораздо шире, чем идея научного описания явлений в форме математически выраженных закономерностей. Номотетичность у Любищева звучит как поиск строго определенной системности, лежащей в основе наблюдаемых явлений. Этим открывается принципиальная возможность выявления законов в тех областях знания, которые традиционно считались описательными. Эти идеи Любищев отчетливо выразил в посмертно вышедшей работе [78]. По сути дела Любищев указал реальные возможности исследования математических структур в классификации, т. е. в традиционно описательном методе упорядочения исследуемого материала.[6 Ср.: Мейен С. В., Шрейдер Ю. А. Методологические аспекты теории классификации. — Вопр. философии, 1976, № 12, с. 67—79.] Тем самым открывается возможность для рационалистического (платоновского) подхода в тех областях, где господство эмпиризма считалось безраздельным.
Именно в этом смысле нужно прежде всего понимать ту высокую оценку, которую Любищев неоднократно давал Платону. Платонизм Любищева можно уподобить уверенности математика в реальном существовании изучаемых им объектов. Убежденность в том, что закон природы есть реальность, открывающаяся в феноменах,— вот характерная установка Любищева. В известном смысле можно такую убежденность генетически связать с объективным идеализмом. Но надо отдавать себе отчет, что позиция Любищева всегда была непримиримой к позитивизму и солипсизму. И если уж считать Любищева идеалистом (такое определение по отношению к нему слишком жестко — более правильно говорить о тяготении Любищева к платонизму), то необходимо понимать, что есть идеализм глупый и идеализм умный. О последнем хорошо сказал В. И. Ленин, что умный идеалист нам ближе, чем недалекий материалист. Глупый идеализм отрицает реальность материи, умный — не удовлетворяется простейшими реальностями, но пытается проникнуть в реальности глубинные. Аналогично этому примитивный механический материализм отрицает любые реальности, кроме непосредственно наблюдаемой весомой протяженной материи, а материализм диалектический провозглашает: "... единственное "свойство" материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания" (В. И. Ленин. Соч., т. 18, с. 275). Не случайно философия марксизма-ленинизма генетически связана прежде всего с диалектикой Гегеля — и в гораздо большей степени, чем с материализмом энциклопедистов и даже Фейербаха, не говоря уже о вульгарном материализме Бюхнера, Молешотта и иже с ними. Наоборот, традиции средневекового номинализма (со знаменитой бритвой Оккама) через материализм примитивно-механический ведут непосредственно к современному позитивизму, т. е., как показал В. И. Ленин, к худшей разновидности субъективного идеализма, смыкающейся с крайним солипсизмом.[7 Ср.: Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. (Размышления над книгой В. И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм"). М., 1980.]
Наша задача — выявить, в чем состоит конкретный пафос любищевского платонизма и пифагореизма, и показать, что этот комплекс идей, находившихся у истоков идеалистической философии, может быть плодотворно переосмыслен с позиций диалектического материализма, подобно тому как идеалистическая диалектика Гегеля получила свою материалистическую интерпретацию в философии марксизма.
Здесь нужно подчеркнуть, что диалектический материализм качественно отличается от примитивных разновидностей материализма и позитивизма своей способностью критически осваивать все ценное, что возникло в рамках иных философских систем. Эту особенность диалектического материализма осознавал и сам А. А. В его письмах последних лет можно найти рассуждения по этому поводу. При этом он полагал важным терминологически отгородиться от вульгаризаторской философской традиции.
Уже в самой ранней из сохранившихся рукописей А. А. можно обнаружить зарождение его философско- методологических взглядов на науку. Говоря о борьбе витализма и механицизма (по международной терминологии XIX в. — механизма, mechanismus) в биологии, он уже в 1917 г. подчеркивал, что это лишь местный (биологический) этап борьбы, проходящий через все естествознание. Речь идет, по его словам, о борьбе двух методологических установок — одна стремится признать лишь наиболее бедные содержанием и наиболее простые законы, а другая желает охватить все многообразие явлений во всей полноте.
Для самого А. А. стимулом к развитию второй установки были идеи пифагорейско-платоновской школы. Но ведь ценность платоновской философии как стимулятора научно-философской мысли, развивающей широкие абстрактно-логические категории, отнюдь не отрицается марксизмом. С другой стороны, и философия марксизма никогда не соглашалась с упрощенно-механическими представлениями о сущности природы (ср. известные слова В. И. Ленина о неисчерпаемости элементарных частиц), с попытками свести многообразие живого к физико-химическим феноменам, а социальную природу человека к биологической и т. д.
В сфере онтологии идеализм в духе Платона—Пифагора привел Любищева не к сомнению в реальности материи, как это произошло, скажем, с некоторыми представителями махизма, но к представлению о многообразии типов реальности.[8 В советской философской литературе такое представление получило название "полифундаментализм" и успешно развивается.] Конкретным стимулом к этим исследованиям послужила необходимость разобраться в вопросе о реальности таксономических категорий в биологии. Результаты этого многолетнего анализа отражены в работе А. А. [64]. Пафос этой работы заключается в том, что, с точки зрения Любищева, кроме реальности лежачего камня существует многообразие реальностей более сложных уровней, в том числе реальность абстрактных научных категорий, реальность интегральных свойств системы. Признание таких типов реальности позволяет избежать соблазна скатиться к отказу от рассмотрения глубинных законов природы, к воззрениям типа "философии случайностей" С. Лема.
С другой стороны, расширение типов реальности отнюдь не приводит А. А. к попыткам ввести в науку сверхъестественное,[9 Письмо А. А. к Ю. А. Шрейдеру от 4.8.68 г.: "Я очень близок к совершенному рационализму, утверждающему, что чистый разум принципиально может построить всю Вселенную со всеми ее натурфилософиями и этическими положениями".] но к исследованию законов целостного. В частности, и витализм был, с его точки зрения,— и это очень принципиально,— отнюдь не признанием непознаваемых особенностей живого, но требованием искать специфические законы целостных организмов, интегральные закономерности живого, не сводимые к свойствам составляющих их "кирпичиков". В этом смысле витализмом являются и общекибернетический подход с его поисками общих законов регуляции, не сводящихся к механическому взаимодействию частей, и "ирредукционизм" в общей теории систем, и многое другое, вполне естественно воспринимаемое нами сегодня. Заслуга Любищева в том, что он показал, как в истории биологии витализм часто проявлялся именно в попытках сформулировать общебиологические законы, а не в отрицании познаваемости живого. Наоборот, механизм в биологии, как правило, "обожествлял" слепой случай и ограничивал сферу научного исследования и возможности познания глубинных закономерностей.
Вместе с тем он не закрывал глаза на безыдейность многих виталистов, охотно принимавших за объяснение лишь подобие такового. Он считал, что это — дурная традиция аристотелевского направления в науке Средневековья. Настоящая наука начинается там, где в основе знания лежит точно формулируемая теория с указанием сферы ее применимости. Примером такой теории он считал теорию наследственности Менделя. Наоборот, общие рассуждения о роли естественного отбора Любищев считал имеющими право на существование лишь до выяснения точного механизма эволюции.
А. А. Любищев был убежденным рационалистом, сторонником применения дискурсивного анализа к любым явлениям. Не отрицая роли интуиции, "предзнания" при постановке научного исследования, он был убежден, что научная истина может быть доказана только в результате строгого логического анализа всех предпосылок и выводов.
Собственно, платонизм в гносеологических воззрениях Любищева проявляется в подчеркивании необходимости осмысления фактов, освещения их по возможности точной теорией, а не расплывчатыми соображениями о влияющих факторах. Платонизм выступает здесь как стимулирующий фактор, а не как доктрина, требующая принесения почтительных жертв. Платонизм в данном случае приводит к тем же результатам, к которым привело бы и последовательное аристотелианство, — к обязательности поиска универсалий, без которых вещи мертвы.
Для А. А. сущность платонизма была не в признании приоритета универсалий, а в признании их реальности и, следовательно, научной ценности. А отсюда уже следует вывод и о необходимости искать эти универсалии в системе научных фактов, т. е. в конечном счете искать фундаментальные математические законы, воплощенные в этих фактах, и, наконец, важный эвристический принцип, состоящий в том, что все, разрешаемое достаточно полной теорией, должно существовать в природе..[10 Отметим, что именно этот принцип привел Менделеева к мысли, что пустые места в его таблице обязательно должны быть заполнены (ср.: Шрейдер Ю. Л. Язык как инструмент и объект науки. — Природа, 1972, № 7).]
Любищев умел искать и находить ценности в любом сколько-нибудь серьезном философском учении. Различные системы философии для него выглядели не столько враждующими, сколько подчеркивающими разные аспекты философской истины. Беды, как он считал, начинаются там, где подчеркивание одного аспекта соединяется с огульным отрицанием всех остальных.
Позитивистская философия в определенном смысле противоположна любищевскому платонизму полным отрицанием онтологии, отказом от каких бы то ни было универсалий. Но ведь целый этап физики на рубеже столетий был неразрывно связан с позитивистской критикой научных понятий. В частности, отказ от понятий абсолютного времени и абсолютной скорости, столь важный для теории относительности, — это следствие идеи Маха о том, что физически осмысленны только те величины, для измерения которых можно предложить хотя бы мысленный эксперимент. Фактически позитивизм разрушил фиктивные универсалии (за что можно ему быть только благодарным), но не поколебал уверенности в существовании фундаментальных законов природы. Не менее плодотворной была логико-критическая философия Витгенштейна, о чем можно судить по реальным плодам семантического направления в науке, хотя согласиться с его отказом от всего, что не укладывается в рамки дискурсивного знания, значило бы обеднить человеческое знание о мире.
Для А. А. в философии была ценна живая критическая и созидающая мысль и совершенно неприемлема любая доктрина, ставящая жесткие рамки человеческому познанию.
Вероятно, самое главное для А. А. философское противопоставление можно было бы условно обозначить как противопоставление реализма и магизма. Первый — это почтительное уважение к многообразию реальностей мира, стремление увидеть и познать сущее во всей сложности, во всей диалектичности связей, со всеми реальными антиномиями. Второй — стремление навязать миру собственное мнение о нем и обратить сущее себе на пользу.
В плане биологической проблематики платоновский подход привел Любищева к идее субстанциональной формы как особой реальности, свойственной живым организмам. В этой связи особый интерес представляет его работа [10]. Здесь А. А. убедительно показывает, что возражение против введения в биологию таких понятий, как субстанциальная или потенциальная форма, не имеет естественнонаучных оснований, а базируется лишь на отрицании платонизма. Но сам Любищев здесь отнюдь не отстаивает платоновского принципа "универсалии до вещей". Полемизируя со сторонниками чисто механистического подхода, он пишет: "Разногласие, значит, только в том: считать ли все наши понятия фикциями или некоторым из них придавать значение реальных понятий. Это разногласие чисто метафизическое. Практически же ни один естествоиспытатель без понятия субстанции не обойдется и, следовательно, всегда возникает вопрос: в общей совокупности нашего опыта можем ли мы ограничиться одной субстанцией (фиктивной или реальной) или надо несколько". Его все время волновал вопрос не о примате той или иной реальности, той или иной субстанции, а проблема многообразия реальностей в природе. В сущности, он выступает здесь против махизма, против универсализма чисто эмпирического подхода, отрицающего все, что сегодня не поддается непосредственному эксперименту. В качестве аргумента он, в частности, приводит пример с шаровой молнией, существование (и притом вполне субстанциональное) которой не вызывает сомнений, хотя этот объект не удалось воспроизвести в эксперименте.
Он утверждает, что "единственным серьезным возражением против пользования такими понятиями как эмбриональное поле и т. д. является то, что работа с ними чрезвычайно трудна" и что "единственным серьезным возражением против платонизма в морфологии является чрезвычайная трудность этого направления". Действительно, изучение формы требует, в частности, очень тонкого математического анализа. Как показывают недавние работы французского математика Р. Тома (совместно с Уоддингтоном), эти исследования связаны с весьма изысканными категориями современной математики.[11 Том Р. Динамическая теория морфогенеза. — В кн.: На пути к теоретической биологии. I. Пролегомены. М., 1970, с. 145—165.]
Проблема субстанциальной формы отнюдь не случайно возникла именно в работе о наследственных факторах. Любищева не удовлетворяла сложившаяся в теоретической биологии концепция наследственности. Эта концепция, с его точки зрения, страдала прежде всего однобокостью, придавая исключительный вес тому, как передаются наследственные признаки, и почти не занимаясь тем, что передается и как осуществляется переданная наследственная (генетическая) информация. Действительно, законы Менделя (которые А. А. всегда считал одним из высших достижений биологии и приводил как пример достижения биологией подлинно научного уровня) отвечают на вопрос, как признаки родителей перераспределяются в их потомстве. Последовавшие через много лет прсле работ Менделя и много позже цитированной работы Любищева исследования по молекулярной генетике связаны почти исключительно с обнаружением материального (химического) субстрата генетической информации — кода, позволяющего передать эту информацию от клетки к клетке. На языке современной теории информации это соответствует изучению вопросов о количественных характеристиках передаваемой информации, методах ее кодирования и технических средствах передачи и хранения. Однако, как теперь хорошо известно,[12 Ср.: Гиндин С. И. Семантика текста и различные теории информации. — Науч.-техн. информация, 1971, № 10, с. 3—10.] этим еще не решается вопрос о смысловой (семантической) природе информации, который оказывается гораздо более трудным. Сам создатель количественной теории информации вынужден был печатно выступить против попыток необоснованного распространения его теории на ситуации, которые она не в состоянии описывать.[13 Шэннон К. Бандвагон. — В кн.: Шэннон К. Разборы по теории информации и кибернетики. М., 1963, с. 667—688.] Одна из характерных ошибок, совершаемых при необдуманном использовании теории информации, сводится к путанице категорий информационного кода, количества информации и самой информации. Против аналогичной ошибки в теории наследственности предостерегал в упомянутой статье А. А., когда писал: "Взаимоотношение наследственности и хромосом подобно соотношению материи и памяти по Бергсону". Речь идет о том, что ген не несет и не хранит наследственную информацию, наподобие того как бочка — налитое в ней вино, а воплощает ее (как бы конденсирует из иной субстанции), как клетки мозга — воспоминания. Информация, участвующая в некотором процессе, определяется, вообще говоря, не только источником, но и приемником информации, способностью последнего воспринимать, понимать переданную информацию, определяемую тезаурусом приемника. В свойствах последнего и заключается основная суть семантической теории информации.[14 См.: Шрейдер Ю. А. О семантической теории информации. — В кн.: Информация и кибернетика / Под ред. А. И. Берга. М., 1967.] Тезаурус приемника определяет метаинформацию, .необходимую для того, чтобы исходная информация могла осуществиться в приемнике, воздействовать на приемник. Тут явно есть по крайней мере содержательная аналогия с проблемой осуществления наследственной информации, важность (и неразработанность) которой всегда подчеркивал Любищев. Субстанциальность формы есть как раз тот мостик, через который Любищев хотел, видимо, подойти к проблеме осуществления, связывая категорию наследственной информации с субстанцией формы. Основания для такой реконструкции мысли А. А. можно найти не только в его статье 1925 г., когда понятие информации не входило еще в арсенал научных категорий, но и в письме Ю. А. Шрейдеру от 02.10.68 г. с разбором его цитированной статьи.
Все изложенное тесно связано с целостным подходом к проблеме живого, глубоко характерным для Любищева. С. В. Мейен очень тонко заметил, что проблема целостности у Любищева не сводится к простому отказу от сводимости жизни к ее физико-химическим началам. Можно ведь объявить несводимость клетки к физико-химическим принципам, а все остальное сводить к клеточному уровню. Любищевский "витализм" — это доведенный до логического конца ирредукционизм, признание целостных, специфических (эмерджентных) свойств живой системы на любом ее уровне.[15 Интересно замечание Любищева о том, что свойство всемирного тяготения является эмерджентным ддя механической системы.] Подобная точка зрения очень естественно связывается с современным системным подходом, который позволяет адекватно сформулировать ее в научной форме. Непосредственно на эту тему у Любищева есть лишь предварительный набросок [86]. Однако эта проблема существенным образом перекликается с его основными работами.
Принципиальным для А. А. являлся вопрос об упорядоченности систем: есть ли она следствие гармонии, внутренне присущей системе, или возникает эволюционно, за счет отбора стабильных состояний. Первую точку зрения в приложении к солнечной системе принимал Кеплер, для которого размеры планетных орбит представлялись закономерно связанными с размерами сторон правильных многогранников при определенном их расположении. Существенна здесь сама постановка проблемы — вытекают ли некоторые закономерности структур (в частности, какие-то законы, определяющие форму и структуру живых организмов) из общих принципов системы, или они являются чисто историческим фактом, случайно возникшим и закрепившимся в процессе эволюции. Подобно Кеплеру, А. А. считал гармонию, воплощенную' в системе, реальным формообразующим фактором.
Эта идея очень интересно выражена в статье [71] в связи с общей проблематикой сходства в природе. В письмах А. А. неоднократно обращал внимание на необходимость построения общей теории сходства. В данной работе он классифицирует типы сходства по их причинному основанию. Таких оснований указывается семь: 1) случайное, 2) генетическое, 3) общность функции, 4) общность внешних условий, 5) миметизм, 6) общность химического состава (вообще свойств материала) и 7) общность математических и физических законов роста и строения тел. Сходство морозных узоров и формы растений служит типичным примером, когда первые шесть оснований сходства скорее всего должны быть исключены. Если предложенная классификация полна (а это очень правдоподобно), то данный пример становится хорошей моделью для изучения общих законов строения, общих свойств гармонии, воплощаемых в естественных системах. Как довод в пользу того, что образование узоров регулируется общими законами математической гармонии, А. А. указывает на статистическое распределение этих узоров по так называемому закону Виллиса [67]. Закон этот проявляется в том, что в морозных узорах часто повторяется некоторое небольшое количество основных элементов и имеется чрезвычайно много элементов, повторяющихся редко. Подобные статистические закономерности широко распространены под названием законов Ципфа, Эсту, Брадфорда, Лотка и т. д. в лингвистике, информатике, социологии и других науках. Тем самым эта закономерность представляет собой общее системное свойство, что было подтверждено в ряде позднейших работ других авторов.[16 В частности, тот факт, что системный характер эволюции связан с закономерностями указанного типа, отмечен в работе: Чайковский Ю. В. Изумительная симметрия.—Знание — сила, 1980, N° 2, с. 16—19, 48.]
В той же работе А. А. высказывает замечательную догадку, что морозные узоры, как и растительные формы, образуют объект будущего применения некоторой теории симметрии, отличающейся от математической теории кристаллов по Федорову тем, что в первой не возникают ситуации плотного заполнения пространства.
В рамках собственно биологии проблема свойств гармонии связана прежде всего с тем, что существующая в природе целесообразность имеет не только историческое, но и системное объяснение. Отказ от последнего часто принимается под флагом исторического детерминизма, в действительности же приводит к неоправданному преувеличению роли слепого случая и отсюда — к неявному признанию непознаваемости глубинных уровней природы. Именно с такой непознаваемостью никогда не мог примириться А. А.
Любищеву были свойственны внимательность и терпимость. Он не позволял себе "отвергать с порога" какую бы то ни было мысль без обстоятельнейшей аргументации. Но в одном он был крайне нетерпим — это к готовности примириться с упрощенным, недодуманным объяснением действительности. Он был терпим к инакомыслию, но суров и резок по отношению к недомыслию. Может быть, это и было самым драгоценным его свойством.
В некотором глубинном смысле его рассуждения были чрезвычайно математичны. Эта мысль требует пояснения. Очень часто математические .рассуждения отождествляются с применением математического аппарата, выписыванием множества формул, выполнением выкладок и математических преобразований. В действительности наиболее характерная черта подлинного математика — это умение экономно отбирать нужные понятия и строить контрпримеры. Любую гипотезу математик прежде всего пытается опровергнуть контрпримерами, т. е. найти объекты, противоречащие этой гипотезе. В логической правильности доказательства он приобретает уверенность не после проверки всех логических звеньев (всегда есть возможность незамеченного пробела в логической сети), но после того, как убеждается в невозможности построить контрпример, точнее, когда он отчетливо начинает понимать, почему контрпример невозможен. Однако математик умеет это проделывать в четко аксиоматизируемой' системе понятий. Любищев обладал редчайшим даром оперировать контрпримерами в областях, где понятия размыты, где определенность контрпримера должна быть сбалансирована с некоторой неопределенностью постановки задачи.
Впрочем, он и сам был прекрасным контрпримером ко многим ходячим представлениям об ученых.
Глава 7 Об оценке научной деятельности А. А. Любищева
Сердцам людей равно милы и новые идеи, и старые преподнесенные по-новому
Антуан Ривароль (1753-1801)
При жизни А. А. Любищева его научные заслуги не были предметом рассмотрения ни в специальной, ни в популярной литературе — во многом потому, что А. А. мало заботился о напечатании своих трудов: в большинстве они оставались неопубликованными, иными словами, не входили в широкий научный оборот. Только то, что появлялось в соответствующих изданиях, получало публичную и всегда высокую оценку, но зто была капля в море. Немало открывают нам письма, полученные Любищевым от тех, кому он посылал некоторые свои работы. Зто хотя и частные, но высококвалифицированные, откровенные и взыскательные отзывы, как правило, по конкретному поводу. Они не лишены и существенных обобщений, касающихся научной оценки адресата. Авторы отзывов неизменно воспринимали А. А. как выдающегося ученого. Таких исследователей, понимавших значение Любищева (в том числе ученых очень высокого уровня), было немало, что до известной степени компенсировало неведение и соответственно длительное молчание остальной части научной общественности. Но постепенно старшие коллеги, ровесники и даже несколько более молодые современники Любищева, знавшие его труды и отдававшие им должное, стали уходить из жизни. Да и после смерти А. А., скончавшегося в возрасте 82 лет, прошло немало времени. Письменные отзывы о нем и его идеях остались погребенными в личных архивах; немногие печатные отклики затерялись в давней периодике. Казалось, это надолго.
Однако о Любищеве стали писать. Вначале понемногу и только в научных изданиях, а затем он вдруг сделался необычайно известен как персонаж художественного произведения. В 1974 г. в журнале "Аврора" [7*а] была опубликована написанная на документальной основе и именно об А. А. повесть-размышление Д. А. Гранина "Эта странная жизнь". Сразу же последовали одно за другим ее переиздания, благодаря чему Любищев вошел в сознание миллионов читателей как в высшей степени незаурядная личность в новейшей истории отечественной и мировой науки. Интерес к нему резко возрос — одновременно и научный, и дилетантский.
Начиная повествование об А. А., писатель предуведомил: "Я не собираюсь популярно пересказывать его идеи, измерять его заслуги. Мне интересно иное: каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать?" [7 *в, с. 14]. Эта авторская установка не встретила сочувствия у некоторых из тех, кто больше всего хотел бы прочесть как раз о сути научного творчества Любищева. Так, известному киевскому хирургу Н. М. Амосову мешало, по его признанию, что "герой вынут из того, чем определяется вся его деятельность, — из круга наиболее дорогих ему интересов, из содержания его исканий, борьбы" [22 *, с. 41]. С точки зрения Амосова, "жизнь Любищева без науки непредставима" [22 *, с. 42].
Нельзя сказать, что писатель совсем обошел научную деятельность своего героя. Гранин дал представление о ее размахе и направленности, немало рассказал и еще о некоторых "особенностях исследовательской работы Любищева, дал им оценку как художник. Другое дело, что не эти моменты составили главное в замысле писателя. А из профессиональных ученых никто не станет расценивать как собственно научные достижения, скажем, нравственное величие Любищева, хорошо показанное в повести, или описанные Граниным поразительные результаты, достигнутые его героем в использовании времени на благо науки. Тем не менее и это произвело глубокое впечатление, причем не только на дилетантов.
"Мне выпало счастье встречаться с некоторыми очень крупными учеными, — пишет Гранин, — такими, как А. Иоффе, Л. Ландау, И. Тамм, Дж. Бернал. Любищев для меня в ряду великих людей — в плане умения обращаться со временем — быть может, один из 'самых великих, нашедших столь эффективную систему обращения со временем. Других подобных примеров в истории — не только науки, а вообще истории русской — я не знаю. Полагаю, что об этом — хотя бы только об этом — стоило написать" [22 *, с. 87]. Как видим, у писателя была своя задача, и он с ней справился. Он исходил из того, что "чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого" (с. 51—52). Но на чем основывается высокий научный престиж Любищева? На этот вопрос предстояло ответить ученым. Справедливости ради отметим: некоторых, даже многих подтолкнула и повесть Гранина. Потребность разобраться в феномене Любищева с сугубо научных позиций нашла выход в умножившихся практических усилиях.
Тем временем обширное наследие Любищева стало, наконец, доступным хотя бы для первичного обозрения — в достаточно систематизированном виде оно было передано в Ленинградское отделение Архива АН СССР.[1 Описание архива А. А. Любищева см. в Приложении 1.] В этом архиве работал и Гранин. Письмами Любищева стали серьезно заниматься исследователи среднего и младшего поколений, причем представители различных дисциплин. Активизировался на этой почве обмен мнениями. Состоялось несколько семинаров, научных чтений. В результате уже не только у отдельных специалистов, но в широкой научной среде сформировалось отчетливое представление, переросшее в убеждение: Любищев — явление действительно очень крупное.
Захватывающие по глубине интеллектуального наслаждения личные контакты с А. А. остались в прошлом, да и вообще дальнейшее осмысление его идей, значения Любищева заметно объективировалось. Тем примечательнее, что именно в такой ситуации, — т. е. когда позднейшие индивидуальные впечатления многих сложились уже в некое общественное мнение, — пришло широкое понимание нужности подобающего освоения совместными усилиями столь значительного духовного наследия, включения его с возможной полнотой в живой процесс поступательного движения науки. А* это уже нечто большее, нежели стремление отдать должное ученому лишь в сфере его, так сказать, конституированных исследовательских интересов, например только в энтомологии или, несколько шире, в биологии, — если бы подходить к оценке Любищева с традиционной меркой.
То, что подразумевается здесь под словами "нечто большее" и что связано с необычайным разнообразием, глубоким внутренним единством научных интересов А. А., с его самобытным мышлением, с особым образом жизни и труда, как раз и создает нетривиальные трудности при попытке — по крайней мере на нынешнем этапе — целостно охарактеризовать вклад Любищева в науку. Подводить итоги его деятельности попросту рано — не наработан необходимый запас обобщений. Но задуматься о путях и способах таких обобщении следует уже сейчас.
Прежде всего можно вполне конкретно, с большой точностью описать и оценить ряд научных позиций Любищева, по которым он сумел обогнать свое время. Это касается, например, применения математических методов в биологии, а также вклада в системологию, значение которого начинает открываться только теперь, что не совсем и удивительно, ибо еще в 1923 г. А. А. оказался в. этом отношении впереди по меньшей мере на пятьдесят лет. И такое происходило в нашем, двадцатом веке! Работы Любищева по экологии насекомых, прикладной энтомологии и некоторые другие революционизировали эти области знания, чего не оспаривает никто. Гранин не ошибся, написав в документальной повести об А. А.: "Судя по отзывам специалистов такого класса, как Лев Берг, Николай Вавилов, Владимир Беклемишев, — цена написанного Любищевым — высокая. Ныне одни его идеи из еретических перешли в разряд спорных, другие из спорных — в несомненные. За судьбу его научной репутации, даже славы, можно не беспокоиться" [7 *в, с. 14]. Последнее соображение следует все же прокорректировать: беспокоиться надо, ибо под лежачий камень вода, как известно, не течет, — судьба идей Любищева во многом зависит сейчас от его издателей и интерпретаторов.
Итак, что касается оценки "конкретного" вклада Любищева в науку, надо полагать, больших затруднений не будет. Возникает, однако, вопрос, как оценивать все остальное, якобы "неконкретное", но составляющее чрезвычайно важную часть того, благодаря чему Любищев столь притягателен для исследователей разного профиля. Ведь до конца своей жизни А. А., где бы он ни появлялся, с нарастающей активностью будоражил умы и объединял вокруг себя столько же естествоиспытателей, сколько и гуманитариев, особенно ученых теоретического склада. То же отличает и интенсивную переписку с осаждавшими Любищева, но, судя по его отношению, не досаждавшими ему научными корреспондентами. Едва ли не каждый, кто основательно знакомится с трудами А. А., обнаруживает: идеи, аргументы Любищева вне зависимости от того, на каком материале и в связи с чем они сформулированы, излучают мощные продуктивные импульсы в непредсказуемо широком диапазоне. В чем-то это можно отнести к сфере, считающейся вненаучной, — скажем, к нравственным ценностям. Но преобладает все-таки то, что поддается определению как собственно научный вклад в познание. Дело за тем, чтобы суметь верно понять и описать его.
Определить вклад того или иного ученого в соответствующую область научного знания и в целом в науку — это значит иметь дело всякий раз с достаточно сложной историко-науковедческой проблемой, имеющей много аспектов. Даже, казалось бы, самый простой случай — исследователь открыл нечто такое, о чем никто до него не знал (новый физический феномен, ранее не описанную группу организмов, неизвестную цивилизацию), — на поверку нередко оказывается далеко не простым. Причина в том, что открытия вызывают неоднозначный резонанс и влекут за собой разные следствия. Скажем, Нильс Бор создал квантовую физику. С одной стороны, это породило великолепную плеяду последователей в данной области, но, с другой — на время затмило первостепенное значение Бора как натурфилософа. Лишь позднее стало осознаваться, что в этой области его заслуги несравненно выше, нежели собственно в физике. Как известно, в науке работают люди разнотипных интересов и предпочтений. Для придерживающихся определенной исследовательской программы не представляет существенной ценности то, что выходит за ее рамки. До известных пределов такая установка плодотворна: к примеру, она позволила по достоинству оценить грандиозную величину того, что сделал для науки И. П. Павлов. Но та же установка без последующих ценностных корректив долгое время не давала возможности понять, что знаменитые условные рефлексы не покрывают собою содержания высшей нервной деятельности, что их примитивный механизм —лишь одно из материальных проявлений биологической деятельности мозга. В подобной ситуации критический анализ постулатов признанной научной доктрины оказывается столь же важным вкладом в научный прогресс, как и она сама.
Вопрос, следовательно, упирается в критерии ценности сделанного тем или иным исследователем.
Аксиология диалектична, подвижна, исторически мотивирована, подобно всякой другой области знания. Учение Ньютона о цвете и учение о цвете, созданное Гете, полярно противоположны; До тех пор пока видели только это, пока казалось, что они взаимно исключают друг друга, не удавалось разрешить приводившую в замешательство дилемму: какое из двух учений действительно гениально? Последующий разбор показал: гениальны оба, поскольку Ньютон создал предпосылки к физике цвета, а Гете — к психофизике восприятия цвета. В свою очередь следует считать вкладом в науку и сам этот критический разбор. Мы чаще ценим собственно решение задач и меньше задумываемся над их постановкой. Между тем правильная постановка задачи не менее существенна, она открывает перспективу. При всем значении полученных Любищевым конкретных научных результатов (решенных задач) главная ценность созданного им коренится в его методах решений и в самой постановке задач. То и другое затрагивает фундаментальные основы научного мышления.
В связи с этим отметим еще одно. Наибольшее место в наследии А. А. занимает то, что можно назвать научной критикой. Его идеи, аргументы вырастают, как правило, из обстоятельных практических разборов. Мастерство, с каким он ведет научную полемику, ее позитивная насыщенность выдвигают Любищева в ряд крупнейших мыслителей. Его критика обнажает, рассекречивает работу ума, благодаря чему хорошо видны не только плоды интеллектуальных исканий, но и сами искания. "Кардиограммы" последних оказываются не менее значимыми в научном отношении, чем зафиксированные итоговые результаты.
Один из парадоксов любищевской научной критики тот, что поначалу может создаться впечатление, будто сам Любищев ничего принципиально нового не открыл. Он действительно чрезвычайно много ценного извлек из забвения и передал другим, показав связь таких вещей, которые никто вместе не связывал. В этом плане многие идеи Любищева как бы заимствованы (и не столь трудно установить, откуда, тем более что он сам на это указывает). Во всяком случае отмеченное обстоятельство помогает понять ту легкость, с какой Любищев делился мыслями. Он не считал их только своими. Однако не стоит упускать из виду, что в этой стихии свободного критического мышления рождены наиболее глубокие прозрения Любищева.
Нельзя сказать, что Любищев объял все огромное поле научной критики, но, бесспорно, он расширил его. Неудивительно поэтому, что редкостно открыт для критики и сам Любищев. В истории научной мысли вряд ли можно найти такой другой пример, где бы наследие ученого "напрашивалось" на критику со столь обезоруживающей откровенностью. И это не уловка, не следствие хитроумного тактического приема. В научном споре Любищев никогда не искал победы: единственное, чего он добивался, — истины. Вот почему тот, кто анализирует, критикует воззрения Любищева, может быть вполне уверен: научная критика — одно из необходимых средств освоения и правильной, диалектической оценки любищевского духовного наследия.
Поводов для несогласий Любищев дает немало — и не только потому, что сам вызывает огонь критики на себя, а и по характеру некоторых своих идей, тем более что далеко не все из них он развил до конца. Нередко Любищев приходит к новому, одновременно отказываясь порвать со старым, не будучи уверен, что старое себя исчерпало. Он часто уделял преимущественное внимание парадигме "и—и", не успевая столь же тщательно проработать парадигму "или—или".
Скажем, Любищев всячески подчеркивал шаткость филогенетических построений, из чего должна следовать ненужность дискуссий, касающихся проблем монофилии и полифилии таксонов, но сам же активно участвовал в такой дискуссии и, более того, отстаивал полифилетичность таксонов, ссылаясь на многочисленные факты эволюционного параллелизма, на множество корней у некоторых таксонов. И это не единственный случай, когда, опровергая надежность филогенетических построений, он затем опирается на эти построения. В методологии Любищева историзм выступает лишь как теория эволюции, но и в ней, по его логике, преимущественно реализуются "законы формы", имеющие как бы неисторическую природу. Точно так же Любищев, будучи решительным противником иррационализма, признавал историзм Бергсона, переплетавшийся и даже сливавшийся с иррационализмом. Эволюционные взгляды Любищева вызывают ряд недоумений даже при самом благожелательном к ним отношении. Он пишет о номогенетическом и тихогенетическом компонентах эволюции, а дальше чуть ли не сортирует эволюционные явления по их случайному или неслучайному характеру (например, мутации случайны, а "вавиловские ряды" закономерны). В этих рассуждениях завзятого диалектика словно забыто положение диалектики об особом соотношении, взаимопереходах случайного и необходимого (закономерного).
Словом, в трудах Любищева содержится предостаточно поводов для критики, и она может всерьез увлечь. Но скажем сразу: за ее исход никак нельзя заранее поручиться.
Дело в том, что своей научной критикой Любищев поднял на огромную высоту этический кодекс науки. А. А. возвысил этику научного спора с уровня этикета до степени максимально благоприятных условий, необходимых для добывания истины, продвижения к ней непременно вместе с оппонентом (оппонентами). Эта этика нацелена всегда не на размежевание, а на сплочение научных сил, представляющих сколь угодно разные, в том числе полярно несовместимые тенденции. Одна из причин, почему Любищеву удавалось быть таким, заключается в том, что, как уже сказано, для него критика, спор не были средством самоутверждения, всегда оставаясь лишь инструментом познания. Кроме того, Любищев считал: в научной полемике никому не удается быть окончательно правым. А. А. вменял себе в обязанность с максимальной полнотой осмысливать прежде всего достоинства иной точки зрения и довел это свое умение до поразительного совершенства. Лишь затем он приступал к анализу ее недостатков. Он находил десятки соображений в защиту критикуемого им тезиса, прежде чем выдвигал свой. Любищев умел подбирать аргументы в пользу разных сторон, тогда как большинство из нас отдает симпатии одной стороне, отчего трудно быть объективным. При этом он не терял равновесия и потому находил разрешение в синтезе.
Для Любищева-критика и вообще для его способа мышления характерно высокое искусство преодолевать одномерность представлений, выходить к качественно новому уровню осмысления, когда оставляется место непредвиденному, когда допускается, что существуют и другие критерии, что, возможно, могут быть также иные измерения. При таком подходе самое сложное — отбор. Когда имеется одна ось, тогда просто — лево и право. Напротив, чтобы в условиях многомерности решить задачу отбора, необходим принцип комплексирования различных критериев, принцип комбинативности. Одна из сильных сторон научной критики и всей исследовательской деятельности А. А. — блестящая разработка и использование данного принципа.
Читателям Любищева, в том числе оппонентам, хорошо бы быть и с этим в ладах, что не так-то просто. Когда мы лишь определяем критерии, мы отталкиваемся от известного. Когда затем комплексируем их, иначе говоря, находим то, что в факторном анализе называют факторами, те же критерии утрачивают первичный смысл,' априори заданное содержание. После комплексирования, апостериори, они оказываются значимыми по-новому, богаче, чем любой входящий в них критерий. И это — путь к открытиям, к рождению новых понятий, новых научных ценностей. Принцип комплексирования, комбинативности проникает у Любищева всюду, поэтому он сам может служить одной из иллюстраций этического кодекса, о котором идет речь [22*, с. 47—48]. Вообще при оценке его воззрений надлежит быть на уровне.этого высокого кодекса. Научная этика — не просто средство познания. Материализованная в мысли и слове, она составляет неотъемлемое самой истины. И хотя, по словам Шиллера, истина ничуть не страдает от того, если кто-либо ее не признает, имеет смысл добавить: тот, кто не признает, — страдает.
Приложения
1. О научном архиве А. А. Любищева
А. А. Любищев оставил гигантское рукописное наследие, охватывающее период с 1908 по 1972 г. Объем архива превышает 2 000 печатных листов, из них научные труды и материалы к ним составляют около 1 200 листов, переписка — более 600, дневники — примерно 200 листов. Список опубликованных работ Любищева, помещенный в приложении 2, .содержит 90 названий общим объемом 88 печатных листов, что примерно в пять раз меньше объема его неопубликованных научных трудов и составляет около 5% архива.
Значение всех этих материалов трудно переоценить. Как сказано в одном из некрологов о Любищеве, "его творческое наследие, многое из которого остается неопубликованным, заслуживает тщательного сохранения и изучения" [5*].
В архиве имеется более 300 рукописей неопубликованных работ Любищева общим объемом около 10 000 машинописных страниц, т. е. примерно 400 печатных листов. Значительная часть рукописей поступила от многочисленных друзей^корреспондентов Любищева, которым он щедро рассылал свои произведения, отпечатанные на машинке, не дожидаясь их публикации. Многие работы А. А. и появились как научные письма, выросшие до целого трактата на какую-либо тему.
Читая и размышляя, А. А. постоянно вел записи, отражающие процесс и первые плоды духовного освоения прочитанного. Материалы, накапливающиеся по какому-либо разделу, собирались в отдельную папку, которой придавался очередной порядковый номер. Записи велись, как правило, в школьных тетрадках, часть их сделана от руки, машинописный текст напечатан обычно мелким шрифтом через полтора интервала-. Из таких папок вырастали тома архива, переплетенные, с оглавлением и сквозной нумерацией страниц в каждом томе. Нумерация томов была общей для всех разделов, включая переписку. Не все папки, получившие номер, доросли до оформления в том и переплета. И далеко не все тома сохранились. В архиве имеется 56 томов конспектов и заметок общим объемом около 800 авторских листов.
28 томов архива общим объемом около 12 000 страниц содержат более 4500 писем А. А. Любищева за последние 50 лет его жизни. Многие из них написаны как интереснейшие научные исследования. Писем, адресованных Любищеву, сохранилось меньше, однако и эта часть архива значительна. Объем и содержание переписки А. А., конечно, феноменальны. Как сказано в некрологе [3*], "эта переписка когда-нибудь окажется бесценной для-истории отечественной науки XX века".
Число адресатов А. А. приближается к 700, большинство получали его письма неоднократно, со многими велась систематическая переписка.
Не учитывая родственников, можно назвать 50 основных корреспондентов, на долю которых приходится 1611 писем Любищева: В. В. Алпатов — 50, И. Д. Амусин — 47, Р. Г. Баранцев — 20, Г. Я. Бей-Биенко — 17, В. Н. Беклемишев — 40, Н. П. Беклемишева — 24, Л. В. Белоусов — 26, Ч. Блисс — 42, Б. А. Вайнштейн — 16, Г. А. Велле — 36, Б. А. Воробьев — 36, М. Н. Воскресенский — 38, С. М. Гершензон — 18, М. С. Гиляров — 18, М. Д. Голубовский — 35, А. Г. Гурвич — 32, А. Ю. Давыдова — 18, А. Ф. Зубков — 45, О. М. Калинин — 45, Р. П. Караваева — 58, Е. В. Карлаш — 21, И. А. Кривошеин — 37, Н. И. Кривошеин — 23, О. Л. Крыжановский — 19, А. И. Крыльцов — 32, Б. С. Кузин — 53, К. М. Лютцков — 18, Н. Я. Мандельштам — 30, С. В. Мейен — 19, Д. Д. Мордухай-Болтовской—19, В. П. Орлов — 28, Ю. А. Орлов — 18, В. Ф. Палий —21, А. А. Передельский — 71, М. Л. Пятаков— 18, И. М. Рошонок— 16, П. Г. Светлов — 85, Е. С. Смирнов — 62, И. Е. Тамм— 16, П. В. Терентьев — 66, Б. П. Уваров — 27, Д. М. Федотов — 26, В. Я. Френкель — 16, Н. Г. Холодный — 22, В. Л. Циопкало — 25, Ю. А. Шрейдер — 36, А. А. Штакельберг — 36, В. А. Энгельгардт — 21, В. П. Эфроимсон — 24, A. В. Яблоков — 45.
Среди адресатов и корреспондентов А. А. были также А. Д. Александров, В. Я. Александров, Д. К. Беляев, Л. С. Берг, Л. Я. Бляхер, Б. Е. Быховский, Н. И. Вавилов, Е. С. Варга, К. Н. Давыдов, Ф. Г. Добжанский, B. А. Догель, Ю. И. Кулаков, Ю. В. Линник, А. А. Ляпунов, С. Ю. Маслов, C. Я. Парамонов, В. В. Парин, Ю. И. Полянский, Н. П. Рашевский, Н. Н. Семенов, А. Л. Тахтаджян, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Р. Фишер, Я. И. Френкель, Б. Н. Шванвич, И. И. Шмальгаузен, К. К. Юдахин и другие известные ученые.
Систематический дневник А. А. Любищев вел с 1916 г. Способ ведения сначала менялся — автор искал наиболее подходящую для себя форму. Впечатления, идеи, заметки постепенно отделялись, оставляя все больше места сухой бухгалтерии времени. Дневники последних 35 лет — это отлаженная Сйстема отношений со Временем, заслуживающая глубокого осмысления [7*].
От раннего периода в архиве сохранились дневники с 17.9.18 г. по 24.10.22 г. (в томе 1 бис). Характерная запись: "Пермь, 11.11.21 г. Сегодня во время колки дров мне пришла в голову мысль, что недурно бы обдумать и изложить на бумаге вопрос об инвариантах в широком смысле слова". Рассказывая о событиях и идеях, А. А. часто тут же развивает возникающие мысли. Дневники пестрят критическими заметками: о глупости, об университетском уставе, о рисунке крыла у бабочек, о миметизме, о проявлении математических идей в художественном творчестве и органическом мире, о целесообразности, о критической философии, о науке и пр.
Дневники 1923—1936 гг. не сохранились. Вместе с другими материалами, оставленными в 1941 г. в Киеве, они пропали во время войны.
Дневники 1937—1972 гг. составляют 7 томов: 1937—1941, 727 с.; 1942—1948, 642 с.; 1949—1953, 767 с.; 1954—1958, 768 с.; 1959—1963, 711 с.; 1964—1968, 712 с.; 1969—1972, 468 с. Кроме ежедневных записей они включают месячные, годовые и пятилетние планы Ti отчеты. В конце томов помещены списки приобретенных книг.
Во всех планах, записях и отчетах на первом месте стоит основная научная работа. Сюда входят оригинальные работы, математика, научная литература, научные письма, научные заметки и библиография. Последние годы эта работа делится на глазную и текущую. В пятилетием плане 1969—1973 гг. главная часть основной научной работы содержит 4 раздела: линии Демокрита и Платона, таксономия и эволюция, морозные узоры и прочее.
Вслед за основной научной работой обычно шли педагогическая биология, прикладная биология, систематическая биология и организационная работа. После выхода на пенсию вместо педагогической и прикладной биологии появился раздел дополнительной работы (воспоминания, рецензии, консультации, переписка). Все это относилось к учитываемой работе 1-й категории.
Работа 2-й категории включала лекции, семинары, беседы, конференции, чтение общеобразовательной и художественной литературы. Учитывалось также время на общение с людьми, передвижение, развлечения, домашние дела, личные дела, отдых и пр. Текущая запись за день обычно занимала всего несколько строк.
Следуя многопараметрической систематизации, А. А. одновременно применял и другие способы классификации занятий. Например, по характеру: стержневая работа; повышение квалификации; сбор материалов, вспомогательная работа; педагогическая работа, консультации и пр. Любопытна также динамика формы планов и отчетов.
За сухими записями дневников А. А. при внимательном взгляде можно увидеть много интересного. Эти уникальные дневники представляют собой богатейший источник для науковедения.
В архиве имеются и другие документы, представляющие научный интерес: различные материалы по сбору и систематизации насекомых, фотографии, микрофильмы, альбомы морозных узоров. Все это находится в редко встречающемся порядке. Например, в перечне фотографий для каждого снимка указаны дата, аппарат, выдержка, пленка и подробные условия съемки. Имеются также биографические материалы, варианты опубликованных работ, научные труды других лиц и пр. Тщательность организации и полнота материалов свойственны всем научным разделам архива. Этим мы обязаны прежде всего самому Александру Александровичу и его жене, ныне покойной Ольге Петровне Орлицкой.
Собранная А. А. богатая коллекция блошек (около 24 тыс. экз.) согласно его завещанию передана в Зоологический институт АН СССР.
2. Список опубликованных работ
1912
1. Beitrage zur Histologie der Polychaten. — Mitteilungen aus der zoologischen Station zu Neapel, Bd 20, N 3, S. 329—355.
1915
2. О перитонеальных мерцательных клетках и окологлоточной перепонке у полиноид. — Тр. СПб. о-ва естествоиспытателей, т. 44, № 2, с. 103—141.
1923
3. О нефридиальных комплексах Nephthys ciliata и Glycera capitata (Polychaeta). — Рус. Зоол. журн., т. 4, № 2, с. 283—301.
4. О критерии изменчивости организмов. — Изв. Виол. НИИ при Перм. ун-те, т. 1, вып. 7—8, с. 121 —128.
5. О форме естественной системы организмов. — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 2, вып. 3, с. 99—ПО.
1924
6. О строении и развитии щетинок у полихет. — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 2, вып. 6, с. 303—314.
7. Об архитектонике хетоподий у полиноид. — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 2, вып. 10, с. 399—408.
8. Формулы для нахождения констант в уравнениях ядовитости (совместно с В. Н. Беклемишевым). — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 3, вып. 2, с. 41—52.
1925
9. Понятие эволюции и кризис эволюционизма. — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 4, вып. 4, с. 137—153.
10. О природе наследственных факторов. — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 4, приложение. 142 с.
1926
11. По поводу работы Н. И. Ансерова "Черепа из древнего кладбища с. Троицкого Пермского округа". — Изв. Биол. НИИ при Перм. ун-те, т. 4, вып. 8, с. 387—390.
1928
12. Понятие номогенеза. — Тр. III. Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде 14—20 дек. 1927 г. Л., с. 42—43.
1930
13. К методике оценки экономического эффекта вредителей (хлебный пилильщик и узловая толстоножка). Предварительное сообщение. — Бюл. Средне-Волж. краев, ст. защ. раст. за 1926—1928 гг. Самара, с. 25—37.
1931
14. Логические основания современных направлений биологии. — Тр. IV Всесоюз. съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве 6—12 мая 1930 г. Киев; Харьков, с. 39—40.
15. К методике учета экономического эффекта вредителей (хлебный пилильщик и узловая толстоножка). — Тр. по защ. раст., т. 1, вып. 2, с. 359—505.
16. К вопросу об установлении размера потерь, причиняемых вредными насекомыми. — Защита растений, т. 8, № 5—6, с. 472—488.
1932
17. Подсчитывается ли армия вредителей? — Сб. ВИЗРа, № 3, с. 29—34.
18. Секция методики вредоносности и вреда. — Сб. ВИЗРа, № 3, с. 104—106.
19. Гетерогенность поля и метод биологической съемки. — Бюл. VII Всесоюз. съезда по защ. раст. в Ленинграде 15—23 ноября 1932 г., № 2, с. 3—4.
20. Энтомологическая сторона проблемы белого пятна (совместно с М. Я. Козловой). — Бюл. VII Всесоюз. съезда по защ. раст. в Ленинграде 15—23 ноября 1932 г., № 7, с. 10—11.
1933
21. Эффективность мероприятий и учет потерь. — Сб. ВИЗРа, № 5, с. 123—133.
22. Продвижение пшеницы на север. 2. Роль энтомологии. — Сб. ВИЗРа, № 7, с. 16—21.
23. Работа энтомологической группы секции сортоустойчивости. — В кн.: Госсортсеть. Информационный и методологический сборник сектора государственного сортоиспытания. Л., вып. 4—5, с. 74—75. (Тр. ВИР по прикладной ботанике, генетике и селекции).
1935
24. К статье Я. Харитонова "К вопросу о вредоносности полосатой хлебной блохи на яровой пшенице и ячмене". — Защита растений, JMb 2, с. 57—58.
25. Основы методики учета потерь от вредителей. — Защита растений, № 4, с. 12—29.
26. К дискуссии о роли полосатой хлебной блохи. — На защиту урожая, № 3, с. 23—24.
27. Методика учета потерь от вредителей и болезней сельского хозяйства. — В кн.: Краткий отчет о научно-исследовательской работе ВИЗРа за 1934 год. Ленинград, с. 119—122.
1936
28. Методика энтомо-фитопатологического учета (совместно с И. Н. Степанцевым и М. И. Кособуцким). Ташкент. 156 с.
1938
29. О происхождении жизни на Земле. — Биологию в массы. Киев, вып. 3, с. 22—27 (на укр. яз.).
1940
30. Об определении вредоносности методом искусственных повреждений (критический обзор). — Ботан. журн. АН УССР, т. 1, № 1, с. 159—188.
31. К методике оценки эффективности мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сада. — Тр. Укр. НИИ плодоводства. Сб. работ по защите растений. Киев; Харьков, с. 3—23.
32. Методы количественного учета животных. — В кн.: Экол. конф. по проблеме: массовые размножения животных и их прогноз. 15—20 ноября 1940 г. Тез. докл. Киев, ч. I, с. 52—53.
33. Рец. на кн.: П. Н. Константинов. "Методика полевых опытов (с элементами теории ошибок)". — Вести, с.-х. литературы, № 5, с. 24—26.
1943
34. Обзорная глава в кн.: В. Я. Чилингарян "Материалы по изучению биологии и экологии паутинного клещика на хлопчатнике в условиях Арм. ССР". — Арм. н.-и. хлопковая ст. Ереван, с. 4—12.
1946
35. Изучение фауны насекомых Киргизии. — В кн.: "Наука Киргизии за 20 лет. 1926—1946". Фрунзе, с. 74—77.
1947
36. Задачи экологического изучения вредителей сельскохозяйственных культур Киргизии. — Тр. Биол. ин-та Кирг. фил. АН СССР, вып. 1, с. 157—171.
37. О построении системы мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. — Изв. Кирг. фил. АН СССР, вып. 6, с. 121 —133.
38. Полевой метод учета колебаний численности насекомых. — В кн.: XVI пленум секции защиты растений ВАСХНИЛ. Тез. докл. Тбилиси, ч. I, с. 63—67.
1955
39. К методике полевого учета сельскохозяйственных вредителей и эффективности мероприятий по борьбе с ними. — Учен. зап. Ульянов. пед. ин-та, вып. 6, с. 3—55.
1957
40. Перспективы и методы количественной зоогеографии. — В кн.: Матер, к совещ. по вопросам зоогеографии суши 1—8 июня 1957 г. Тез. докл. Львов, с. 76—77.
1958
41. Перспективы и методы количественной зоогеографии. — В кн.: Проблемы зоогеографии суши. Матер, совещ., состоявшегося во Львове 1—9 июня 1957 г. Львов, с. 155—160.
42. К методике количественного учета и районирования насекомых. Фрунзе. 167 с.
43. Биометрические методы в систематике. — В кн.: Матер, совещ. по применению математ. методов в биологии, состоявшегося 12—17 мая 1958 г. Л., с. 18—19.
1959
44. Проблематика и методика количественного учета организмов. — В кн.: Тез. докл. второго совещ. по примен. математ. методов в биологии. Л., с. 24—26.
45. Статистические методы в энтомологии. — Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва, Ленинград, 28 янв. — 3 февр. 1960 г. Тез. докл. Л., т. I, с. 84—86.
46. О применении биометрии в систематике. — Вести. ЛГУ, № 9, с. 128—136.
1962
47. On the use of discriminant functions in taxonomy. — Biometrics, vol. 18, N 4, p. 455—477.
48. Понятие сравнительной анатомии. — В кн.: Вопросы общей зоологии и медицинской паразитологии. М., с. 189—214.
1963
49. О количественной оценке сходства. — В кн.: Применение математических методов в биологии. Л., кн. 2, с. 152—160.
50. On some contradictions in general taxonomy and evolution. — Evolution, vol. 17, N 4, p. 414—430.
51. Два новых палеарктических вида рода Chaetocnema группы Ch. concinna Marsh. — Энтомол. обозр., т. 42, № 4, с. 858—863.
1965
52. Систематика и эволюция. — В кн.: Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных животных и микроэволюция. Тр. Всесоюз. совещ. Свердловск, с. 45—57.
53. Дадонология. — Вопросы литературы, № 9, с. 238—240.
1966
54. Воспоминания о зоологе К. Н. Давыдове (1877—1960). — В кн.: Из истории биологических наук. М.; Л., вып. 1, с. 105—116.
55. О некоторых новых направлениях в математической таксономии. — Журн. общ. биол., т. 27, № 6, с. 688—696.
1967
56. Проблемы систематики. Автореф. докл. — Бюл. Моек, о-ва испыт природы. Отд-ние биол., № 4, с. 148—149.
1968
57. Рец. на кн.: Ч. И. Блисс. Статистика в биологии. Нью-Йорк, 1967, т. I. — Журн. общ. биол., т. 29, № 2, с. 252—253.
58. Проблемы систематики. — В кн.: Проблемы эволюции. Новосибирск, т. 1, с. 7—29.
1969
59. Philosophical aspects of taxonomy. — Ann. rev. entomol., vol. 14, р. 19—38.
60. К методике установления связи между температурой и длительностью развития. — Тр. Новосиб. ст. ВИЗР, с. 5—22.
61. Об ошибках в применении математики в биологии. I. Ошибки от недостатка осведомленности. — Журн. общ. биол., т. 30, № 5, с. 572—584.
62. Об ошибках в применении математики в биолс^гии. II. Ошибки, связанные с избытком энтузиазма. — Журн. общ. биол., т. 30, № 6, с. 715—723.
1971
63. Философские проблемы эволюционного учения. — В кн.: Философские проблемы эволюционной теории. (Матер, к симпоз.). М., ч. 1, с. 43—47.
64. О критериях реальности в таксономии. — В кн.: Информационные вопросы систематики, лингвистики и автоматического перевода. ВИНИТИ, вып. 1, с. 67—81.
65. Значение и будущее систематики. — Природа, № 2, с. 15—23.
66. Рец. на кн.: Е. С. Смирнов. Таксономический анализ. М., 1969. — Энтомол. обозр., т. 50, N 2, с. 493—496.
67. Рец. на статью: А. Кронквист. Об отношении таксономии и эволюции. — В кн.: Современные проблемы генетики и цитологии. Новосибирск, вып. 6, с. 57—68.
68. On problems and trends in empirical systematics. — In: Proc. ^CIII Intern. Congr. on Entomology, Moscow, 2—9.8.68. Moscow, vol. 1, p. 168—169.
1972
69. К логике систематики. — В кн.: Проблемы эволюции. Новосибирск,
т. 2, с. 45—68.
1973
70. Поли- и моно-. — Знание — сила, № 5, с. 26—29.
71. Морозные узоры на стеклах (наблюдения и размышления биолога). — Знание — сила, № 7, с. 23—26.
72. О постулатах современного селектогенеза. — В кн.: Проблемы эволюции. Новосибирск, т. 3, с 31—56.
73. Понятие номогенеза. — Природа, № 10, с. 42—44.
74. Дарвинизм и недарвинизм. — Природа, № 10, с. 44—47.
1975
75. К классификации эволюционных теорий. — В км.: Проблемы эволюции. Новосибирск, т. 4, с. 206—220.
76. О некоторых постулатах общей систематики. — Зап. науч. семинаров Ленингр. отд-ния математ. ин-та АН СССР, т. 49, с. 159— 175.
77. Уроки самостоятельного мышления. Сокращенный вариант работы "Уроки истории науки". — Изобретатель и рационализатор, № 8, с. 36—41, № 9, с. 43—45.
1976
78. Понятия системности и организменности. — Наука и техника, № 8, с. 10—12, 36—38.
79. Такая добровольная каторга. — Химия и жизнь, № 12, с. 9—14.^
1977
80. Лесков как гражданин. — Север, № 2, с. 104—114.
81. Редукционизм и развитие морфологии и систематики. — Журн. общ. биол., т. 38, № 2, с. 245—263.
82. Афоризмы и максимы. — Вопросы литературы, № 5, с. 291—293.
83. О спорах. (Из переписки А. А. Любищева). — Изобретатель и рационализатор, № 7, с. 48—49.
84. Рационализм как исходная установка ученого. (Из переписки А. А. Любищева). — Изобретатель и рационализатор, № 8, с. 44— 45.
85. О сравнительной ценности наук. (Из переписки А. А. Любищева). — Изобретатель и рационализатор, № 9, с. 46—47.
86. Понятие системности и организменности (предварительный набросок).—Труды по знаковым системам, т. 9, с. 134—141. (Учен. зап. Тартусск. ун-та; Вып. 422).
1978
87. Из переписки. — В кн.: Пути в незнаемое. М., сб. 14, с. 398—419.
88. Письмо А. А. Любищева Н. Г. Холодному от 30 апреля 1950 г. — Химия и жизнь, № 6, с. 36—38.
1979
89. Необузданная фантазия науки. Выборка из писем А. А. Любищева. — Лит. газета, № 44 за 31 октября.
90. О приложении математической статистики к практической систематике. — В кн.: Прикладная математика в биологии. М., с. 12—28.
1982
91. О русских химиках и мемуарах Ллойд-Джорджа. — Химия и жизнь, № 8, с. 88—90.
3. Литература об А. А. Любищеве
1. Караваева Р. П., Таврит-Гонтарь И. А. К семидесятилетию А. А. Любищева. — Защ. раст. от вредителей и болезней, I960, № 8, с. 60.
2. Смирнов Е. С. К 75-летию Александра Александровича Любищева. — Энтомол. обозр., 1966, т. 45, № 1, с. 232—236.
3. Смирнов Е. С., Яблоков А. В. Александр Александрович Любищев (1890—1972). — Зоол. журн., 1973, т. 52, № 2, с. 302—304.
4. Мейен С. В., Яблоков А. В. Об уровне нашего незнания. — Знание — сила, 1973, № 5, с. 26, 30—31.
5. Крыжановский О. J1., Зубков А. Ф. Памяти А. А. Любищева (1890— 1972). — Энтомол. обозр., 1973, т. 52, № 3, с. 715—720.
6. Мейен С. В., Шрейдер Ю. А. Биологические парадоксы А. А. Любищева. — Природа, 1973, N° 10, с. 38—41.
7. Гранин Д. А. Эта странная жизнь. — а) Аврора, 1974, № 1, с. 12—24; № 2, с. 22—42. б) М., 1974, ПО с. в) В кн.: Выбор цели. М., 1975, с. 3—114.
8. Акимов В. И видеть, и ведать. — Газ. "Смена", Л., 1974, 3 марта.
9. Акимов В. Дыхание большого мира. — Газ. "Смена", Л., 1974, 11 апреля.
10. Голубовский М. Д. Повесть о профессоре Любищеве. — Газ. "За науку в Сибири", Новосибирск, 1974, 29 мая.
11. Силина Г. И. Приглашение подумать. — Лит. газета, 1974, 26 июня.
12. Холшевникова Е. В. Помни о жизни. — Нева, 1974, № 6, с. 197—198.
13. Ревич В. Александр Александрович Любищев, биолог... — Лит. обозр., 1974, № 8, с. 29—31.
14. Васюков Г. Хорошо прожитая жизнь. — Книж. обозр., 1974, 13 сентября.
15. Чернышева Н. Время человеческое. — Газ. "Ульяновская правда", 1974, 5 октября.
16. Голубовский М. Д. Таким он родился. — Знание — сила, 1974, № 10, с. 52—53.
17. Крылов И. Творя над собой строгий суд. — Знание — сила, 1974, N° 10, с. 53.
18. Туторская С. Д. Гранин. Эта странная жизнь. — Октябрь, 1974, N° 10, с. 220—221.
19. Баньковский J1. Биологию проверил математикой. — Газ. "Вечерняя Пермь", 1974, 14 ноября.
20. Рубашкин А. Опыт чужой жизни. — Звезда, 1974, № 11, с. 210—212.
21. ФинкЛ. Закономерный выбор.— Новый мир, 1974, № 12, с. 257—260.
22. Дмитриев В. А. Время — союзник или враг? — Вопросы литературы, 1975, № 1, с. 35—89.
23. Линник Ю. В. Высокая странность. — Север, 1975, № 2, с. 122—125.
24. Светлов Я. Г. Александр Александрович Любищев. — В кн.: Проблемы эволюции. Новосибирск, 1975, т. 4, с. 198—204.
25. Цукерман Э. Жизнь как укрощение времени. — Газ. "Комсомольская правда", 1975, 6 марта.
26. Силина Г И Этот невыдуманный герой. — Лит. обозр., 1975, № 3, с. 102—106.
27. White S. Soviet author finds scientists are novel characters. — New Scientist, 1975, vol. 66, N 951, p. 513.
28. Муллоджанов M., Пащенко Л. В защиту божьей коровки. — Лит. газета, 1975, 4 июня.
29" Ранеткин В. Сполна себя изведать. — Газ. "Соц. индустрия", 1975, 12 июня.
30. Боровикова А. Вся жизнь — научный подвиг —Газ. "Советская Киргизия", 1975, 10 июля.
31. Бирман Ю. Эта странная книжка... — Газ. "Смена", 1975, 30 июля.
32. Перцовский В. Дело, которое служит тебе. — Лит. обозр., 1975, № 7, с. 56—59.
33. Миримский С. Д. Гранин. Эта странная жизнь. — Детская литература, 1975, № 8, с. 65.
34. Медведев Ю. Лучше иметь духовный долг, чем сохранять душевную
безопасность. — Изобретатель и рационализатор, 1975, № 8, с. 34—35.
35. Шрейдер Ю. А. Парадоксально о науке. — Изобретатель и рационализатор, 1975, № 9, с. 45.
36. Цурикова Г., Кузьмичев И. Контрасты осязаемого времени. — Нева, 1975, № 10, с. 168—178.
37. Дмитриев В. А. Мир науки и духовная культура. — Газ. "Сов. культура", 1975, 4 ноября.
38. Дмитриев В. А. Советская литература: традиции и современность. — Реалта совьетика, Рим, 1975, № 2.
39. Granin D. Time and Lysenko’s unsung critic. — New Scientist, 1975, vol. 68, N 980, p. 705—706.
40. Урбан А. Размышления о таланте и времени. — Звезда, 1976, № 5, с. 214.
41. Гранин Д. А. Конспекты моего героя. — В мире книг, 1976, № 7, с. 78.
42. Баранцев Р. Г. Лучшие — на мой взгляд. — Лит. обозр., 1976, № 7, с. 6.
43. Голубовский М. Д. Бюджет времени: планирование и учет. — Химия и жизнь, 1976, № 12, с. 7—8.
44. Линник Ю. В. Ученый о литературе. —Север, 1977, № 2, с. 102- ЮЗ.
45. Г ранин Д. А. Цена минуты. — Телевидение и радиовещание, 1977, № 8, с. 38—40.
46. Мейен С. В., Соколов Б. С., Шрейдер Ю. А. Классическая и неклассическая биология. Феномен Любищева. — Вести. АН СССР, 1977, Ия 10, с. 112—124.
47. Шрейдер Ю. А. А. А. Любищев как структуралист. — Труды по знаковым системам, 1977, т. 9, с. 133—134. (Учен. зап. Тартусск. ун-та; Вып. 422).
48. Шрейдер Ю. А. Три жизни профессора Любищева. — В кн.: Пути в незнаемое. М., 1978, сб. 14, с. 393—397.
49. Мейен С. В.,'Соколов Б. С., Шрейдер Ю. А. Неклассическая биология. Феномен Любищева. — Химия и жизнь, 1978, № 6, с. 29—35.
50. Алякринский Б. С. Что такое "победа над собой". — Газ. "Комсомольская правда", 1978, 21 октября.
51. Шрейдер Ю. А. Пути жанра. — В мире книг, 1979, № 3, с. 57—59.
52. Скворцов А. /(. Несколько замечаний о "классической" и "неклассической" биологии. — Бюл. Моек, о-ва испыт. природы. Отд-ние биол., 1979, вып. 1, с. 106—117.
53. Халфин Л Л Дарвинизм, номогенез, международная стратиграфическая шкала (МСШ). — В кн.: Методологические и философские проблемы геологии. Новосибирск, 1979, с. 198—221.
54. Мейен С. В. Вклад А. А. Любищева в теоретическую биологию. — Докл. Моек, о-ва испыт. природы. Общ. биол. (I полугодие 1977 г ), 1979, с. 109—110.
55. Шрейдер Ю. А. Реальность и фикции в любшцевской методологии науки. — Докл. Моек, о-ва испыт. природы. Общ. биол. (I полугодие 1977 г.), 1979, с. 111—112.
56. Наумов Р. В. Развитие взглядов А. А. Любищева на экономический эффект вредителей в лесной энтомологии. — Докл. Моек, о-ва испыт. природы. Общ. биол. (I полугодие 1977 г.), 1979, с. 113—115.
57. Чайковский Ю. В. Анализ А. А. Любищевым постулатов синтетической теории эволюции (СТЭ). — Докл. Моек, о-ва испыт. природы. Общ. биол. (I полугодие 1977 г.), 1979, с. 115—118.
58. Голубовский М. Д. Анализ некоторых генетических понятий и представлений в работах А. А. Любищева. — Докл. Моек, о-ва испыт. природы. Общ. биол. (I полугодие 1977 г.), 1979, с. 118—120.
59. Гранин Д. А. Обратная связь. — Лит. газета, 1979, 25 июля.
60. Александр Александрович Любищев (1890—1972). Библиография А. А. Любищева. — В кн.: Прикладная математика в биологии. М., 1979, с. 7—11.
61. Мозелов А. П., Георгиевский А. Б. Философское содержание теории селектогенеза. — Вести. ЛГУ, 1979, № И, с. 39—46.
62. Дегтярев Ю. Не транжирить время. — Сов. экран, 1979, № 12.
63. Гранин Д. А. Размышления вслух. — Работница, 1981, № 2, с. 14—15.
64. Петриченко О. Мгновенье, ты прекрасно. — Огонек, 1981, № 36, с. 7—9.
65. Голубовский М. Д. Некоторые аспекты взаимодействия генетики и теории эволюции. — В кн.: Методологические и философские проблемы биологии. Новосибирск, 1981, с. 69—92.
66. Старков А. Н. Нравственный поиск героев Даниила Гранина. М., 1981. 199 с.
4. Основные даты жизни и деятельности
Родился 5 апреля 1890 г. в Санкт-Петербурге.
1906 — Окончил с золотой медалью 3-е Реальное училище и поступил в С.-Петербургский университет на естественно-историческое отделение физико-математического факультета.
1909 — Практика на биостанции в Неаполе.
1910 — Практика на биостанции в Виллафранке.
1911 —Окончил университет с дипломом 1-й степени и стал работать в Особой зоологической лаборатории Академии наук.
1911 — Женитьба на В. Н. Дроздовой и свадебное путешествие по Греции, Италии, Египту.
1914 — Ассистент Высших женских (Бестужевских) курсов.
1915 — Призыв на военную службу и назначение в Химический комитет Главного артиллерийского управления.
1916 — Начал дневник, который не прекращал вести до конца жизни. 1918 — Приглашение в Таврический университет и переезд в Симферополь.
1921 — Переезд в Пермь на работу в должности доцента университета по кафедре зоологии.
1927 — Профессор кафедры зоологии Самарского сельскохозяйственного института.
1930 — Переезд в Ленинград на работу в ВИЗР.
1936 — Присуждение ученой степени доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссертации.
1938 — Заведующий отделом экологии Института биологии АН УССР в Киеве.
1939 — Присвоение ученого звания профессора по специальности "энтомология".
1941 — Эвакуация в Пржевальск; профессор кафедры зоологии Педагогического института.
1943 — Заведующий эколого-энтомологическим отделом Киргизского филиала Академии наук СССР.
1948 — Женитьба на О. П. Орлицкой.
1950 — Заведующий кафедрой зоологии Ульяновского Педагогического института.
1955 — Выход на пенсию.
1961 —Начало работы над рукописью "Линии Демокрита и Платона в истории культуры".
Скончался 31 августа 1972 г. в г. Тольятти.
Сведения об авторах
Баранцев Рэм Георгиевич — профессор кафедры гидроаэромеханики Ленинградского университета, доктор физико-математических наук, Лауреат Государственной премии СССР. Автор 3 монографий и 130 статей по различным вопросам трансзвуковой и гиперзвуковой аэродинамики, динамики разреженных газов, взаимодействия газов с поверхностями, асимптотологии и системологии. Был знаком с А. А. Любищевым с 1964 г. Один из тех, кому А. А. завещал заботу о своем архиве.
Голубовский Михаил Давидович — старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО АН СССР, доктор биологических наук. Занимается вопросами общей генетики, генетики популяций, теории мутационного процесса. Интересуется теорией эволюции, историей и философией науки. Собрал и передал в Архив многие материалы А. А. Любищева, сохранившиеся в Новосибирске. Переписывался с ним с 1965 г.
Дмитриев Виктор Андреевич — кандидат филологических наук, доцент. Автор книг "Реализм и художественная условность", "Гуманизм советской литературы. Современные искания" и многих статей. Составитель, автор предисловия и комментариев впервые изданного однотомника "Михайло Ломоносов. Избранная проза". Ведущий ежемесячной передачи центрального телевидения "Круг чтения". Организатор обсуждения книги Д. А. Гранина "Эта странная жизнь" за круглым столом журнала "Вопросы литературы" [22*].
Зубков Аркадий Федорович — старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений, кандидат биологических наук. Автор более 60 работ по количественной агробиоценологии. Был знаком с А. А. Любищевым с 1964 г., неоднократно консультировался с ним по вопросам энтомологии и биометрии.
Калинин Олег Михайлович — старший научный сотрудник Института вычислительной математики и процессов управления при Ленинградском университете, кандидат физико-математических наук. Имеет более 30 публикаций по различным вопросам математической биологии и биометрии. Один из руководителей биометрического семинара ЛГУ, на котором А. А. Любищев много раз выступал с докладами. Познакомился с Любищевым в 1958 г. на совещании по применению математических методов в биологии, организованном П. В. Терентьевым и Ю. В. Линником. Контакты с Любищевым имели существенное значение для построе* ния университетского курса лекций по математической биологии.
Ковалев Владимир Григорьевич — младший научный сотрудник Палеонтологического института АН СССР, кандидат биологических наук, палеоэнтомолог. Занимается вопросами теоретической и практической систематики, теорией эволюции.
Мейен Сергей Викторович — старший научный сотрудник лаборатории палеофлористики Геологического института АН СССР, доктор геолого-минералогических наук. Автор 4 монографий, 3 научно-популярных книг и около 200 статей по палеоботанике, стратиграфии, общим проблемам биологии, теории классификации. Переписывался с А. А. Любищевым с 1968 г. Принимал участие в работе над архивом Любищева и подготовке к печати его работ
Равдель Евгения Александровна — дочь А. А. Любищева, инженер- механик, окончила Политехнический институт, во время войны работала в Ленинграде на заводе, позднее — в Дизельном ЦНИИ.
Светлов Павел Григорьевич— (1892—1974) —член-корреспондент АМН СССР, доктор биологических наук, профессор, Лауреат Государственной премии СССР. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Занимался главным образом эмбриологией, а также систематикой, экологией, анатомией, физиологией, эволюционной теорией, генетикой, историей и методологией науки. Автор более 130 научных трудов, включая монографию "Физиология (механика) развития", вышедшую посмертно. С А. А. Любищевым познакомился в Перми, подружился и переписывался с ним в течение 50 лет.
Шрейдер Юлий Анатольевич — заведующий сектором ВИНИТИ АН СССР, кандидат физико-математических наук, доктор философских наук. Занимается информатикой, науковедением, философскими вопросами естествознания. Автор более 230 научных публикаций, включая монографии "Равенство, сходство, порядок", "Системы и модели". Был знаком с А. А. Любищевым и переписывался с ним с 1967 г. Подготовил для печати ряд материалов из его архива.

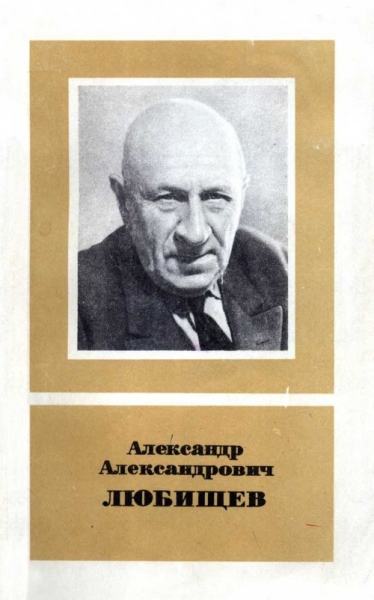






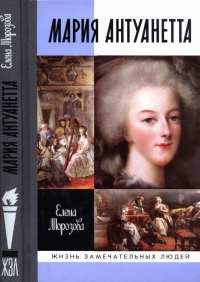
Комментарии к книге «Александр Александрович Любищев (1890—1972)», Сергей Викторович Мейен
Всего 0 комментариев