Плавучий мост. Журнал поэзии. № 1/2016
© Редакция журнала «Плавучий мост», 2016
© Verlag an der Wertach, 2016
© Авторы публикаций, 2016
* * *
Поэзия и время Виталий Штемпель Кому и что должна поэзия
Спор о том, какой должна быть поэзия, что в ней можно, что нельзя, слишком давний, чтобы надеяться на его разрешение. Надежды же на то, что она подчинится неким принудительным нововведения, представлениям меньшинства или даже большинства просто нет: она будет такой, какой её видит и слышит Поэт. Полагаю, именно поэтому тайна её очарования сохранится до тех пор, пока Поэт будет оставаться тем единственным, кто не знает как стихи пишутся. Пусть это знают критики и даже читатели – но не поэт. Мандельштам, видевший в символизме начало новой поэтической эры, всё-таки заключил: «Какой должна быть поэзия? Да может, она совсем не должна, никому она не должна, кредиторы у неё все фальшивые!» И – совершенно неожиданное и малоутешительное: «Ничего так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере, перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает, привередничает. Наконец у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства – постоянного перед переменным, неподвижного – перед движущимся». Не это ли самое сознание превосходства подвигло читателя на большее: худо-бедно освоив законы стихосложения, он сам взялся за дело. С некоторых пор писание стихов стало терапией масс. Дискредитирован ли при этом Поэт или сама Поэзия? Ни в коем случае! Читателей поубавилось. Тиражи поэтических сборников упали с десятков тысяч до нескольких сотен. Но именно эти несколько сотен востребованных книг настоящей поэзии и сохраняют надежду: поэзия есть и будет. Пушкин вложил в уста книгоиздателя слова, характеризующие его время: «Наш век – торгаш; в сей век железный / Без денег и свободы нет». Великий поэт будто заглянул в наше время. Что изменилось? Да ничего. Сегодня, как и прежде, денежные знаки правят этим миром. И не поэзия в том виновна. И всё-таки – может быть, именно честности и ей недостаёт. Той самой честности, которая сближает её с читателем и которую можно ещё назвать «прекрасной ясностью» (М. Кузмин). И совсем уж как напутствие следующим поколениям поэтов звучат – его же – слова: «Друг мой, имея талант, то есть – уменье по-своему, по-новому видеть мир, память художника, способность отличать нужное от случайного, правдоподобную выдумку, – пишите логично, соблюдая чистоту народной речи, имея свой слог, ясно чувствуйте соответствие данной формы с известным содержанием и приличествующим ей языком, будьте искусным зодчим как в мелочах, так и в целом, будьте понятны в ваших выражениях».
Гейне когда-то сделал в записной книжке такую запись: «Die Welt wundert sich, dass einmal ein ehrlicher Mann gelebt – die Stelle bleibt vakant». (Мир удивляется тому, что однажды жил честный человек – это место остаётся вакантным). Блок, в своей знаменитой речи «О назначении поэта» заключил: «…роль поэта – не лёгкая и не весёлая, она трагическая.» В трагическую же минуту своей жизни Пастернак написал мужественные строки, в чём-то повторив мысль своих предшественников:
«Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста.»Именно: вакансия поэта не занимается по указке сверху. А если это случается – то она пуста, то есть не представляет ценности. Мне ни в коем случае не хотелось бы вносить элемент полемики в журнал, поставившего своей целью скромную и вместе с тем нелёгкую задачу: отражать на своих страницах современную русскую поэзию – такой, какая она есть, давать слово авторам самых разных поэтических школ и направлений, не взирая при этом на географическое местоположение автора. Я охотно соглашусь с двумя противопложными мнениями о существе поэзии. Ибо каждое имеет право на жизнь. Но проводником её был и остаётся (подчеркну – всегда!) только Поэт.
Наш журнал прожил два года. Мы не вышли в первые ряды и не остались на задворках. Скажу больше: в самом факте нашего существования нет никакой логики. Ибо мы нигде не состоим и никому ничего не должны. Те, кто этот журнал делает, – делают это из доброй воли, не имеют от этого никаких дивидентов. Те, кто в нём публикуется, – публикуются из любви к поэзии. А значит торгашеский дух нашего века всё-таки относителен. И если это то единственное, что своим существованием доказывает наш журнал, то так ли это мало?
Примечание:
Виталий Штемпель – поэт, редактор. Живёт в Германии.
Берега
Геннадий Русаков Стихи разных лет
Русаков Геннадий Александрович родился в 1938 году, воспитывался в Суворовском училище, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Работал переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН в Нью-Йорке и Женеве. Автор семи книг стихотворений. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2014). Живет в Москве и Нью-Йорке.
«Опять горячий дождь насквозь пронизан светом…»
Опять горячий дождь насквозь пронизан светом и всё качается, всё брызжется и льёт, такой дурашливый, таким горячим летом и так бессовестно меня не узнаёт! А я тут с Моцартом, а я тут ртом закрытым играю музыку, как будто я кларнет. Мне всё так нравится, и скачет град по плитам, а мне до прочего уже и дела нет. Вот я из палочек, из косточек вишнёвых на тропке выложу летящую стрелу. Она взлетит, а я пойду в ботинках новых разыскивать её по волглому селу. Там дышат червяки на грядках полной грудью – и это правильно: ну, как тут не дышать? Я их возьму к себе в друзья по малолюдью, сложу их в баночку, не буду им мешать.«В межтамбурном проходе…»
В межтамбурном проходе заиндевел металл. Вагон на стрелках водит. И градусник устал. Но грузны расстоянья. Но бешены мосты. И птица без названья кричит из темноты. А там одно и то же: снега, снега, снега. И холодом по коже. И больно ночь долга. Кто там в полях кочует за белой пеленой? Моя страна ночует, как жолудь ледяной. И две огромных тени по насыпи бегут, как-будто в этой теми кого-то берегут.«Не нужно принимать себя всерьёз…»
Не нужно принимать себя всерьёз. Мы тут, ей-богу, очень ненадолго: придуманный Создателем курьёз, живущий из осознанного долга. Дерзай. Дерзи, как водится, Творцу. Хами ему, поскольку благодарен. Начало – приближение к концу. Я тоже этим временем ударен: жду от него внезапного письма, где строчки легче женского касанья – небесный шёлк, творенья бахрома. У времени своё правописанье… Эх, жизнь-удача, туз из рукава! Кому ещё такое выпадает? …И рано повзрослевшая трава под тяжестью июня проседает.Снимок
Молодой, умеренно-красивый, тихий бабник, сумрачный пижон… Но с какой невероятной силой снова лезет время на рожон! Я стою, со мною всё понятно: весь я тут, меня нигде не ждут. Но вот эти солнечные пятна, Герцен, Первомай, Литинститут! Жора Елин сделал этот снимок или, может, кто-то до него: из числа ушедших невидимок, из друзей, не рвавшихся в родство. Из невест, не выбившихся в жёны… Я стою и в оптику смотрю – молодой и странно напряжённый: будто вижу, а не говорю. Боже мой, как страстно это время, век двадцатый, бьющийся во мне! Это солнце, греющее темя. Этот я, с собой наедине…«Ничего мне, граждане, не надо…»
Ничего мне, граждане, не надо, ничего я больше не хочу: ни ночного сада-вертограда, ни столетья, что не по плечу. Всё отдал, как бабка завещала, пережил не веривших в меня. Больно жизнь мне многое прощала, у себя за пазухой храня… Вот он я, уже давно на свете. Жёлтый день цыплячится в окне. Ничего не надо, птицы-дети, ничего уже не надо мне. Ах, качаться в пенсионной зыбке, гречку есть, подсчитывать нули… И держаться намертво за штрипки резко накренившейся земли.«Да, жизнь как жизнь: круженье пустяков…»
Поговорим о странностях любви.
А. С. Пушкин Да, жизнь как жизнь: круженье пустяков, пруды, киоски, крик товарняков. От полустанка – запахи мазута. Найти наощупь строчку или слог, с губы отклеить герпес-узелок… Простудно нынче, и душа разута. Поговорим о странностях любви… О том, что сколько, в общем, ни живи, а не добрать до вечности полгода. Что март паскуден, а страна долга. Что пахнут прелью мокрые стога. И, что ни день, меняется погода. А снег лежит поверх промёрзлых шпал – ничком, как он лежал, когда упал, присыпан сверху паровозной гарью. Да, мир хорош, но только со спины. Содрать бы с этих лириков штаны… И самому себе заехать в харю. Так тонко в доме скрипочка поёт! Наверно, это Моцарт…Во даёт! А я жую и сглатываю слёзы. Играй, пили, фигляр, вещун, скрипач! И сам, смычком дотягиваясь, плачь над непотребством подмосковной прозы.«Из ресторана тянет щами…»
Из ресторана тянет щами, вокзальной тихой нищетой. И воздух, горький от прощаний. немного влажный и густой. В таком заплаканном просторе года, как спички, коротки. Стихи пугают, рифме вторя, смертельной точностью строки. Никто не едет, все пропали. Начальник станции тверёз. И лишь закат, всё так же палев, врисован в лирику берёз. Играет бомж на слабой лютне, и усмиряет этим плоть. Зачем на станции Голутвин Ты разлюбил меня, Господь?«Мне нужно, чтоб звала, мне нужно, чтоб кричала…»
Мне нужно, чтоб звала, мне нужно, чтоб кричала, чтоб голосила вслед огромная страна, чтоб снова мне судьбу по риске размечала, меж пальцами текла, как волглая струна! Мне нужен этот ор грачиного развала, семи её небес проём и разворот. И чтобы к ней меня Татьяна ревновала, рвала в клочки билет, кривила плачем рот. Ушёл мой стыдный век и отзвонили звоны. Я сам себя забыл на торжищах земли, где печень злым вином врачуют выпивоны, с большого бодуна прожорливее тли.«Не надо показывать старых актрис…»
Не надо показывать старых актрис, вчерашних владычиц большого экрана: их горьких морщин, их заглаженный плис и чашку с щербиной на спинке дивана. Не надо, завесим для них зеркала – пускай себя помнят по давним прогонам, по судьбам-дубляжам, что жизнь раздала в пандан к госконцертовским жёстким вагонам. Уж лучше, как Гарбо, стоять в стороне от века сутяг и торговых баталий. Там новые крали на каждой стене – на прежних уже и глядеть перестали. Мне больно за них, за стареющих див, за их неустрой и за постную манку. Как будто, бессмертием их поманив, им жизнь подложила подлянку.«Полуслепые зимние погоды…»
Полуслепые зимние погоды. Душа вполглаза смотрит из окна. Остановились пасмурные воды. Затихла многодумная страна. Нам есть о чём подумать в эту пору, Но я пойду и лягу, и усну. И снова буду счастлив без разбора за всю мою просторную страну. За тех, кто есть и тех, кого не стало, кого душа считает за своих. (Она из очень лёгкого металла и завершает свой структурный сдвиг). А головокружительное счастье ей раздувает юбку пузырём, решая все проблемы в одночасье… И мы ещё покуда не помрём.«Проходит онемение удара…»
Проходит онемение удара. Жизнь понимает, что она жива. Как хорошо, что мы друг другу пара, хотя бы по вопросам существа! И если, беззащитней женской шеи, придут слова, к общению просясь, я, как связист, укрывшийся в траншее, установлю на месте с ними связь. Всё на потом: расчёты и разборки, деленье на своих и на иных… Сперва прочесть от корки и до корки, ища метафор – тёлок племенных, проверить слог по линии разлома на крепь, на вязкость, на едрёну мать! И только после, на досуге, дома, уже на вкус и цвет воспринимать.«На бумажке свой год запишу…»
На бумажке свой год запишу, поднимусь, положу на божницу… Я умеренно пью и грешу. А столетье мне попросту снится. Тихо сходят снега с высоты и болтаются звёзды на нитке. У столетий привычки просты: аты-баты, пиф-паф и напитки. Вот за это я их и люблю: я и сам из незамысловатых – на доходы коплю по рублю, ем и пью у друзей тароватых. День сверкает расчёсами гроз. Ночи – время сплошного испуга. …Как же долго я, Господи, рос, чтобы мы понимали друг друга!«Единство ночи – мелко блёклых звёзд…»
Только этого мало.
А. А. Тарковский Единство ночи – мелко блёклых звёзд. Упорство слов, просящихся наружу… Зерно спросонья захотело в рост. Февраль. Снега перерастают в стужу. Вот чьё-то сердце светит в темноте – комочек плоти, сжатие-биенье. Нас ждут не эти, помнятся не те. Рассвет помечен синеватой тенью. И внятно ходят ходики судьбы, разметив расстояние по стенке. И кажется взаправду голубы творения невнятные оттенки. Но жизнь мила, как жостовский поднос. …Заснул и встал, разгладил одеяло. Всё хорошо, но всё-таки до слёз чего-то жалко и ужасно мало.«Когда благопристойное веселье…»
Когда благопристойное веселье вершится в небесах под клавесин, я предаюсь губительному зелью среди родных растений и осин. Но всё же, для причастности к народу, в желаньи слиться или встать в ряды, хотелось бы использовать погоду для коллективной праздничной балды. Ах, Бокарини, выйдем на лужайку, тряхнем, как говорится, стариной: под клавесин добавим балалайку – и пляс тогда пойдёт совсем иной! Такое тут поднимется-взовьётся. такой тут будет выпад и отпад! …Нет, хорошо под праздники поётся! И каждый сам себя услышать рад.«Бог забирает лучших среди нас…»
Бог забирает лучших среди нас – они ему нужнее для работы. Он сам определяет день и час для пополнения извечной квоты. Прости, Творец. Я всё ещё ропщу: ты обошёл меня при разнарядке… На следующий раз не пропущу, хотя я и пятнадцатый в десятке. Кому провидеть помыслы Твои с раскладами на сотни поколений? Я годен лишь на местные бои, для остального нужен рослый гений. Ты не сердись. Мы все твоя трава, карандаши из общего пенала… Но Люда всё-таки была права и наизусть Твои расклады знала.«О чём между собой беседуют коты?..»
О чём между собой беседуют коты? Что говорят о нас, обнюхавшись, собаки? Как зародился свет в утробе темноты и кто прочтёт судьбы мучительные знаки? Что значит «электрон»? Откуда взялся ток? Вот телефон звонит и говорит: – Я Таня… Невещный этот мир, увы, ко мне жесток и в частностях своих, и взятый в сочетанье. Я в нём за долгий век не понял ничего. Хотя при всём при том я был среди счастливых, когда одуревал от милостей его и ковырял камедь на отпотевших сливах. Я уважал предмет, трёхзначное число… А прочее терпел и принимал на веру. Да, я не понимал, откуда что пошло. Благословенны те, кто миру знают меру! Наверно, мне и впрямь всё это ни к чему… Оно так веселей – восторг и удивленье! Я даже смерть мою по-братски обниму… Хотя она всего случайное явленье.Чекко
Он тринадцатому веку до сих пор стучится в двери. Отворите человеку! Это Чекко Анджольери. Он строптив, драчлив, несчастен. Он обедать ходит в гости У него простые страсти: девка, выпивка да кости. Как он мать свою ругает, как отцу желает смерти! Он проклятья изрыгает… Только вы ему не верьте. Говорят, всё это враки. Говорят – литература. У него, мол, дом, собаки… И жена – верна, но дура. Как он с пылом дилетанта рвётся к миру из сонета! Как отчитывает Данта то за то, а то за это! Гвельф идёт на гибеллина. Сколько крови в человеке! Да и плоть всего лишь глина даже в двадцать первом веке. Кто тут малый, кто великий?.. Время всем воздаст по вере. Что же так зашёлся в крике этот Чекко Анджольери?«Когда-нибудь я напишу стихи…»
Когда-нибудь я напишу стихи, где море, лето, гаснущие дали. И запахи проперченной ухи над сонмом подозрительных едален. …Дул бриз. На рейде гукали суда. Стамбул курился дымкою кадила. И по ночам дежурная звезда из темноты на клотике всходила. Какой мне год?.. А, впрочем, что за счёт? Я молод, счастлив и как будто в латах: вон жизнь моя поверх меня течёт в блистаньи брызг и муравьёв крылатых. И женщины горячая рука так невесома, так мокры каменья! И крабы вылезают из песка, хромая на ходу от неуменья. Что счастье, друг? Да, женщина и страсть, и кружевная выточка удачи… Но эти, норовящие упасть, хромые крабы, горстка мокрой сдачи, ныряющие головы пловцов, полдневный зной и рыжая дорога, рыбак, судьбу ловящий на живцов с моста в затоне Золотого Рога, акации над хрустом шелухи, и вымя-груз подвешенного сыра? …Когда-нибудь я напишу стихи про жизнь мою – про сотворенье мира.«Я помню день в базарном гам…»
Я помню день в базарном гаме и женщин с белыми ногами на первых празднествах весны. Их чуть смущённую походку – они идут легко и кротко… И по-особому ясны. Эдем районного значенья – сплошное, в сущности, мученье из-за доступности чудес: лотки, товары скобяные, а с ними прочие-иные – и все на нас, наперевес. И ты, конечно, в том Эдеме, как полагается по теме, сияешь чистотою лба. Уже ничто судьбу не застит и ты с утра ещё глазастей. Да вот она, твоя судьба! Зачем я жив и помню это – твоё лицо в качанье света? И, ничего не бережась, две наших тени без пригляда чуть в стороне, но всё же рядом, лежали, за руки держась…«Все мои дожди отморосили…»
Все мои дожди отморосили. Все ветра споткнулись на бегу. Я умею только о России. Ничего другого не могу. Что имел – того не захотела. Что хотел – того не отдала. По двору соломой пролетела. На бугре рябиной отцвела. Расстояний медленная мука. Утешенья тёплая рука. Расставанье. Родина. Разлука. Далека ты, мати, далека…Илья оганджанов Стихотворения
Род. в 1971 г. в Москве. Закончил Литературный институт им. А.М. Горького, Московский государственный лингвистический университет, Международный славянский университет. Поэт, писатель, переводчик. Публикации: журналы «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик», «День и ночь», «Черновик», «Вавилон»; антологии и альманахи. Переводы: с английского – Т.С. Элиот, Роберт Фрост, Сильвия Плат, Уолт Уитмен, Филип Ларкин; с китайского – Ду Фу. Автор книги стихов «Вполголоса». Живет в Москве.
«Плыть и плыть бы за облаком…»
плыть и плыть бы за облаком в неоглядную даль с ветром петь бы и петь разудалую песню но лишь клочок вечереющей сини в моём окне да гроздь сирени камнем лежит на сердце неразгаданная тайна цветка и дремлют в крови цыганская скрипка и пастушья свирель«Сегодня как и вчера…»
Сегодня как и вчера как наверно и завтра ветви бегут от корней теряя листья золотые рыбки скользят по воздуху и тонут ветер учит их мёртвых говорить слушай и запоминай бежит ручей в тревожной траве колокольчик воды ни с чем не спутать мы так часто умирали от жажды вчера как наверно и завтра в тревожной траве золотые листья слушай ветер качнул занавеску невидимый кто-то входит за ветром приносит в дом опавшие листья учит нас говорить колокольчиком жажды звенит ручей в зеркальной воде невидимый кто-то холодно руку твою пожимает мёртвые листья приносит домой и учит нас говорить сегодня как и вчера как наверно и завтра.
«Послушай как бьётся сердце…»
послушай как бьётся сердце его косолапые шаги похожие на «да-да» и «нет-нет» то удаляются то приближаются и удаляются вновьИгра в прятки
…я не знаю, что было, когда не было дерева.
Е. КулиеваТы говоришь мне: я тебя вижу, ты стоишь за деревом. плечи видны из-за ствола. дерево уже тебя в плечах, поэтому я тебя вижу. и ещё я знаю, что за словом «дерево» стоит вот это дерево, за которым стоишь ты, а что стояло за словом, когда ещё не выросло дерево и ты не стоял за ним, я не знаю.
Теперь мой черёд: ты стоишь за деревом, и пусть я тебя не вижу, но точно знаю, что ты там, потому что когда ты пряталась, я подглядывал. а за словом «дерево» стоит не только это дерево, но и много других деревьев, за которыми мы могли бы спрятаться, и тех, за которыми мы никогда не спрячемся. я это знаю, не потому что видел все деревья на свете, а потому что читал об этом в книгах. а когда не было этого дерева и никакого другого тоже не было, за словом стоял Бог, как он сейчас стоит за нашим деревом, мальчик, приехавший из чужого города, с ним никто не хочет водиться, и он играет в прятки сам с собой. я давно за ним подглядываю.
«После грозы…»
После грозы, когда умолкает ткацкий станок ливня и всё вокруг соткано из тишины, мне кажется, что я один на целом свете. Но вот я слышу: ровное дыхание земли сливается с моим дыханьем, стрекозы хлопочут – штопают воздух, по-стариковски охает ветер, и листья шелестят: им снится сон, что они – бабочки. И спускаясь по лестнице слуха всё дальше и дальше от мира, я различаю звук удаляющихся шагов – это душе моей снится, что она идёт по мокрой от дождя траве тебе навстречу.«Стог сена в осеннем поле…»
стог сена в осеннем поле в пустынной сини – облако луч зари в утлой лодке объятий плывем мы куда – не знаем как далеко от берега как сон безгрешен под лёгкой простынёю ветра как одиноко под небом звучит мой голос где ты где ты трава пожухла и облака след растаял«По рельсам вен грохочет скорый поезд…»
по рельсам вен грохочет скорый поезд новогодней гирляндой вагоны ныряют в колючую ночь ты один на перроне и перрон отплывает во тьму в час отлива – ледяное сияние звёзд в свои глубины отступает память парус боли как плод наливается ветром на палубе – хмельные голоса ты один на пустом берегу крики чаек умирают в груди«Провожаю взглядом облака…»
провожаю взглядом облака с детства не знавал занятия серьёзней разве что на берегу реки там где стрёкот со щебетом спорят глядеть на неутомимую воду доверяя ветру слетающие с губ слова«в небе колодцы света…»
В небе колодцы света человек умирает от жажды мартовский дождь обрюхатил деву – вот тебе дева абонемент в планетарий мать укачивает в коляске разбитое зеркало бедуин пересыпает из века в век сутры пустыни за щекой у ребёнка солнечная карамель океан насмехается над нашим пронырливым взглядом вернувшимся из дальних стран с пустым обозом переводные картинки вечности – врачи рекомендуют от неврозов нам не одолеть когорты закованных в пену волн, но мы согласны на вечность в умеренных дозах: введите мне в вену десять кубиков океана, и вот я – Христофор Колумб или Кортес, неважно – под ногами Америка, какой-никакой, а материк
– Что может сказать кролик об удаве, сидя у него в брюхе и нащупывая останки своего предшественника? – Да здравствует пищеварение!
передёрни затвор и живца насади на крючок отверни на полную вентиль аорты раскачай качели ума своего и-и-и… миру – мир баю – бай Мамаю – Барклай Кардену – колено бревну – полено наркоманам – по шприцу с миру – по Ницшеменя тошнит врачи рекомендуют траве готовиться к сенокосу мальчик готовится стать солдатом ты ложишься спать с кем попало и всегда встаёшь ровно в восемь колыбельную спой мне на завтрак жизнь проходит доброе утро здесь были мы: Маша плюс Саша равно Коля плюс Оля равно икс плюс игрек
«Дым и пепел…»
Дым и пепел, с вами родство моё непреложно. Младший брат ваш, с детства я вам подражал: пепел посею – дым пожинаю. В вас обретал я новые силы, и будущее снилось мне – дыма увядший нарцисс, только такие цветут на пепелище сердца. С вами читал я страницы бессонниц и заучил наизусть: нет в человеческом голосе силы равной человеческой скорби. С карканьем стая ворон срывается с губ. Слово моё – легче дыма, бесплоднее пепла. О вероломство кровников: вотчина пепла – земля, небо застлано дымом. Лишь у меня нет доли в наследстве. Но я не ропщу. Я бы не вынес чёрной работы забвенья. Мне бы справиться с малым наделом на границе меж дымом и пеплом – с душой.«Я говорю…»
я говорю с травой листвой волной кузнечиком и стрекозой заливистой мне неизвестной птицей словно с самим собой я с ними говорю и словно сам себе же отвечаю дремучим шелестом и колыбельным плеском гудением и стрёкотом и мне вдруг кажется что это не у птицы – у меня в гортани журчит хрустальный ручеёкПалимпсест (первая страница)
Дачный посёлок причаливает к берегам июля ты стоишь на крыльце на капитанском мостике и ведешь свои мысли по глади летнего утра шмель возится в цветке шиповника твой сосед пётр иваныч обходит огород дневным дозором и ты приветствуешь его улыбкой давно живущей на твоих губах ровные волны зеленеющих грядок куст шиповника – буек душистый дачные домики в гавани полдня тень соседа точно спущенный парус проплывают в мареве мимо тебя и шмель гундосит твой сосед пётр иваныч прося на водку и всплеск лучей о волнорез его улыбки куст шиповника и ты в карманах и в тени колючей шаришь протягиваешь розу шиповника петру иванычу и он разглаживает лепестки и просит два рубля ещё добавить
Палимпсест (четвёртая страница)
ты ходишь по комнате перелистываешь братоубийственные летописи рифмуешь сусальных ангелов с букетом увядших нарциссов ходишь и ходишьюноша спешит на свидание зажав в кулаке пригоршню мотыльков для своей возлюбленной ангелы маршируют по брусчатке сознанья их шаги отливаются в литеры и детонируют в твоём мозгу это буки идут войною на веди шрапнель поцелуев и судьба покидает окоп твердо слово ея аки обры обрящете бороны смерти оттаявшие по весне любовники присягают в верности осязанью лепестки нарциссов и крылья мотыльков врачует жена в ожидании мужа азъ добро есть черви гложут глаголь в мозжечке детонируют ангелы горсть мотыльков бросает вдова на могилу супруга
ты ходишь по комнате узнаёшь из летописей что дыба – лучшее средство от скуки рифмуешь букеты увядших ангелов с литерами смерти ходишь и ходишь и собираешь в пригоршню мотыльковПалимпсест (страницы с пятой по восьмую)
спатьспать повернуться набок вывернуть взгляд наизнанку и спать будильник лузгает семечки секунд ты сплёвываешь шелуху пустую колыбель качает мать взрослый сын плачет у неё за спиной мамамама страшный сон мне приснился он и сейчас стоит лишь закрыть глаза шевелится под веками
мальчик на фотографии которую я показываю знакомым приговаривая этоякогда ма-ма мы-ла ра-му на его-моём лице улыбка-раковина поднятая со дна речки Онеги и вскрытая перочинным ножиком и вот ямальчикнафотографии поравнявшись со мной какойясейчас тем же ножиком которым взрослые вскрывали его-мою улыбку-раковину пырнул меня в самое горячо в сплетение солнечного и лунного затмений
спатьспать незнаюкакойясейчас и которыйчас жена плеснула под боком теплой речной волной плеснула и отхлынула прошуршав ворчливым песком унося его в глубь себя в гугнивую тишь там покоятся мальчики на затонувших фотографиях улыбки-раковины тронутые первой ржавчиной перочинных ножей там покоится многоемилоесердцу некогда тело её предстояло на ложе вышедшей из берегов Онегой Онегой страстно текущей как отрадно было бросаться с разбега в бурный поток или поёживаясь осторожно ступать в прохладные воды плыть по теченью нырять и плескаться точно школьник во время каникул ныне же с хлебным обозом по Ладоге мёрзлой правишь опасливый путь свой бурлаки за волосы тянут тебя по обмелевшей Онеге тянут-потянут эхухнут и тянут до изнеможения до затмения солнечного и лунного сплетений до незнаюкакойясейчас и которыйчас И УСПИ ДАЛИДА САМСОНА НА КОЛЂНЂХЪ СВОИХЪ: И ПРИЗВА СТРИГАЧА
на стрелках будильника набухают почки иных миров чтоб завести весенние часы слетаются скворцы скво-рцы скво-рцы кузнечик тревожно стрекочет за циферблатом взрослый сын из-за спины матери заглядывает в пустую колыбель словно прохожий в окно выпуская голубя сизого дыма сизые голуби дыма сливаются с тучами и облаками проплывают под веками тучи точно беременные женщины и облака словно складки обрюзгшего женского тела беременные тучи и обрюзгшие облака беременные и обрюзгшие женщины проплывают над миром над пустой колыбелью проплывают под веками
этоякогда учительница была строгая и несчастная а мы волчата-лакомки лузгали семечки секунд столпившись у карты мира и скалясь на освежёванные туши материков и пока строгая и несчастная смачивала свои губы в водах Онеги приговаривая повторяйте за мной ма-ма мы-ла ра-му мы переправлялись парами на другой берег и смотрели оттуда как она одиноко водит указкой по синей струйке реки и было неясно рука ли дрожит ли река от истока до устья и которыйчас и какойясейчас
И УСПИ ДАЛИДА САМСОНА НА КОЛЂНЂХЪ СВОИХЪ: И ПРИЗВА СТРИГАЧА, И ОСТРИЖЕ СЕДМЬ ПЛЕНИЦЪ ВЛАСЪ ГЛАВЫ ЕГО
будильник тикает тикает гнойная ранка это скворцы не вернулись в скворечню сердца кузница стрёкота за циферблатом стрелки провисли под тяжестью плодов сочный опыт грусти передаешь собеседнику вазу с фруктами он выбирает яблоко или виноград или что больше нравится его подруге и гладя её самое горячо нет-нет это чужая подруга моя ваза с фруктами глядя на неё через плечо понимаешь скворцы не вернутся в скворечню сердца и выбегаешь на улицу бросаешься к первому встречному прохожему голубю сизому дыма и бросаешь ему навстречу крошки шёпота крошки шёпота гули-гули
этоякогда в свои права вступает эвридэй и тонкострунные девы фальшивят в твоих заскорузлых объятьях и ты сидишь на берегу Онеги червячок на крючке удишь-глядишь садится стрекоза на поплавок твоей печали мальчик на фотографии выплывает на середину реки его голос зовущий на помощь обгоняет волну налегая на вёсла дыханья и причаливает к берегу слуха твоего ты поднимаешь веки набухшие словно вата приложенная к гнойной ранке поднимаешь веки и прерванный сон твой словно сын покидающий мать устремляется к устью иных миров туда куда улетели скворцы скво-рцы где небо чаяний наших туда где жив Господь и ты живчеловек жив-курилка живчик ямальчикнафотографии незнающий какойясейчас и которыйчас ты щупальца всех пяти чувств своих тянешь-потянешь эхухнешь и тянешь в едином отчаянье к ОнегеЛадогемерзлой к лопнувшим почкам иных миров к Господихлебнашнасущный и говорит Господь повторяй за мной МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ
мамамама страшный сон мне приснился
И УСПИ ДАЛИДА САМСОНА НА КОЛЂНЂХЪ СВОИХЪ: И ПРИЗВА СТРИГАЧА, И ОСТРИЖЕ СЕДМЬ ПЛЕНИЦЪ ВЛАСЪ ГЛАВЫ ЕГО: И НАЧА СМИРЯТИСЯ, И ОТСТУПИ КРЂПОСТЬ ЕГО ОТ НЕГО.
Август
раннее утро на исходе лета словно цитата из Евангелия от Природы солнце всходит на холм с полными вёдрами синего неба не беда что малость расплескалось и глотка для счастья довольно но в счастье ли дело когда от самого горизонта до безлюдных окраин души простирается море света на сухих и зелёных травинках – капли росы слезинки Бога как говорят в деревне в них отражается всё что минуло и всё чему минуть ещё предстоит половица ли скрипнет чиркнет по сердцу сверчок каждый звук – окно распахнутое в вечность и я в него гляжу из комочка своей тишины где выучусь такому языку чтоб каждый звук был заповедью и молитвой он ведом только ветру и листве воде и ветру ветру и осоке куда мне с голосом тепличным до колокола гроз к стрекозам и шмелям пойду в ученики из васильков и незабудок играючи добуду звонкого неба слезу и уроню её на землю лес на холме солнцем пронизан по самую чащу ель кивает макушкой незримым гостям птицы пробуют голоса репетируя скорое «досвиданье» и первое золото осени холодком обжигает сердце«Как хорошо о чём-нибудь мечтать…»
Как хорошо о чём-нибудь мечтать ранним утром проснуться под небом иным совершенно другим человеком в несбыточном краю где птицы гнёзд не вьют Как хорошо о чём-нибудь мечтать плыть по теченью в рюмочке хрустальной считать ворон витая в облаках и времени кандальной поступи не слышать Как хорошо о чём-нибудь мечтать писать стихи пить тёмный мед заката петь соловьем в лесу твоих объятий беспечно нежась въяве как во сне вдали от жизни и вдали от смерти Как хорошо о чём-нибудь мечтатьТатьяна Грауз «Живые зеркала» Ильи Оганджанова (короткий разговор)
Когда выпадает первый снег, унылая мрачная графика города обретает живые и ясные черты, и как по волшебству проявляется (будто на старинной серебряной фотоплёнке) звонкая морозная перспектива улиц. Просветлённые бульвары начинают дышать свежим зимним воздухом, и так хорошо шагать по скрипящему, ещё не посыпанному солью снегу, так хорошо, как бывает только в детстве.
зачерпни звонкой воды детства вглядись в размытые акварели памяти нашепчи нашепчи что-нибудь в пустое дупло этой ночи словно на ухо мёртвому другу из стихотворения И. Оганджановашаг первый
Что такое поэтическая речь? как она зарождается? в какую тьму и глубину заводит? куда уходят её корни? куда стремится её крона? что проступает и угадывается за метафорой речи как дерева? Смогу ли я ответить хотя бы на часть этих вопросов – не знаю. Знаю только, что в случае Ильи Оганджанова вполне уместно говорить об этом, потому что система ценностей, которую проповедует своим творчеством Оганджанов, глубоко связана с органической формой существования искусства, и форма эта лишена умствования, умозрительности и уходит корнями в живой чернозём речи. Чернозём, не обескровленный измами, а глубоко соединённый с русской и мировой культурой. «Слово о полку Игореве», А. Фет, И. Тургенев, А. Пушкин, 0. Мандельштам, Т. Элиот, С.-Ж. Перс и Ду Фу нашли своё прекрасное место в тихом и неторопливом «разговоре с самим собой» поэта Оганджанова.
шаг второй
В середине 1990-х годов учёными были обнаружены зеркальные нейроны головного мозга (англ. mirror neurons, итал. neuroni specchio), которые возбуждаются как при выполнении определённого действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другим существом. Такие нейроны есть у приматов, людей и некоторых птиц. Функция, которую выполняют зеркальные нейроны, до конца не ясна и является предметом научных споров, однако, считается, что эти нейроны могут быть задействованы в эмпатии, т. е. в понимании действий других людей и в освоении новых навыков путём имитации. Некоторые исследователи утверждают, что зеркальные нейроны могут строить модель наблюдаемых событий и действий, в то время как другие исследователи относят их функции к освоению навыков, связанных с речью. Рефлексия, то есть «зеркальность» восприятия окружающего мира, представляет собой, по-видимому, естественное свойство человека телесного (homo corporalis). Каким образом рефлексия осуществляется, как человек проявляет себя в окружающей среде, как взаимодействует с собственным «внутренним» миром, – вот самые простые и загадочные вопросы о существовании органической материи, ответы на которые ещё не найдены.
шаг третий
В книге Ильи Оганджанова «Вполголоса» мы слышим авторскую рефлексию на окружающую реальность, видим как автор и его лирическое «я» прикасаются к миру «внешнему» и миру «внутреннему». Три главы этой книги – это три разные формы этого взаимодействия. Наречие вполголоса, взятое в название книги и первой её части, – это особый способ говорения, приглушенный, тихий, когда автор заведомо знает, как трудно быть услышанным, и поэтому обращается, скорее, к себе самому, чем к другому. Палимпсест (название второй части) отсылает нас и к прямому значению слова (т. е. когда сквозь один текст просвечивает другой – соскобленный – текст), и к пониманию того, что сквозь голос одного поэта слышны и другие голоса, р, руте время, другое пространство, другой воздух и ветер. Другие культурные слои. Виден другой свет (графически это просвечивание оформляется в увеличенных пробелах в строке между семантичесими отрезками текста). Третья часть книги «Tenebrae, или между сердцем и сердцем» приближает нас к тому, что представляет собой трудно уловимый мир-«я» и мир-«ты» («И сквозь самих себя, / отражённых в самих себе,/мы видим») и кто есть этот близкий сердцу другой, и что может связывать и разъединять «я» и «ты». На этой зыбкой и проницаемой границе соединения и разъединения и возникает тихое и углублённое созерцание радостей и боли жизни, пульсирующей внутри и вне лирического героя.
шаг четвёртый
Экзистенциальная напряжённость уже с первых страниц задаёт тон всему корпусу стихотворений книги «Вполголоса».
вдали от родины на пажитях иных твой голос
обретёт иную силу и чтобы в посмертном хоре
не сфальшивить запомни всех кто размочил сухарь судьбы вэтом воздухе влажном какдыханиехищногозверя запомни всё с чем нянчилось пространство всё чем оно переболело
Обращённость к тем, кто был «до тебя», кто говорил с тем» этим миром до твоего в нём присутствия – это не столько оглядывание назад, сколько определённое «расширение взгляда», позиция, когда лирический герой понимает, что ценность поэзии – в подлинности существования и в жизни, и в искусстве: «чтобы в посмертном хоре не сфальшивить». Время, в котором поэту дана возможность говорить, так коротко, что легче и естественней увидеть себя «за» переделами жизни, то есть «вписанным» в неисчислимый и невидимый хор прошлого, где воздух влажен «как дыхание хищного зверя».
Множество дорог открыты лирическому субъекту: дороги заблуждения («с карканьем стая ворон срывается с губ»), пути отчаяния («слово моё – легче дыма / бесплоднее пепла») и одинокие тропинки грусти по поводу невозможности избежать забвения («Я бы не вынес чёрной работы забвенья»). Но лирический субъект выбирает малое – бесконечно кропотливую работу души («мне бы справиться с малым наделом/ на границе меж дымом и пеплом –/ с душой»). И строится эта работа по очень ясным, самим для себя созданным «внутренним законам»:
ты ходишь по комнате перелистываешь братоубийственные летописи рифмуешь сусальных ангелов с букетом увядших нарциссов ходишь и ходишь …..ангелы маршируют по брусчатке сознанья их шаги отливаются в литеры и детонируют в твоём мозгу это буки идут войною на веди шрапнель поцелуев и судьба покидает окоп твердо слово ея аки обры обрящете бороны смерти
….. ты ходишь по комнате узнаёшь из летописей что дыба – лучшее средство от скуки рифмуешь букеты увядших ангелов с литерами смерти ходишь и ходишь и собираешь в пригоршню мотыльковОднако соблюдение этих законов не гарантирует, что результат поэтического высказывания окажется «положительным» и принесёт плоды. Через ритм шагов, ритм сердца, ритм дыхания («ходишь и ходишь»), через прощупывание звуковой среды лирический субъект пытается вызволить слова из внешнего и внутреннего пространства языка. Эти слова становятся «особыми» и единственными и создают новую – художественную – реальность. Но ничто не гарантирует, что произойдёт именно это благодатное преображение. Добытые слова могут стать тем неуловимо-мерцающим, что желал бы явить миру поэт,-«пригоршней мотыльков». Но могут оказаться уже омертвелыми, похожими на «букеты увядших ангелов». Внутренняя драма книги «Вполголоса» как раз и формируется в ускользающей от жесткого определения художественной реальности, которую рождает поэтическое слово:
слово ещё за тобой за тенью твоей отстающей
новобранцем на марше убитым в первом сраженье за тенью твоей ещё слово виноватым ребёнком едва
поспевает
шаг пятый
Целостность поэтического мира Оганджанова особенна тем, что хотя формально и можно разделить его на стихи и прозу, на переводы и эссеистику, но в сущности, всё написанное Оганджановым представляет единую полифоническую по внутреннему звучанию книгу. Свободный стих (верлибр) в какие-то годы сменяется у Оганджанова на рифмованный, короткая проза соединяется в роман-пунктир, который строится, или точнее, саморазвивается по симфоническому принципу через пластическое соединение рассказов. Такова эта подвижная и в то же время целостная в своём единстве система «живых зеркал» Оганджанова, язык которого с годами становится всё более прозрачным и символическим, оставаясь предельно ясным и незамутненным.
«Ветер дождь листопад…»
ветер дождь листопад духовые и струнные настройщик плакун-травы беру как скрипку ветку клёна и в тёмном шелесте мерцает звезда и вьётся музыки бесцельная тропа и я на ней один без компаса и картыЭтот особый символический язык, которым говорит городской «тепличный» лирический герой стихов и прозы, находится в фокусе зрения автора. Благодаря этому мы видим, чувствуем, как и каким образом выстраивается система «живых зеркал» как художественный метод. «Зеркала» Оганджанова не мёртвые и плоские – они звучат, они одушевлены, они взаимодействуют и друге другом, и с лирическим героем, и с читателем. Они являются и его инструментом, и голосом автора, его тропой, музыкой. Благодаря их живому участию и со-участию лирическое «я» автора оживляет те зыбкие связи, которые соединяют человека и всё, что его окружает. И эта со-настройка человека и мира и есть та «внутренняя тропа», по которой голос поэта прорывается из своей потаённой тишины – к нам – в мир.
каждый звук – окно распахнутое в вечность и я в него гляжу из комочка своей тишины где выучусь такому языку чтоб каждый звук был заповедью и молитвой он ведом только ветру и листве воде и ветру ветру и осоке куда мне с голосом тепличным до колокола гроз к стрекозам и шмелям пойду в ученикиНо Оганджанов не спешит уходить в звукоподражание или заумь – его задачи иные. Его «подражание» природе – это, скорее, жест слияния и драма невозможности полного со-единения. Но драма эта для лирического субъекта – по мнению автора – естественна. Лирический субъект подчиняется этой драме, или драма пытается подчинить себе лирическое «я» поэта, чтобы в смиренном соединении, в умалении своих «гордых» помыслов поэт мог прозреть промысел жизни, который, безусловно, больше всего, что поэт может о жизни сказать.
шаги шаги шаги
И завершая этот короткий разговор об особенностях поэтики Ильи Оганджанова, хотелось бы заметить, что органичность его художественного мира, в котором соединена горькая саморефлексия протагониста и мягкая ирония автора, кажутся мне важными и существенными именно сейчас, в наше время-hi-tech. Сочувствие к человеческим слабостям и сопереживание человеку в его радости и горе – вот то, что, на мой взгляд, сохраняет в нас живой ток жизни.
Дельта
Алексей Александров Стихотворения
Род. в в 1968 г. в городе Александров Владимирской области. Окончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Новый берег», «Урал», альманахах «Белый ворон», «Новая реальность», «Улов», антологиях «Нестоличная литература», «Черным по белому», «Лучшие стихи 2013 года», «Антология Григорьевской премии», сетевых изданиях «TextOnly», «Цирк «Олимп»+ТУ» и др. Автор книги стихотворений «Не покидая своих мультфильмов» (New York: Ailuros Publishing, 2013). Живет в Саратове, работает инженером конструктором, заведует отделом поэзии журнала «Волга».
«Огни горят, готовится еда…»
Огни горят, готовится еда, Пейзаж застыл, как будто порван пассик И ленту зажевало навсегда, Путь замело, заело ручку в кассе. Нет смысла дергать, жди себе спецов, Чужих детей экзаменуй на случай Прихода утром голубых песцов… Гиперболоид испускает луч и к, Свободу дарит, золото крадет. На лыжах мимо окон едут птицы И крошки хлеба в мыльной бороде Клюют у солнца, чтобы убедиться – Через ручей, где был построен мост, К дорожным знакам был добавлен крестик, Переберется как-нибудь само, Используя подсказки в этом квесте.«Меха кузнечные не выпекают звуки…»
Меха кузнечные не выпекают звуки, Но колокольчик вздрагивает там, И клавиш пишмашинки западает, И в плясовую улица идет. Забор покрашенный всё щупает дыру, Где досочка на гвоздике болталась – Рвет в лоскуты штанину, и земля Из туфельки просыпалась уплывшей. Дракон горы готовится ко сну. Он надышал себе железных соловьев, Деревню сжег бы, да остыл к разбою, Два самовара трёхведёрных выпив.«Развешивают флаги фестиваля…»
Развешивают флаги фестиваля, Обратную налаживают связь, В пластмассовый стаканчик Персивалю Нальют портвейн, мечта его сбылась. Вот листья – словно тысяча ладошек, Начищенное золото трубы, Воробышком взъерошенный лоточник Охраннику пузатому грубит, И круглый стол о судьбах многотрудной Литературы, лапками суча, Где маятник с растущей амплитудой И в центре непотухшая свеча. Не просыпайся, затаив дыханье, На полшестого тени от усов – Побрызгав след дешевыми духами, Зима уходит от настырных псов.«Бескрылые ангелы бьются как рыбы…»
Бескрылые ангелы бьются как рыбы, И сахар морской на остывшей губе, И снег – как птенец из гнезда, но не выпал, И воздух, меж стекол попав, закипел. Гуляют по берегу сытые чайки, У облака месяц надет набекрень. И небо со льдом в опрокинутой чарке – На пару часов позабыть про мигрень. Найдут и сожрут ли их утром собаки, Оставив в песке чешую и перо, Где водоросли как остаток заварки Волной отнесет на пустой Апшерон? В зрачке золотом отражается слово, В серебряной ложечке выдох согрет. Играет негромко прибой на басовой Струне, предварительно выключив свет.«Выгрызает в воздухе нору…»
Выгрызает в воздухе нору Птица саблезубая с рогами, Меж которых светится корунд – Красный яхонт, драгоценный камень. Вывернула шубу чешуёй Рыба внутрь и падает на землю, Где траву забвения жует Возле стен монастыря Ансельма. Бык стоит в расплавленной реке С песьеглавцем из дырявой лодки, Наблюдая за игрой в крокет Человечков, запертых в колодки. Сбрасывает дерево плоды, Жрица входит в облако из чаши Озера, зубря свою латынь До подробных искорок мельчайших. Лишь змея, надвинув капюшон, Бегает, не торопясь, по кругу В опустевшем здании большом Под молчанье звонкое, как ругань.«Жилец уехал, мебель отмерла…»
Жилец уехал, мебель отмерла. Пчела в часах затачивает шильце, Картонных цифр размазав мармелад – Никак уйти из круга не решится. Там, что ни день, гуляют за стеной, Гвоздь забивают костью доминошной. Когда совсем становится темно, На шаг назад их передвинуть можно, Салфеткой влажной лишнее стереть, Луну зажечь и вид во двор закрасить, Где жабры раздувающий стервец Зовет давно уснувших одноклассниц За барабанной ширмою, плавник Трепещет словно сморщенные флаги, И в скважину замочную проник По капле вождь в стеклянном саркофаге. Там потолок, похожий на дуршлаг, Радушный снег, куда свинцовый мячик Упрыгал в гости, точно пастор Шлаг – Туда, где сумрак заоконный мягче.«Снег падает, и всё спешит подставить…»
Снег падает, и всё спешит подставить Ему плечо. Становится крылом Любая ветка, напрягая память Затекших мышц. И дверью хлопнув, дом Чуть сгорбился под грузом снов на самом Последнем незаметном этаже, Где ангелы с орлиными носами Проснулись и раскаркались уже. Вот выбежали с сумками во дворик Кто на две трети из простой воды И под припев Макферрина don't worry Счастливей стали. Облака волдырь Сейчас прорвется, к выпавшим добавив Осадкам что-то вроде конфетти, И меч реки, и боль в груди тупая – Как будто льдинка рану бередит.«Прервать бы праздник, но нельзя…»
Прервать бы праздник, но нельзя – Хлопочет у котла Медея. Бессмысленный, как два ферзя, Союз героя и злодея. С двухтысячных, краснея, врет Сыр со слезой, снежинка в горле. Куда мы движемся? Вперед, Но заготавливаем колья, Пьем серебро, мелком квадрат Рисуем, на который встанут Князь и дружина. Из-под лат Сочится облака сметана, И скоро потечет лицо, И ноги, выбив не чечетку, Вдруг наливаются свинцом И тень откидывает челку, Приветствуя тебя, на смерть Шагая так, что на параде Возьми линейку и измерь, Хотя бы будущего ради.«Когда ты станешь чем-нибудь еще…»
Когда ты станешь чем-нибудь еще, Корабль воздушный вздрогнет на мгновенье – Морковный сок, отхлынувший от щёк, В глухой цепи мерцающие звенья. Стоят деревья, распушив листву, Соря словами, тающими сразу. Когда тебя домой не позовут Два утонувших в полночь водолаза, Ты будешь тем, что вечером забыл. Дым, отвердев, притягивает запах – Не мотылек, но баловень судьбы У вечности в ее железных лапах.«Тишина стеклянная в допросной…»
Тишина стеклянная в допросной, Стынет дождь серебряный из пуль. Клюнет рыба и на эти блесны – Сохрани, скопируй, зазипуй. С каждой лески рвется колокольчик, Но его лишили языка Там, где пена облака клокочет По краям кипящим озерка. Вор бежит, как слюнка золотая, Протоптав дорожку не свою, Брешь найдут и стену залатают, Звук починят, гнездышко совьют.Анна Арканина Такая осень
Родилась в Тюменской области в гор. Сургут, окончила МГУ им. М. В. Ломоносова – факультет иностранных языков и регионоведения, некоторое время жила и работала в Тюмени. Сейчас живет в Москве. Участница петербургского альтернативного союза «Соборище», вечеров «У красного рояля» в Государственной Третьяковской галерее. Первый сборник стихов вышел в издательстве Тюменского государственного университета в 2000 году. Также печаталась в сборниках «Зеленая дверь», «Декораторы снов», «Соборище». В мае 2015 года вышла книга «Воспитывать нельзя», где собраны стихи последних лет.
«У Анны Арканиной свой, особенный слог – порой торопливый, подпрыгивающий, будто птица на ветке. И на этом своем птичьем языке она рассказывает очень понятные, близкие и простые вещи, с удивлением, впервые увидев это вокруг себя:
Простая осень, в общем, как всегда, Как сотни лет рисуют на полотнах: Сырая осень, ветер, подворотня, И в лужах стекленеющих вода.Но эта простота только кажущаяся, чуть изменишь угол зрения – и все становится необычным, так, как бывает во сне:
Мы в ил, как рыбы, вкапывали брюшко, До дна хвостами рыбьими достав. Никто нам был, по-честному, не нужен На жердочке потерянного сна.Арканина собирает эти сны аккуратно, записывает, торопится, путает их с явью, живет в них так же естественно, как рыба в воде, – нет, точнее, как птица в небе. Вчитываешься в ее стихи – и вот уже сам прыгаешь вслед за ее торопливым языком, попадаешь (или не попадаешь) в ритм, и начинаешь понимать, что чувствует старая потерявшаяся лошадь, о которой забыли оба хозяина – и русский, и украинец; ждешь, когда закипит поставленный на огонь чайник – почти физически чувствуя его тепло. Еще в стихах Анны Арканиной много телесных ощущений, они очень тактильны, и это не только стихи о любви, где все на прикосновениях; в этих стихах ничего не названо прямо (все тот же птичий язык), но все уже прочувствовано, прожито вместе с лирической героиней. В них очень много личного: автор пишет о своем, вроде бы даже не беспокоясь, поймет ли читатель, успеет ли за образами, воспоминаниями, намеками. В то же время, автор оставляет ему, читателю подсказки почти в каждой строчке».
Юлия Белохвостова«Я писала письмо…»
я писала письмо, писала его много лет. сочиняла как музыку: до-ре-ми. вот еще рука дописывает, только свет в ночь уходит и прячется за дверьми, подрастали буквы, не буквы – строй, гордецов упрямых и нежных слов через строчку девичье: «будь со мной», после точки важное: «будь здоров», а с годами строчки текли быстрей вскоре стало ясно слова – вода… обещали, все должно отболеть, но пока никто не сказал когда. я сложила письмо в бутылку – пускай плывет, пусть им шторм играет, глумится мрак, если мне когда-нибудь повезет, пусть его поймает седой рыбак.Моя тень
моя тень как привязанная как будто военнообязанная шаг в шаг чеканит прислонившись с краю я её ни о чем не расспрашиваю терплю её ненакрашенную длинноногую, худоплечую с утра терплю и до вечера и чайку налью и часок вздремну просыпаюсь, а она ногами меряет тишину… день проходит и год проходит, а она без праздников и субботы ходит за мной след в след особенно когда свет светНикто
Никто не приходил сидеть под дверью, Пупок звонка никто не теребил, И в тишине предутренней, расстрельной Никто гвоздя ненужного не вбил. Дым плавал тихо, как в библиотеке, Перевирая все, что окружал. Меняли очертания предметы И бликами крошились на ножах. Мы в ил, как рыбы, вкапывали брюшко, До дна хвостами рыбьими достав. Никто нам был, по-честному, не нужен На жердочке потерянного сна. Мы никуда не едем – не хотели, Наш чемодан хоть хищен – пусторот. И соловьиной устаревшей трелью Никто, придя за нами, не убьет.Простая осень
Простая осень, в общем, как всегда, Как сотни лет рисуют на полотнах: Сырая осень, ветер, подворотня, И в лужах стекленеющих вода. Скупая осень. Тает краски слой С картины, что висит в оконной раме. А что там дальше – мы еще не знаем, Но смотрим вдаль, качая головой. Немая осень убирает звук, И нам с тобой давно не до пластинок. Там на дорожках пыль и паутина, Печали песни две и счастья круг. Такая осень нами пишет стих: Обычная осенняя услуга. А мы молчим, как на поминках друга, Прозрачны, бессловесны и легки…Изнутри
Я жил на грани безумия, желая познать причины, стучал в дверь. Она открылась. Я стучал изнутри!
(Руми) Там внутри у меня тишина повисла, Не слышно ни мысли, ни слова, ни чувства, А слышно как падают внутрь со свистом Холодные капли ламбруско. Там внутри у меня заросла площадь Сорными травами высотой по пояс. В них мирно пасется старая лошадь, Как она там одна? Беспокоюсь. …Там усталые люди идут на площадь, Мешают друг другу, смещают друг друга. Они через площадь уводят лошадь, Но лошадь упрямая ходит по кругу. Иногда еле слышно беседуют двое: Вздыхает русский – у нас внутри горе, Украинец молча дышит на мове И с русским во мне не спорит.«След апреля стелется белой крошкой…»
След апреля стелется белой крошкой – Подсыпает еще из небесных рук. Как хозяйка – пыльной взмахнув ладошкой Подсыпает в печево белых мук. И взрастает в тесте сыром апреля Желтоглазый первенец – птичий сын. Над губой юнца, не пройдет неделя Тополиным пухом взойдут усы. Годовые кольца его дороги – Долгожданным гостем по городам Он идет расхристанный босоногий, Повзрослевший за ночь – не по годам. Над плечом зависнет тревожно птица – Чикчирикнет спичкой о небосвод… …А народ вздыхает, молчит, толпится во все небо крестит ее полет.Не совсем весеннее
такое небо расплескалось краской! поверх ему подставленных голов, сплетались с солнцем в поцелуях страстных сто языков. лакали воздух кислый, прелый, вешний ни капли не оставив на потом, всё прибивали шаткие скворечни железным лбом. и верилось весна навеки с нами, что утром, встав с постели, не уйдет, не назовет чужими именами – закроет рот… …ветшало время, истончалось, блекло – сном уходило вдаль за поворот, но та же осень отражалась в стеклах из года в год.«когда весенний придет туман…»
когда весенний придет туман и в нем нас видно с тобой не станет мы растворимся в густом тумане как сахар – /ложечка на стакан/. как заговорщики на чердак взлетим по серым стальным ступеням, послав все нафик, к едрене фене мы перепутаемся в руках. читая связанно по губам мы мир отложим до воскресенья и торопясь, будто не успеем ко всем не встреченным поездам – мы будем ластиться горячо и нежно-нежно молчать на ушко, и отдаваться весне послушно надежно связанные лучом… …как дежавю и программный сбой – по крыше черная бродит кошка… давай её назовем «Понарошку» и на чердак пригласим с собой…Покров
В утреннем тумане клочковатом Выдох выдуваешь, как пузырь. Неделимый осени остаток Впитывает, кашляя, пустырь. Воздух индевеет между бревен В запустевшем парке у пруда. После лета мир холщов, огромен – Будто впору не был никогда. Путаются мысли в подворотнях, «снега, снега!» требует душа. Переделать все задумал плотник, в черно-белых роясь чертежах. Только мать от осени излечит, От ремня отцовского спасет – Одеяло снежное под вечер Городу под спинку подоткнет.Слово вечность
в этом холоде живы в толпе среди спин как в считалочке детской один плюс один чайник ставим на кухне все меняем печали рубли и жилье зачерствевшее гладим под телек белье от бессонницы или от скуки жжем холодными пальцами ласково под свитерами колючими пальцы как лед не сердись мой хороший пусть быстрей закипает на кухне вода и смертельно уставшие спят города почесавшись от редких прохожих здесь от кубиков битого колкого льда холодеет сильнее мертвеет рука лучше было б в перчатках слово вечность писать запивая вином но когда прочитаем выходит оно непечатнымВремя вдохновения
бесшумно секунды бьются в глухие стены квартиры от боя секунд на стенах вздрагивают картины она в этом ритме кружит /ей кажется балерина/ а он говорит «дорогая, котлеты недосолила» она у окна застывает, последние па от танца – стряхнув на паркет дубовый, ей все равно убираться и тихо стоит, качаясь, подобие легкого транса в ней строчка, живая строчка, уже начала прорезаться а он ее не тревожит, детей отправляет к маме котлеты свои приправляя кислым сливовым ткемали и все замирает в этом покачивающемся молчанье и, кажется, даже секунды биться потише стали …и вот – отпускает. …дом вновь наполняет время, секунды шаги чеканят приходят от мамы дети и прыгают на диване не учит уроки Леня, щебечет о чем-то Маня… внутри у нее потихоньку след от строки заживает.Сергей Ивкин Спички для Библии Гутенберга
Ивкин Сергей Валерьевич. Поэт, критик, художник. Родился в 1979 г. Член Союза писателей России. Дипломант Первого Санкт-Петербургского фестиваля им. И.А. Бродского. Шорт-листер Литературной премии им. П.П. Бажова. Один из составителей третьего тома Антологии Современной Уральской поэзии. Живёт и работает в Екатеринбурге.
Послесловие: Геннадий Каневский«В маленькой комнате розовые вытертые обои…»
В маленькой комнате розовые вытертые обои. Мы занимались любовью там по-собачьи. Мы не любили, а занимались любовью. Любят, мне представлялось, как-то иначе. Просто хотелось любви. Я не знал, что такое. Я никогда не стоял под балконом с букетом. Мне представлялось: однажды встречаются двое и начинается самое долгое лето. Вечные осень-зима, по весне – обостренье. Не прикасаешься, а откровенно кусаешь. Нужно всего-то от счастья упасть на колени, а не высчитывать возраст, типаж и дизайн. Эти стихи перепостят, и всё теперь можно в них написать, как соседу углём на заборе: вся моя жизнь представляется выспренной ложью, только стихи отзываются радостной болью. Шорохи, скрипы, расшатанной этажерки скорбный скелет в каноническом лунном сиянье. В маленькой комнате запах раскроется женский и отрешённую память закрутит инь-янем.«– А ты долго был с Шер?..»
– А ты долго был с Шер? – Я не знаю никого с таким именем, кроме певицы. – Я не о женщине. Шер – это личная неприкасаемая сущность четвёртого порядка, отвечающая за ментальные перестановки. – Я сейчас перекрещусь, и ты исчезнешь. – Ничего смешного. – А я ничего смешного и не сказал. Любая нечисть из моего дома выметена. – Шер скорее чисть. Чистящая. Та, которая забирает себе чужую боль. Правда, вместе с болью она высасывает и радость. Ты можешь испытывать вспышки счастья, но протягивать их разноцветными нитями через многие дни и недели ты не способен. Связующая радость испита. – А что происходит, когда Шер больше нет? – Живёшь. Просто живёшь. Веришь, что живёшь.«День начался с того, что в доме кончились спички…»
День начался с того, что в доме кончились спички. Все шесть зажигалок поочерёдно вынесли курящие друзья. Холодное молоко с ароматными льдинками и деревянные мюсли. Новая дублёнка, подаренный шарф, ботинки с протектором. Очень долго я боялся любить себя. Считал, что так будет закрыта единственная валентность. Останусь внутри зеркальной бутылки Клейна. Именно там и оказался: вечный брат, защитник, душа, жилетка, любовник-заместитель… Готовый взять с улицы первую встречную девочку со спичками: – Живи, только будь рядом, если не сможешь греть собой, поджигай на мне одежду. Кстати, надо купить спички. Вот я какой в зеркале! Тёплая кремовая кепочка. Выбритое овальное лицо. Пёстрая лента на плечах. Меховая оторочка. Золотистые брюки с гармошкой понизу. Всё детство носил короткие штаны. Странно быть самым высоким в семье. Глупая обида отпечаталась на всей фамилии. Ясновидящая мать, зажимающая себя, чтобы забыть, ничего не знать: – Чем я провинилась перед Тобой, Господи? Бабушка в сотый раз перебирающая альтернативные реальности: – Почему я живу не с ним? Не с ним… Отец, вызывающий призраков на дуэль и стыдливо выходящий в общий коридор. Брат, разбивающий машины одну за другой, чтобы разрешить себе обоснованный повод для слёз. И я – всегда счастливый – не имеющий права показывать сопричастность семейному горю, где у каждого вместо волос – пламя. Поэт Дмитрий Чернышёв запаливает сигарету от щелчка пальцев. А для меня даже спичек нет.«Потому что сердце – камень…»
Потому что сердце – камень, потому что паразит, отвечать на мир стихами – это всё, что мне грозит. Обернусь, вздохну и сплюну, и вернусь к работе, и буду видеть в жизни юмор, что ты мне ни говори.«С тех пор, как ты превратилась…»
С тех пор, как ты превратилась в большой мыльный пузырь и прошла многоэтажками, этот мир стал настолько мелок – тонкая плёнка поверх асфальта, – что я обнаружил возле дома три больших пакета вины, не донесённых до мусорных баков. Я не хочу развязывать их и заглядывать внутрь. Пробую угадать. От тебя никакой подсказки: я же рассказывал только свою давнюю жизнь. Происходящее параллельно тебя почти не касалось. Ну, кто в здравом уме станет пересказывать любимому человеку новостной канал? Пакеты совершенно одинаковые. На равном расстоянии от подъезда. По очереди набираю номера в телефоне и прошу прощения. Нет вины, нет вины, нет… Записная книжка пуста. Пакеты стоят. Ждут.На светофоре
Артёму Путинцеву
Женщины с голыми ногами. Мужчины с неприкрытыми лицами. Дети, застегнувшие рты. Собаки с тремя хвостами. Нет, эта с двумя. Второй торчит из пасти. Птицы, пролетающие сквозь стены домов. Вот, только что видел. Смотри, ещё одна. И тут на светофоре эта ящерица ко мне поворачивается и уточняет: К банку мне спускаться по левой или, всё-таки, по правой стороне! Вполне себе симпатичная ящерица. Непонятно, зачем столько лет мы их отстреливали? Сейчас они поселились на тех же лестничных площадках. В парадных стало пахнуть лучше. Люди более церемонны, стеснительны, отводят глаза. Когда уничтожили Санкт-Петербург, ящерицы первыми додумались раскрыть социальные сети и скачать все личные фотографии с видами и интерьерами города. Бесконечные ню и соития были бережно вырезаны. Восстановили восемьдесят процентов жилфонда. Человек иррационален. Про женщин с голыми ногами я говорил.«В пятнадцать лет мне повезло…»
В пятнадцать лет мне повезло. Меня освидетельствовала психиатр после пролома черепа в двух местах и убрала из моей истории страницу с диагнозом «Сумеречный эффект»: – В случае чего можешь сослаться на травму. Компьютеров в больницах не было, все документы хранились в единственном экземпляре. В школе я видел то, чего не видели другие, и говорил вслух. Надо мной не смеялись – боялись, потому что каждое откровение имело последствия: укушенный красной змеёй ребёнок подхватывал простуду, синие пауки приносили нервное истощение. Затыкаться я не научился. Однажды застыл посреди улицы Пальмиро Тольятти, потому что прямо в воздухе зияла дыра, и там в ней, внутри, с той стороны воздуха искрила проводка. В другой раз воздух был исцарапан огромными когтями, и я не смог протиснуться между царапинами, пришлось делать крюк в четыре квартала. В моём доме в старом кресле любит спать человек без лица. В окна (сквозь стекло и антикомариную сетку) влетают говорящие птицы. В плафоне в ванной комнате живёт дальний родственник Оле-Лукойе. Бреясь по утрам, стараюсь не порезать в зеркале жабры: у крови в горле болотный вкус. Для чего я это рассказываю? Мне нужно, чтобы вы поверили: я присутствовал при знаменитой шахматной партии Тристана Тцара и Владимира Ильича Ульянова-Ленина в Цюрихе одна тысяча девятьсот шестнадцатого года. В январе. В «Cafe Terasse». Чехословацкий поэт Любомир Фельдек неверно описал события. Не было лозунгов дадаизма. Не было тихих сентенций. Не было исторической миссии. Они не предполагали встретиться снова. Поэт передвигал чёрные фигуры. Литератор – белые. Белые начали и выиграли. Литература всегда начинает и выигрывает. А поэзия всё теряет и остаётся.«В сумерках тело становится цвета бумаги…»
в сумерках тело становится цвета бумаги библии Гутенберга чтобы любить тебя надо отказаться от человека ждать, а не желать избранные места наизусть* * *
Александру Самойлову
Тэги: fantazy, trash,уральский магический реализм
Интервью с оператором поэтической кино-секты.
Kopp: Здравствуйте, Александр. Ваш последний релиз
был заблокирован. Александр: Те, кто
обладают свободной волей, могут смотреть кино
без технических или химических приспособлений…
К сожалению, данное видео было удалено
В этом разница восприятия у поколений,
живших в доцифровую эпоху
и после прихода андроидов.
Государству не всё равно,
как закодировать базовые программы
в детях…
К сожалению, данное видео было удалено
Взыскующий Господа проповедует в интернете:
«Раньше вставали перед иконой, читали псалтырь,
только потом умыться, почистить зубы.
Даже в стране идеологической пустоты
радио нам возвещало о Том, кого все любим.
Так отмечает Виталий Кальпиди:
В искусстве должно быть дно,
ниже которого не опуститься…»
–
К сожалению, данное видео было удалено
–
Вы пытаетесь перейти на несуществующую страницу.
Преодоление инерции
Помню, как, будучи знаком с ним лишь заочно, впервые увидел «в реале». Все начали поворачивать головы, улыбаться, как-то светиться изнутри – «Серёжа, Серёжа пришёл!»
Человек рисующий, человек поющий, человек, соединивший в стихах юношескую оптику, полную максимализма, но и максимализма-то какого-то необыкновенно доброго и всеохватного, как у Ганди – и напряжённое вглядывание, философское проникновение вглубь вещей. Этим вглядыванием и проникновением Сергей Ивкин делится с нами, его читателями, но – как делится? Не как человек, вещающий последние истины с кафедры, и подкрепляющий их теоретическими выкладками – на доске, мелом, непременно осыпающимся на пиджачный рукав – а как философ Древней Греции, свободно гуляющий с учениками и оппонентами по саду и обменивающийся мыслями, и спорящий, и соглашающийся – или остающийся при своём мнении. Но никогда не выбегающий из сада прочь (или – из зала, хлопнув дверью). И всё это – в городе Екатеринбурге, через стихи Ивкина становящимся неким «городом вообще», полисом, если угодно, лишь иногда, через упоминание примет и знаков раскрывающим своё инкогнито:
над городом плывут левиафаны на нитях остановлены машины слепой ребёнок ножницами шарит ему пообещали элефанта она пообещала быть инфантой она пообещала среди женщин пинать ногою и лететь нагою над городом плывут аэростаты и овцы объедают пальцы статуйМожет быть, именно эта всеохватность, всеобщность, открытость и выделяет Ивкина в среде поэтов Уральской поэтической плеяды, к которой он, тем не менее, несомненно принадлежит и в силу человеческого и поэтического рождения, и как ученик известного уральского поэта Андрея Санникова, и как друг и собутыльник поэтов т. н. «Озёрной школы», и как брат и добрый ангел взлелеянной Евгением Туренко молодой поэтической поросли из Нижнего Тагила.
Для поэта, публикующегося и читающего свои стихи вслух достаточно часто – то есть для фигуры публичной и укоренённой в литературной жизни – особенно тягостен момент инерции и привыкания, когда поэтическая речь начинает течь плавно, по старому руслу, по прежним наработкам. И – напротив – невероятно интересен и самому поэту, и его читателям момент слома инерции, перехода к чему-то непривычному, поиск новой поэтики. Мне показалось, что новые стихи Сергея Ивкина – это как раз точка бифуркации, некое обещание совсем нового Ивкина, которого мы раньше не знали. Особенно характерны в этом смысле тексты нерифмованные, разбивающие лёд инерции, уводящие от лирической и текучей стихии в эпико-метафизическое пространство, в благую скупость изобразительных средств, в ту область, где автор, мысль и слово – три точки, через которые необходимо провести линию текста.
Геннадий Каневский[1]
Елена Ковалева Тростниковая дудка
Родилась в гор. Вольске Саратовской обл. Окончила Саратовское худ. училище, училась в ЛВХПУ им. Мухиной. В 1991 г. переехала в Алма-Ату. После возвращения с семьей в Россию окончила художественно-графический факультет Орловского гос. университета, затем аспирантуру при кафедре философии и культурологии. К. ф. н. С 2007 г. публикуется в электронном арт-журнале «Arifis». В настоящее время преподает на философском факультете ОГУ. Член Союза писателей России, лауреат Всероссийского литературного конкурса «Хрустальный родник» (Орел, 2011), автор трех поэтических сборников.
«Каргополь, город на поле вороньем…»
Каргополь, город на поле вороньем, Долго встречает, да скоро хоронит Зеленоокое нежное лето – Где ты, мой ангел лазоревый, где ты? В светлых проемах глазниц колокольни, Не различающих мир этот дольний, В тесных углах деревянного дома, Где и солома бывала едома, В радостных возгласах чад человечьих, В хрупкой душе, что камней вековечней – В ней отразившись, просевшие стены Тоже сподобились доли нетленной: В памяти нашей свежи и сохранны Все нанесенные временем раны.В Азии
Когда-то жили в Азии – хребет Тянь-Шаня за окном как на ладони… Сквозь шторы проникал горячий свет, И не вздохнуть в прожаренном бетоне. Ни облака, лишь пики гор вдали Туманом заволакивались синим – Курились влагой нежной, от земли Чуть отдаляясь, как мираж в пустыне. Воды немало утекло с тех пор, Как мы ушли…, нет в памяти обиды, Лишь изредка всплывают пики гор И вкрадчивые речи чингизидов.«Кроткий Орлик. Целуют ивы…»
Кроткий Орлик. Целуют ивы Отраженья свои в воде, Безответна, тиха, пуглива Гладь студеной реки. Нигде Беззащитнее нет природы, Полон скорби небесный свод, – Словно нашей земли невзгоды Видит в зеркале тихих вод«Приехали. Вдохнули Петербург…»
Приехали. Вдохнули Петербург Поглубже, захватив единым взглядом Все, что внезапно оказалось рядом: Фасадов строй, канал и колоннады Казанского священный полукруг. Без малого два дня – ничтожный срок, Чтоб приобщиться к роскоши столицы – Зайти в музей, на небо подивиться, Понять, что здесь всего волшебней лица В толпе на Невском – вот и весь итог Визита. Что на память заберем? Промозглый ветер Балтики в карманах, Фарфор в коробке, в голове престранных Видений сор…. И вот уже с Мосбана Гремящий змей летит за окоем.«Астры догорают во дворах…»
Астры догорают во дворах, Тишина на улочках старинных, Робкий ветер в зябнущих садах, Хрупкие целует сентябрины, Теребит последнюю листву Над немым пустеющим фонтаном Со скульптурой вычурной и странной, Виденной когда-то наяву, Так давно, что явственных следов В памяти отыщется не много Городка того, что одиноко Спит средь серых бархатных холмов. «От Гражданки до Марсова поля…» От Гражданки до Марсова поля В ленинградских забытых садах – Юность…август…беспечная воля… Терпкий вкус на остывших губах До сих пор ощущаю я, словно Лишь вчера…и ладоней тепло, И листва опадает неровно На ветру, и темнеет стекло Налитое мерцающей влагой – По глотку драгоценный Агдам, По глотку и печаль и отвага… Пусть приют не нашли мы тогда.«Так высок этот берег, что даже Луна…»
Так высок этот берег, что даже Луна Потерялась внизу средь осоки, Светлым краем одним чуть касается дна – Засмотрелась на берег высокий И заслушалась… – в чаще скучающий Пан Коротает часы со свирелью – И отзвуков в ночи расцветает тюльпан, Соловей отзывается трелью. Только Нимфа капризная к трелям глуха И гармонии ясной не рада: «Эта музыка, может быть, и не плоха, Но грубее, чем шум водопада.»Тростниковая дудка
Если о тайне сердца молчать невозможно, То отыщи заросли тростника. (Не сомневайся, это совсем не сложно, Помни одно – рядом течет река). Крикни его стеблям и метелкам пышным Все, что людским доверить нельзя ушам – Травы, как люди, тоже умеют слышать, Многое помнит тихая их душа. Срежь один из стеблей и сделай свирелью (Если не сможешь, подскажет лукавый Фавн) Дунь в нее – и услышишь: в прозрачных трелях Чуть заметно мерцают твои слова. Переплавлен рассказ в переливы звуков – Можешь теперь на площадь его нести – Каждый узнает в нем радость свою и муку, Все тебе, как себе самому, простит…«В мае живешь, в октябре только пишется…»
В мае живешь, в октябре только пишется – Грустью рождается слово. В шуме листвы опадающей слышится Тихая песня иного Края. Туда отправляются стаями Тени ушедшего лета. Видишь, и наши с тобою растаяли Где-то вдали силуэты. Там за рекою небесно-зеленою, Вьющейся неторопливо, Образы памяти вечно влюбленные Бродят в забвеньи счастливом – Между стволов, погрузившись в молчание, В ласку полдневного света, Слушают голос листвы и журчание Незатихающей Леты.«Осень… беги от нее – не беги…»
Осень… беги от нее – не беги… После дождя потемнела дорога, Птицы усталые чертят круги, Впрочем, осталось немного. Вон, уж виднеется каменный дом – Окна заплаканы и близоруки. Ждут ли тебя за накрытым столом Или забыли в разлуке? Все же спешишь, разбивая легко Серых небес отраженья – границы Стерты, и кажется – недалеко Свет и любимые лица.«Был месяц так тонок, что страшно коснуться рукой…»
Был месяц так тонок, что страшно коснуться рукой. Пока мимо нас по мосту проносились машины, Мы видели только ладью, что плывет над рекой, Мы слышали лишь тишину и вдыхали покой, Как путники, что наконец добрались до вершины. Пора расходиться – минуты тянули ко дну. Касание губ невесомо, как крылья ночницы. Расстались, и каждый увел за собою луну: Я шла на восток, ты на север с луной повернул, И свет ее рушил над нами любые границы. Он был, как язык тополей – непонятен и прост. Огней городских расступались и меркли отряды Пред тонкой скорлупкой, идущей размеренно в рост – Сиянье ее – над землей перекинутый мост, Где наши с тобою свободно встречаются взгляды.Глаза
Я их встречала и не раз – Изображенья Антонинов Имеют тот же очерк глаз И часто лица на картинах Фаюмских. В жизни – никогда. Гляжу в диковинные очи – В них, словно звездная вода, Мерцает свет античной ночи. Из Малой Азии привет Иль весть с семитского Востока? Из Петры… – под коростой лет Теперь не разглядеть истока. Спрошу – откуда этот взгляд Нездешний? Из какого мира? Улыбкой грустного Сатира Ты отвечаешь невпопад.Уроки каллиграфии: три стихотворения
1
Смешаю тушь с томлением, с тоской, Чуть нежности… – оттенка рыбьей крови Густой раствор и перья наготове. Ах, если бы вернуть себе покой, Колдуя над бумагой меловой, И отусердья плотно сдвинув брови. Но все напрасно – снова в каждом слове, За каждой буквой вижу образ твой: Глубокий взгляд тревожит, и ресницы – Как крылья мотыльковые легки – Невидимо касаются щеки…. И вот уже летит за край страницы Строка и знаки гибнут, как полки Австрийцев на полях Аустерлица.2
Синяя тушь – вечер июльский поздний. Лишь проведи линию, а за нею Тихий эфир звезд зажигает гроздья, Блещет луна, кроны ракит темнеют. Красная тушь – росчерков нервных пламя Вслед за пером мечется по странице. Слово твое вспыхнуло между нами Алой дугой и озарило лица. Черная тушь – лезвия очерк тонкий. Знаю, что с ней лучше быть осторожной, В точку вглядись – будущего воронка Взгляд уведет в бездну, где все возможно.3
Так ровно пишешь ни о чем – Фигурный клюв роняет знаки. И невзначай твое плечо С моим смыкается – бумаги Коснется тушь вот так… – всего лишь Одно движение, легко Его забыть, но след не смоешь, Он въелся насмерть, глубоко – Мгновенный и непоправимый… А ты все тянешь сети строк, И вечер пролетает мимо, Как неусвоенный урок…«Размениваю чувства на слова…»
Размениваю чувства на слова, Как золото на медные монеты, Как рощу на сосновые дрова Под осень, из желанья быть согретой, Когда нагрянут ветер и мороз. Вот так, благоразумием болея, Заготовляем долго и всерьез Сухие листья нежного шалфея. Готовимся к печальным временам – Пусть достиженья выльются в награды, Весомей, звонче станут имена – Чего еще на склоне жизни надо? Влюбленность – порох: вспыхнуло и нет… Надежнее чернил лиловый след.В антикварном
Чуть тронутое ржавчиной перо И юный взгляд на пожелтевшем фото. Метанья букв рассказывали про Сердечные тревоги и заботы Не меньше, чем взволнованная речь. Те, что к губам украдкой подносили Тугой конверт, как розу или меч, Теперь давно покоятся в могиле. Ранимые осенние цветы – Пажи и королевы декаданса – Реальность уступили за мечты, Оставив нам изысканные стансы. Размашистые строки на листах Таких же хрупких, как листок осенний И снимки, где у отроков в глазах Предвиденье и жажда потрясений.«Слово – только лишь тень поцелуя…»
Слово – только лишь тень поцелуя, Легок вкус виртуальной соли, Вновь его губами ловлю я И ни сладости нет, ни боли… Бледный отблеск ушедшей страсти В очертаниях Times New Roman, Нет в них повода ни для счастья, Ни для ревности… Так знакомо И спокойно любых эпистол Тривиальное окончанье, Отправляю… а дальше – чистый Долгий звук твоего молчанья.Лев Котюков Стихотворения
Лев Константинович Котюков (род. 9.01.1947 года в гор. Орле) – автор более тридцати книг поэзии и прозы. В 1965 г. поступил в Литинститут, семинар С.Наровчатова, где учился вместе с Н.Рубцовым, А.Передреевым, Ю.Кузнецовым, Ю.Гусинским. Во время учёбы публиковался в «Правде», в «Комсомольской правде». С 1970 г. заведовал отделом газеты «Орловский комсомолец». Был награждён Почётным знаком ЦК ВЛКСМ. Но нежелание угождать власть предержащим и внутренний разлад, а также весьма вольный образ жизни делают его персоной «нон грата» в Союзе писателей и редакциях. Рукописи возвращаются с приговорами: «Идеализм. Богоискательство. Мировоззренческая неразбериха». По мере ослабления цензуры начинают выходить книги. В 1982 г. по рекомендации Наровчатова – Котюкова принимают в СП СССР. В 1990 г. – годовые премии журнала «Молодая гвардия» и «Литературной газеты». В начале 90-х – Гл. ред. изд-ва «Ниппур». С 1997 г. – Гл. ред. журнала «Поэзия». С 1999 г. – Председатель правления М00 СП России. Лауреат более тридцати литературных премий. Кавалер международных, государственных и общественных наград. Заслуженный работник культуры РФ.
С 2012 г. проживает в Переделкино.
Послесловие: Анна Фуникова«Женский плащ в переулке мелькнул торопливо…»
Женский плащ в переулке мелькнул торопливо, И белёсо-зелёным глухим огоньком Вдоль заборов уже засветилась крапива, И в малиннике кто-то хрустит сушняком. И костры в огородах, и даль без предела, И с рассвета неясный безудержный гул. И пора в самый раз приниматься за дело, И опять женский плащ в переулке мелькнул. Но легко на душе круговертью весенней, Пусть сегодня опять не успел ничего… Так легко, будто времени нет во Вселенной И никто в этом мире не ждёт никого.Горбун
Горбун, поймавший майского жука, Глядит на мир с улыбкою счастливой. И лунная пустынная река Сливается в саду с цветущей сливой. Жука в ладони накрепко зажав, Как в детстве шоколадную конфету, Горбун стоит, весь мир в себя вобрав, Лицо подставив неземному свету. О, как он ласков, неземной огонь! Горбун стоит, забыв земную долю, И разжимает узкую ладонь, И жук воздушный обретает волю. Жук слюдяными крыльями жужжит, Царапнув кожу, улетает в вечность. Закрыв глаза, горбун в ночи стоит, Как первая средь равных бесконечность.Кузнечик
Вечерние птицы в прогретой листве Притихли и сгинули разом. Кузнечик стрекочет в закатной траве – Для песен не надобен разум. В своём мирозданье кузнечик поёт, Трава-мурава холодеет. Беспечная песня вовек не умрёт – И песни иные навеет. И разум, себя осознав наяву, Готов позабыть всё на свете… В закатный огонь, не сминая траву, Бегут за кузнечиком дети.Вспоминая Есенина
Было всё – и ничего не стало. И метель упала на крыло. Замела тропу на полустанок, Замела дорогу на село. Ни души!.. Метель промчалась мимо. Как метель, полжизни пронеслось. Думал утром свидеться с любимой – С нелюбимой свидеться пришлось. А казалось – всё навек забыто. Оказалось – помнится сполна. Обвалилась зеркалом разбитым В тишь и стынь полынная луна. Только свет безумный и бесплодный, Только уголь полночи в окне, Только угол, где паук голодный… Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!«Объята твердь морозным, колким дымом…»
Объята твердь морозным, колким дымом, Вся в инее небесная стерня. И, повторяясь вновь, как свет, в неповторимом, Теряю и теряю сам себя. И сам себя стоской сполна не принимаю, И сам с собою не хочу дружить, И жизни, что прошла, – мучительно внимаю, И понимаю вдруг, что мог бы и не жить. А мог бы, мог бы, мог – остаться в невозможном, Где множится на ноль случайностей игра. Но мог бы иль не мог – на это воля Божья! И тяжко быть собой, но будто с плеч гора. Молчит седая ночь, струясь морозным дымом, И в колком серебре небесная стерня… И повторяясь вновь, как свет, в неповторимом, – Теряю не себя, теряю не себя…Одноклассники
Безысходно, угрюмо, глухо В ледяных провалах времён… Неужели вон в ту старуху – Я без памяти был влюблён?! Неужели она когда-то Хрупко билась в моих руках?.. И не ведала жизнь заката, И любовь побеждала страх. И сбывалась любовь весною, Золотою мечтой слепя… Но старуха бредёт Москвою И не помнит почти себя. Будто сгинуло всё бесследно! И ответь-ка, любовь моя, – Где сегодня твоя победа?! Где сегодня весна твоя?.. Безысходно, угрюмо, глухо, Как во тьме за чёрной стеной… Исчезает в толпе старуха, Остаётся любовь со мной…Прощение
Прощай врагов по воле Божьей! Без воли Божьей – не прощай… И Бог спастись тебе поможет И приоткроет двери в рай. А ты в душе своей гремучей – Грех непрощения таишь… Но Бог прощать тебя научит, И не захочешь, – да простишь… И Бог с тобою самый ближний! Пусть всё не так, пусть всё не то, Пусть ты навеки третий лишний, Пусть не простит тебя никто!Морок гордыни
В холодный дом вхожу промозглой тенью, А в сердце – будто рана от гвоздя. Но не прошу у Господа прощенья, Поскольку не прощаю сам себя. Саднит под сердцем рана гвоздевая, А я смотрю в бессветное окно, В гордыне, как в затменье, прозревая, Что не прощать лишь Господу дано!Гранитный лёд
Во льдах гранитных стынут реки, И берег жизни глух и пуст. И лёд гранитный в человеке Сковал движенье вешних чувств. Всё сковано, как позабыто, Во тьме дорога в никуда… И леденелая ракита – Вот-вот замёрзнет навсегда. И перед бездною эфира, На гребне световой волны, Вещественным началом мира – Сердца людей удручены. Как тяжко, милые, родные, Мне сочинять стихи сии, И брать сполна грехи чужие, Не искупив грехи свои. Я сам себя давно не стою, И лёд-гранит несокрушим… И невозможно быть собою, И невозможно стать другим. Но восстаю над невозможным! И прочь унынье и нытьё! И в повторенье яви Божьей – Неповторимое моё…До победы
Как зеркала без отражений – Молчат грядущие года. И ты, внимая пораженьям, Всё ждёшь победы навсегда. Ты пережил года глухие, А там, где никого не ждут, Назло тебе живут другие – И – не победами живут. А там, где небыли, как были, Где обратилась бездной высь, Там все друг друга победили, И поражений жаждет жизнь… А ты в своей земле безвестной, Случайность породнив с судьбой, Взираешь с мукой бесполезной – На побеждённое тобой…Вечное сегодня
Любовь прощает откровенье. Но говорю себе: «Молчи!» И враз промёрзшие деревья Осыпались в седой ночи. Любовь, забудь о снах тревожных. Нет откровения во зле. И, может быть, по воле Божьей – Мы – чужаки на сей Земле. Любовь, – ты вечное сегодня! Нам всё возможно превозмочь, – И в позволении Господнем – Дожить до света в эту ночь. И остаётся в круговерти, С надеждой в Божью Благодать, Любить тебя, забыв о смерти, И никогда не умирать…«Говорю и молчу через силу…»
Говорю и молчу через силу, И душа – головешкой в снегу, Будто недруг копает могилу Мне сейчас на чужом берегу. Я с чужим навсегда распрощался, Но не стал для родного родным. Я в стогах, как игла, затерялся, Я в снегах растворился, как дым. И метель – мою жизнь заметает, И поют ледяные поля… И копает мой недруг, копает, Но в гранит обратилась земля!«От лона перводней – и до последних дней…»
От лона перводней – и до последних дней – Пребудь в моей любви, пребудь в любви моей! И вне эфирных лет, в сгорающей крови, Я – как поющий свет, спасусь в твоей любви. Что нам небытиё?! В любви мы – вне времён! Навектеряя всё, навеки жизнь найдём. Нам бездну побороть Судьбою суждено, Но больше, чем Господь, любить нам не дано… И с Богом – ты и я! Пребудь в любви моей! И нет небытия, и нет последних дней…Сухие камни
Всяк до рождения заказан И до рожденья заклеймён… И вязнет в немощи наш разум – В тоске имён, в песке времён… И пред разверзнутою бездной, – Себя пытаясь изменить, Живём тоскою неизвестной, А надо бы любовью жить. И в зной холодными руками Лелеем высохший цветок, Но, как огонь, сухие камни – Жизнь обращает нас в песок…«Мается сердце, стеснённое скорбью…»
Мается сердце, стеснённое скорбью. Где вы сегодня, мои берега?! Но подвигаемый вечной любовью – Я выхожу в ледяные снега. И застывает пред снежною бездной, И замирает на льдистом крыльце, – Тело земное в теле небесном, – Утлая хижина в звёздном дворце. Блещет во тьме ледяная дорога, В небе дрожит огневая стерня… Жизнь – это смерть, если нет во мне Бога! Смерть, если Господа нет без меня!..Бабочка
Душа, как бабочка в крови, И всё родней чужая старость, Как будто не было любви, Как будто жизнь не состоялась. Как будто в бездне ледяной – Всё обратилось снежной пылью… И светятся в крови седой – Живые, трепетные крылья. И время, будто лёд-гранит, И злая небыль обступает… Но в небо бабочка летит – И в небе след кровавый тает…Рыцарь Света
Когда читаю стихи Льва Котюкова, перед глазами встётодна и та же картина – росчерк белого луча на чёрном фоне.
Это вечный Свет, прорезающий бездну отчаяния и зла.
Тьма времён – тех, что были до и тех, что неотвратимо наступят после нашей человеческой жизни, – и луч ослепительной звезды Поэзии, рождённой в великом союзе Таланта и бессмертной Души. Котюков как большой поэт не может не видеть, в какое жесточайшее время ему выпало родиться и творить. Поэтому в его произведениях бьются насмерть суровые рыцари Света и Тьмы: Добро и Зло, Свобода и Одиночество, Вера и Страдание. Стихи Котюкова – достоверная летопись сего вечного единоборства. Вечны единоборства, вечны войны, но как коротка человеческая жизнь!
«О, если б знать о немощи грядущей, О, если б знать о кознях тёмных сил! Но не дано над бездною ревущей Нам изменить безумный бег светил. Нам лишь дано предугадать явленья Почти бессмертной тупости людской, Сгребающей, как мусор, поколенья Корявою безжалостной рукой…»Не исправить в Летописи ни единого слова, как не изменить прошлого. А предначертанное только в руках Божьих.
«Пора на ноль врагов помножить – На самом крайнем рубеже. И Бога нечего тревожить, Покуда силы есть в душе. И пусть крадётся враг по следу, Пусть злое время душу рвёт… Без Бога одержи победу – И Бог с победою придёт!»Ищет, ищет душа поэта то покоя, то непокоя, ищет ответа на вечные вопросы. И пусть не дано ей найти однозначных ответов, поэт никогда не отчаивается, ибо
«Главное для поэта – услышать голос Бога! И не отчаивайся, поэт, если вдруг покажется, что Бог не слышит тебя… Бог слышит каждого живущего в мире этом и в мире ином. А поэт или не поэт сей живущий – не имеет в Абсолюте ровно никакого значения.»Только поэт может мыслить абсолютными категориями Добра и Зла, Свободы и Одиночества, Веры и Страдания.
Только ему позволительно говорить загадками, не имеющими ответов, ибо однозначность порой способна губить всё
«Угрюмый ноль земные сроки множит, И режет угол неземная тень. Но, слава Богу, этот день не прожит, И этот день – на славу Божий день. Пусть впереди разлука, будто встреча, Но – и в разлуках я еще живой… И Божий день – он равен жизни вечной, И Божий день, хоть на мгновенье, мой!»И ни в одном произведении Льва Котюкова не встретишь предсказуемости.
«Спасёт от бесов и от лжи, Спасёт от мрака преисподней – Незримый свет твоей души, Хранимый ангелом Господним. И ты ещё чего-то ждёшь, Упорно, тупо ждёшь со всеми… И, как слепец, в любви живёшь – Надеждой на земное время. Но тает время, точно соль, А Вечности, быть может, нету… О, Боже, хоть на миг позволь Рукой дотронуться до Света!» Ибо поэт и есть Рыцарь Света.Анна Фуникова, поэтесса[2].
Елена Кузьмичева Стихотворения
Родилась в Ярославле 20 декабря 1991 года. Окончила ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по специальности «Журналистика». Работает корреспондентом на новостном портале. Пишет прозу и стихи. Участница XII Форума молодых писателей в Липках. Лауреат X Межрегионального фестиваля современной поэзии LOGOРИФМЫ (2014), Регионального литературного конкурса в номинации «Проза» (2015). Проза автора опубликована в литературно-художественном журнале «Мера», интернет-альманахе «Снежный ком», «Антологии короткого рассказа», составленной по итогам премии издательства «Русский Гулливер» Flash story – 2015.
Самый мёртвый
самый мертвый да пребудет со мной кто измыслив ад отошел на покой сквозь морщины на лбу прорастая травой кто весь пепел мира сберег в груди самый мертвый из всех да пребудет во мне тот кто из впадин глазницы вынет кто в любви и смерти меня не покинет кто сломает меня до последней кости а потом построит как прочную стену и перельет кровь из своей в мою вену и скажет что черное не может быть белым что птица не ящер, а зверь не рыба что огонь не вода и щебень не глыба этот мёртвый свернётся в черепе как зародыш во чреве он назовет весь мир до последней вещи отделит день от ночи и сон от яви и станет объяснять мне разными голосами разницу между грязью и небесами почему тень падает, а птица летит почему кровь течёт и укус болит так он будет кричать в мои уши а я буду молчать пока не оглохну и буду любить его как если бы бога и ненавидеть как если бы чёрта я буду целовать его страстно и долго а потом в ярости грызть его горло и он завещает мне стул без ножки пустую кровать и без штор карниз и манеру креститься взяв в руки нож справа налево и сверху вниз«очевидность гложет людей как кость…»
очевидность гложет людей как кость лижет полость неба – стеклянный шар отражений плот на воде был плоть никого не спас – умножал пожар дом горел как куст, множил стон жильцов что, лишившись кожи, бежали в новь претворять боль – в слово и кровь – в вино и осколки – в емкость и воду – в кровь сны текли сквозь жизнь размывая след настоящей яви, почившей в нас догорел ли дом – сочинить ответ значит бросить камень на талый наст он вчера был крепок теперь – предаст потому что нет ничего страшней безответной жизни – упрям как смерть веер острых лезвий в хребтах людей что блуждают слепо в ночной воде всё едино – рыба под тонким льдом сквозь чешуйки черно глядит река очевидность тает, суля крыло хвойной ветки запах звенит в руках но блуждают люди в пустых садах пожирая пепел, и кость, и дно«Где он, каждого брат по разуму…»
где он, каждого брат по разуму нам казалось, он есть просто держит дистанцию только лица под крышами людных вокзалов смотрят жалобно – знают, что им показалось мы просили у жизни самую малость но она только скалилась и молчала мы скулили в ответ, мы всё ей прощали были послушными, тихими, скромными лечили себя от отчаяния пошлыми мелодрамами, спиртом и чаем плыли дальше и глубже, улицы рассекая и воздух стеклом крошился под слабыми плавниками кто создал сизифов камень кто поскупился на ближних почему я не вижулица я прошу тебя, господи вылепи каждому близнеца из плоти и крови чтобы чуять умел исход всякой боли чтобы каждую мысль исчерпал построчно чтобы суть прозрел и отсек всё прочее и каждый финал увенчал бы точкой мы все инвалиды, отче готовы лишиться и рук, и ног и себя самих – лишь бы кто-то сберег бисер наших идей и вложил бы смысл в переплет недель я прошу тебя, господи и запомни потом я уже не буду послушным и если не внемлешь, выжгу всю твою сушу вылакаю моря, выскоблю с неба звёзды и в свои бронхи вдохну весь воздух одумайся, господи пока не поздно«Когда позовут деревья»
когда позовут деревья корой обрастем как кожей вершиной пронзая землю корнями вплетемся в космос прозрением в солнце впившись узнаем, что не напрасно сквозь сердце летела птица и перья искрились красным услышав шум ветра в легких людей проходящих мимо слагая миры для мёртвых и способ туда проникнуть впустив в свои ветви воздух под небом раскрыв ладони истаяв горячим воском на камни упасть не больно живой до последней клетки прольется полоской света отторгнув от тела тело вживляя пылинки в вектор прохладной улыбки утра вползающего сквозь шторы дыханием прах укутав сужая зрачок который вбирал барельеф подушки скульптуры из зыбких складок и блик на каемке кружки и контур окна куда-то скульптуры из зыбких складок на вечное «нет» согласны скользя к эпицентру ада мы счастливы и опасныБлизнец
отдай всё, что есть мне, что было твоим – оставь за тонкой коростой век пусть плавится взгляд-янтарь ступай, но не по стеклу, усни на моей груди пусть прожитое как сон останется позади так просит меня близнец, приказывать он не властен на коже он ткет узоры, сломав костяные пяльца он прячется в каждом сне в каждой надгробной доске в каждом бессмертном младенце чья колыбель в земле близнец подкрался чуть ближе зовет преклонить колени я чувствую его руку петлей на своей шее сын мой, отец и брат, он смотрит зрачок в зрачок всю боль и любовь земли он держит своим плечом он плачет, таясь за дверью, подглядывает сквозь щелку но вместо слез песок течет на сухие щеки в нём тысячи лиц и тел слагаясь рождают лик множество голосов сливаются в долгий крик каждой ошибки – след, соль всех истоков слез тончайшей иголкой боль пронзив озаряет мозг на порванной пуповине младенец-близнец повис налитый кровью глаз из облака смотрит вниз из множества липких рук протягивает мне длань отдай всё, что есть мне, что было твоим – оставь покорно закрыв глаза, я погружаюсь в сон вползает под веки ночь спаси меня от негоНикто не придёт
никто не придет, свет в гостиной не жги понапрасну ты опять за своё: «никто не умрет» ещё немного, и мы полюбим стереотипы что смерть уродлива, старчески немощна и бесплодна ты говоришь: «смерти нет» молчи куда же нам без неё нам, безумным, бездельникам и калекам нам здесь нечего делать скучно, и линза всегда застревает под веком и вид из окна неизменно врет – люди заходят в подъезды мы думаем: «кто-то и к нам придет» нежданные гости в нечищеных сапогах, ради них мы смахнули бы пыль с чемоданов и стульев но они не приходят, словно не существуют только не говори, что конец не наступит что смерть заболела недугом Альцгеймера, старческим слабоумием не говори, что старухе не жить мол, коса затупилась, подошвы истлели давай купим ей туфли и сводим на карусели пусть вспомнит детство, сладости и мороженое чтобы жить, нам всегда не хватало кожи нутро беззащитно, и ребра глядят наружу а ветер насквозь продувает мясо – дрожащее сердце, легкие, чресла, язвы ширятся как мишени, нам не выдержать и не спрятаться в постоянстве ты только не бойся смерть оклемается, встанет на ноги, выздоровеет без неё нас вряд ли отсюда вызволят а пока станем сильными, не хлебом единым, слезами и кровью, и оскалом звериным ответим миру на эти бредни про добрых детей, счастливых родителей про справедливость и добродетель нам все наврали в первом куплетеДыхание насекомых
белки наших глаз прозрачны сквозь лица текут облака когда посыпая мир пеплом мы курим в проеме окна жар челюстей ищет плоть свежим мясом пахнет в церквях хрустят позвонки мышей наши пальцы прозрачней дождя наши руки невинней чем снег а кровь белее чем воск наши плечи – солнечный блик мы ляжем на дно реки чтоб ветром в листве пропасть в черничных болотах спать мы станем тенью синицы росой на устах дракона и будем бесплотно слушать дыхание насекомых беречь ли себя для смерти кормить ли тревогу снами каждый мертвец глаголет нашими голосамиСергей Васильев Стихотворения
Сергей Евгеньевич Васильев – поэт, переводчик. Род. в 1957 г. в селе Терса Еланского района Волгоградской области. Окончил Литинститут им. А. М. Горького. Печатался в «Арионе», «Новом мире», «Знамени», «Вестнике Европы», «Золотом веке», «Дружбе народов», «Москве». Автор четырех книг стихов, в том числе «Странные времена», «Бересклет» и др. Пишет стихи для детей. Главный редактор детского журнала «Простокваша». Лауреат всероссийских премий «Сталинград», «О, Русь!», имени Расула Гамзатова. Живет в Волгограде.
«Неба-то много, земля одна…»
Неба-то много, земля одна, Ты, расплакавшаяся у окна, Я, глядящий на мир с балкона, И плывут печальные облака Над рекой – будут плыть, пока Ты прозрачна, словно икона, Словно синицы, упавшие ниц С нежных твоих ресниц. Не полночь, не плач, не плеч полотно – Нам остается только одно: Ждать, когда дождь проснется, Ждать, когда роща зашелестит – И тогда лишь праведный Божий стыд Наших грешных сердец коснется. Пусть кометы свои распускают хвосты – Главное, чтобы осталась ты. Кошка в лукошке, печаль в горсти – Я повторяюсь, Господь прости! – Просто душа моя осиротела. У тебя, как у Волги, большие глаза, И плывет по России твоя слеза, Не отделяя душу от тела. А еще над нами стоит луна – Желтая, как белена. У Волги, знаешь, своя печаль – Хочешь живи, а хочешь отчаль С тяжелой грузной баржою Туда, где сугробов растут лепестки, Где сны твои небесам близки И где смерть не будет чужою. Ладно, родная, все будет славно – Я не Игорь, ты не Ярославна. Я люблю и Волгу, и эту страну, И звенящую в тумане струну, Кочующую повсеместно. Отломлю ломтик лунного пирога И узнаю вдруг, как ты мне дорога – Тут и откроется бездна, В которой ни верху нету, ни дна, Только глаза твои, только ты одна.«Государство – невозможный зверь…»
Государство – невозможный зверь, Оно будет и землю грызть, Чтоб угадать, где твоя корысть И в чем твоя благодать. Не промахнется, дружок, поверь: Оно любит коршунов, не голубей, Оно способна тебя продать, – Говорю же, оно страшный зверь.«Понимаю матерщину дворника…»
Понимаю матерщину дворника – Снег, метель и прочая пурга. Снег – он будет все идти до вторника, А быть может, и до четверга. К воскресенью только успокоится, Будет тихо во дворе лежать. И метель, как белая покойница, Дворнику не будет угрожать.«Мальчик, фразер, дуэлянт, офицер…»
Мальчик, фразер, дуэлянт, офицер, Взявший будущее на прицел, Черный Кавказ, колдовская Тамань, Арзрум и прочая глухомань, Россия, ставшая черной дырой – Лермонтов, вовсе не наш герой.«Бывает так, что нету хлеба…»
Бывает так, что нету хлеба И молока, бывает так, Что черным делается небо, А ты от смерти в двух верстах. Растет трава, щебечет птица – Кто это, Заболоцкий, Блок? – А ты, забыв с женой проститься, Забился в темный уголок. Неважно, кто гремит ключами От рая, важно то вполне, Чтоб знать, кто нам грозит ночами, Тебе и мне, тебе и мне.Большая элегия
Сергею Калашникову
Лес уронил багряный свой убор, Мороз посеребрил мой взгляд печальный, И в этой прелести первоначальной Живу я, милый друг мой, до сих пор. Куда как славно по снегу брести, А вот куда не знаю – как придется. Вода не умерла на дне колодца, За остальное Бог меня прости. Я просто жил, купал ступни в росе, Косил траву, варил уху из рыбок. Я без ужимок жил и без улыбок, Наверное, я жил не так, как все. А вот теперь я думаю и злюсь – Какой там Ленин и какой там Сталин? Один Державин лишь монументален – Не трусь, еще проснется наша Русь! А за окном опять идет снежок, Такой веселый, на бомжа похожий, И улыбается ему прохожий, Его воспринимая как ожог. Мой милый друг, я сделал выбор свой – Глоток свободы и глоток природы. Я у волчицы принимаю роды, За мною звезд всегда идет конвой. Чем кончится все это? Никогда Не кончится, а будет длиться вечно, И будет плакать ночь, и будет течь на Плечи мои мертвая вода. Настанет день, хороший день такой, Когда ты поглядишь на мир иначе, И улыбнешься, и зайдешься в плаче, Объятый необъятною тоской. Потом настанет жалкая пора Австрийцев, немцев и других французов, И одноглазый тут придет Кутузов, Чтоб ропот отличить от топора. Он медленно поднимет АКМ И поднесет его к слепому глазу – Твой АКМ! – и страшно станет сразу Французам, немцам и румынам всем. Кромешный август, черный Сталинград, Где по ночам светло лишь от бомбежек, Где и чернобыльский рыдает ежик, Где Бог тебе не друг и черт не брат. Что, стало страшно? Да, ведь там солдат Через минуты две как умирает. Офелия в реке белье стирает, И мерзнет от мороза супостат. Ну что ж, придумаем другой сюжет, Немножечко отличный от вендетты – Там ни Ромео нет и нет Джульетты, Да и Шекспира, в общем, тоже нет. Гам кровь с любовью сладко рифмовать, Там поцелуй останется на ужин, Там ты настолько нежностью контужен, Что девушку не уложить в кровать. А что Россия? Что Россия – там Безмолвствуют и водку пьют сердито, И греки там молчат, и Афродита, А кто и говорит, так Мандельштам. Экклезиаст пусть тоже помолчит, И кто его, безумного, придумал: Иди, мол, в бездну и гори в аду, мол, Где жизнь твоя поднимется на щит. Вернемся в Русь. Березки тут растут, Которых да не раз воспел Бианки, Тут рубят головы порой по пьянке, Кресты святые ставят так же тут. Ах, как они сияли те кресты На куполах высоких и прилежных. Я так любил их, радостных и нежных, Чтоб тоже головы рубил. А ты? Калашникову что тебе скажу: В дырявой нашей памяти увечной Одна лишь дружба остается вечной, Любовь и страсть подвластны дележу. А впрочем, знаешь, не об этом речь – Подумаешь, блондинки иль смуглянки, Они, как те клубнички на полянке, А речь о том, чтоб нашу речь сберечь. Пусть плавают в речушке караси, Пусть бабочки пернатые порхают, Пусть желуди под дубом отдыхают, Пусть длится жизнь на солнечной Руси. О чем я? Не скажу тебе о чем. Ты сам поймешь, пространству потакая И времени. Гляди зима какая – Печаль и грусть, и вечность за плечом. Какой там космос! Видишь чернозем? Там Мандельштам, и Пушкин, и Державин. Не Волочкова, даже не Аршавин – Когда б ты знал, какой мы воз везем! Вселенский продолжается пожар, И Бог похож на дедушку Мороза, В одной его руке мерцает роза, В другой – стеклянный и волшебный шар. В котором видно все как наяву, В котором жизнь расти не перестанет, А роза то Снегурочкою станет, А то пролеской прорастет во рву. Пройдем теперь в прифронтовой лесок, Там столько васильков и грабов грубых, Там вечность отпечатана на трупах, И кровь не проливается в песок. Герой не тот, кто кушал героин, Общаясь с веной мыслью сокровенной, А тот, кто жил лишь жизнью сокровенной, Как парусами Александр Грин. Мы отвлеклись. Забыли, что вдали Или вблизи мороз не то рисует – Он плоть твою так нежно полосует – Какой там к черту Сальвадор Дали! Что Эдуард Мане, что Клод Моне, Да, хороши, но мне милей Саврасов – Грачи без выдумок и без прикрасов, Но мне это достаточно вполне. Попробуй жизнь прожить и проживешь, Одним мгновеньем долгим начиная – Не так, как эта бабочка ночная Набоковская и не так, как вошь. А как звезда, летящая в ночи, Чтобы светить бомжу или святому, Чтобы тебе помочь дойти до дому – Да ладно, друг мой, лучше помолчи! Поговорим о главном – о душе, Которая помолвлена с судьбою, Которая живет сама собою На невысоком третьем этаже. А выше солнцем говорит луна, Кокетничает, дурочка такая, И звезды улыбаются, сверкая, – Важнее хлопка и нежнее льна. И Бог опять приходит на балкон, Чуть бородатый и чуть-чуть поддатый, Смущенный неожиданною датой, Которая бежит за ним вдогон.«Можно плетень и судьбу чинить…»
Можно плетень и судьбу чинить, Но такая вот жизнь начинается – Хочется нежное сочинить, А нежное не сочиняется. Не потому, что ушел во тьму Бог, как часики, тикая, А потому, что уже никому Не нужна эта нежность тихая.«Одиночество – это луна в окне…»
Одиночество – это луна в окне, Чай в стакане и жизнь в бреду. Одиночество – это душа в огне И постылая плоть во льду. Хорошо-то как: ни стол накрывать, Ни посуду потом не мыть. Даже розами не устилать кровать – И возлюбленной не хамить.«Пустынная степь, луна…»
Пустынная степь, луна, Ковыль, поглощённый тьмой. Дорога всегда длинна, В особенности домой. Так сладко купать в пыли Босые подошвы ног И лишь на краю земли Узнать, как ты одинок. Не мытарь, не фарисей – Когда же взойдёт заря! Так шёл домой Одиссей, Расталкивая моря. Лет, может быть, через сто И ты, ощутив предел, Придёшь, чтоб увидеть, что Твой дом давно опустел.«Дождик какой опять…»
Дождик какой опять – Шепчущий, просяной. Спать бы теперь да спать, И Бог с ней, с этой страной! Да нет, говорит трава, Не верь чужим небесам. Вот как поставят у рва, Так станешь травою сам. Поймёшь лишь перед бедой, Что ты с ней одних кровей. А ров наполнен водой, А глина полна червей.«Дар простоты не каждому даётся…»
Дар простоты не каждому даётся, Лишь избранным. А прочим остаётся Уродовать классическую речь, Побрякивать, отпугивая граций, Фальшивым серебром аллитераций И сонные метафоры стеречь. Метафора – она, брат, как синица, И хороша, когда тебе приснится, Связуя быстротечные века, Свободная, не в золочёной клетке Словарика, а на дремучей ветке Российского живого языка. И всё же соль не в ней. Удел невежды – Рядить стихи в нарядные одежды, И простота не хуже воровства, Когда она, как нищенка с сумою, Как с полем ветер и как снег с зимою, С народом не утратила родства. Ты помнишь слов обыденных свеченье, Крестьянской речи тихое теченье И чернозёмных мыслей торжество? Послушаешь – и сладостно, и больно! А чтоб достичь подобного, довольно Быть гением, не более того.«Когда душа твоя соприкоснётся…»
Когда душа твоя соприкоснётся С душой ручья, рассвета иль цветка, В ней что-то необычное проснётся, В чужие уходящие века. И, ощущая страх пред небесами И пред природой распростёршись ниц, Ты поглядишь на этот мир глазами Ползучих тварей и библейских птиц. И вдруг, любуясь тем, как коромысла Листают вечность крылышками, ты Поймёшь, что в жизни нет иного смысла, Чем просто жить без всякой суеты.«Пускай живут и майские жуки…»
Пускай живут и майские жуки, Пускай осенние кусают осы, Пускай живут на свете мужики, Пьют самогонку, курят папиросы. Пускай и жизнь совсем уйдёт в распыл На этом злом и беспредельном зное. Ведь я не помню, кто меня любил – Живая тварь иль существо иное.Вадим Муратханов Стихи разных лет
Поэт, прозаик, переводчик. Род. в 1974 г. во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1990 г. переехал в Ташкент, где окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского государственного университета. С 2006 г. живет в Московской области. Один из основателей альманаха «Малый шелковый путь» (1999-2004) и Ташкентского открытого фестиваля поэзии (2001-2008). В 2006-2013 гг. зав. отделом поэзии журнала «Новая Юность», с 2006 г. ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия». Автор семи поэтических книг.
«Вдали от капель, что наперебой…»
Вдали от капель, что наперебой подробно разлетаются на жести, ты где-нибудь становишься другой, все дальше, непонятней в каждом жесте. Но слушать дождь мне хочется с тобой. И значит, мы наполовину вместе.«Пока вы не отвыкли от дыханья…»
Пока вы не отвыкли от дыханья и речи близких в памяти свежи, нет ни души вокруг. Киномеханик бесплатно крутит прожитую жизнь. Вот входите вы с робостью ребенка в пустынный зал на сорок мест. Стрекочет и потрескивает пленка, пока смотреть не надоест.Прохлада
Лето. Людей покинули силы. Кружку губам донести – и ладно. Где-то там, за горами синими ходит вдали от людей прохлада. Ходит вдали белоснежным теленком. И от нее получает лето только с трудом узнаваемый голос на пленке арычной ленты.«Удобнее иметь своим кумиром…»
Удобнее иметь своим кумиром ровесника, чтоб можно было с ним в одну эпоху радоваться жизни и по немуза временем следить. Состарившись, ворчать и видеть в нем товарища по поколенью. А я люблю угасших звезд, сошедших со сцены и, желательно, с земли. Они смеются с выцветших конвертов, и крутится пластинка, как душа. От старости потрескивают сухо их молодые голоса.«Когда покой – тогда, слепя…»
Когда покой – тогда, слепя улыбками, глядит с плакатов. Дает рассматривать себя, изображенную на картах. Когда ж под вспышками в ночи душа к отправке не готова – то черной птичкой прокричит с верхушки тополя родного.«Рождается весна. Как никогда…»
Рождается весна. Как никогда, мой многолетний бесполезен опыт. Вот-вот ее несмелая вода все выходы на улицу затопит. К ней надо поскорее на поклон, пока бедна травой и голосами. Уже виденье мухи за стеклом со мной пыталось встретиться глазами.«Опали листья только-только…»
Опали листья только-только. Но видно с улицы: уже одна рождественская елка горит на верхнем этаже. Безлюдно в комнате и зябко. Но смотрит, нарезая сыр, нетерпеливая хозяйка на календарные часы, и лихорадочно считает она бокалы для вина, и только снега не хватает в квадрате черного окна.Альбом
Свет. Черно-белая вода. Лицо, пока еще не в фазе старенья. Бледный карандаш проводит родственные связи. Там, на канале, мой отец, желтеющий с собой в разлуке и забывающий о тех, на чьих плечах он держит руки. А я за кадром, мал на вид, стою с лопаткой и вещами и не могу остановить бумаги ломкой обветшанье.«Конечный миг рисуется с трудом…»
Алле
Конечный миг рисуется с трудом. Зато виденью верю неизменно, где в мир иной наш деревянный дом с закатом переходит постепенно. И день за днем, обличьем не стара, моя незаменимая сестра, вытягивая руку над гардиной, ведет борьбу с растущей паутиной. Она заранее включает свет, чтоб комната успела осветиться. Она всю ночь готовит мне обед на несоленой медленной водице.Случай в горах
Все видели его в лицо, небритого, в помятой кепке. Мы рано спать легли. Был сон в горах на удивленье крепким. Он должен был лишь сниться нам. Но несколько мгновений странных он шел бесшумно по камням и таял в залежах тумана. О нашей ночи между скал мой друг, который был поэтом, стихотворенье написал, где не упомянул об этом. Другой мой друг, что жил средь книг и бородой страниц касался, не сделал записи в дневник и дату вспомнить отказался. Он не ушел. Он невредим. Он прячется под верхним веком. Я скоро окажусь один с моим небритым человеком.«О том, что карманный фонарик…»
О том, что карманный фонарик не будет починен вовек, о киселе, недоеденном в ненаступившем завтра, о том, что солдатик зеленый не будет отыскан в траве – надо же предупреждать, нельзя же вот так внезапно. Не торопись, не бойся. Рисуя, глаза закрой: длится в любую минуту пыльных дворов сиеста. Как только последнюю трещинку на стену посадишь рукой, город тебя припомнит, не обделит наследством. Наружу себя выговаривать – скучно. Не стоит труда ставить дни на учет, прислушиваясь к распаду. На чердаке голубином звенящая нота «да» не повинуется голосу, не поддается ладу.«Цветные рыбки по обоям…»
Цветные рыбки по обоям плывут судьбе наперерез. Переселиться нам обоим в их нежилой подводный лес. Вот я – ушел прозрачным боком в нестройно мыслящий тростник. Вот ты – большим янтарным оком косящая на мой плавник. В ночь на микрон, на миллиметр сближаемся. Текут века, жильцы проходят незаметно, и не кончается река.Город
В кабинке шаткой чужака напрасно к небу поднимают – необозримые века лукавой сказкой подменяет обманщик-город. В свой черед и я бродил по теплой пыли. И разум спал. И ничего глаза в пыли не находили. Состарившись, приду опять в чинар высокое собранье босыми пятками читать развернутую книгу Брайля.«Январь российский резче. Розовей…»
Январь российский резче. Розовей в нем неба край. И снег не тает в полдень. Рука, как незнакомый зверь, никак в перчатку стылую не входит. Заденет встречный меховым плечом. Из-под ноги экспресс уйдет с вокзала. И сам себя построчно перечтет шарф, что в дорогу женщина связала, когда неловко схватишься за нить. Зато пути земного середина видна. И след готова сохранить заснеженного города равнина.Кормление чаек
Порезанный мельканьем белых крыл, соленый день остановил теченье. Я с чайкой осторожной говорил на эсперанто хрупкого печенья, а он все длился. В нем я не был мной, забыл следить, как палуба дрожала и море мраморное за кормой резных мечетей кубики держало. И если вниз на воду не смотреть, то кажется, что он еще не минул. Зависших птиц медлительная сеть еще скользит над этим тонким миром.«Не догонит и хватку ослабит…»
Не догонит и хватку ослабит разноцветный московский острог. Распадается поезд-анапест на вагоны случайные строк. Не проспать, не проспать, не проспать бы, не коснуться соседа плечом, не доехать до дальней усадьбы незнакомым иван-ильичом.Сад
Садовник входит в сад, как входят в дом, отвыкший от хозяина. Он за ночь подрос, и сам себе шумит листвой, и занят собственными чудесами. Садовник гладит ствол, и в лица крон заглядывает, и другой рукой сжимает черенок лопаты, как неуместный варварский трофей. «Не щит, но меч принес я вам, деревья». Заботливый садовник-карабас берет секатор. Челюсти стальные сверкают, но не узнаны никем. И сок в зеленых жилах не застынет.«Легко оторвусь от постели…»
Легко оторвусь от постели в преддверии долгого дня, и купол хрустальный апреля внезапно накроет меня. Как влажная роспись, подробны сплетенья дорожек и троп, и голубя голос утробный, и дятла далекая дробь. Но – днем, словно веком, наполнен, – запомнив его наизусть, пройду лабиринтами комнат и к теплой постели вернусь, где формы моей не теряла покинутая простыня, где старость стеклянным футляром от мира спасает меня.«Ни вина, ни гурий не надо…»
Ни вина, ни гурий не надо – небо синее, ветвь граната. Зерна светятся, манят до дрожи под шершавой треснувшей кожей. Но чем дольше из памяти рву детства выгоревшую траву, тем сильнее боюсь подмены и больнее жить наяву. Тесный сруб не меня ли ждет на краю лакированных вод? Там сосна переходит дорогу, и все длится ее переход.Лес
В заброшенном корпусе ржавчина, сырость, разбитые стекла и грязь. Но прямо на крыше загадочный вырос росток, никого не спросясь. Он будет тянуться еще много лет, рассеивая семена, – и значит, там скоро появится лес на будущие времена. Когда на земле воцарится раздор, и скроются рыба и зверь, и Красную книгу за черным дроздом захлопнут, как тяжкую дверь, когда наши детские игры остудит последний и праведный суд – родятся в лесу непонятные люди с очками на длинном носу. Не зная о наших победах и бедах, лихие столетья спустя, в тени проводить будут дни и в беседах, густым опереньем блестя. Где нам и не снилось, где так не бывает, где лишь удивись и замри – носатые люди гуляют от края до края квадратной земли.Pink Floyd. High Hopes
8 минут б секунд на прожитие жизни. Поле ржаное, звон колокольный, последний отсчет. Разве друг тебя не предаст на четвертой минуте? Или с женой не простишься на исходе седьмой? Все уже было. Пустишься в поле – заблудишься в поле. Где-то вдали колокол смолкнет. Тьма упадет…Юлия Немировская Стихотворения
Поэт, прозаик, литературовед. Окончила филологический факультет МГУ (1984), там же защитила кандидатскую диссертацию (1990). С 1991 года живет в США; преподает в Орегонском университете. В 1980-е гг. входила в группу поэтов «новой волны», была участницей московского семинара К. Ковальджи и членом клуба «Поэзия». Стихи, проза, статьи и книги публиковались в «Литературной газете», в журналах «Юность», «Знамя», «Русская речь», «Окно», «Воздух», в издательстве McGraw-Hill и др., переводились на французский и английский языки. Первая книга стихов, «Моя книжечка», вышла в 1998 г. «Вторая книжечка», включившая в себя стихотворения последних лет, вышла в издательстве «Водолей» в 2014 г.
Святое время
Дождь отверзает уста Ноты читает с листа Страницы переворачиваю День укорачиваю Дождь время и небо время Со всеми Переглядывается но лица Не запомнить Также гранат кольца На руке блеснет и не видишь снова И нет другого Дни Мне сродни Каждый день как святой Стоит в рамке своей золотой Помолись обо мне, Филицита, Арсений, Кто глухой, кто звенит, Кто один, кто со всеми. Братцы-святцы.Йосемите
Разве мне, истончаясь, Эти строки писать? Разве мне поручали Берега и леса? Были знаки отдухов? Или клич мертвецов? Облака, как разруха, Окружили лицо. Я на самой вершине, И меня, слабый крик, Небесам подложили Под шершавый язык.Погром в Белой Церкви
В погребе с младенцем бабушкой Тетя Рая, в огромном, И хозяин осторожно ей: Тихо, тихо сиди! Вы ж поишьте трохи борщику Коли ищеудома… Чи вам сала… так неможно його! Ну хлибця тоди. Я в тоннель на небо вылезу: Белым-белая хата, И стоят там, машут крыльями Те чужие хохлы, Те чужие да премилостивые. Я теперь виновата Где для них мне изобильные Поставить столы?Байрон и Пушкин
Черный бронзовый Байрон стоит на реке И молчит на английском своем языке: Радость, радость от пуль умереть на песке! Черный бронзовый Пушкин стоит на реке И молчит он по-русски, подавшись вперед, Что на белом снегу он от пули умрет, Радость, радость она его сердцу несет. И молчат они оба, и этот, и тот, Чтобы тайну не выдать загробных высот.Я богомаз
Освяти, Господь, всего меня-человека. Вот лицо Твое, я его подглядел у грека, Вот и паллий, какой носил византийский цезарь, Тот, что прежнего цезаря в сакриуме зарезал. Я писал, томясь по Тебе, Твои руки-лилии, Чтобы жены много веков на них слезы лили. Мне за то прости блуд рук и уст непотребство, Или в шар скатай, чтобы снова слепить из тестаОкеан
Бывают стихи В кричащих лесах и глухих. Глух запутанный сон, глух гнев, Что не вышел вовне. Глух песок, самшит И река, что так мельтешит. Но кричит солнце и щит Океана под ним: Ты силен, горяч, ты любим, И ты равен им! Шипят камни и облака. Сунь руку Господь – Обожжется рука.Эшер
Стая маленьких ящериц Превращается в птиц; Птицы – в сумрак, дымящийся Миллиардами лиц. Все кипит, перемешано, Праздник метаморфоз. Мне б хоть ящеркой Эшера, Но туда, где есть воз – духСтул
Больно спине, Когда человек, Чья радость – это еда, Садится плотно, Вольготно – Навсегда Мне вес отдает, а сам От телес избавлен, Летит себе в небеса. Я им раздавлен. В потолке открылся сезам, Беседа стремится за Границу мира идей. Цари они, боги: Зачем же им ноги Внизу, в темноте? Ведь лица людей – Небесные клапаны. А он внезапно Оглянувшись, тайком Лицо утирает платком. Как тучность тяжка Как жизнь проскака, Как ноет нога, Как скрипит и Навсегда к сиденью прибита.Букет
Нет, не выброшу ради того тюльпана: Свеж и белеет атласный локон – Воротник голландского капитана На темной куртке. Задник без окон. Лепесток руки, вполоборота голова, Рот сжат, в нем мерцает вишня… …Нет, пусть выбросит: только не я, а кто-то – Как обо мне еще скажет Всевышний.Царь
вот комод; верхний ящик застрял навеки и открытка с прошлого дня рожденья перед тем, как кинуть в моря и реки всем как царь раздать по прикосновеньюЛампа
Грех: подмигиванья, ужимки, Святость: нимб на столе. Смерть: повисла пружинка В мутном стекле.Виталий Леоненко На память
Я родился в Сибири, вырос и почти всю жизнь живу в Южном Подмосковье, на Оке. По образованию историк. Занимаюсь переводами, в том числе поэтическими (они изданы под псевдонимами). Свои стихи стал писать, если не говорить о детских и отроческих опытах, после 45 лет.
От автора:
В моём подходе к поэтической работе, в самом понимании того, что есть поэзия, сказалась, несомненно, четверть века, отданная служению в церкви. Под этим углом я смотрю, например, на поэзию Петрарки, прочитывая его как человека молитвы и литургии. Литургическое измерение в сознании Петрарки и создало сверхчеловеческий, заполняющий собою всё мироздание, образ его Лауры; у последователей, не имевших его опыта, «петраркизмы» обесценились до простых гипербол и штампов. Первое из напечатанных моих стихотворений так и называется – «Литургия Слова». (Пользуюсь случаем поблагодарить Сергея Стратановского и Ольгу Логош, по чьей инициативе оно было опубликовано в «Зинзивере» в 2010 году.) В отношении к тому, что в поэзии я люблю, и к тому, что делаю сам, наиболее важным критерием для меня всегда остаётся глубина опытного постижения, переживания реальности. Ведь молитва и литургия, если рассматривать их как акты внутренней жизни верующего, суть странствие, исследование неоткрытых глубин – в себе самом, а затем и во всём сущем. Поэзия в этом отношении близка к молитве и к литургии, но у поэтического странствия есть свои, отдельные аспекты. Если молитва (во всяком случае, в христианском понимании) стремится к некой высшей цельности, отсекая всё фрагментарное, поэзия, по большей части, обращена именно к фрагментарному, наполняя маленькие и эфемерные вещи бытием до размеров вселенной и вечности. Как говорила Симона Вейль, в каждом подлинном шедевре присутствует вся полнота времени и пространства. В поэзии я ищу, прежде всего иного, этой полноты, достигаемой любыми речевыми средствами, любой техникой, на любом тематическом материале, при одном условии – внутренней честности. Названный критерий для меня сближает, роднит столь несхожие вещи, как, например, стихи Мандельштама 1920-1930-х годов, стихи дорогого мне Сергея Стратановского (именно они дали импульс моим первым «взрослым» опытам) и многие образцы народной песни.
Хотя сегодняшний день человеческой цивилизации не уверяет в том, что её развитие в XXI веке будет мирным и поступательным, поэзия непременно сохранится и будет нужна. Подчеркну, что в поэзии, по самой её природе, заключено противоядие от тоталитарного мышления, вновь затопляющего планету. Осознавая эту перспективу и связанный с нею моральный долг, я и пишу то, что пишу.
Три часа на берегу
Запад – пенка топлёного молока. Запад – кисельные берега. Глину небесного потолка берёзовая белит кисть. Вязнет в сугробах медленный ход. Рвётся по шву натянутый лёд. Трясогузки ныряющий лёт. Трясогузки звенящий свист. Морщится гладь зелёной воды. Розова плоть далёкой воды. У полыньи затерялись следы позавчерашних троп. Через плетни перекличка псов. Головы вётел – мысли без слов. В голых ветвях – забытьё без снов, В переплетеньях строк. Стынешь, но глаз не отводишь, пока простынь льняную расстелит Ока и, засветив свечу в облаках, распустит косы огня. Трогаешь лоно её берегов, и обжигает пальцы любовь. Краснеешь лицом. И льётся ливмя пламя в колодцах шагов. Апрель 2013Вечерние проводы Оки
В мглу растеклось белое, синее почернело, красное в сизой золе остыло вдали. Тихо, медленно плывёт твоё охладевшее тело на крепких плечаху земли. Дали и города словно свечи неся к изголовью, голыми ветлами тянутся берега. Встала с востока звезда и побелелым лицом онемелой любовью к твоим приклонилась ногам – и тихой слезою стекла. Вокруг ни ветра, ни всплеска, ни всхлипа; льдов кружева по краям; веток застылая тишь. В неизреченную красоту неразличимого лика, вглядываясь, изумлённый, стоишь. Декабрь 2013Холм. Преддверие весны
…Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.
МандельштамВозмите, врата, князи ваша,
и возмитеся врата вечная…
Славянская Псалтырь холм – бурых трав перепутанных ком; по талому склону, по горкам кротовым сливаются тропы к реке – молоком, стучат молотком ледовым. в овраги бегут, в снеговые ручьи, в залёгшие вглубь перелоги, где плещут невидимые ключи от торной весенней дороги – дороги, что с ложа застылого сна прозрачными смотрит глазами в зенит, в стремительные небеса, на облак летящее знамя, на крылья, развёрстанные в закат, на звонкий полет свиристелей… – возьмутся врата, и невестой Ока восстанет с ледовой постели; и мы поплывём высоко, далеко, где в ярком тепле горизонтов прольётся небесных коров молоко и золото в солнечных сотах. Март 2014«В глазницах кривых ветвей…»
В. Б.
В глазницах кривых ветвей, в ресницах, в густой листве светило моргает оком; свечою дрожит река, вечерние облака застыли в беге высоком. То притча твоих лет – промчавшейся лодки след: пройдя от края до края, в распахнутых берегах расплавленных крыл размах в тени ракит замирает. И тает… И вновь река извечные ткёт холсты, и в струях стоят тени, как страны и как века, где с солнцем плывёшь ты в бессмертном твоём цветенье. Июль 2013Берега в ноябре
К этой земле между явью и сном стылым течением нас отнесло: древней ветлы перекрученный ствол в почву впивается словно сверло. Здесь коренятся высокие реки, здесь прорастают великие воды; вдоль по волокнам, где годы, где веки коробьями выгибает кора, в руслах незримые веют ветра, и, словно гусли, гудят времена, и влекут племена кораблей вверх по протокам ветвей. По берегам, по причалам ракит острой листвой паруса шелестят, тёмною бронзой звенят – и звенит ткань, где основу серебряных струй стаей утиной нижет уток, и, как челнок, улетает листок, в волны ныряя на полном ветру. Влажные капли в глубинах глазниц – как ноздреватые камни легки! – по-над телами полых цевниц струны натягивают колки. Грубую песню осень поёт елям вечерним, ольховым утром – О, эти плавания вдвоём по нашим переплетённым мирам… Ноябрь 2011На память
пусть никто никогда и не спросит о том, что не делят на линии, ноты и слоги – о таинстве света, о прозренье – и всё же, тогда вспомни поле с обрывками снега, оврагу пустынной дороги, и в глубокой неважности веток – изумрудное круглое небо в нераздельном свечении льда. Февраль 2014Лиса
Не колеблется ветром, не движится временем миг. В нём, натянут как лук, изогнут в тугое окружье, замыкается мой необъемлемый мир под округлое дальнее пенье кукушье. Возвращение, как на ладони, дарёных пространств – словно милостинка из рукава, из овала лесного, из опушек над переливами трав, где кукушкино эхо… И я принимаю, и снова пред собою кому-то протягиваю на ветру. И лиса, из ложбины плеснувши внезапное пламя, с полнолуньем сливает закат – и как замкнутый круг описует вселенную перед глазами. Май 2014Под липами
Стрекот вдоль улицы. Сладостный звон комарья в кругу электрического небосвода. Помнишь тот блеск – как при полной луне фонаря липы листва истекает мёдом? Это и властно над нами – память вдвоём, та, что тела наши склеивает сквозь расставанья: эта скамейка, и лето, блеск листьев под тем фонарём, воздух ночной, где и в звёзды впечатано знанье плеч и ладоней, и бёдер, и уст и сосков, малого семени путь прорастанья в обоих – в землю, текущую мёдом и молоком, что и оставив, навеки уносят с собою. Июль 2014Вечер. Берёзы
– О прожитом? не жалею. Он смотрит ветвям за пределы, где редкой сеткою облако. Берёз смеркается галерея – так в смерти свет сужается белый трапецией белого потолка. Смотреть сквозь зыбкие эти кровы, ступать за прозрачные стены: дорога, и храм, и престол. И в ягодах Крови Христовой шиповника острое тело пред времени белым крестом. Ноябрь 2014«Ночь осеннего луга…»
Ночь осеннего луга. Свеченье стареющих трав. Звёзды – родинки на небесной груди. Здесь речная дуга замыкает тебя в берегах. И чернеет дугой впереди чутко дышащий холм – как супруга, как сон, словно Ева – живое ребро, словно жребий, к которому приговорён, – нет, не ты, а неотличаемый «он»… Ночь осеннего луга. С обеих сторон цепенеет реки серебро. Октябрь 2015Свет Покрова
«Богородице, вiрным обороно» – украинским слёзным барокко ввысь подымается кант. От холодной земли желтизна подбирается к кронам, бледным светом – к берёзовым облакам. В струях мира холодно-прозрачного вещая Рыба с заревою, пурпурною, солнечной чешуёй сквозь разреженный воздух забвенья, раздрая, разрыва проплывает легко, в синем небе узнаешь её. Я слушал, как сердце её в рёбрах мерно вращаемой лиры, в перегудах бандуры, в росплеске колоколов над куполами обители Матери мира, над волнами, над холмами песню бессловную лило, над волнами, над холмами вдаль облаками текло. Октябрь 2015Андрей Мансветов Электричка Пермь – Голованово
Поэт, публицист, театральный деятель. Род. в Порту Ванино на Дальнем Востоке в 1975 г. Детство и юность провёл в Перми. Первая публикация в журнале «Пионер» в 1990 году. С 1994 года печатается в периодике и коллективных сборниках. В 1996 году – первая самостоятельная книга. Считает себя активным участником литературного процесса с начала «нулевых» годов.
Пермь II
Покидая дом, который построил нас, Не забудьте выключить свет, перекрыть газ Проверить окна, каждый их шпингалет, Присесть на дорожку, перечитать билет. Может, перемудрили с датой, или усталая РЖД – Кассирша напутала, кто, зачем или где, Откуда или плевать, поездом или так, Каждую букву каждый служебный знак. Покидая дом, который предали мы, Забыть, что после щелчка его не защитить от зимы Никто не останется ждать, вязать свитер, Смотреть в окно. Просто жить здесь, просто помнить, или не помнить, но Судачить, сплетничать: «Ты так давно не был(а), А Болотовы переехали, а бабушка Тоня, да, умерла…» Покидая дом, который так постарел, Что жизнь кажется пыльной, кажется, что не нужна, Плевать, что курил, высунувшись из Вон того окна, Что девочка Юля, жившая через подъезд, Мать не твоих детей (говорят, нынче мяса не ест). Можно не узнавать здешних теперь стариков, Не здороваться, не уступать места… Дом все равно будет помнить эхо твоих шагов Аркой, где «галей» в прятки считал до ста.Предчувствие гражданской войны Вариант 1 (Пермь I)
Сорок шестой день Ест боевая моль Ростовую мишень Мишень ощущает боль Рядом каждую ночь В доме идет война Отец уже выбросил дочь Из окна Чадно горит свеча Черным дымит восход Если погон на плечах В расходПредчувствие гражданской войны Вариант 2 (Славяново)
Сорок шестой день ест ржавчина-моль Забытую в поле мишень Мишень ощущает боль Где-то каждую ночь также идет война Отец уже выбросил дочь Из окна Чадно горит свеча Черным дымит восход Если погон на плечах В расход Если земли края Сшить костяной иглой Не пропадет в морях Ной Тварь убивает тварь Тварь умирает как Тридцать седьмой январь Барак Вымоли всех, а я Я то не знаю слов Только что рельсы болят Без поездов Бес не попутал и Иволга свет в окне Ты не успел. Гали Сорок шесть дней.Мотовилиха
Диме Спиридонову
Городу как в городки по башке елдой Входит в окно река талой водой Письма летят на юг через Тамбов Дальше сижу пою хрень про любовь Городу как весной пух бьет в глаза Бьет инвалид хмельной шохой туза В храмах дают пожрать в мэрии зась Дальше сижу ору мерзость про власть Городу горше чем правильный яд Даже не встать с колен куда там назад Роем окопы всегда глубже на штык Дальше сижу ору холодно дык Городу похер приехал спи и бухай Песни через прореху падают в рай Падают падают падают годы идут Вот и сиди играй люди ведь ждутЯзовая
Гаутама просит сына Выйди ночью на дорогу Выйди ночью на дорогу Поклонись дорожной пыли. Гаутама просит небо Выйди ночью на дорогу Выйди ночью на дорогу Пыли поклонись дорожной Пыль дорожная все стерпит Пыль запомнит и забудет Обнимает ночь за плечи Путника в сандалиях пыльных.Юбилейная
Жили они долго и счастливо и умерли в один из дней, вечером. Фиолетово-синим стекало небо в длинные-длинные тени между камней. Апостолы спали в яслях после вина и хлеба. Ты говорил: я знаю, имя им легион. Говорил, что война начнется, Что нет, я уверен, ничего более важного, кроме как палить на сигнальной башне огонь, Ждать подкрепления и дрова экономить. Новые горы вставали понятным месседжем поперек пути. Имя рек от начала времен начиналось с Кама… А когда в арамейский город въезжал на осле пророк, рядом точно шла его, пророкова мама. Да, я все это помню. В открытые окна четвертого этажа залетали шмели и водопроводные трубы пели. Начиналась еще одна Калиюга, и мне с нее шла маржа. Созидатель всего «Чижик-пыжик» играл на свирели.Балмошная
Когда судьба, несущая на концах коромысла по пустоте, остановится, капли утрет со лба и спросит: Ну, как? Мало тебе по темени, дурачок? В динамиках над вокзалом ЖД раздастся щелчок и потянется бесконечный, коричневый товарняк. Долгой буксующей нотой реквиема по мечте. Ритм будет все тот же: ту-тух-протух, По обе стороны рельсов его отразят дома. Вместо обычной рифмы – «сума-тюрьма» Буду читать Дюма Трех мушкетеров, отрывки, по памяти, вслух. Потом разболтаю цикорий в чашке с некипятком и проживу еще лет так, возьмем, пятьдесят, ненаписанным текстом в блокноте (ты помнишь, обложка с синим цветком) На окне, за которым Сквозь ночь поезда летят.Кислотный
да идите вы нахер с этой вашей войной у нас и тут в тупике дел есть на век и два рация на бронепоезде сдохла за горючей водой увел личный состав матрос Железняк (вернулся один и в дрова) раз вам так надо бомбите хоть всех мусульман мы будем топить паровоз стопками вашей агит – макулатуры какие нах добровольцы у нас в тупике туман при слове патриотизм за заточкой лезу в карман (геройский матрос спит) ну и пусть его спит мы мирные люди и наш девиз идите вы нахер с любой войной идите идите набиваю заново патронташ трясу за плечо матроса уф слава богу живой(по радио передают песню про паровоз, который летит вперед без остановок до самой коммуны, ее перебивает БГ в чьем-то телефоне, и все это исчезает, когда голос диктора объявляет Кислотный)
Молодежная
Папа купи мне пластмассовые солдатики Сладкую вату и колесо обозения Мама а мне помаду шарик И чего он ко мне пристает Дядя Андрей а дядя Игорь и тетя Света Что ли маленькие Дай прокатиться на велике Только если вокруг ротонды Сквозь ограду солнце И даже еще и не осень Читаю на лавочке с наладонника Книжка так себе Катится вып(б)рошеный воздушный шарик Детский электромобиль, коляска Американские горки грохочут Тетя Света визжит Дядя Игорь по-хозяйски ее обнимает Август Начало столетияКамГЭС
Свет из горсти в горсть, Ты на земле – гость, Ты на земле миг, Раз, и уже старик. Два, и уже другой, Только опять живой, Три, и придут сюда Мертвые поезда, А на четвертый счет, Время назад течет.Левшино
Почтовые марки, индекс, обратный адрес, Облезлый ящик для писем через дорогу. Никому еще не предназначаясь Уходит письмо, уходит, и, слава богу. Но долго перед глазами будет мешать-маячить Спина почтальона, и так до точки, до скрытой Домами Камы, которой весна-удача Несет от верховий паводок. И событий Не будет больше. Хватай мешки, бля! Вокзал отходит… Заборы заводов, кладбища лодок, снова заборы Левшино, дурка, куртка не по погоде, Лемминги-дачники, телефонные переговоры. А конверту плевать, куда там лететь и ехать. Почтальон уволился, ящик сперли, сменился адрес. Песня из репродуктора, стены, эхо. Диктофон в кармане с заедающей кнопкой «запись».Банная гора
вот доеду и запишусь в добровольные строители мостов потом закончится апрель вчера эта падла продала нам уксусную эссенцию вместо водки падла, потому что знала, нюхать не будем, сразу дернем только я всегда сначала нюхаю Виталик вернулся в ряды и не вернулся из командировки Андрюха давно сторчался в своей Тюмени Парня с соседней койки забрили, потому что косить под пидора тоже надо уметь слышал, армия пошла мудаку на пользу рисовал по памяти Покрову на Нерли потом на заказ украденную из порно-колоды даму червей, сосущую здоровенный болт флиртовал хоть убейте не помню с кем хорошо, что в неврозах нет разделения по полам, только по палатам записывал рассказы умалишенных и собственные умные мысли в одной тетрадке курил кислые дешевые сигареты плел из капельницы чертил планы эвакуации от себя добавляя лестницы и коридоры пил с санитарами спирт и чифирь в палате выписался в июне остальное не важно. ГоловановоВадим Балабан Монтаж/хронометраж
Род. в городе Троицке Челябинской области. Печатался в журналах «Урал», «Зинзивер», «Гвидеон», «Василиск» и др.; антологии «Современная уральская поэзия. 2004-2011» (ред. В. Кальпиди). Автор трёх книг стихотворений.
Хронометраж
кино кривозеркалья закручено в цветы подробные в расцвете, поскольку декабря не убыло в паркете по линиям руки затягивая воду крадутся пауки. в усталые пожатья разжатая земля, торопитесь к обеду как люди-ледоходы, а с четверга на среду из сумерек стола возносятся опилки и выдохи стекла.Монтаж
местность уже не ваша: Russia и неизвестность кошка – и на душе. Сорос туда из гипса, числа как будто голос: чипса и стрекоза. а ведь не память сходу, воду и тёртый камень к гиду – пускай слепа. к чёрту ли разомлели в деле на перечёты пили из-под пера.Представление
хрустящий хромовый четверг. плезиозавры у окна дежурят, смыкают очи от дневного света и уши затыкают, иногда стучат в окно и плавно затекают по крестовине внутрь помещений фабричных – там готовится лапша. проникнув раздеваются по кругу и представляются «комиссией», Москвой. рабочие вздымают хэнде хох. жужжание электродрелей гаснет, но продолжает медленно бурить, проводка плавится, плезиозавры курят. в дверном проёме возникает краб – огромный, водянистый, деловитый – причмокивает, а плезиозавры сужаются, рабочие колотят по пассатижам – ровно – молотками. лапша вытягивается в стороны от краба, по полу разбегаются маслины, сочится маслянистый сок. из окон появляются служанки в болотных сапогах, в руках шприцы: – транквилизатор и очистка помещений… по стенам трещины, вся фабрика дрожит, обваливаются плиты потолка, из пола откупоренная лава ползёт плезиозаврам по ногам, рабочие взывают к миротворцам, служанки с крабом исчезают в окнах, комиссия довольна. миротворцы отправлены назад в кот-д'ивуар, в связи с нехваткой топлива. аминь.«Отрезвишься и поедешь…»
отрезвишься и поедешь поползёшь как полетишь неба сизые ошмётки и печальная труба а над городом из глины проскрипит таёжный снег и никто не уступает места в транспорте-земле заколоченные гнёзда догорают в голове очаги комендатуры маршируют под печать у собаки есть озвучка будто оперный театр а подводная на-водка окружает и палит три недели ясен тополь серым светом за глаза откупоривают душу забивают телефон чайки это отвечайки… а подводные рабы пузырят и плодоносят сквозь густую чешую.Исповедь
и руки умывал когда они пилаты по вторникам бурил буровил и курил в палаты и галеты дарил-паниковал и поезд целовал в пожарные кареты и карты ковырял ворочаясь нырял но вымерли галаты а я голосовал.«не прихожу в себя…»
не прихожу в себя не ухожу без стука, солнечный частокол и солона трава. а насекомых кукол – сосками подсобя – выкормил бы: халва – рыхлая как монгол. перелетая верх теменем обнажиться и сединою глаз пересказать письмо, через жену кружится в опочивальне снег а седина – бельмо или под землю лаз. вот и хрома сосна вещны святые мощи не выдаётся Бог заживо на ура или спросонья ночи высыпится луна перьями из пера ангелом из-под ног.«на дне глазного дня…»
на дне глазного дня расспрашивай меня раскрашивай меня вопросы утоляй побольше не проси вкушая не вкуси но оставляй для птиц на ветках из ресниц а время – человек на время человек мышатам полевым пшеница из-под век всё кончится когда закончится вода ну а пока июнь взрослеющий пока.«ни у голоса качели…»
И. Г.
ни у голоса качели – у виолончели. размыкаются нули и мычит июль если любишь – поюли и запутай в тюль.«меньше покоя – такое…»
меньше покоя – такое страшное и другое или следы от денег и: денёк а не день больше в глаза докуки и старухи в старухе время как молоко сбитое молотком.«вижу голос в темноте…»
вижу голос в темноте и мокнет дым и парит звёзды ползают в молоке но не видно, говорит сколько раз одеялом не укрывайся а смертельно. что-то дрожит справа и не может выдвинуться а нетуже ничего да только скопление тёмного лишь раз озябнешь и всё непоправимо.Степь
это поминки это родовая память связанный крепко лежит в собственных верёвках и корни волос доедают свои участки вода замечает и взрывается срывая с костей землянику это правовое поле это электрическая дуга нет ничего положительного только куски проволоки окопы и полигоны а текущие коровы проваливаются в степь отвернувшись раз не вернуться к месту захоронения кресты по всей неуёмной степи отмороженные глаза по всей бесконечной степи миллиарды раскрытых ртов со снегом и проволокой здесь же.«будет канатоходство…»
будет канатоходство и ласточки из спины пролетят памятник всех забудет даже капельницы весны чётное поколение запаянное в карусельный хлеб как увлечённое остановит зимы бассейн все ли успето? как-то строгость листается по странице прячутся новосёлы в дереве обитаемом вылетят из спины и аллилуйю каждому вынесут зря мы подложно выли при сухарях и от жажды.Сварка
…кончился паспорт и негде писать на полу рукава… …самуРая поёт ай да где ж вы мои… …малыши это было неделю в огне… …потому что нафаршировано мёдом потом… …всё узнаешь зачем этим рёбрам нужны… …фотографии марса и радиоактивное море рыжего… …цвета где можно вырвать страницу прибоя… …услышать священные клады дубовую жизнь в километре… …от головы с насекомым колодцем… …крылатая кухня зелёная кошка постельная жатва нигде… …не выглядит словно прозрачней осколка… …в живот и небо сочится в прохладную скорость медленно… …сваркой снимать паруса чугуна и отслаивать волны.Представление 2
на дне реки какой-то Робинзон (еврей наверно) доедает рыбу сырую, и ползёт над головой баркас железный с синими бортами, гудит над головой пыхтит трубой как трубкой– – а рыба с Робинзоном говорит и колется кистями от испуга: – я в прошлой жизни лисий воротник меня дарил жене Уинстон Черчиль ещё живой, мне кажется что небо вверху несёт водоворот винтами, нас порубит в мясо. но Робинзон не может отвечать он сам напуган заползает в ил кряхтит кидает к берегу беззубок сметая на своём пути все гнёзда галереи колоннады откапывая золото в мешках контрабандистов сгинувших под током. однако август, холодно, роса замёрзла и втянулась до предела. а Робинзон вытаскивает сети вытряхивая серый пенопласт. стоит как вкопанный по самый подбородок и не моргая смотрит в густоту нефтепродуктов на замёрзшем пляже.Елена Зейферт Ангел дождевой бочки
Родилась в 1973 г. в Казахстане, в гор. Караганде. С 2008 г. живёт в Москве. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук. Член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России. Ведущая литературного клуба «Мир внутри слова» и литературной мастерской «На Малой Пироговке».
Автор книг стихов «Расставание с хрупкостью», «Детские боги», «Полынный венок (сонетов) Максимилиану Волошину», «Веснег», «Потеря ненужного» (стихи и переводы), русско-немецкой книги-билингвы «Namen der Bäume/ Имена деревьев», сборника стихов и прозы «Малый изборник», серии книг для детей, книги критики «Ловец смыслов», монографий по литературоведению и др. Публиковалась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературная учёба», «Новая Юность», «Волга», «Урал», «Крещатик» и др. Победитель I Международного Волошинского конкурса в номинации «Стихотворение, посвященное М. Волошину и Дому Поэта» (Коктебель, 2003). Лауреат главной литературной премии федеральной земли Баден-Вюртемберг (Штутгарт, 2010).
«Стихи Елены Зейферт – замечательный пример поэзии, перед которой «бледнеет жизнь земная». Однако – как всегда бывает с хорошей литературой – земная жизнь в этих стихах полна красок, движения и женского обаяния. Они – ещё одно нечастое доказательство того, что жизнь, при всех своих слишком хорошо известных недостатках типа несчастной любви и смерти – вещь всё-таки достойная восхищения».
Вахыт КенжеевМолчание
Тихий пасечник, соты твои пусты, как сады, сиротея, просишь ещё немного родства. Семена сухих губ превращаются в глиняные слова, колосятся трещинами, шепчут – воды, воды, но, увы, умирают, хоть сразу им пить даёшь. Символ глиняных сотов в ладонях уже невесом. Ты лишён дара речи. А клёны цветут кругом и взахлёб хвалят нежный воздух, весенний дождь. А в твоём сознанье зима, удушье, беда. На молочном снегу ворох жёлтых умерших пчёл – оболочки слов, ты их создал, понежил, прочёл и, увидев их смерть, навсегда отпустил в холода. Бросить соты пустые – решает пальцев суд! Лучше выменять их на блага или продать с лотка. Но кто скажет, что глина на языке не сладка? Слаще мёда, когда к кадыку подступает зуд. Пусть молчит, сколько может, униженная гортань. Новых рек не услышать, пока запрещает снег. Но дождёшься рождения – слово живое у рта, словно чёрточка боли, даст наконец побег.Творчество
Назову тебя Тютчев. Светлый каменный лес разделяет тебя и меня в погожие дни – ты даруешь мне много имён, существ и небес, и худых корней, авось приживутся они. Я в тебя не верю. А имя тебе даю! Ты стихов не диктуешь, не являешься в срок. Только – слышишь? – кто-то в моём захудалом раю начинает песнь, как крошечный кувырок. Я тебя только слышу – это вопрос границ. Замолкаю, чтоб собственным звуком тебя не спугнуть, и в ушко иголки протягиваю гранит, и из слов, как звёзд, слагаю свой Млечный Путь. Ты легонько отталкиваешь – мол, пора, пора… И плывёшь, одиночка, на новых моих стихах – между тылом бумаги и острием пера, в моём горле, моих ушах и моих глазах. Я уже не боюсь, что на город падут снега. Тютчев, где твоя новая заводь? У чьих камышей? У тебя иногда нет арфы, у меня – ушей, но потеря ненужного нам с тобой дорога.Слова
Владелец лавочки у самой мостовой льняные ткани дарит без остатка и длинной спичкой, словно ватой сладкой, колдует над голодною Москвой. Ему слова нисколько не нужны – свои стихи внутри себя он слышит. Слова таятся, как в глубокой нише, – тряпичный образ молодой луны. И будто кто-то бьёт его под дых и жмёт ладони крепкими руками, когда слова он ищет для других и говорит телесными стихами.«Оброните меня на сильном ветру во тьму…»
Оброните меня на сильном ветру во тьму – стану кротким цветком, зелёным слухом полей. А зерно умирает, чтобы не быть одному. А зерно расправляет, как ангел, крылья в земле. Оказаться внутри цветка и принять его – ты и Бог, и послушница, и уснувший язык. Человеческим зёрнам не уловить родство, песню прикосновений рук и лозы, но дано стать ухом – в нежном теле цветка, или в талом снеге, или в слиянии рек. Слыша зов, растекаться паводком языка, разрешённой речью закрытых прозрачных век.Ангел дождевой бочки
Мотылёк на поверхности зеленоватой воды. Ведь утонет! Беру его на ладонь. Ах, да это не мотылёк, а ангел! Крохотный. С крыльями за спиной, в мокрой ризе. Хочу унести это диво с собой, но ангел вспархивает с руки и с размаху ныряет в бочку. В ужасе за него наклоняюсь к мутной воде. Со дна бочки идёт лёгкий ровный свет.«Я ли под брюхом овцы утекаю, город-слепец?..»
Я ли под брюхом овцы утекаю, город-слепец? Маковки храмов твоих мне пятки жгут. Спорим, во мне тебя больше, чем в шири твоих степей. Ты никогда мне не лгал, а я тебе мщу и лгу. С неба прольётся кислое молоко. А город лежит! Утренний творог вынут из шахт. Он бел. Варвары тащат вазы, монеты, копья, ножи. Я захватила с собою свою колыбель. Ангелы голы. Лица их, словно во мгле. Но и таких мне в дорогу никто не даст. Ты никого не жалей! Никогда не жалей! Только арфу свою, захлебнувшись, Караганда. Пусть верещит под руками живое овечье руно. Город шарит по шерсти, он оголодал. Я вдыхаю овечий дух, и мне всё равно – Мои предки в теплушках когда-то попали сюда. Содрогаясь от страха (надо мной великан), Превращаюсь в зародыш, надеясь родиться не здесь, А сама понимаю, что ушла с молотка За хорошие деньги, но сохранила честь.«Руки города в глине. Как же бездарен он!..»
Руки города в глине. Как же бездарен он! Я его ранний, натужный, самый корявый горшок – Хрупкий носитель сажи и разбитых окон, Ветхих бумажных змеев, ландышей нагишом. Горе-ваятелю стыдно? Он не прячет глаза! Ждёт дароносицу для убогих сосудов своих. Этих сестёр и братьев город мне навязал, Взял их под мышки, под ноги бросил, затих. Глиняных кукол болезненны черепа, Мироточат кресты в их слабых руках. Карагандинская иконопись скупа И до небесного таяния легка. Кто Он, горшечник или гончарный круг? В лёгких величиною с город пробел. Иконопись как изморозь поутру – Дышишь и изменяешь рисунок небес.* * *
Время – потомственный плотник, мастер лодочных дел. Рубит, снимает лишку… «Не плотников ли Он сын?» Тешет из сердцевины, из самого сердца людей. Шьёт осторожные лодки, суда нездешней красы.
Люди кричат и стонут, лодками быть не хотят. Люди не понимают, о чём говорят топоры. Им не к лицу деревянный и просмолённый наряд, Но под килем снуют уже спины блестящих рыб.
Люди голову прячут – Господи, не меня! «Больно!» кричат и плачут, но не уходят ко дну. Время ведёт обтёску от вершины к корням – Рыбьими тушками лодок легче в вечность нырнуть.
Лодочки – загляденье! Их принимает река. Новых брёвен и досок времени хватит сполна. …А мужская рука его, словно воздух, легка, Если ему подвластны жаворонок и весна.«Кто услышал его? Христа ради, на!..»
Кто услышал его? Христа ради, на! С неба видит – идёт человек… Старый нищий нашёл виноградину У скамеечки, на траве. Он поднял с земли пыльную ягоду И поднёс поскорее к губам. Эх, для счастья так мало и надо бы. Только волю, да воля слаба. Он траву всю обшарил ладонями, Щурил, щурил глаза. Ничего. Бросьте с неба награду бездомному, Пожалейте немного его…Отлучение
Отлучаемый костенеет, кожа жёстче коры, Он руками хватается за ускользающий свет. Толи голову в небо задрать, то ли яму рыть, То ли просто смотреть – ничего не видеть – вослед. Не утешится плачущий, ибо он не блажен. Отлучение – боль или даже боли больней. Потерять упругость и сонную силу корней, Обрести пустое, не дышащее взамен. Люди не сомневаются, вправе ли отлучать, И не дарят розу или глоток молока. Отлучаемый будет признан святым в веках, А пока бредёт по самой кромке луча.«Мы живём в одно время в одном городе…»
Мы живём в одно время в одном городе. Но эскизы моих строений для тебя невидимы, а мои улицы слишком гулки, чтобы ты, окружённый музыкой как воздухом, ступил на их тротуары. Любитель тишины и парадоксов, ты допускаешь в свой город только музыку, властительнее которой я ничего и никого не знаю. И прячешься от меня за чертежами быта, а я вижу падающие тени на листах твоих черновиков – стоят дома и костёлы, шумят деревья, снуют крохотные люди… Я с удивлением узнаю среди них себя – женщина бежит без оглядки, растрепав волосы, теряя одежду, пересекает границы бумажного пространства и исчезает. Ты задумчиво продолжаешь писать, не замечая потери. Музыка, неуверенно сопровождавшая это бегство, превращается в тишину. Я в городском парке. Тебя нет, и мне уже не страшно. Моя архитектура утратила звучание. Но разве твоя музыка её не слышит? Я доказываю себе, что я дома, но окрестности мне кажутся незнакомыми. Знакомы лишь твои губы и руки. Значит, я в твоём городе. Накинь на меня одежду. Или я стала музыкой?«Мужчина, увязший в своей пустоте…»
Мужчина, увязший в своей пустоте, делит зачем-то с тобою постель, но прерывает волшебный акт; ты к нему эдак, ты к нему так, он же, просто надев штаны (руки, крики твои не нужны), хочет из жизни твоей уйти, ты как кочка на ровном пути. Завтра тебе, еле-еле живой, ехать по долгой такой кольцевой, и возрождаться, отращивать «я», колышек вбить, где граница твоя. Знаешь, а всем на тебя наплевать. Не кантовать тебя, не ницшевать. В этом особая, чёрт, благодать.Германия
Меня пересекает стена. Она проходит по центру вдоль тела, делая петлю в области сердца, прорезая его по Солнечной аллее. Левое ухо не слышит то, что узнало правое. Правая ноздря не чует аромата, которым наслаждается левая. Мой язык разрезан, как змеиное жало. Только левое и правое полушария мозга передают друг другу сигналы. Почему я всё ещё не привыкла к боли? Почему мне снится, что, пытаясь встать, я срастаюсь и на мне нет шрамов?«Кем осталась я после нежной дружбы с тобой?..»
Кем осталась я после нежной дружбы с тобой? Деревом или косточками в его плодах? Я уже никогда не узнаю, что значит боль, Даже если как ценность её никому не отдам. Может (скажешь), я стала ещё живей, Тронешь пальцем меня, и рана кровоточит? Из таких деревьев, как я, не строят церквей, Потому что Слово в храмах таких горчит. Посмотри, как прекрасна падалица моя! Ей не нужно стремиться к небу – страх высоты. И без спила понятно: я старше, поблекла явь И корней не пускают ни храмы мои, ни кресты. Я отныне статична, мне некуда больше бежать, Но я в силах носить в себе дупла и гнёзда других, Подставлять своё жёсткое тело, снимать беспокойный жар И тихонечко петь сочинённый с тобою гимн…«Ты касался лица моего, а во мне пели колокола…»
Ты касался лица моего, а во мне пели колокола (этот медный язык тихой церкви в моём городке), и, задрав подбородок, под звонницей девочка шла, пятилетняя девочка (я?) налегке, налегке… Ты меня обнимал, а внутри меня плыли суда, и гружёные баржи, и льдины, и сонмища рыб, я впустила в себя эти реки, не помню когда, не с рожденья – тогда во мне жили другие дары… Ты входил в моё лоно. И лиственнице – небес головою касаться, вспархивать – голубям, танцевать – сполохам!.. А мне, повинуясь судьбе, быть церквушкой, рекою, деревом, но без тебя.«На дне моря – барханы…»
На дне моря – барханы. Песчаные волны текут медленно. Они не подчиняются небу морских. Ступаешь в воду, и между песком и подошвой рождается пространство, где мой загорелый ребёнок чертит на прибрежном песке своё имя, а вынесенная на берег морская капуста, как магнитофонная плёнка, записывает молчание ветра в его волосах.Иван Шепета Стихотворения
Род. в 1956 г. в ныне не существующем посёлке горняков. Автор б-ти поэтических книг и многочисленных публикаций в толстых и тонких журналах, альманахах и литературных еженедельниках. Стихи переводились на иностранные языки, о них писала современная критика. В настоящее время живёт во Владивостоке. Предприниматель. Издатель.
Жуть соловьинная
Вкралось серое на синее: ветки – чёрные, кусты – посеребренные, в инее, будто мёртвые, пусты. Только железнодорожная ветка рядышком поёт, только ворон завороженно голос небу подаёт. То картавит, то грассирует – Соловей! Разбойник, вор… Окрылённый, звук форсирует Дарданеллы и Босфор. Соловьиных свистов Родина, тьма ничейная земли, где на Киев заколодило путь без Муромца Ильи. Братство с равенством отгрезились. В святцах – рыла упырей. Допились. Домаршальезились. Жуть. И нет богатырей! Только с проводом оборванным столб на сторону косит, только сказанное вороном долго в воздухе висит. 1990, 2015Осень в покровском парке
Разгулялась над окрестностью погодка… Я гляжу, как в синем небе птица реет, как у старого товарища походка изменилась, оттого что он стареет. Грустно мне на этом свете оголтелом, не осталось для меня в нём белых пятен. Был когда-то я хорош и крепок телом, а теперь я только словом и приятен. Не доволен я собой, от жизни тошно, не влечёт она к себе забытой тайной, не гуляется мне в парке, оттого что был когда-то он кладбищенской окраиной. Здесь, студенту, мне на ум не шла наука. Дрался в парке. Танцевал. Глушил портвейн… На немых могилах пушкинского внука[3] и расстрелянной Людмилы Волкенштейн[4]. 2008, 2015(C)«У моря я лечь хочу камнем…»
У моря я лечь хочу камнем, большим, и бунтующим волнам в беспамятстве ясном, веками внимать, оставаясь безмолвным. Хочу, чтоб средь общего ритма слияний и разъединений души моей грубой молитва, звучала, не зная сомнений. И где-то гудок теплохода, далёкий и слышимый еле, звучал над пространством как ода про жизнь в человеческом теле. 1983, 2014Вслушиваясь
Из души выщипывает струнки чёрный лес, застывший нагишом, будто в ученическом рисунке, чёрканный простым карандашом. Жизни грешной не певец я – пленник. Сердце безголосое болит. До минор… три ёлочки – не ельник, оживляют музыкою вид. От порога в лес уводят ноги, каждый кустик и колюч, и наг. Осень… время подводить итоги, обходя исхоженный овраг, говорить «прощайте!» и – «спасибо!», поворот почувствовав в игре, вслушиваясь в долгий стук с Транссиба, в длинный текст из точек и тире.«Быть с нею…»
Быть с нею права не имею, и права – отказаться чтоб, так от желания немею с макушки и до пальцев стоп. Она – волнующе другая, а та, которой рядом нет, как лампочка, перегорая, в пустой прихожей гасит свет. Пространство, время – что для них мы? О, если долго вглубь смотреть, то можно вдруг расслышать рифмы в словах «любовь и смерть«Как голос чувств твоих высок…»
Как голос чувств твоих высок, как небо звёздное бескрайне! Я ощущаю твой восторг, передающийся мне втайне. Ты одинока и нежна, блистательна и незамужна… О, ты такою мне нужна, и быть другой тебе не нужно!«Приди на могилу, когда умру…»
Приди на могилу, когда умру, быть может, тогда про меня поймёшь, каким романтиком был в миру, где правит алчность, где всюду – ложь. Где я как птица летал поверх, но не в укор кому-то и не в пример, когда в эфире среди помех ловил мелодии чистых сфер. В том мире, где человек бескрыл, и я любовьюлюбил земной… В том мире счастлив с тобой я был, а ты несчастна была со мной.«Действия – жадны и грубы,»
Действия – жадны и грубы, мы не умеем любить. Есть в существительном «губы» корень глагола «губить»… Следствия следуют быстро – не поспевают суды… Мы совершаем убийства и заметаем следы.Подкорка
Подольдом – журчание ручья… Вслушиваясь, вникну. Онемею. Эта музыка пока еще ничья, я хочу, чтоб сделалась моею. Есть просвет под куполом из льда, бытие, не отнятое смертью где живая, теплая вода греет воздух под холодной твердью. Всходят там природе вопреки робкие побеги первоцветов, под покровом вымерзшей реки для влюбленных в эту жизнь поэтов! Пусть на самом деле мир жесток, те упрямо верят в жизнь иную, в слепоту куриную – цветок, спрятанный в теплицу ледяную. Застолблю себе участок свой, может быть и золото намою… У кого-то ноты – под рукой, у меня – под коркой ледяною! 2007,30 апреля 2013Первое апреля
Валит снег на первое апреля. Не шутя, настойчиво, всерьёз. Жизнь прекрасна радостью без хмеля, мир хорош пунктирами из грёз. Прилетела чёрная ворона, отворив калитку на весу… Каркнула, как в трубку телефона, птице той, что каркает в лесу. То ли шутка, то ли в самом деле весточка мне, Господи, твоя? Только жутко до мурашек в теле длится эхо инобытия. Озираюсь медленно, тоскую: хочешь верь в иную благодать, хочешь смерть загадывай, какую ты себе способен загадать! 2010, 2014«Пусть не в плюс, но и не в минус. Пусть плохой, но – муж…»
Пусть не в плюс, но и не в минус. Пусть плохой, но – муж… Повинюсь. И пододвинусь, и щекой прижмусь. Не простишь, но станешь мягче. Жизнь сложнее схем. Скажешь лишь, что я – обманщик. Но не зло совсем. Я прочту, хорош ли, плох ли, стих что сочинил, строчку ту, где не просохли буквы от чернил. Света луч, мелькнет по строчке. Свет в твоём лице. Это лучше просто точки, что стоит в конце!«Мне хочется радости, маленькой, но – для тебя…»
Е. Д.
Мне хочется радости, маленькой, но – для тебя; похоже, что я и способность к ней как бы утратил… Я волосы русые глажу твои, теребя: чего б ты хотела, скажи мне, мой главный читатель? Вчера – это было вчера, и оно – далеко, как ночь с этим псом, состязавшимся с вьюгою в вое… сегодня – иное: кураж, я играю легко: знакомая сцена, где утром встречаются двое. О, ты благородна и так образцово скромна, что мне не составит труда эту радость доставить, как яркому солнцу, входящему в дом из окна, на первом стекле растопившему тонкую наледь. 15.11.08«Снег упал – река чернеет и журчит, где мель…»
Снег упал – река чернеет и журчит, где мель. Вечереет… коченеет над рекою ель. Иглы ели потемнели, птицы не поют. Зазвучали в сердце мели, совесть – Божий суд. Пёс бездомный, зверь ли взвыл там? – бегло, и умолк. Звук бездонный… кто с визитом? Неужели волк? Зябнет дерево живое, голая земля. В зимней хвое, в волчьем вое – родина моя! п. Восток, 20.02.2009«Снег пушистый, хороший мне ложится на плечи…»
Снег пушистый, хороший мне ложится на плечи, но под этою ношей мне шагается легче. Легче дышится, длится жизнь мгновеньями, снами, и так хочется слиться с тем, что где-то над нами, с тем, что рядом и всюду, с жизнью, равною чуду, прошлым и настоящим снегом, косо летящим…Иван Клиновой Письма к финикийцу
Поэт. Род. в 1980 году в Красноярске. Дипломант «Илья-премии», лауреат премии Фонда им. В.П. Астафьева, лауреат премии им. И.Д. Рождественского. Публиковался в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Континент», «Интерпоэзия», «Новая юность», «Октябрь» и др. Автор книг стихов «Шапито», «Античность», «Осязание», «Латте-арт», «35», «Варкалось». Член Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра. Живёт в Красноярске.
Человек имеет шанс прочувствовать множество жизней: поменять личность на самом деле или сбежать в иллюзию, сменить город или сочинить память. Поскольку и реальное, и вымышленное записывается нейронами одинаковым способом, то для нашего сознания нет разницы: на становление подростка книги оказывают ничуть не меньшее влияние, чем родители и друзья. В итоге настоящим остаётся то, что решил признать «настоящим» записывающий свою жизнь. Судьба – это не факты, а воспоминания. И мы любим не тех, кого действительно встретили, а кого захотели полюбить. Граница размыта. Её вообще нет. Осознавший подобное положение вещей либо разочаровывается во всём, либо сходит сума. Но есть срединный путь. Путь выделения всего ценного в мире абсолютной иллюзии: коллекционирование особых воспоминаний, материализация их в тексты стихотворений. Потому что стихотворение способно сохранить всё: звучащую в тот момент музыку, запахи, тактильные ощущения, даже вкус губ родного тебе человека. Зачем Иван Клиновой пишет стихи? Что дают эти цветные колбочки с эссенцией памяти? Ему? Он не задумывается. Он – пчела. Он собирает мёд. Это его функция. На заданный вопрос отвечает читатель. Что мне даёт чтение стихотворений Ивана Клинового?
Сначала я в гугле нахожу значения всех непонятных мне слов. К счастью, Иван предельно точен. Каждый его термин не расходится со словарём. Ценность стихов Ивана не в словотворчестве, а в пространстве между словами. Потом я, перечитывая, следую за музыкой текста. Дальше, с каждым перечитыванием, включаю новые и новые слои ощущений. Пока не оказываюсь внутри текста.
Не внутри ума Ивана Клинового. Автор не так важен. Текст теперь принадлежит мне. Автор только записал закодированное для меня послание. Thank you, mister postman!
Сергей Пекин«Выдохни, мальчик, тебя не зовут играть…»
Выдохни, мальчик, тебя не зовут играть. Все бор-машинки давно в гаражи зашиты, Все кулаки разжаты и спрятаны под кровать. Ты сам себе запретитель и разрешитель. Вот на коленке недавно заживший шрам, Сделанный острым камнем, чтоб стать похожим На тех, от кого достанется по шарам За шрам и чернила, закопанные под кожу. Но ты повзрослеешь раньше, чем все они, И вкус у победы не будет таким уж сладким. Так выдохни, мальчик, от зеркала отвернись И кубиков дай деревянной своей лошадке.«Который год не покладая волн…»
Который год не покладая волн, Завод по производству афродит Невнятно демосфенствует, шумит И на-гора выносит произвол. Он заодно с вольфрамовой дугой. Она, вся излучая гордый вид, Мне говорит: «А ты-то кто такой, Что требуешь от звёзд эфемерид?!» А я никто, я мальчик с коробком, В котором спичек хватит, чтобы речь Стояла в горле острым кадыком И было трудно ею пренебречь. Я каждый день хожу на волнолом И беспросветно порождаю тьму, Не потому, что мне светиться влом, А потому что сам себе самум. И если вам даётся свет с трудом И в горле тоже полный буерак, Несите спички – будем вместе мрак Переживать, ходя на волнолом.Space Oddity
Плоскость небес натянув на трёхмерный каркас, Я выхожу в незапятнанный опытом космос – Дэвидом Боуи спетый наземный приказ – И в Монолит утыкаюсь: и лёгкость, и косность… Мой монолог, преломлённый сквозь призму зимы, Вдруг распадётся разменною мелочью Морзе И раздвоится на чёрный и белый шумы… Только бы орган глаголанья насмерть не смёрзся. Мозг, утомлённый загадками сфинксов и бездн, Мстит невесомостью, мздит мне в копилку опилок. Я выбираю, чего обходиться мне без, Не успеваю, и звёзды стучатся в затылок.«Этот чёрный воздух не отравлен…»
Этот чёрный воздух не отравлен, В этом белом снеге яда нет. Просто ночь, набухшая над кровлей, Больно много помнит сигарет. Я стою, замёрзший, невредимый, И курю, и мой невидим дым, А со всех сторон большого дома Снег скрипит на разные лады. Это жизнь тихонько окружает, Вздумав напугать. Я не боюсь. Шарфик растрепался, ветер – в шею. Ночь болит, набухшая, как флюс.«Кто тебя научил ненавидеть, уже неважно…»
Кто тебя научил ненавидеть, уже неважно. Всё уже сделано, пробки повылетали. Мальчик, что был отважно таким бумажным, Нынче взрывоопасен – пропан-бутан. Вера в любовь заменяется верой в ярость. Бог из машины – на месте того, в деталях. Белый ли, алый – пофиг! – порвали парус. Каяться не в чем. И молча глядишь в стакан. Выжить (не подвиг) – всегда в списке дел на завтра, Впрочем, оно давно не в приоритете. Мальчик, светло мечтавший стать космонавтом, Нынче мечтает уехать, куда глаза… Чистить бассейны, а может быть, стричь газоны, Лайкать и постить что-нибудь в интернете, Всем говорить, что прекраснее Аризоны Нет ничего, и в серьге её – бирюза.Всегда был
У меня отобрали веру в будущее продолженное. Оно больше не набухает в моих снах, не когтит меня по утрам и не просит добавки. Сказали: гангрена, – и ампутировали. Сказали: физиотерапия. Сказали: скажи спасибо. А за что благодарить, если я мучаюсь фантомными болями? За что благодарить, если протез нужно кормить запрещёнными заморскими препаратами, а каждый пандус ведёт в тупик? За что говорить спасибо, если все возможные завтра стали сегодня, а сегодня превратились во вчера? Теперь я никогда не буду, теперь я всегда есть или был.После нас – хоть потом
Часы у берендеев были под запретом – все, кроме солнечных.
Евгений Лукин …ты замечаешь: вместо «моя страна» говоришь «эта страна», ловишь себя на том, что уже третий час рассматриваешь гуглокарты, сравнивая штаты «солнечного пояса»: на востоке – много чёрных, на западе – мексиканцев, в Канзасе – ковбоев, во Флориде есть свой Санкт-Петербург и зовущий целоваться Киссимми, в Джорджии – свои Афины, в Техасе – Париж и Одесса, в Колорадо легализована марихуана и там Денвер – город высотою в милю, зато в Аризоне – Большой каньон, а живя в Финиксе, становишься финикийцем, как бы далёким-далёким потомком создателей того алфавита, далёким-далёким потомком которого является латиница, – обо всём этом пишешь кириллицей, которую надеешься забыть…«Он выживал, пока вокруг стоял немеркнущий день…»
Любой, имеющий в доме ружьё...
Сплин Он выживал, пока вокруг стоял немеркнущий день, Он падал в озеро и плавал без рук. В его распаханных глазах цвела седьмая сирень, А первых шесть уже прошли сквозь чубук. Из года в год он повторял один и тот же сюжет: Набив огрызками грозы капюшон, Шёл по обрыву над закатом, чтобы настороже Был каждый злой из тех, кто вооружён. И если всё, что невозможно превозмочь и облечь, Его когда-нибудь найдёт и убьёт, Розеттский камень отыщи, переведи его речь И будь готов сорвать последний джекпот.«В нашем завтрашнем дне как-то слишком просторно для сна…»
В нашем завтрашнем дне как-то слишком просторно для сна, Для спокойного сна, под которым легко не проснуться. Нам не светит с тобой ни хрена, Нам не светит уже ни хрена, Мы почти захлебнулись в безжалостном Море Поллюций. Из-под пяток уходит когда-то живая земля, Над макушкой смыкаются волны густого эфира. Если кто-то и был у руля, То теперь предпоследнее «бля» Издаёт так, как будто стоит на вершине Памира. И восторг в наших лёгких мешается с тёмной водой, Но кому припекло, а кому и всего лишь пригрело. Впереди ослепительный зной И медузы стоят за спиной. От такого конвоя само расслабляется тело. С каждой новой ступенькою вниз мы растём на вершок, Но кому-то придётся за нас разобраться в ответе. Только в завтрашнем дне хорошо, Я готовлюсь пустить корешок В океанское дно, на котором никто нам не светит.«Выбери берег моря, покуда жив…»
Выбери берег моря, покуда жив, Вырви из механизма свою пружинку, Чтобы в кармане звякнувшие гроши, Не заглушали мыслей твоих сурдинку. Память освежевав и карандаши, Вывернув наизнанку шайтан-машинку, Всю свою жизнь по-взрослому запиши, Будто тебе ни разу никто не шикнул. Будто бы всё, что здесь голышом пуржит И за снежинкой лепит в окно снежинку, Не обещало обморочной маржи, А выдавало трещинку и морщинку. Выживи напрямик из такой глуши, Где ни один почин не возьмут в починку. Сам себя, словно рыбу, распотроши, Только б сквозь ворох волн доносилось cinque.«…и вот её лицо в простой оправе…»
…и вот её лицо в простой оправе, А я не забываю ни о чём. Мне надо масла выпить, надо вставить Две батарейки в левое плечо. И снова пару ветряков погнуло Песчаной бурей, захромал брамин, А в городе – мигрантов из Кабула Опять на долгосрочный карантин. В подвале выцветают мониторы – Пора менять, и митинг за права Андроидов разогнан был в который Уж раз… Но это всё слова, слова… А их уже делами не исправить. Исправили уже. По всей Земле. И лишь её лицо в простой оправе Передо мной сияет на столе.«Он выжидал и распространялся, пока не выжил…»
Он выжидал и распространялся, пока не выжил. Сошёл сума пару раз, но вернулся на Main Street. В его ногах правды не было, правда была чуть выше. По крайней мере, так он сам говорит. Он, вообще, говорит очень много и много пишет. Его не парит, что собеседник всегда сокрыт. Да за каким сократом ему скрываться, покуда с вышек Никто не смотрит за теми, кто не обрит! Остановивши своё верченье, он жадно курит, Как будто сам себя осудил и уже вердикт, Хотя давным-давно все изауры и заури Нашли родителей, поживают себе в Перди. А он, закрывшись от всех на смерти антиАОНом, Всё так же дышит, распространяя себя как вид, Но быть ему бражником, аполлоном и махаоном, Пока не закончатся бражка и алфавит.«Мысли о море лучше живого моря…»
Мысли о море лучше живого моря – Первый закон любого хикикомори. Нет ничего хорошего в том просторе, Что за окном и порогом расставил сеть. Выйди вовне, и станешь одним из многих, Скользок и круглорот на манер миноги, Будешь кричать о Гойе и перемоге, Встав на котурны, чего-то желать, борзеть… Всё, чего ты касаешься, есть в квартире; Всё, чего не касаешься, – в палантире; Все ведь в итоге окажемся там, в надире, Так что иных направлений по сути нет. Вера в себя не требует веры в прочих. Весь этот мир – скопление одиночек. Можно в графе «контакты» поставить прочерк, Выключить музыку и отложить планшет.«До столкновения в лоб оставалось не так уж мало…»
До столкновения в лоб оставалось не так уж мало. Он мог бы откинуться в кресле и закурить, Когда б не мешало надвинутое забрало И сам скафандр, исключавший любую прыть. В такой траектории он был уверен сразу. Четырежды перепроверил и вёл себе, не спеша. Пришлось отключить корабельный искусственный разум, А то истерил, верещал и пытался свернуться в шар – Защитная функция. В космосе шар – первичен, А что не сферично – доступно в кривых Безье. Всяк вынужден отказаться от многих земных привычек, И все равноправны: и мистеры, и месье. Но каждый по-прежнему волен поставить дату На правом конце траектории и тире. И он ни о чём не жалеет. Он – шар… Он – атом…Татьяна Акимова Дерево стихов
Родилась 5 мая 1970 года в городе Владимире, где и проживает по сей день. Закончила художественно-графический факультет ВлГУ в 1993 г. Работает художником по росписи глиняных игрушек. Стихи пишет с детства. С 2012 года постоянно публикуется в сети Интернет. В настоящей подборке представлены стихотворения 2014 года.
Шуршащее звенящее где-то посередине
вообще, если хочешь жить, отжени от себя веселье, как покрытые льдом свирели, в снежном поле звенят ужи, пополняй их змеиный ряд, ничего, что слова без яда, одиночество где-то рядом в тихих ризах, да якорях, в светлых образах, да в пыли, кабы только услышать ветер, кабы только наметить вектор, записаться в нетопыри, запасаться назло зиме рукокрылым хотеньем ночи, я не буду, а ты не хочешь, остается звенящий снег, да в снегу успокой-трава, отогрей ледяную душу, мой колючий, меня не слушай, это жизнь и она права.Ива
когда-нибудь останусь я с тобой, останусь, как не остаются люди, в промокшем метре от речной простуды остановлюсь, прости мне этот сбой, лебяжий пух – солома для убогих, у бога пазуха немыслимо светла, перестилай гнездо, плакучая ветла, не обещай, не жди, сверни с дороги, накрой ладонью глупых светлячков, дурное дело – я дойду на ощупь, слепа, нага, что мне хитрить? мне проще быть деревом, не набирать очков, не думать о красивости посадки, серебряные листья, водопой, когда-нибудь останусь я с тобой, пока ты спишь, дотронувшись украдкой.Утро
и утро так похоже на любовь, проснешься и не смеешь прикоснуться, и таинство неведомых конструкций несешь в себе, и человек любой, и звук любой, и отголосок звука – набат глухонемого звонаря, и голова без ветра и царя легка, как расписная тарабука, и роспись начинается с лица – трава, деревья, наважденье словом и человек с невиданным уловом идет навстречу звукам прорицать.Дерево стихов
звени, далекий колокольчик тонкий, какое из деревьев? – клен, ольха, платановая кожура стиха снимается сухой прозрачной пленкой, слюда, непогрешимая на свет, окно, по-птичьи кажущее бога, свобода начинается с порога, звено вины, надорванная цепь, анналы, святцы, все другие звенья, дрожащее гусиное перо царапая последний разворот, цепляет перепутанные вены, все тише голос дерева стихов, невнятней колокольный птичий лепет, и только мой бумажный ангел с флейтой на привязи качается легко.Янтарь
а на краю, как на краю, смола и слово – все крамола, когда бы всем по янтарю, да в янтаре по богомолу, да богомольную траву сносить до времени рассвета, в одной из точек рандеву весна встречаются и лето, и заливается смолой остановившееся время, и насекомость озарений и тяжесть неподвижных слов.Не в такт стрекотание
гиперборея гештальт-лишений, античный ветер для наших дней, узришь титанов в саду камней, кормящих духов стихосложенья, не одержимых, а просто так, война – не повод сживать со света, какого цвета душа у ветра? стрекочет время, да все не в такт.Герои дождливого времени
берег, соленая пыль, запах рыбьей тоски, белым по серому, мокро и хлопотно вдвое, осень считает своих одиноких героев, раки-отшельники строят ракушечный скит, раки-отшельники пятятся строго назад – время замрет и кукушка по-чаячьи вскрикнет, западный ветер заблудится в спрятанном ските, берег, соленая осень, привычный расклад.Мизантроп
снимает ветер шелуху, похоже, под забралом осень, я собирательно несносна, я не люблю рахат-лукум и все слащавые подделки, я избегаю липких рук, развеселившихся подруг на комариных посиделках, чуть от дождя тоска веков, впопад разлившаяся горечь, и я, как старый алкоголик, глотаю влагу облаков.Пизанское
смотри – проверочное слово свернулось ключиком в углу, раз путь непроходимо глуп, ступени только для прикола, не поднимайся, не входи, всему звериные начала, у нежности свои печали – проплакать утро на груди, проговорить о самом важном, ты помнишь – небо на двоих, и что мы можем натворить на высоте пизанской башни? не выпадая, не боясь распахнутых и вольных окон, и незаметен крен, и мокнет дождями мереная бязь, все дело в скорости письма – не нимфа, но стенографистка, чуть слышно с насекомым свистом струится времени тесьма.Злая пчела
знаешь, я буду слепою и кроткой, день пробежит насекомой походкой, если не ты, я прислушаюсь к пчелам, недопроснувшимся и невеселым, знаешь, когда я тебя потеряла, время свернулось в спиральное жало, где были крылья – один позвоночник, злая пчела зазвенит в колокольчик, знаешь, она позовет, засмеется, ей наплевать, что ужалено солнце, если не ты, я спускать буду письма, парусный плот из потерянных смыслов, письма-кораблики в море из стали, как же случилось, что мы потерялись?Кукушонок
прячется в тесной комнате мой кукушонок маленький, горечью дней исполненный, тяготы в драных валенках, тяготы в грязных тельниках бродят и зло считается, и на добро не делится, все кукушачьи таинства, вся беспардонность времени в тесной и пыльной комнате, бьет кукушонок в темечко, чтоб никогда не вспомниться.Иррациональное
в попытке все уполовинить число бессмысленное «пи» жуком в коробочку запри, там красота посередине, там цифр лихой круговорот оттенка нежно-золотого, в неразговорной силе слова упрямство «все наоборот» – весна на бабочкиных крыльях, пыльца, соленая на вкус, рациональности укус, как золото с налетом пыли в картонке спичечной тюрьмы исполнит свой последний танец, чтоб постоянства постоялец чертил окружность кутерьмы.Поле чудес
в немом задумчивом краю заснеженная тень от марта я все досадные помарки прикрою, заново скрою свой голубиный треугольник молитва легче грубых слов в больничном парке рассвело разнеженный расстрига-дворник пускает кольца облаков из-за решеток лица психов светлы и бесконечно тихо на скорбном поле дураков.Надрез
проглядишь все глаза до звезд, а увидишь всего лишь имя, поседевшее пылью зимней в переспелом вине берез, загребаешь себе вину, чтобы меньше другим досталось, расскажи, как звенит усталость в не дающем дышать плену, как по капле стекает боль, есть ли смысл в глубине надреза, говорят, что весна полезна, если вскрыть самый верхний слой.Ледяное почти
отворяешь двери, зима для замерзших птиц, вереница ликов – почти ледяные бусы в проводах жужжащих, и дело чужого вкуса распускать вязанье, касаясь дрожащих спиц на другом конце, на другом берегу реки хороводы прекрасных дам, разговоры в тему, на коньках коты, дружелюбны и в меру немы, колокольный полдень и холод ее руки, и тоска навылет сквозь твой лубяной очаг, карамельный звон вымерзающих вмиг осколков, в этой сказке нет ни меня ни седого волка, именуй и властвуй во имя зимы, печаль.Санджар Янышев Стихотворения
Родился в Ташкенте, живет в Москве. Окончил факультет русской филологии Ташкентского университета. Поэт и переводчик, автор пяти книг стихов и публикаций в литературных журналах. Составитель первой двуязычной антологии современной узбекской поэзии «Анор – Гранат» (2009). Лауреат премии «Триумф» (2001), премии журнала «Октябрь» (2003).
Ось
Жене, Вадюше, Славику
Построй Мне дом, – сказало Слово. – Мне холодно, твои сердца не слишком твердая основа для речетворного сырца. Есть сруб, фундамент, рядом груша, топчан дощатый, виноград… Но не очерчена окружность, за коей глухота и смрад. (Душа ж до той поры без дому, пока сама и не при Мне. Она ведь – что? Слоистый омут… Но Мое Царствие мутней.) Приделай крышу Мне, заслонку подвинь в мигающей печи, наладь в окно бычачью пленку и трещинки все завощи. А за оградой – будь что будет. Туда и тропки проложить сквозь мальву не опасно, буде есть дом, все прочее – кажись. Душа ведь – маятник. Сколь сильно б ни повело (иже еси!..), обратно с точностью до «си – ля» ее отдаст – вокруг Оси.Тутовник
О кладбище, листвяный палимпсест, тутовая невыболтанность к лету!.. «Не вздумай поднимать с земли и есть то, что взошло на фосфоре скелетном», – так говорила мама. Я алкал напиться млечным соком шелкопряда. И сок подобно времени стекал по ликам измышленного распада. «Не то сулит беду, что тащим в рот, – я голос Деда под плитой услушал, – а то, что изо рта исходит. Вот тебе мой летний дар – бери и кушай!» Стражу ворот, свершающий намаз, вдруг похитрел сквозь бороду и – чудо! – два саженца проклюнулись из глаз, обрызгав тутом. Белым-белым тутом.«Во мне шевелится янтарь…»
Во мне шевелится янтарь сухих платановых волокон. И сразу – новая деталь: гематоген больничных окон, минтай бескостный, тубус-кварц, фигурки в пате, как опята, и собеседник – Розенкранц ли, Гильденстерн в пижамке мятой – мне в печень самую проник. Он рот полощет марганцовкой и ложкой чайноюязык скребет, чтобы звончей им цокать. – Переходи! – хриплю в ответ… Но чувствую: сейчас наверно весь этот желто-красный цвет тебе исторгну на колена.Три цвета
А вот и нет, вещий пень, мы не дерево – скорее купол, троичный, как мускул: сначала КРАСНЫЙ – что мозг свирелевый – участок нас – не широкий, не узкий, а так себе: без разбора и правила жуя, усваивая то, что к телу прикосновенно – от рта до гравия, – он в том числе обращен te Deum; затем прохладное нечто и полое, как привкус кальция – БЕЛАЯ мышца: всё, что внутри, – наши сны и волосы – растет вовне утвердиться в вышнем – не божестве еще, нет, но вот с этого, и правда, вверх, распрямляясь, как выдох, какуточненье, хитин и плаценту спалив без пепла, – летит на выход. Там острие, там все прошлое – побоку; одна родная душа – и не больше – разрешена; там бесцветное облако над СИНИМ пламенем: – Боже!.. Бо-же…«Если мне ребячество позволит…»
Если мне ребячество позволит Кольчатый понюхать этот срез – Бог не выдаст, каланча не взвоет, Сад не рухнет, саранча не съест… Вот и ты навек туда вселилась. Твой прописан в нем воздушный код. И в какую б сторону ни длились Время и пространство – мне легко Повернуть их вспять таким нехитрым Образом; и сколько бы я впредь Ни любил – всё тем же хвойным спиртом Будет воздух меж колец гореть. И твоя в нем верная, как верба, Часть – у обонятельных вершин. Ты во мне так много опровергла. Только он и неопровержим.Ода симметрии
Помнишь, я маятник пел, постигал?.. Время струиться – и время треножиться. К этим матрешкам, картам, стихам ты уже, кажется, не относишься. Тайные счетоводы земли волос исчислили, голос измерили. Из дирижаблевых недр извлекли корень симметрии. Мир равновесием сбит, укреплен, словно плотина бобровым цветением. Руки и ноги, как стержни времен, равно от солнечного сплетения удалены; и в количестве двух – трон лицезрения, дерн лицемерия. Эта строфа, ее буква и дух – имя симметрии. Что ж, и твой берег (прости и спаси!), беличье, самочье в хвое и цинне, власть бурых крапин в царстве росы – тоже на попечение Цифре?.. Поздно. В мой разочарованный Сад вышло бесформенное, бессмертное небо – отверстое тысячью крат эхо симметрии.«Спалось? Спалось. Но как!..»
Спалось? Спалось. Но как!.. Какие трели Нам под подушку проводил сверчок!.. О чем веретено в лимонном чреве Скворчало, как расплавленный пичох. День завтрашний без внешних вспоможений Селился под махрушками у бра. И сон с тобою был кровосвершенье, Смещенье материного нутра. Росло? Росло потом в тебе такое, К чему по отношенью мы одни, Что не рассечь на женское-мужское, Не застирать, как пятна простыни. И дней тех межеумочная птица Такую высь нашла, что посейчас Оттуда наши сны с тобой и лица Видны как ее целое и часть.Смерть солдата
Я не тем оглушен, что погоста, словно нехристь двурогий, лишен, что свечного домашнего господа, как блудный овен, отлучен. И не тем, что, как в детстве из лука, настреляться я так и не смог, что не лег, как отцова наука учит нас – головой на восток. A – что вместо просторного гроба я лишь кожей обернут сырой, как какой сарацин, и природа с пятиста меня давит сторон. Мне другое обещано было: как-то крестный мой Скарабей на Покров говорил, что могилой мне воздастся по вере моей. Я не больно-то верую в Бога как радетеля мертвых. Кабы все исчезло – ан вона как бойко без меня продолжается быть. Я сквозь ситечко вижу коренья; крышки нету, всеяден песок… Так лежу, словно умер. Но время – как и раньше – летит на Восток.Надпись на книге «Регулярный сад»
Мне же видится в этом обратное: Не начало конца – не исход. Человек – существо многократное, По количеству ребер и хорд. Отпускаю тебя, мое лучшее Говорливых собранье вершин – Торжество Земледелья и Случая, Тьмы и Воли, Печали и Лжи; Время-лето укропное, медное, Что бы ни означал твой аккорд (Ух, и мает, и мечет, и рвет его), – Всё вали на меня как на мертвого. Пересад. Перелес. Переход.К поэме (вербное)
Отныне до века присутствие пчёл в моей почивальне, как в мёде, – при чём (что может быть более кстати?): из лопнувших банок варенье, рассол – по стенам, и вечер – прозёванный сон, забытый, как слон в зоосаде. Другие жильцы остывающих книг галдят, что в итоге мне, кроме как в них, и не во что будет вселиться… Однажды увиденной в ртутном жару, разъятой – но, после того, как умру, – тобою пребуду, Мелисса. И я прозреваю как Сретенье – век, в котором на внутренней копоти век мелком обозначится чёлка; что ныне, в руках у детей и отцов на вербных побегах головки птенцов дрожат, словно белые пчёлы.Элегия
Я в контрах с контрой, я с борьбой в борьбе. Два верных стражника, два кормщика тебе На полную отверженности ночь, В которую ты нам замыслишь дочь… Войди в мой дом – не в тот, что летний парк Подпер спиной, а в тот, что хной пропах Ташкентской осени. Я двадцать лет его Не навещал, ты видишь – никого Теперь в нем нет, и значит – самый срок Глотать творящей пустоты комок. Пришли. Продолжим. Тут вот, под стеклом, Стоит за красным томом – черный том… Сними-ка аккуратно первый ряд; Да, то, что нужно. Умница. Я рад, Что тень от этих букв всеядный свет Не сжег за столько затворенных лет; Что лица двух моих учителей Он пропитал; и типографский клей… Нет – дух древесный, как лесной орех, По ним – то сверху вниз, то снизу вверх. Тебя встречают капитан Смоллетт И доктор Ливси. Опоздавших нет. Я с контрой – в контрах, я в борьбе с борьбой. И ты, и я – нам не бывать собой, Затем, что непреложность – не закон В любви; игрой уравновешен сон. Твой свет – на мне, и тень моя тебя Ведет туда, где мы играем – спя. Где на любом борту, в любом дому Себя не знаем мы – и потому Уберегут нас там от многих бед Смоллетт и Ливси, Ливси и Смоллетт. Еще не рождена, пусть наша дочь – Двойной портрет их повторит точь-в-точь. Пусть унаследует – избави Бог, Не твою верность, не мою любовь, – Ум с простотой (две стороны лица): Честь сильного и смелость мудреца. Когда прочтет – как книгу ли, клавир – Вот этот мир или… не этот мир – В какой бы ни вошла – с ней будут там Мой смелый док, мой честный капитан. А мы себя, найдя с таким трудом Друг в друге, – отдадим за этот дом.Ольга Медведко Круг жизни
Медведко Ольга Леонидовна родилась в Москве. Закончила Московский государственный лингвистический университет, канд. пед. наук, культуролог, журналист, член СП России, председатель Гумилевского общества. Автор двух поэтических сборников «Circle» (M., 2003) и «Круг жизни» (М., 2009), составитель посмертной книги стихов Сергея Лукницкого «Луч звезды» (М. 2009), автор и составитель нескольких книг по культурологии.
«Истинная любовь всегда трагична. А если она взаимна, то трагична вдвойне. Поэтические тексты Ольги Медведко не могут оставить равнодушным того, кому это чувство знакомо не понаслышке, кто сам прошел сквозь ожидание, сомнение, восторг, отчаяние. Когда их читаешь, отодвигаются на второй план дактили и хореи, но крупными хлопьями сыплет снег, стучит по стеклу летний дождь, и невольно возникает образ человека, к которому обращены эти стихи, – человека, очарованного жизнью, творчеством и любовью».
Владимир Бояринов«Пусть ты ушел – ты жив…»
С. Лукницкому
Пусть ты ушел – ты жив, теперь ты часть вселенной, и Млечный путь – твой дом, а вечность – твой удел. Твоя душа во всём: в космическом пространстве, в сосновых кронах возле нашей дачи, в голубизне небес и пенье птиц, в раскрывшемся бутоне у дороги и капельках росы на нем дрожащих, в шуршании июльского дождя, которое ты так всегда любил… Бывало ты шептал: «Когда заслышишь дождь, знай: это я пришел и говорю стобой…» При жизни говорили мы о том, что смерти нет. Теперь я знаю: мертва лишь плоть, а дух твой и душа, как этот летний дождь, со мной пребудут, пока дышу и помню, и люблю. 2008Круг жизни
Вечность проявлена в каждом мгновенье, Мчится в потоке стремительных дней, Годы летят, разрываются звенья… Смерть и рожденье – круг жизни моей. Силюсь постичь смысл любви и страданий, Перипетии наших путей. Радость общения, жажда исканий, Поиск и тайна – круг жизни моей. Верить в любимого, в Бога и в слово И не страшиться прошлых теней, Чтоб растворяться в жизни другого, Любовь и служенье – круг жизни моей. 2008Встреча
Искали счастье, а оно Жило спокойно рядом. В меня, в тебя не влюблено Ни жестом и ни взглядом. Оно на улице одной живет с тобой, со мной, Но мы его еще не знаем, Любуемся зелёным маем, Людская нас несет река, И наша встреча далека… О ней в тот день мы не мечтали, Нам снились красочные сны И скрытые домами дали… В душе предчувствие весны, И на случайном перекрёстке – Любовь и счастье на века… Моя небрежная причёска, Твоя вселенская тоска… 2003Ожидание
Ждала тебя, а годы шли, И время всё быстрей бежало… Как будто всю тоску земли Моя любовь в себя вмещала. Любовь – не тем, кто любит, Так повелось в веках. И милует, и губит С улыбкой на устах.Любовь – вот истина!
«Любовь – вот истина!» – Ты прав. Ведь речь идет о наважденье, О счастье – не о наслажденье. Ах, как же горек этот сплав! Я не хочу любить, украв. Свобода к нам приходит снова С ней ты, о вечная мечта, Любимого простое слово, Случайной встречи красота, Любви прошедшей пустота…Обычный вечер
Обычный мир простых вещей, Привычных улиц и путей… Не позабыть себя никак И каждый мучает пустяк. Обычный вечер. И тщета, Как никогда, во всём сквозит, И так естественно проста Мучительность моих обид, И всё, чем мог ты обладать, Что, улыбаясь, упустил – Понять всё это, осознать, Как видно, выше моих сил…Зверь ревности
Зверь ревности проснулся. Понюхал воздух – кровь? Изящно потянулся – Пора загрызть любовь! А может быть, меня или тебя, Иль ту, Случайно разбудившую его…На даче у костра
Догорал костёр косматый, Пахло дымом и травой. Мы забыли сон крылатый Под бродячею луной. Веткой длинною устало Ты ворочал угольки, И касался отблеск алый Щёк горячих и руки. И казалась жизнь не трудной. Ты шептал на ушко мне О любви, как пламень, чудной, Уводящей к вышине. И забыв печали злые, Сердцем ты ко мне летел И в глаза мои большие Всё глядел, глядел, глядел…Малая частица бытия
Я иду дорогою прямой, Каждый шаг по ней – как первый бой, Где куётся воля и моя Малая частица бытия. А идти мне трудною тропой, О,бездонность неба надо мной… Тихо здесь творится и моя Малая частица бытия. С человеком встреча на пути – От судьбы мне видно не уйти. С каждой встречей крепнет лишь моя Малая частица бытия. Я иду с людьми, среди людей… С каждым днем мне кажется видней Средь тревог и радостей моя Малая частица бытия.Модильяни
Жизнь, как всегда, своим путём Текла в обыденных заботах И только ловкий репортёр В тот день чуть больше заработал. Был не дописан до конца Этюд последний… краски стыли… В мансарде с мертвого лица Глядят его глаза пустые. Писал, как одержимый, он Вплоть до последнего мгновенья И был отчаянно влюблён В свои «бесстыдные» творенья. Но даже лучшим среди них Цены тогда еще не знали, В кругах парижских деловых Их модной прихотью считали. Смерть необычной не была, Но имя было знаменито, И утром пресса отвела Ему пятнадцать строк петита. И жизнь пошла своим путём В делах, сенсациях, заботах… Лишь расторопный репортёр В тот день чуть больше заработал. 2001Гоголь
Бульвар, играющие дети. Октябрьский день, листва в огне. Лучами теплыми согретый Печальный дворик в глубине. Там он один на пьедестале, Поникнув в кресле, недвижим, И вереницею печалей Мелькаюттени перед ним. Усталый взгляд словно навеки Застыл, нет не ожить опять Уже ему, и эти веки, Как веки Вия, не поднять. Сгорело всё: надежды, вера, – Созданья высшие души… Какой те муки мерить мерой, Ту смерть в полуночной тиши! Так у погасшего камина Сидел он, всё огню предав, В последний час спокойно, как мужчина, Отчаянье отчаяньем поправ. И ныне измождённый, остролицый, Уходит он опять в глухую ночь, И тени неотвязной вереницей Бредут за ним, а он их гонит прочь… 2005.Мона Лиза
Вряд ли ты, узнав, была бы рада, Веруя в Пришествие и Суд, Что талант и гений Леонардо Образ твой в наш век перенесут? Его кисть тебя запечатлела – Тайны никому не разгадать. Как на Леонардо ты глядела! Знак какой ему хотела дать? Но не до того маэстро было, Он трудом своим был поглощен. Мона Лиза, ты его любила! Но собой был слишком занят он… 2001Благая весть
В тумане дальняя дорога, Я вижу Млечный путь во сне… Живёт в тебе, живёт во мне Душа неведомого Бога. Он знает всех людей страданья, Их радости, и страсти их, Он зрит во тьме ночей глухих Неотвратимый час свиданья. Но нам дана благая весть: Пока мы здесь, и на планете Рождаются, смеются дети, – Надежда в этой жизни есть. 2006Евгений Минин Стихотворения
Поэт, пародист, издатель, род. в гор. Невель Псковской области. Автор десяти поэтических сборников и книги прозы, председатель Международного Союза Писателей Иерусалима, член СП Москвы, издатель и главный редактор журнала «Литературный Иерусалим», член редколлегии альманаха «День Поэзии». Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта – Израиль, а также премии журнала «Флорида» и премии Литературной газеты «Золотой телёнок». Награждён медалями С.Я. Маршака и М.Ю. Лермонтова за вклад в российскую литературу.
Мене, текел, фарес
…там, где погода не контролируется Богом, а капельное орошение отгоняет травой пустыню, по праздникам народ разбредается по синагогам, а диабетики арбузу предпочитают дыню. Но приходит миг, когда старенький ребе стеклодуву подобно выдувает печаль из шофара – в Рош-а-шана огненно загораются в небе, слова-созвездия: Мене, текел, фарес…«Сын говорит…»
Сын говорит: – Папа, почему ты не носишь цицит, под небом, где каждая звёздочка – божий глаз? – Да пусть следит и записывает в кондуит, где и с кем нарушал законы Торы. И сколько раз. А поскольку время крадётся всегда по пятам, и вот-вот лишусь созерцанья земных красот – повстречаюсь с Богом у ворот где-то там – пусть объявит выговор и в личное дело внесёт…«Чтобы сердце не болело – ни к чему не привыкай…»
Чтобы сердце не болело – ни к чему не привыкай, это гибельное дело каждый раз смотреть за край. Подлость смотрит исподлобья, словно фатум пляшет фарт, не поддаться б только злобе, не нырнуть в пустой азарт. Всё меняется само и независимо от нас, то, что не издаст «ЭКСМО» да кто-нибудь другой издаст. Лето холодом обдаст, а осень ласковой жарой, главное – Экклезиаст: всё прошло – а ты живой…«В кофе турецкий с корицей плесни амаретто…»
В кофе турецкий с корицей плесни амаретто. В липкой жаре застывает тоскливо природа. Так незаметно кончается знойное лето, сгусток сезона нескромного среднего рода. Кофе не выпей и будешь без палочки нолик, но поспешай – время вечно куда-то торопит. Каждый из нас в этом пекле – безропотный кролик тот, на котором хамсин производит свой опыт«тошно жить беззаботно вдали заграницей…»
тошно жить беззаботно вдали заграницей где мадридцы, пражане, где римляне и парижане неба простыня падает синей страницей вырезанной ножницами-стрижами. эта страница неба подобна айпаду и любую на нём можно нажать иконку. насмотрись-налюбуйся на прошлую жизнь до упаду сколько хочешь, но только не вздумай вдогонку…За шалом
У свата Натана не сосчитать родни – оттого покупает двухлитровую бутылку вискаря, за питьём которого можно проводить дни, не наблюдая, что за окном – закат или заря. Мясо с рисом, ну и прочий гарнир, селёдка под шубой и оливье также вкусны. Мы пьём за «шалом», что по-русски простое «мир», в котором любовь, тишина и нет никакой войны.Святая шагрень
Он с одесской вишней давно в небеса врос и оттуда зрит на шагреневый мой край.
Игорь Бяльский Сколько же упырей давно отправились в ад, мечтавших мою страну разрезать и разрубить, но ни у кого из них дела не пошли на лад, заветное мало хотеть, надо его любить. Ползут из неведомых нор всякая нечисть и хрень, в этот шагреневый край, но вилы им в самый бок, поскольку Святая земля – это такая шагрень, которую держит в ладони его величество Бог!Письмо американскому френду…
Знаешь, Марк, сколько мёда в твоей фейсбочке, сколько народа налипло на эту сладость общенья, но когда попадается дёготь в какой-то строчке, ты – ногою под зад, а потом уже на удаленье. Общество что собралось слишком кажется пёстрым, тут иногда стенка на стенку и рать на рать. Здесь у каждого френда свой виртуальный Постум, которому можно послать, и который может послать… Ты, как Бог, смотришь сверху на нас, фейсбукашек, и смеёшься, разглядывая этот людской зоопарк. Тебе повезло, что я в этой жизни не Гашек, а то написал бы книгу «Бравый админ Марк».«Предощущение трагедии – ещё не трагедия…»
Предощущение трагедии – ещё не трагедия, Венеция не утонула, не рухнула башня Пизы. Жизнь – виртуальная мультимедия, а то, что в реале – людские капризы. Но когда кровью ещё не пропитана земля, и птенцом беды не взламывается скорлупка – воздух твердеет до степени хрусталя – лишь тогда ощутим, что всё в этом мире хрупко.«По серому песку, по свежей грязи…»
По серому песку, по свежей грязи шагая в сторону горизонта, нельзя ни в коем разе падать, пусть даже ради понта – иначе не добрести. Стихотворец-стихотварец – всегда сумасброд, шут с бубенцом. А если упасть – то не как бутерброд – а вверх лицом.Песчаная буря
Песчаная буря из Аравийской пустыни небо накрыла и растворила тени. Люди укрылись в домах. Улицы стали пустыми. Серыми стали зелёные листья растений. Песка тонкий слой на асфальте, везде на бетоне… Рот сполосну, чтобы вымыть пыль из гортани, и внучке читаю, как мячик уплыл у Тани, которая плачет от горя, что он утонет…Из неоконченных книг…
Евгений Сабуров (1946-2009) Стихи разных лет
Евгений Федорович Сабуров – поэт, драматург. Родился в 1946 году в Ялте. Окончил МГУ в 1970-м. Доктор экономических наук. В 1971-1990 занимался научной работой; в 1990 – 1991 – заместитель министра образования РСФСР. В 1991 – заместитель председателя Совета Министров, министр экономики РСФСР. В 1991-1994 – директор Центра информационных и социальных технологий при Правительстве РФ. В 1994 – премьер правительства Республики Крым. С 1995 – директор Института проблем инвестирования банка «Менатеп». В 1999 – избран председателем совета директоров Доверительного и инвестиционного банка. Литературные публикации за рубежом – с 70-х, опубликованы четыре книги стихов, ряд пьес и повестей.
Послесловие Михаила Айзенберга«О женщинах о красоте их краткой…»
О женщинах о красоте их краткой писать. Все стало б на свои места добро и красота легли б на полку маленькой тетрадкой И осень. Еще и осени добро струящееся между пальцев веток на землю ветхую на вечное перо Не думать не гадать не волноваться не переиначивать всё крутится на ваших пальчиках и небо и земля и суша и вода а ветки тронутые ветром возмущенно глядятся в ваших глаз большие водоемы.«Когда пьешь в одиночку…»
Когда пьешь в одиночку сбегаются все мертвецы, когда пьешь в одиночку, будто двигаешь тачку, ветер поверху низом проходят отцы когда пьешь в одиночку сбегаются в точку.«Страшно жить отцеубийце…»
Страшно жить отцеубийце непослушны руки брюки мир как праздник вороват добр, но как-то очень хитр тороват, но как-то вбок страшно жить отцеубийце все кругом играют в лицах весь души его клубок. Ах, кому по полной мере, а кому ее по пол, ну, а кто до отчей двери сам по воле не пошел. Обернись душа нагая бесноватая душа вот такая же шагает загибается крошась.«Когда мы живо и умно…»
Когда мы живо и умно так складно говорим про дело, которое нас вдруг задело, и опираясь на окно, не прерывая разговора, выглядываем легких птиц и суть прочитанных страниц как опыт жизни вносим в споры, внезапно оглянувшись вглубь дотла прокуренной квартиры, где вспыхнет словно образ мира то очерк глаз, то очерк губ друзей, которые как мы увлечены и судят трезво и сводят ясные умы над углубляющейся бездной, тогда нас не смущает, нет, тогда мы и не замечаем, что просто слепо и отчаянно стремимся были детских лет и доиграть, и оправдать, тому, что не было и было дать смысл – так через ночь светило зашедшее встает опять (прецессия нам незаметна), – на том же месте вновь и вновь нас рифмой тертою любовь клеймит настойчиво и метко, а в ночь… ложись хоть не ложись! устаревает новый сонник, едва свою ночную жизнь потащишь за уши на солнце, но как прекрасно и свежо на отзвук собственного чувства, с каким отточенным искусством весомо, страстно, хорошо, на праведную брань готово, остро, оперено и вот надмирной мудростью поет твое продуманное слово и проясняется простор на миг, но облачны и кратки на нашей родине проглядки светила вниз в полдневный створ и потому-то недовольно ты вспомнишь, нам твердят опять, что нашим племенам не больно, не так уж больно умирать.«Гори, гори куст…»
Гори, гори куст в каменной пустыне. Лежи, лежи пуст – пусть сердце остынет. Не смотри вперед, не смотри назад – все наоборот который раз подряд. Гори, гори куст, лежи, лежи пуст который раз подряд.«Все пределы, все границы…»
Все пределы, все границы раздвигаются порой и во сне поддельно снится заговор пороховой. Что есть сон во сне? – Неважно: он спасен, английский думный, потому что я отважно пролетел над бритой клумбой и проснулся умиленный в сон пожиже и поближе, где березка листья клена на льняную нитку нижет, обещая сытый рай на немой его вопрос: – там я твоя Гая, где ты мой Гай Фокс.«Холодное небо просвеченное покоем…»
Холодное небо просвеченное покоем сереет среди облаков, а дух земли обеспокоен, что никоим образом он не таков, как это небо. Еще он жарок, еще в прохладную зелень одет, как будто девушка-перестарок, втиснутая в модный вельвет. Гляди, как под ливнем налип на столб вымпел на катере местной линии, а он добросовестно идет пустой, но кто поедет в такой-то ливень? Несоответствие – душа искусств, моих неприветливых, требовательных подруг раскрывающих розу горячих уст совсем не сразу, совсем не вдруг.«Тот, умевший и умерший…»
Тот, умевший и умерший, и лишенные лица люди, служащие в смерше в чине доброго отца, тот, кто зрел ночного Ульма несказанные огни, и конец любви в раздумьи уплывающей луны – «Все полно богов», однако, остается атеист вроде клички, вроде знака, что какой-то воздух чист.«Пришли взыскавшие карьеры офицеры…»
Пришли взыскавшие карьеры офицеры и сели в форменной одежде вокруг стола. Вверху порхали денежки и шелестели действуя на нервы. Пришли потрепанные юностью подруги ко всем страдающие аллергией, а их натруженные руки ах как о многом говорили. Пришли ах как обкаканные дети ради которых ходят в магазины и тащат переполненные сетки и влезли нашей радости на спины. Так все пришли и так вот все сидели как души с высоты сидели и смотрели. Наброшена на всех была попона и все просили у меня пардона.«Умерла бесчисленная жизнь…»
Умерла бесчисленная жизнь на зеленых ручках серой лентой. Жильное безумие зажгись смутным сном, сыновним аргументом. Стол печали застели и пей, пей и пой, ах! пой себя не помня произросший яростно репей на заброшенной сто лет каменоломне. То мне чудится, я темнота и ночь, чей-то сын, а может чья-то дочь, то мне снится, будто я один. Солнце. День. И я ничей не сын.«Зачем же властвовать и задавать вопросы?..»
Зачем же властвовать и задавать вопросы? Поют скворцы, и пьют вино у магазина холодным майским утром. Нам дано быть мудрыми, но это мы отбросим. Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью свой голос насыщать? Пятиэтажная стена на зелень вдовью глядит как на тщету душа и ах! как хороша воздушная листва, наполненная свежей кровью. Чуть мы устали, нас уже забыли. Сквозь ясное лицо, повернутое вверх, струится свет, которого и нет. Когда хозяйку посещает смерть, квартира богатеет пылью. Зачем же властвовать? Воздушная истома холодною весной ложится на порог, взлетела ласточка и серый свой творог прислюнила под самой крышей дома.«Режим любви…»
Режим любви: названия тоски и одиночества перемежаются то нежностью, то страстью, в подставленные дни твои вливаются разнообразные растворы ночи. Глаза раскрыты. Даль живет в тумане своею жизнью, непонятной сердцу – там что-то вертится и убеждается в обмане. Но мы не так. Мы всем пока довольны. У нас еще пока на голоса расписана тоска и одиночество еще не больно. Все падает и все взмывает вверх, как сыплет лепестки и поднимает души тот ветер, что нам губы сушит, срывает крыши, покрывает грех.«Не в темном колодце студенческого двора…»
Не в темном колодце студенческого двора почти как игра и почти до утра, а в сердце и в тишине и там, где глаза твои, не в небе, не в рыбе, не в кошельке, даже не в задрожавшей руке, а на плече мира, на сиреневом как луна эти цветы, и этих цветов таинственны спесь и род. Только то, что они есть, и можно о них сказать. Они там, где твой рот, и там, где твои глаза. Нельзя улететь туда, где их нет, с плеча мира сползти на темный студенческий двор и воздуха черный раствор с собой навсегда унести.«Не видеть, не знать…»
Не видеть, не знать, локтем не задеть, а только опять сидеть и молчать, молчать и сидеть. Неузнанным сном приснится под утро, плывущим котом в реке Брахмапутра. Скормившую груди супругу-сестру на розовом блюде губами сотру. Порвите с Парвати, начните плясать, чтоб эти кровати не видеть, не знать, не видеть, не знать, локтем не задеть, а только опять сидеть и молчать, молчать и сидеть.«Что поет и грохочет вверху на снежных вершинах?..»
Что поет и грохочет вверху на снежных вершинах? Атмосферных явлений жизнь продолжается пылко. Торжество недолгой погоды свершилося. Хлынули воды на поселок в песке в изобильи. Из клетушек глядим на дождем убитую пыль. Над пожарным багром краснеют столбцы огнетушителей. Каждый все-таки как-то был мудрецом, все потом превращаются в жителей.«Из обломков сегодня построй себе завтра. Вприпрыжку…»
Из обломков сегодня построй себе завтра. Вприпрыжку подноси то траву, то перо, то булыжник. То перо, ту траву, тот камень составь в гармоничное личное, в чем-то излишнее время камня, перьев и трав. Это будет – решай. То не нужно – отбрось. И глядишь докрутился-игрался до седых до волос. Из руки выползает свое отработавший флаг, выпадает на склизкий земельный навоз и рука человека сжимает кулак.«Она приехала за мной…»
Она приехала за мной туда, где не было меня. Вперед, любимая, вперед! Над ней усталый и больной сморкающийся небосвод все плакал на исходе дня: – вперед, любимая, вперед! Ребенок попросил, чтоб лук я смастерить ему помог. Я выбрал самый длинный сук, согнул его посредством рук и чуточку посредством ног, и охвативши бечевой его рога, я над зеленою травой незримого искал врага. Какая жалость и печаль – меня затягивает даль, меня заглатывает бред, она меня не достает. Вперед, любимая, вперед! Она плывет за мной вослед. Вперед, любимая, вперед!«Не смыкай глаза, красотка…»
Не смыкай глаза, красотка, жизнь еще не умирает, продолжается полет. Самолет воздушной лодкой в море Черное ныряет, вырывается вперед. Сядем мы, голубка, в кресла и совместно телевизор благодарно поглядим. Умер только дух арфиста, а душа его воскресла – Персефона, Эвридика – в глубине забытых зим. Толи женщина уходит в мужа ночь, толи женщина от мужа в ночь уходит, кто нисходит, кто восходит – не помочь тем, кто прячется, и тем, кто водит, тем, кто кается, и тем, кто лжет, тем, кто мается, и тем, кто жмет. То ли женщина нам дух переступает или заступает нам пути, то ли дух на женской тает широко раздвоенной груди. Толи женщина нашла, смолола колос, а потом его снесла в Аид, то ли это – не смыкай глаза, красотка, – голос, только голос над землей моей звенит.«А человек – попытка жить…»
А человек – попытка жить, уйти и дом свой сокрушить, из мрака славы и порядка шагнуть на утренний причал и то, что горько, то, что сладко, и радость, в общем, и печаль собрать в единую щепотку и выстрелить собою вбок, повизгивая от щекотки своих надежд, своих тревог. Между загадываньем вдаль и просто знаньем наперед живет один кровавый род, который называют «трепет». Он на начало из начал прожорливый разинет рот, набросится и жадно треплет тебя, а ты из глубины провозгласи свою свирепость, свою невинность растяни, как нарисованную крепость на пяльцах рук, на пальцах ног и выстрели собою вбок.«Мы договорились…»
Мы договорились между собой то, что случилось, ни Боже мой не осуждать, не толковать – принять как есть. Это наш крест. Это наш ад. И то, что произойдет потом, это не закат, не восход, а еще один том жизнеописания нас. Смысла в нем нет – ни через много лет, ни сейчас.«О, безумных виноградин…»
О, безумных виноградин ярко желтая гора! Виноград тобой украден из соседнего двора, и на черном на подносе он разросшийся как взрыв пристального взгляда просит, просит пыли и жары постоянного движенья вверх по склону, вниз по склону. Склока высветит мишени – ты проснешься распаленный. День с другими днями смешан, ночь цепляется за ночь, виноград в горах развешен, жить уже совсем невмочь. Пламя кражи время косит, косит удрученно, жизнь сползает на подносе по пыльному склону.«Чайка, взмывающая над землей…»
Чайка, взмывающая над землей, погружена в голубой цвет, как будто серый кабриолет, карабкающийся высокой горой. И я наблюдая за ней в зной понял прохладу лет. Но то ли мы стали красным вином излишне увлечены, то ли спокойствия лишены, отягощены виной – так или по причине иной но мы не влюблены. А значит трезвости нет как нет и прохлада лет не дает, ни капли воды на горящий рот, ни оправданья бед, и погружена в голубой цвет чайка в горы плывет.«Если кто-то умер утром…»
Если кто-то умер утром, значит вечером друзья, перезваниваясь споро, об умершем судят мудро так, что к этим разговорам не прислушаться нельзя. Жизнь легка, великодушна, переимчива, листает нас она, как ты тетрадь. Только носом бы в подушку упереться и рыдать: до чего она простая, до чего она прелестна! Я завидую ушедшему осторожно и тихонько без надрыва, без болезни, словно утром в колокольне колокольчики прилежные.«Всем надобно остаться молодыми…»
Всем надобно остаться молодыми. Со старыми друзьями встречи невозможны. Они ужасны. Глупо и тревожно осознавать свой вечер дымный. Жгут листья. Лица заволокло морщинами. Негоже нам во времена влюбиться. Невероятно быть мужчинами. Кормить семью. Быть честным. Быть нечестным. Быть, в сущности, неблагородным. Ровесники обвешенные шерстью вокруг тебя готовятся к исходу. Мой принц, не обернись на лето: ровесники не лучшая компания, не обращай внимания на это, но и на то не обращай внимания. Вот так, мой принц, и хорошо бы кончить на столь высокой ноте рассуждений, перехватить на перекрестке пончик и смыться от забот и сожалений. А вот и так нетрудно подытожить ход острой неглубокой мысли, что невозможно жить, но можно частичку невозможности исчислить. Есть тысячи причин, чтоб быть неловким, ровесников чураться и, мой принц, не допускать, чтоб слабые головки хоть в чем-то выходили из границ.«Я сам себе душистый царь-горох…»
Я сам себе душистый царь-горох, я сам себя измаял жизнью впрок, я сам себе сложил и песни лягушачьи, и песьи головы собачьи, и олова пленительные кружки принес в пивняк на празднество подружки, когда с берез сорвался день, когда мороз носами показался, когда подружка прыгала «раздень», а рядом август подвизался. Что из того, что лето в календарь докучливое тычет и свое талдычит? Что из того, что механический косарь рвет уши перекличкой бычьей? Я сам собой сегодня духовит. Гороха дух позлобствует и прожит. А царь и тенью не встревожит того, кто зябок и забит.Речь неизвестного
Сразу скажу главное: на мой взгляд, Евгений Сабуров (1946 – 2009) – один из самых интересных и важных авторов своего поколения. В первую очередь как поэт, но его литературные занятия поэзией не ограничивались, он автор замечательной (и только отчасти опубликованной) прозы, эссеист и драматург. Его известность даже в литературных кругах не сопоставима с его значением, а причины этого достаточно банальны: Сабуров никогда не принадлежал к тому литературному кругу, который виден и как-то считывается общественным сознанием. В 60-80-е годы он существовал в сообществе андеграунда с редкими зарубежными публикациями. А ровно в тот момент, когда это сообщество (точнее, этот мир) стало выходить на поверхность, Сабуров покинул и его, занялся совершенно другими делами: экономикой, образованием, общественной и политической деятельностью. Время искало новых людей, и Сабурова нашло очень быстро, почти мгновенно. Путь от ведущего научного сотрудника до министра экономики и вице-премьера в правительстве Ельцына-Силаева (1991) занял всего год, и такая скорость меньше всего соответствует термину «карьерный рост». Не хочу здесь перечислять все занятия и должности Сабурова (их очень много), интересующиеся могут справиться в Интернете.
Стихи Сабуров всегда считал своим главным делом, так зачем он туда пошел? Да вот, видите ли: хотел изменить мир. Может, и не получится, но почему бы не попытаться?
У Сабурова было свое понимание профессионализма: он считал, что сознательный автор должен заниматься самыми разными делами, потому что все они, в конце концов, становятся стихами. Женя вообще был ни на кого не похож и казался человеком другого племени. Стихи он писал до последних дней, нисколько не снижая производительности. Осенью 2007 года прочитал нам написанную за лето книгу поэм «В поисках Африки». Чтение продолжалось дол го, там больше двух тысяч строк – своего рода рекорд.
Сабуров всегда писал много и бурно: в едином потоке рождались большой корпус или цикл, или поэма (в завершение – книга поэм). С низкого старта сразу набирал скорость, которая быстро становилась предельной, в очередной раз вынося его за пределы прежних возможностей. Промежуточное записывание отдельных строчек, даже кусков отвергалось как крохоборство, недостойное настоящего автора. В очередную книжечку вписывалось уже готовое стихотворение с редкими исправлениями и помарками. 0, эти книжечки! Женя читал по ним в гостях, там и сейчас различимы следы нашихугощений.
Мне кажется, это что-то говорит о масштабе автора. Особенность его дара очевиднее в больших стихотворениях или в таких поэмах, как «Хаос звуков». В них нет никакой составленности: ясно, что они писались не постепенно, а рождались сразу, как единое стиховое тело. То есть в ограниченный, короткий промежуток времени создается массив в сотню строчек. Способность разгонять мысль с такой скоростью почти невероятна. Скорость света?
И здесь происходит какой-то почти физический эффект: скорость как бы сметает прочие обстоятельства. В частности, заменяет собой протагониста – становится на его место.
Он и в собственном литературном развитии двигался очень быстро, и уже в восьмидесятые годы мы видим совсем другого автора, чья природная органика обогащена, осложнена сквозным эпическим сюжетом и драматическими конфликтами, как бы прорастающими сквозь порывистую естественность. Сабуров шестидесятых-семидесятых, восьмидесятых-девяностых и двухтысячных – это по существу разные авторы. У критика здесь очередная проблема: в результате нужно описывать не одного автора, а по крайней мере трех.
Этот множественный автор, оставаясь поэтом, в каждый большой период тяготел к одному из трех основных родов литературы: лирике, эпосу, драме. Говоря очень схематично, в восьмидесятые годы вещи Сабурова, не меняя своей стиховой природы, стали смотреть в сторону прозы; в двухтысячные – в сторону драматургии.
Текст, имеющий вид и форму лирического стихотворения, не обязательно является лирическим стихотворением. Или скажем аккуратнее: не обязательно является только лирическим стихотворением. Я понимаю, что сейчас почти невозможно корректное различение лирики и эпики, но иногда кажется, что Сабуров использует привычные лирические формы, не будучи по темпераменту только лириком. Началось это очень рано, еще в семидесятые годы, но тогда ощущалось как вторжение в лирическую ткань «чужой речи». Может быть, именно поэтому он сразу понял и признал Д.А.Пригова: увидел в нем знак другой возможности, продуктивной для собственного изменения и развития (но развил, конечно, все по-своему). Признал, похоже, первым из пишущих (это 1975 год), когда остальные или пожимали плечами, или вообще не смотрели в сторону Д.А. Есть новации, которые прочитываются не сразу, с существенным опозданием. Кое-что видно только сейчас.
Поздние шестидесятые годы заново осваивали романтизм: у лирического героя случались и недостатки, но какие-то всегда интересные. Этот герой был всегда немного опьянен собой.
Поэт романтического типа смотрится в зеркало. Но вот зеркало унесли, а в живом водном зеркале при разной погоде отражается разное: вода, как известно, разноречива.
Пожалуй, именно это – случай Сабурова. Он вообще принципиальный, осознанный антиромантик. Если зеркало даже окажется рядом, то заглянет в него мельком, пока лицо не успело принять пристойное выражение. Он не врет самому себе, а его стихи не врут нам – ни о себе, ни о нас. Они не жеманничают. Поэзия для него не Летний сад, а свой огород; он, случается, выходит туда в халате.
К себе и собственной жизни он относится не как к данности (с которой ничего не поделаешь), а как к материалу для работы – «недоброй тяжести». Сабуров говорит из какого-то затянувшегося «неужели?» Затянувшегося – но не привычного, не теряющего остроты и неожиданности. Если это недоумение, то оно пшено созерцательности и подобающего уныния. Оно ищет выход.
И трезвость Сабурова, его способность писать о себе со стороны, как о персонаже, сейчас прочитывается как новация. В его вещах нет пафоса. Чувствуется возможность второго – самоироничного – прочтения. Не романтическое «я и мир», а «он и другие». Повествование идет от первого лица, но этот «я» – «он», поэтому часто описан в комическом роде или почти пародийно.
Привлекательность автора зависит от того, как и насколько он смог освоить – обжить словами – общий опыт, сходный у разных людей (в силу обстоятельств часто ущербный). Но масштаб автора определяется тем, насколько он смог выйти за пределы такого опыта.
У Сабурова есть и то, и другое. Но существует как будто порознь: в разных форматах и на разных скоростях.
В основе реальной новации всегда угадывается какая-то антропологическая новость. И в поэзии Сабурова скрытно присутствует нетривиальное представление о человеке – как о первом лице множественного числа. Его голос соединяет разные и противоречивые голоса, звучащие в одном сознании. Нова сама способность относиться к себе (лирическому герою) как к разному: существу, в котором сошлись много разных характеров. И некоторые даже у автора не вызывают никакой симпатии. Отсюда и двойное прочтение: автор-персонаж виден вблизи, но объемно и с уходом в новое измерение.
Это не назовешь монологом, речь обращена не к другому, и даже не к другому в самом себе. Это обращенная к себе речь другого – речь неизвестного, неизвестно кого.
Может быть, поворот к драматургии и понадобился Сабурову для то го, чтобы справиться с множеством этих разных «я»? Лирика просто не вмещала такого количества голосов.
Все это очень непросто и не всегда понятно. Часто непонятны и сами стихи Сабурова – при всей их лексической простоте. Вход в эту поэзию находится не там, где обычно, и на него трудно указать, потому что отсюда раньше не входили. Нельзя сказать, что автор нарочно отказывает читателю в помощи. Стратегия Сабурова далека от герметичности, но его стихи сплошь и рядом оказываются в тех местах, где действительно все неясно. Он их не ищет, но и не избегает.
Неясна и его собственная позиция: говорящий находится словно в нескольких точках одновременно – или между этими точками. Должен признаться, что многое и сам очень долго не понимал – как будто не видел. Видел в его стихах в первую очередь их фактуру: выделенную и подвижную – живую – шероховатость; ценил только вот этот вывернутый, достающий до тайных глубин язык – смесь высоких и низких стилей, клубящееся соединение всего на свете. Это и понятно, но не очень справедливо. Все равно, что в старой живописи за колоритом, светотенью, композицией и другими формальными вещами не видеть сюжета картины. (А мы, воспитанные на импрессионизме и постимпрессионизме, очень долго так и смотрели на любую живопись.)
Стихи Сабурова очень редко лишь колористический набросок «состояния», они имеют и другое – тематическое – измерение. Там почти всегда сказано что-то определенное, конкретное. Там есть какой-то сюжет. Но этот сюжет снует как ткацкий челнок: осуществляет свою челночную дипломатию. Только снует не в одной плоскости, а между разными пространствами опыта: соединяет их. И что-то самое существенное говорит нам именно это движение. Сабуров умеет превращать в стихи очень неожиданные вещи: даже досадливое наблюдение, даже экономический или геополитический прогноз. Трудно представить, что не смогло бы попасть в поле зрения его поэзии.
Но все, уже попавшее, меняется и приобретает новые свойства, как под воздействием очень активной среды.
В лирику семидесятых, где реальность присутствовала как фантомная боль, шло Новое время, и самым интригующим в вещах Сабурова становилось для меня стиховое существование совершенно реальных обстоятельств, людей, вещей. Действующие лица с портретным сходством входили в стихи на общих правах, тесня превращенные образы. Реальность оборачивалась лицом. Сначала «командировочный на койке отдыхал», потом вслед за тенями ялтинского детства в стихи «пришли взыскавшие карьеры офицеры». А там уже и «компания соизмеряла силы», открывая дорогу будущим прозаседавшимся «энтузиастам в коридорах власти». Стиховое слово обнаруживало способность захватывать области, прежде не доступные. В свежих, только что прочитанных стихах Сабурова это всегда казалось поразительной и освежающей, как при засухе, новостью – вестью о новой свободе.
Начиная писать о Сабурове, вскоре замечаешь, что слова «свобода» и «свободный» вылезают в каждом втором предложении, и надо прилагать специальные усилия, чтобы драгоценное определение не превратилось в слово-паразит. Но именно это свойство его вещей поражало в первую голову – как сорок лет назад, так и в последние годы. Стихи Сабурова и сегодня у кого-то вызывают внутреннее отторжение: «Так не пишут! В стихах такое (или так) не говорят!» При том, что часть этих вещей была написана тридцать, а то и сорок лет назад (собственно, в другую литературную эпоху), его художественная смелость и для текущей эпохи не стала привычной, нормативной.
Свобода, свободное дыхание. Сабуров только это и ценил в поэзии: открытое дыхание и совсем свежий, еще сырой звук. Новая языковая – и соответственно жизненная – реальность входит в его стихи в прямом, необработанном виде, вызывая не нарочитое, а естественно-необходимое нарушение принятыхлитературных норм.
Сейчас уже многие понимают и признают, что Сабуров крупнейший поэт, мастер. Но все ли чувствуют эту его способность падать коршуном и хватать, выхватывать самое сырое, живое слово?
Михаил Айзенберг[5]Олег Хмара (1936-2001) Стихотворения
Олег Илларионович Хмара (1936 – 2001) – старинный мой друг, замечательный поэт. Родился и вырос он на Украине, в Днепропетровской области, в селе Вольном, где жили многие поколения его древнего запорожского казацкого рода. По образованию он был горным инженером. Работал на шахтах Кривого Рога, Донбасса, Кузбасса. Жил в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Москве, в Люберцах под Москвой. В СМОГе был со времени основания нашего содружества. При советской власти не публиковался, стихи получили известность в самиздате. Печатать его стихи начали в период перестройки. Автор публикаций в журналах, альманахах, сборниках и одной книги стихов.
Владимир Алейников«По площадям, по улочкам кривым…»
По площадям, по улочкам кривым, по переулкам старым без названий – по прожитым годам, как таковым, везёт меня трамвай воспоминаний. Везёт меня последний старожил, огнями отражаясь в лужах лунных. А я сижу и думаю, как жил, под перестук его колёс чугунных. А жил, как все. Старался не отстать от тех, кому другой удел подарен. Но что имею – всё отец да мать, которым я премного благодарен. А что умею – то моё, при мне, со мной растёт и набирает силу. Но, видимо, созревшее вполне, со мной, перекрестясь, уйдёт в могилу. Вот и теперь – держусь, чтоб не упасть. Живу, не зная счастья и покоя. Зато душе приличествует страсть, а плоть зато приемлет дух изгоя. 1972«Стихает вражда, как круги на воде…»
Стихает вражда, как круги на воде. Добро прорастает, как щавель. Корёжится зло. Но всегда и везде найдётся для Каина Авель. Топорщатся сёла. Растут города, сверкая огнями окраин. Вельможится жизнь. Но везде и всегда найдётся для Авеля Каин. Земля этот принцип продлит без конца. И небо его не осудит. По замыслу и по веленью Творца так было, так есть и так будет. 1973«Настрой души не подменить набатом…»
Настрой души не подменить набатом фальшивых фраз без дыма, без огня. Моя душа давно больна закатом последнего и рокового дня. Пускай кого-нибудь волнуют фразы и пустозвонство фарисейских слов. Меня ж давно снедают метастазы печальных бдений и печальных снов. И ты, вполне заслуженный онколог, больного не пытайся врачевать. Мой дух так слаб, мой подвиг так недолог, чему бывать – того не миновать. 1974«Похмелья вечеров похожи на игру…»
Похмелья вечеров похожи на игру: за час до темноты они ещё лукавы, но северной звезды почувствовав иглу, они стоят, тихи, они не жаждут славы. В такие вечера с безоблачных высот на землю грешную слетают херувимы и видят, что дома живут подобьем сот, пока не тронуты, пока богохранимы. И люди в тех домах живут подобьем пчёл, не ведая стыда, не чувствуя позора, живут под чей-то смех и чей-то произвол, танцуя свой канкан, свой танец медосбора. В такие вечера на небе виден крест. В такие вечера среди домов острожных нет-нет да прозвучит печальный благовест неправедных трудов и истин непреложных. 1974«О, Коктебель! Когда б твоя лазурь…»
О, Коктебель! Когда б твоя лазурь вошла в мою нетронутую душу, узнал бы я дыханье тёплых бурь, увидел бы и море в ней, и сушу. И проросли б тогда в моей душе, как кущи, как сады Семирамиды, твои холмы, остывшие уже, на берегах, давно видавших виды. Душа была б, что Божья благодать, которую не знают властолюбцы, и были б в ней твоих заливов гладь и гор твоих Нептуновы трезубцы. И знал бы я под шум небесных струй, под твой рассвет, изменчивый, как мода, что сладок сон и сладок поцелуй нетленного понятия – свобода. И знал бы я под говорок волны, под твой закат, червонный, как рябина, что бриз солен и губы солоны удевушки по имени Регина. 1966«Потому, что ты чайкой в небе…»
Потому, что ты чайкой в небе в две мелодии, в два крыла – я забуду о чёрном хлебе и узнаю повадки зла. Потому, что ты лодкой в море в две уключины, в два весла – я забуду о прошлом горе и узнаю закон числа. Потому, что ты синей лентой, не имеющей глубины – я останусь земною рентой для тебя – для морской волны. Ты же, ты же, стихия злая, та, которую так люблю, ты откроешь мне двери рая, протянув (затянув) петлю. 1975«Когда в душе сиреневый рассвет…»
Когда в душе сиреневый рассвет, когда душа поёт и дышит новью, без сожалений – прав я или нет – живу работой и живу любовью. Когда в душе вечерняя заря и всё покрыто розовым туманом, опять без сожалений – только зря – живу бездельем и живу обманом. Когда же в ней, в душе, темнеет ночь и за грехи меня корит и судит, – живу лишь тем, что подрастает дочь, которая, даст Бог, счастливей будет. Когда же в ней, в душе, к мольбам глухи, ещё сильней сгущаются потёмки, – живу лишь тем, что пишутся стихи, которые, даст Бог, прочтут потомки. 1967«Я умру в этих диких и гордых степях…»
Я умру в этих диких и гордых степях. Я другую судьбу не приемлю. И не важно – развеют по ветру мой прах иль зароют в холодную землю. Приднепровские степи… Полынь да ковыль, да безудержный блеск ятаганов мне мерещится сквозь придорожную пыль да сквозь марево скифских курганов. Приднепровские степи, седлаю коня, и несёт меня буйная сила. Вы ж любите меня и храните меня – вы моя колыбель и моя вы могила. Криворожские степи… Руда да беда, да жестокая власть золотого колечка. Вы печали моей голубая звезда и надежды моей догоревшая свечка. Но приветствуя всё же и всё же звеня, созревает во мне ваша гордая сила. Так любите меня и храните меня – вы моя колыбель и моя вы могила. И Донецкие степи – свидетели братств. Терриконы да шахты следами абстракций. Вы хранители чёрных несметных богатств. Вы держатели белых сомнительных акций. Вы служители вечного быта – огня. Эта жажда огня нас давно породнила. Так любите меня и храните меня – вы моя колыбель и моя вы могила. 1971«Любовь ли это? – нет…»
Любовь ли это? – нет, ибо в твоих предтечах неоткровенный свет на новгородских вечах. И потому сейчас фальшивое боярство воспитывает Спас и лепит Государство. Напыщенность и вздор, но преданность собаки, пока простой раздор не доведёт до драки. А драка? – так, слегка – щипки они, укоры (беспомощность щенка перед тщетой Ангоры). Затем – тупая смесь и самоедство самки выкармливают смесь от мамочки до мамки. Затем – через года под призмой благородства провоют провода о признаках уродства. Ужели не поймёшь мои иносказанья? Ужели не найдёшь закон предначертанья? Любимая. Моя. Уста, плеча святые. Так назову – не я, а назовут – иные. На то она судьба, дарованная свыше: беспутство и гульба в подвалах и на крыше. На то она стезя, ниспосланная небом. И выправить нельзя ни холодом, ни хлебом. 1972«Моя к тебе любовь – открытая река…»
Моя к тебе любовь – открытая река, что в северных краях берёт своё начало, что к морю катится, что плещет у причала, что заливает всё – и в том её тоска. Твоя ко мне любовь – открытая пустыня, что с юга знойного несёт свои пески, что ветром сушит грудь, что давит на виски, что засыпает всё – и в том её гордыня. 1977«Вдвоём у моря, в Коктебеле…»
Вдвоём у моря, в Коктебеле, в зелёном шорохе стрекоз… Мы в сентябре, но мы в апреле – не надо слёз, не надо слёз. И моря шум, и моря грохот, и моря сумеречный яд пускай доносят смех и хохот тобой развенчанных наяд. И нацепив свои наряды, и брови вычертив дугой, пускай узнают те наяды, что я другой, что я другой. Пускай увидит это море, всепобеждающе трубя, что мне дано другое горе – любить тебя, любить тебя. 1974«Наступает Великий Туман…»
Наступает Великий Туман и уходит моя бестелесность в ту семью, где гуляет обман, в ту страну, где царит неизвестность. Не архаровец я, не пророк, но душа моя часто пророчит. И читаете вы между строк, как кричит она, как кровоточит. И разносит по свету молва, что не жалуют блудного сына толстозадая тётка – Москва да блаженная мать – Украина. Это – жизнь. Далеко ль до беды, если крылья подрезаны ваши. Если нету целебной воды, но сияет наполненность чаши. Это – страсть. Далеко ль до греха, если гложет печать укоризны. Если бедствует правда стиха да бытует неправда Отчизны. 1974«Имеющий наглость судить меня строго…»
Имеющий наглость судить меня строго за то, что крамольные верши пишу, возрадуйся, ибо уже не дышу, уже мне другая открылась дорога. Вдоль этой дороги – могильная жуть. Вдоль этой дороги не слышно приветов. Лишь тени давно убиенных поэтов стоят и перстом указуют мне путь. И я прохожу. И последним встаю. Шеренга длинна, но длиннее дорога… Я рад, я доволен решением Бога: я ростом не в них, но я с ними в строю. …А ты, мой коритель, в статейке газетной теперь пропечатай, довольный собой, про тот папиросный, про тот сигаретный, про водочный тот непутёвый разбой. А ты, мой хулитель, смотри на червонцы, раскладывай их вперемешку и в ряд. Тебя потихоньку закупят японцы. Китайцы тебя постепенно съедят. 1977«Пока ещё горит – не угасает день…»
Пока ещё горит – не угасает день. Пока ещё светло и небеса беззвёздны. И на души людей ещё не пала тень, и лица их наглы, и очи их бесслёзны. Но скоро из-за стен московского кремля взойдёт луна призывом к очищенью, поскольку не стоит – вращается Земля, и мы причастны к этому вращенью. 1977Виктор Фишман И жизнь, и слёзы, и любовь Каролины Павловой
Есть поэты и писатели, творчество которых сразу и бесповоротно принято современниками. Каролина Карловна Павлова не относится к числу таковых. Лишь в узких кругах литераторов – в семьях Аксаковых, Тютчевых и Толстых – знали и понимали её значение для русской литературы. Её смерть в скромной квартирке под Дрезденом прошла настолько незаметно для России, что и сегодня в некоторых статьях можно встретить различные даты смерти поэтессы. Для широкого круга читателей творчество Каролины Павловой ровно 100 лет назад воскресил Валерий Брюсов, издав в 1915 году «Собрание сочинений Каролины Павловой» (Изд. К.Ф. Некрасова. Москва).
Жизнь российской немки Каролины Карловны Павловой, урожденной Яниш, подтвердила общее правило, что талант и образование ещё не являются залогом счастливой женской судьбы, и сколько ни провозглашай равенство, представителю некоренной национальности всегда живётся труднее. Впрочем, обо всем по порядку.
Славный род
Первый из рода Янишей, Иван Николаевич (Иоганн Генрих, ок.1730-1812), сын Николая Яниша, уроженца Силезии, «по приезде из чужих краёв в 1758 определён в Спб. морской гошпиталь доктором», в 1771 году он уже служил в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, стал надворным, а затем и коллежским советником, попечителем, и так далее, и тому подобное. Главным наследством, привезенным в Россию, был родовой герб: голубое поле щита разбито на три части горизонтальными золотой и серебряной полосами; из нижней части щита (волнистого моря) поднимается змея, изо рта которой в верхней части щита выходят в стороны две ветви дерева, под которыми «по золотой восьмиконечной звезде».
Было у него б внучек и 4 внука: о детях старшего, Александра (1764-1836), ничего неизвестно; Карл (1776-1854) стал отцом двух дочерей, одна из которых является нашей героиней; Николай (1782-?), знавший «русский, французский, английский, историю, математику, гидростатику и прочие науки к инженерной части относящиеся», имел шестеро детей; Андреас (1789 –?) стал отцом двух сыновей; один из них, Николай Андреевич, окончил «Геттингенский ун-т, инспектор Тульской врачебной управы, врач в армии Суворова в Италии, прославился подробным анализом и точным учетом всех больных и раненых, убитых и умерших за все время похода и обратного возвращения через знаменитый Сен-Готтардовский перевал в Альпах, инспектор студентов СПб. медико-хирургического отдела, старший доктор Выборгского военно-полевого госпиталя с 1802 г»; второй сын Андреаса, Карл Андреевич, стал, одним из основателей русской шахматной школы.
По завещанию от 20.12.1809 года Иван Николаевич Яниш раздарил своим детям принадлежавшие ему дома в Москве, немалые земельные наделы, а также деньги ассигнациями, таким образом, наследники родоначальника русской династии Янишей бедными не были. Каролина Яниш родилась 10 июля 1810 года в Ярославле, «30 марта 1824, в вербное воскресенье, конфирмована в 14 лет и допущена к святому причастию». Но почти всю свою жизнь Каролина провела в Москве. Её отец, профессор Карл Яниш, был широко образованной личностью: помимо медицины преподавал ещё физику и химию, знал литературу, занимался астрономией и живописью. Уже ребенком Каролина знала четыре языка. Так что, в отличие от Владимира Ленского, героя «Евгения Онегина», который «из Германии туманной привез учености плоды», своё, чисто немецкое, образование она получила на российской почве.
Она, Мицкевич и стихи
Как и полагается будущей поэтессе, случай подарил Каролине возможность необычной любви. В 1825 году, в салоне княгини Зинаиды Волконской, Каролина Яниш встретилась с Адамом Мицкевичем (Adam Bernard Mickiéwicz). Польский поэт был вынужден скрываться в России, опасаясь преследований за причастность к национально-освободительному движению поляков против русского самодержавия. Между 27-летним поэтом и 18-летней гимназистской вспыхнула любовь, намечалась свадьба. Но семья Яниш воспротивилась этому браку. Вскоре Мицкевич и сам охладел к не очень красивой невесте и покинул Москву. Больше они никогда не встречались.
Уже в старости она написала сыну Мицкевича: «Воспоминания об этой любви и доселе является счастьем для меня».
Сочинять Каролина начала по-немецки и по-французски, затем делала переводы, В частности, перевела с польского на немецкий язык отрывок из поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод». Рукопись этого перевода вместе с двумя сонетами и письмом Каролины Карловны на имя Отилии Гёте (Ottilie Wilhelmine von Goethe, geb. von Pogwisch), невестки Вольфганга Гёте, датированном октябрём 1829 года, через путешествующего по России Александра Гумбольда (Alexandervon Humboldt) были переданы в Германию. Биографы Каролины Павловой пишут: «Гёте одобрил переводы и прислал переводчице лестное письмо». На нащ запрос по этому поводу в архив «Goethe– und Schiller-Archiv» в Веймаре руководитель отдела писем доктор Пич (Dr. Yvonne Pietsch) ответила: «Письмо Каролины Яниш, естественно, по своей сути было адресовано Вольфгангу Гёте; однако нам неизвестно какое-либо ответное письмо Гёте в адрес Каролины Яниш. Разве что в устном виде Гёте что-либо передал через Александра Гумбольда».
И всё же, письмо Каролины даёт нам важную информацию: во-первых, Гёте узнал о существовании российской поэтессы, во-вторых, из письма Каролины Карловны к Отлии Гёте мы узнаём о дворянском происхождении её семьи, ибо письмо подписано «Caroline v. Jaenisch». Переводы Янищ издавались в Германии (в 1833,то есть, уже после смерти Гёте) и Париже (1839, трагедия Шиллера «Жанна д'Арк»). Сближение с Евгением Баратынским, Николаем Языковым и другими московскими поэтами повлияло на её первые стихи на русском языке. Они имели успех в литературных салонах, где иногда бывал и А.С.Пушкин. Вот что пишет о ней историк и библиограф Дмитрий Языков в «Обзоре жизни и трудов русских писателей и писательниц» (вып. 12., Санкт-Петербург, 1912 год, стр. 178-180, 306): «Молодая переводчица искусно передала по-немецки и по-французски сочинения Пушкина, князя П.А.Вяземского, Е.А.Баратынского (своего главного руководителя) и Н.М.Языкова, за что удостоилась сочувственных отзывов». Скорее всего, имеется в виду лестный отзыв В.Г. Белинского о таланте Каролины Павловой в его статье «Русские журналы». Первой по времени в России была публикация её перевода шотландской баллады Вальтера Скотта (WalterScott) «Клятва Мойны» в «Отечественных записках» (1839, книга 5, стр. 240), за подписью «-ва». Но – из песни слова не выкинешь! – были и насмешливые оценки её творчества просвещенными русскими дворянами.
Богатство – красота невесты?
И всё же личная жизнь не складывалась. Участь старой девы представлялась вполне реальной. Когда же Карлу Янишу досталось значительное наследство, Каролина Карловна вдруг стала завидной невестой. Ей сделал предложение известный писатель Н.Ф.Павлов, человек, как пишут исследователи, «легкомысленный, отчаянный игрок и к тому же бывший на худом счету у начальства». Впрочем, в карты играли тогда многие литераторы, а Н.Ф.Павлов писателем был одаренным: в одной из статей А.С.Пушкин хвалил три его повести!
Став замужней женщиной, Каролина Карловна тотчас же завела литературный салон в их собственном доме (Рождественский бул. 14), который посещали видные литераторы того времени. Наступившие годы стали временем расцвета её таланта. Она выработала свою поэтическую манеру, несколько холодноватую, но в высшей степени лиричную. В журналах и альманахах стали появляться её отточенные строки, например, такие:
Увы! души пустые думы! Младых восторгов плен и прах! Любили все одну звезду мы В непостижимых небесах! И все, волнуяся, искали Мы сновиденья своего; И нам, утихшим, жаль едва ли, Что ужились мы без него. (Ноябрь 1846 г.)Её большой удачей были роман «Двойная жизнь» (1848) и поэма «Разговор в Трианоне». Павлова справедливо считала их своими лучшими произведениями. Поэма была запрещена цензурой, хотя была направлена против волнений, охвативших Европу после 1848 года. Что поделаешь: эволюционность и порядок были присущи её немецкой душе, и она плохо воспринимала революционные идеи. «Разговор в Трианоне» впервые был опубликован в лондонском издании «Русская потаенная литература XIX века» под названием «Вечер в Трианоне» в 1861 году.
Скандал в благородном семействе
Литературные успехи не сделали Каролину счастливой. Н.Ф.Павлов проиграл всё её состояние вчистую. Считается, что по наущению отца Каролина Павлова пожаловалась начальству мужа. А те только и ждали повод избавиться от неблагонадежного сотрудника. В доме Павловых полиция провела обыск, нашла много запрещенной литературы. Сначала Павлова посадили в долговую тюрьму, а затем выслали в Пермь под надзор полиции. Это могли простить русской жене, но не немке! Московская общественность отвернулась от поэтессы. В прессе появились злые эпиграммы и пародии на неё. Оставаться далее в Москве не было никакой возможности, и Каролина Карловна, разорвав отношения с мужем, весной 1853 года уехала в Петербург, а оттуда – в Дерпт.
Вставай же, друг, и в путь пускайся снова; К тебе дойдёт, в безмолвьи пустоты, Быть может, звук слабеющего зова; Но ты иди, и не смущайся ты. (1854,Дерпт)Здесь она встретилась и на всю оставшуюся жизнь подружилась с поэтом А.К.Толстым. Павлова переводила на немецкий язык его баллады, поэмы, драмы. По следам событий Крымской войны и обороны Севастополя она написала патриотическую поэму «Разговор в Кремле», которую в передовых литературных кругах тоже встретили в штыки. Хотя написана эта вещь была в блестящем лирическом ключе.
Жизнь после смерти
Всеми обиженная и растерявшаяся, она покинула Россию и с 1861 года окончательно поселилась в посёлоке Гостервиц (Hosterwitz) под Дрезденом. Возможно, она чувствовала, что от неё ожидают больше, чем она может дать; что сила её таланта не достигла высшей точки. А.К.Толстой, посещавший Германию в связи с тяжелой болезнью в 60-х годах, как-то навестил Павлову в её более чем скромной квартирке. В своих воспоминаниях он писал потом с болью в душе: как можно было променять высокие потолки дворянских особняков на полутемные бюргерские дома? Имелось в виду, скорее всего, что здесь не та почва, где она может и должна творить.
Павлова лишь изредка и на короткое время наезжала в Россию. Жила тем, что зарабатывала переводами. В России был издан небольшой сборник её стихов. Она умерла 2 (14) декабря 1899 года (во многих публикациях ошибочно указаны 1893 и даже 1894 годы), пережив и своего мужа, и сына – Ипполита Николаевича Павлова, известного журналиста и редактора (умер в 1882 году).
Кто-то сказал, что в Германии всегда есть один великий композитор, а в России – один великий поэт. Таким поэтом, пусть не великим, но значительным, в 40-50-х годов позапрошлого века была Каролина Павлова. По моей просьбе живущие в Дрездене друзья предприняли поиски могилы Каролины Карловны Павловой. Вот что они выяснили. В 19 веке посёлок Хостервиц находился довольно далеко от городской черты Дрездена, примыкая к королевской летней резиденции Пиллнитц (Pillnitz, нечто вроде местного Петергофа). Ныне всё это вошло в черту города как район Pillnitz, a Hosterwitz – микрорайон этого района. Кладбище на карте посёлка не обозначено, скорее всего, в настоящее время его не существует.
Городской архив Дрездена сообщил, что по территории бывшего кладбища ныне проходит железная дорога местного значения. Архив посёлка пропал во время войны. Очевидно, могила и памятник (если он был) исчезли уже навсегда.
Павлова и современность
Литературоведы отмечают, что пишущие женщины XIX века были одиноки по своей сути. Если же вспомнить непримиримое, а подчас и враждебное отношение Евдокии Ростопчиной к Каролине Павловой, то можно понять, как в те годы трудно было прокладывать дорогу к сердцам читателей. И всё же нельзя не отметить наполненные лиризмом и верой в будущее: стихи Каролины Павловой:
Гляжу в лицо я жизни строгой И познаю, что нас она Недаром вечною тревогой На бой тяжелый звать вольна; И что не тщетно сердце любит Средь горестных ее забот, И что не все она погубит, И что не все она возьмет.Мысль Каролины Павловой о поэзии как о «святом ремесле» использовали в своём творчесте такие поэтессы, как Марина Цветаева и Анна Ахматова, открыто ссылаясь на свою предшественницу:
Одно, чего и святотатство Коснуться в храме не могло, Моя напасть! моё богатство! Моё святое ремесло!Примечание:
Виктор Петрович Фишман, род. в Днепропетровске в 1934 г.; инженер-геофизик. Работал в Донбассе на шахтах, где занимался теорией и практикой предупреждения шахтеров о грозящей им опасности. Автор около 30 патентов и изобретений; кандидат технических наук (1974). Первые публикации появились в журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» в 1978 г. Выпустил около десяти книг, в том числе, научно-художественных. Автор романа «Формула жизни» (2001), книги рассказов «Последняя ссылка» (2004). С 1996 г. постоянно проживает в Германии.
Переводы
Томас Стёрнз Элиот (1888-1965) Четыре квартета
Вступительная статья и перевод с английского:
Дмитрий СильвестровFour Quartets, Четыре квартета (1936-1943) – наиболее значительное произведение Томаса Стёрнза Элиота (1888-1965), крупнейшего англоамериканского поэта XX века. Это четверной цикл пятичастных поэм, ставших классическим примером «традиционалистского авангардизма». Универсализм, эмоциональная сдержанность, лаконичность, символическая насыщенность, дисциплина, формальная заданность и ассоциативная открытость цитатам и парафразам, парадоксальное единство чётких, незыблемых истин и метафорической неопределённости и иронии – таковы черты элиотовской поэтики.
Лирическому произведению, по Элиоту, присуще не значение, но бытийственность. Поэтические тропы – не предмет художественного вчувствования, но бесконечнопостигаемые миры, грани творчески явленной нам реальности, сообщаемой через чувства, но обретающей цельность «в их вместилище – разуме» (Фома Аквинский). Четыре квартета – поэма о месте человека в мире, материальном и духовном мире своего Я, – и мире истории; о призвании и назначении человека, о его страстях и самосознании. Мы не можем жить без любви, и мы постоянно пребываем меж двух огней: себялюбия – и Божественной Любви.
Кто дал мучения? Любовь. За Именем далёким скрыто Деянье рук, что ткут всё вновь Тунику, – пламенем повита, Она сжигает нашу кровь. И в пищу, ото дня ко дню, Идём огню – либо огню.Каждый момент нашей жизни – момент выбора и тем самым момент истории. Мы всегда – здесь. Но история – поле действия духа, это образ (pattern, порядок, форма) вневременных моментов. Так мыслится парадоксальное единство нашего плотского – и духовного Я, по сути дела временной и вневременной судьбы, а стало быть, и единство тянущегося всю нашу жизнь линейного времени – и вечности, где нет ни прошлого, ни будущего, где не властвует смерть, где мы встречаемся с умершими и встретимся с ещё не родившимися.
Наша память прошлого. Наш «rose garden». Что это такое? Это ведь не то же самое, что рассказы о чём-то, чего мы не видели. Ведь мы знаем, что прошлое – было! Но наше прошлое – это будущее тех, кто был в прошлом, и оно же, вне времени, – настоящее.
Время настоящее и время прошлое, Быть может, оба присутствуют в будущем, А время будущее содержалось в прошлом.Это значит, что времени – нет. Это бессмертие, мы постигаем его на собственном опыте, отождествляясь – в миг озарения! – с «недвижной точкой вращающегося мира». Зная, чувствуя прошлое, мы не можем сомневаться и в наличии будущего, того самого, когда нас не будет. Но ведь мы уже помыслили будущее в нашем настоящем, когда мы – были. А это значит, что и в будущем, когда нас не будет, мы всё равно – существуем. И что же это как не бессмертие?
Но как мы приходим ко всему этому? Через посредство того времени-океана слов, в котором проходит вся наша жизнь. Слова, речь из них состоящая, – это почва, культурный слой, шум времени всей нашей жизни. Это бесконечная – в пространстве и времени – среда и ткань, которую ткут человеческие существа, это носитель и источник чувств и знаний, которые творят нашу личность. Через слово мы постепенно осознаём, как наша личность растёт, зреет, постепенно отождествляясь со всей постижимой, непостижимой вселенной. Слово, приводящее нас к идее бессмертия, оно же и творит это бессмертие: «В начале было Слово, и Слово было Бог». Ибо через слово мы приходим к идее личности, слово становится Словом, личностью, тем, что мы называем Богом. Темы-лейтмотивы поэмы – четыре стихии греческой философии: воздух, земля, вода, огонь; мера этой материи – время: четыре времени года; дух этой материи – Бог Отец (Неподвижный Двигатель), Бог Сын (Искупитель), Дева Мария (Заступница), Бог Дух Святой (Голос и Сила Любви).
Вёрнт Нортон – поэма о воздухе, среде, атмосфере общения. Человек, сам остановленное мгновение, – и мир, воспринимаемый как образ порядка, неизменного в вечности:
Чеснок с сапфирами и грязь Коростою покрыли ось. Металлом трель отозвалась В крови, где сталь струной звенит Под шрамами забытых битв. В сосудах танцем разлилось Круговращенье лимфы, ток, Запёчатлённый в дрейфе звёзд, В деревьях к лету тронул сок, Вобрав с деревьями в поток Сквозящий бег в резной листве Собак и вепря: там, в траве, Опять в ловитве повторён Порядок, что, во мгле времён Теряясь, примирён меж звёзд.Ист Коукер – поэма о земле, прахе, о навозе и смерти, о влечениях плоти, о перекликающихся судьбах человека, природы, вселенной:
Где на исходе ноября Весенний взрыв календаря Животворящий летний зной Подснежник хрупкий под ногой И мальвы росшие в зенит? Красой поникшие во мгле И снег на розах, на земле. В громе в сполохах зарниц Звёздных войн сверканье спиц Триумфальных колесниц. С Солнцем бьётся Скорпион И Луну ужал итон. Плач комет, дождь Леонид Ввергнутся в водоворот Рушащего мир огня, И когда он отбурлит Всюду воцарится лёд.Драй Салвейджиз – поэма о воде, древнегреческом первоэлементе мироздания, со всех сторон окружающей землю, вторгающейся в неё, не имея предела.
Литтл Гиддинг – поэма об огне, самом чистом из элементов, предполагаемом уничтожителе мира, огне пожирающем и очищающем: голубь Благовещенья апокалиптически предстает немецким самолетом, подбитым во время налёта на Лондон:
Сверженье голубя в одежде Из пламени сметает кров, И языки огня, как прежде, Шлют очищенье от грехов. Отчаянью – или надежде Сгореть в костре – либо в костре, Чтоб искупить огонь – в огне.Во всех четырёх квартетах есть ещё и нечто неназванное пятое – квинтэссенция, истинный принцип существования. Его нельзя описать, это невыразимое состояние духовного прозрения и восторга, сродни воздействию глубокого исполнения прекрасного музыкального произведения.
В Четырёх квартетах темы переплетаются с вариациями. «Он плывёт к цели галсами», – сказал об Элиоте один из критиков. Связи – интеллектуальные и психологические, а не словесные и грамматические (если понимать их буквально). При этом звучание, мелодика, гармонические модуляции, темпы, тембры, регистры, вся смысловая и образная структура поэмы обретают характер чисто музыкального произведения, с его абсолютной значимостью отдельных составных элементов, с его абсолютной зависимостью этих элементов от конструкции в целом (одним из таких элементов нужно рассматривать и пунктуацию).
Музыкальный облик, философская глубина, смысловая и образная насыщенность Четырёх квартетов непосредственно ассоциируются с пятичастными бетховенскими квартетами. Поэма Элиота особенно близка фортепьянным сонатам Бетховена. При всём своём мелодическом и гармоническом богатстве, захватывающей выразительности главных и побочных тем в разнообразных вариациях и разработках сонаты Бетховена отличаются поразительной цельностью и завершённостью. Эти качества характерны и для Четырёх квартетов. В них Элиот отходит от смыслового и формального авангардизма Бесплодной земли [The Waste Land], 1922, и создаёт яркое и монументальное произведение в духе сдержанного и благородного неоклассицизма, близкого изысканному неоклассицизму Стравинского (Царь Эдип, Аполлон Мусагет).
Вчитываясь, вслушиваясь в поэму, мы, бессознательно, ощущаем себя в ней присутствующими, участвующими в ее постепенном возникновении, в её созидании. Мы вживаемся в ее оркестровое многоголосие, «совмещенное слухом», и всё дальше, всё глубже устремляемся по неисчислимым трассам ее многомерного пространства и времени, ее земных и космических катастроф, параллельных «вечеру за столом, при лампе, вечеру с фотоальбомом». Мы всё больше и больше становимся её частью, в динамике, в становлении. Поэма неразрывно творит и себя, и нас. Её музыкальная стихия, словно в танце, подхватывает нас и уносит с собою:
С умирающими мы умираем: Видишь, уходят они, мы идём вместе с ними. Мы рождаемся с мёртвыми: Видишь, они возвращаются, нас приводят с собою.Словно океанские течения, разной силы, на разных глубинах, и с разной скоростью, развиваются основные и побочные темы Четырёх квартетов, чтобы, наконец, гармонически соединиться в сонатной коде,
Когда сплетётся языками пламя В огненный венец, и сольются Воедино огонь и роза.Каждое слово в пространстве поэтического произведения, поэтическое слово во всей его бесконечной безбрежности, есть символ бесконечно безбрежного мира, где мимолётный отблеск света от крыла зимородка равен вечному светочу, дающему жизнь вселенной:
Тис Пальцами стылыми, словно капелью эфира, Нас обовьёт? Чуть зимородок крылом плеснёт Свет – свету в ответ, и замрёт, свет снова повис В недвижной точке вращающегося мира.Четыре квартета – одна из тех «неподвижных точек вращающегося мира», которые, в сущности, задают наши жизненные орбиты.
«Он умер в январе, в начале года». Его прах покоится в приходской церкви деревушки Ист Коукер. В Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве на кенотафе Т.-С. Элиота помещена надпись из Квартета Литтл Гиддинг, поэмы, которую он считал своим лучшим поэтическим произведением:
The communication Of the dead is tongued with fire beyond the Language of the Living. [Вести Мёртвых, языками огня, сквозь язык живущих.]
Драй Салвейджиз
Драй Салвейджиз, предположительно les trois sauvages (три дикаря), – небольшая группа скал с маяком к северо-востоку от Кейп-Энн, Массачусетс. Ревун – бакен с сиреной.
I
Не многое я знаю о богах, но мне кажется, что река[6] – Это сильный и смуглый бог, суровый, неукрощённый, упрямый, Терпеливый, но до предела, поначалу – граница, Ставшая своенравным путепроводом торговли, И наконец-лишь проблема, возникающая перед мостостроителями. Стоило её разрешить – и почти тотчас смуглый бог был забыт Обитателями городов, но остался таким же безжалостным, Верным времени года и приступам ярости, – разрушитель, напоминающий То, что хотелось забыть. Не чтимый, не умилостивляемый Служителями машин, выжидающий, настороженно выжидающий. Его ритм – в покачивании колыбели в детской, В листве аиланта во дворе в апреле, В осеннем запахе виноградных гроздьев, В ореоле газового рожка зимою. Река – внутри нас, море нас окружает; Море также край суши, гранит, Устремляясь в который, оно на песке оставляет Намёки на более раннее и иное творение: Голотурию, краба, хребет кашалота; Лужи, в которых оно любопытному взору являет То всё более нежную водоросль, то морской анемон. Море швыряет нам наши убытки: изодранный невод, Сломанное весло, исковерканный котелок для омаров И лохмотья неведомых мёртвых. Море многоголосо. В море много богов, и море многоголосо. Соль на терниях, диких розах, Туман в соснах полосами. Рокот моря, Лай, вопли моря – его многоголосие, Совмещённое слухом: это воют от ветра снасти, Это угрозы и ласки волн, разбивающихся о воду; Отдалённые всплески о гранитные зубья И предостерегающий крик со всё более близкого мыса – Это всё голоса моря, и колеблемый зыбью ревун, Огибаемый на пути к дому, и чайка, И в гнетущем безмолвье тумана Лязг колокола, Отмеряющий время, нет, не наше, гулом неспешных Вздохов глубин, время, Более древнее, чем время хронометров, более древнее, Чем подсчитываемое истревожившимися женщинами, Мучающимися от бессонницы, вычисляющими будущее, Пытающимися распутать, размотать, расплести И соединить в одно целое прошлое с будущим, Между полуночью и рассветом, когда прошлое сплошь обманчиво, А будущее – безбудущно, перед утренней стражей[7], Когда время останавливается, и время никогда не кончается; И вздыманье глубин – и ныне, и искони[8] – Отдаётся Набатом.II
Где же конец, завершенье беззвучных стенаний, Тихого увяданья осенних цветов, Роняющих лепестки, застывающих недвижимо? Где же конец дрейфующим после шторма обломкам, Мольбам исторгнутых морем останков, безмольбным Мольбам в миг пагубного возвещенья? Не конец, добавленье – чередований Времени, дней наслаивающихся пластов, Когда чувства вбирают идущие мимо Годы жизни без чувств, сводившиеся к недомолвкам, Краху всего, казавшегося безусловным И теперь – годного лишь для отреченья. И последнее добавленье – жестоких попраний Гордости, расшатывания основ И приверженности – отверженностью становящейся неумолимо, В протекающей лодке, дрейфующей по потёмкам, Средь безмолвья застигнутой беспрекословным Зовом колокола последнего возвещенья. Где же конец рыбакам[9], отплывающим в ранний Час, сквозь туман, по ветру покидающим кров? Время, внеокеанное, невообразимо, Ни океан, не замусоренным представший потомкам, Ни будущее, не кажущееся огромным И, как прошлое, лишённое предназначения. Нужно думать о них, тех, затерянных в океане, Ставящих сети, как только норд-ост утихнуть готов Над неизменными банками, раскинувшимися необозримо; Зарабатывающих вопреки всем утратам, поломкам, – А не тех, кто пускается в плаванье с намереньем скромным, Удовлетворяясь уловом, не сулящим вознагражденья. Нет конца, завершенья безгласых стенаний, Нет конца увяданью увядших цветов И движению боли, растекающейся безбольно и недвижимо; Нет конца дрейфу волн, дрейфующим в море обломкам, Мольбам останков Смерти, их Богу. Чуть заметным, безмольбным Мольбам взыскующих Благовещенья. С возрастом начинает казаться, Что порядок прошлого изменяется: оно больше не просто последовательность Или даже развитие – распространённое заблуждение, Вызванное поверхностными сведениями об эволюции, Ставшей расхожим понятием, средством отказа от прошлого. Миги счастья – не чувство благополучия, Свершения, изобилия, надёжности, страсти, Не говоря уже о превосходном обеде, но – внезапное озарение; Мы испытывали его, не уловив его смысла, – А стремление к смыслу возрождает испытанное Уже в иной форме, по ту сторону смысла, Что мерещится в счастье. Как сказано выше, Опыт прошлого, оживающий в смысле, Не является опытом лишь одной жизни, Но – поколений; постараемся лишь не забыть Нечто, впрочем, едва ли заметное: Взгляда краешком глаза, назад, вопреки уверениям Книжной истории, мельком, Через плечо, к изначальному страху. Вот мы приходим к тому, что мгновенья агонии (Согласно иль вопреки, из-за непонимания, Ложным надеждам – или ложной боязни – Здесь безразлично) в той же степени неизменны, Как время, с его неизменностью. Мы постигаем Это лучше в агонии прочих, Схваченные врасплох, ненароком, дав вовлечь себя, – лучше, чем в нашей. Ибо прошлое наше покрыто потоком поступков, А страдания ближних – нечаянный опыт, Не изношенный от последующего употребления; Люди, с улыбкой, меняются, агония – остаётся. Время, уничтожая, хранит, Как река, с её грузом мёртвых негров, коров и курятников, Горечь яблока, горечь укуса[10], И зазубренный риф в неуёмных водах, – Его гладят волны, туман глотает; В дни алкиона он дыбится памятником, Для мореходов – примета, чтобы прокладывать курс, – Но в ненастье и в приступы ярости Он лишь то, чем являлся всегда.III
Я иногда задумываюсь, не это ли имел в виду и Кришна[11] – Среди других вещей, – или один из способов выразить те же самые вещи: Что будущее – это увядшая песнь, Королевская Роза или ветвь лаванды – Щемящего сожаленья о тех, кого еще нет, чтоб сожалеть вместе с нами, – Стиснутая меж пожелтевших листов книги, не открытой ни разу. И путь вверх есть путь вниз, путь вперёд – путь назад[12]. С этим трудно смириться, и всё же бесспорно – Что время не исцеляет: за отсутствием здесь пациента. Когда поезд трогается, и пассажиры устраиваются поудобней, Чтобы приняться за фрукты, газеты и деловые бумаги (А те, кто их провожал, покидают платформу), Их лица расправляются от забот в беззаботность, Под усыпляющий ритм, вдаль, на сотню часов. В добрый путь, путешественники! – не убегая от прошлого, К новой жизни, к какому-то будущему; Вы не те, кто покинул ту станцию Или достигнет какого-либо конечного пункта, Пока рельсы, сужаясь, позади вас соскальзывают друг к другу; И на палубе подрагивающего океанского лайнера, Провожая след, расходящийся за кормою, Вы не будете думать: «Прошлое кончилось» Или: «Будущее перед нами». На вечерней заре в проводах и натянутых вантах Слышен голос, поющий (хотя и не нашему уху, Звенящая раковина – шорох Времени, ни на каком языке): «В добрый путь, вы все, мнимые путешественники; Вы ведь не те уже, которые видели гавань Удалявшейся, не те, кто высадится на сушу. Здесь, меж приближающимся и отдалившимся берегом, Когда время отстранено, посмотрите на будущее И на прошлое с равных позиций. В миг ни действия, ни бездействия Вы принять можете, что «к какой именно сущности Человеческий разум чувствует притяжение В момент смерти»[13], это и будет единственное деяние (А момент смерти – в каждом мгновении), Которое даст плоды в жизни других, Но не думайте о плодах деяний[14]. В добрый путь. Путешественники, мореходы, Кто доберётся до гавани, и те, чьи тела Встретят суд, приговор океана Или простую случайность, вот ваше истинное предназначение», – Так учил Кришна, наставляя Арджуну На поле битвы. Не прощайте, Но – в добрый путь, путешественники.IV
Дева, в часовне на высоком мысу, Молись неустанно за тех, кто в море, за рыбаков, Ушедших на промысел, и за тех, Чей удел заниматься торговлей, И за тех, кто их путь направляет. Помяни их в молитвах от имени всех Женщин, которые видели своих мужей, сыновей и отцов Уходящими в море, чтоб никогда не вернуться, – Figlia deltuofiglio[15], Царице Небесная[16]. И ещё помолись за тех, кто отправился на корабле и На дне окончил свой путь, на песке, на губах океана Или в пасти пролива, во мраке – он никого не отвергнет, – За тех, до кого не доходит морского колокола Извечный Angélus[17].V
Входить в сношения с Марсом, беседовать с духами, Сообщать о чудищах моря, составлять гороскопы, Прибегать к магическому кристаллу, гаданью по внутренностям, Приближенье болезни угадывать в почерке, видеть Рок сквозь рисунок морщин на ладони И трагедию в переплетении пальцев; предсказывать, Ворожить на чаинках, отгадывать неизбежное С помощью карт, манипулировать Пентаграммами или барбитуровой кислотой, расчленять Примелькавшийся образ на ряд доосознанных страхов – Исследовать матку, могилу, мечту: всё это суть традиционные Развлеченья, рецепты или обычаи прессы И всегда будут, некоторые же в особенности В роковые минуты для нации, в смутное время, На побережьях ли Азии или на Эджвеа-роуд. Любопытство людское исследует прошлое, будущее И цепляется за их рамки. Но постигать Миг пересеченья вневременного И времени – занятие для святого, Впрочем, и не занятие вовсе, но нечто данное И взятое, в смерти на протяжении жизни – в любви, Рвении и самоотверженности, и самоотдаче. Для большинства из нас это нежданный Момент, в и вне времени[18], Миг отрешённости, влившийся в солнечный луч, Неприметный дикий тимьян или зимняя молния, Иль водопад, или музыка, еле слышная в глубине, Словно она и не слышится вовсе, но – ты эта музыка, Пока музыка длится. Это только намёки и предположения, Намёки, сопутствуемые предположениями; остальное – Молитва, обряд, дисциплина, мысль и поступок. Намёк, разгаданный наполовину, дар, усвоенный наполовину, есть Воплощение. Здесь совершается невозможный Союз сфер бытия; Здесь прошлое с будущим Преодолены, примирённые, Где иначе деяние было б движением Того, что лишь движется, Но не содержит в себе источник движения, Влекомое властью демонических, хтонических Сил. Истинное деяние – Также свобода от прошлого и от будущего; Для большинства из нас – цель, Здесь никогда не обращающаяся в реальность; Для нас, потому лишь не побеждённых, Что мы продолжали пытаться, Удовлетворённые напоследок Тем, что бренным возвратом поддержим (Неподалёку от тиса) Жизнь значимой почвы.С ранней редакцией полной версии перевода поэмы Четыре квартета дотошный читатель может ознакомиться в Синодальной б-ке Моск. Патриархии (Андреевский монастырь): «Выбор», 1988, № б, с. 120–149.
Примечание:
Сильвестров, Дмитрий Владимирович, род. в 1937 г. в Воронеже. В 1941 г. эвакуировался на ст. Безымянка, под Куйбышевом (г. Самара). С 1947 г. жил в Малаховке, после 1961 г. – в Москве. С 2002 г. живет в Германии. Переводы: Осень Средневековья (с фрагментами из бургундской поэзии и немецких мистиков), Homo Îudens, Эразм, Культура Нидерландов вXVII в. и др. Й. Хёйзинги; Люди за дамбой Ф. Де Пиллесейна; Сын Пантеры П. Клааса; Рассказы из убежища Анны Франк; Благородство духа Роба Римена. Поэзия: В. М. Рогхеман, X. де Конинк, М. Ван хее, И. Йонкер, С. Вестдейк, Т. Мур, У. Уитмен, Дж. Мэнли Хопкинс, Т.-С. Элиот, Т. Дойблер, Фр. Верфель, М. Нейхофф и др.
Сильвия Плат Стихотворения
Сильвия Плат (1932-1963) родилась в семье профессора биологии, Бостонского университета Отто Плата, рано потеряла отца, страдала биполярным аффективным расстройством. После окончания с отличием престижного колледжа Смит Плат была удостоена премии Фулбрайт для продолжения образования в Кембридже. Покончила жизнь самоубийством по крайней мере с третьей попытки 11 февраля 1963 в Лондоне. В эту подборку вошли более ранние стихи Плат, предшествующие посмертно изданной книге «Ариэль», удостоенной Пулитцеровской премии. Несомненно, что в стихотворениях Сильвии Плат очень сильны феминистические мотивы, что было отмечено многими критиками, однако удивительная образность, неимоверная экспрессия, насыщенность образов и исповедальность в сочетании с приемом маски, успешно применяемым Плат, превращает эти стихи в произведения искусства.
Перевод с английского: Ян ПробштейнТемен лес, темна вода
Этот лес сжигает темный Фимиам. Бледный мох, В шарфе по локоть, роняет Капли бород с древних Костей огромных дерев. Синий туман плывет Над озером, от кишащей рыбы густым. Улитки вьют завитки Бараньих рогов На кромке матовых вод. На прогалинах год На исходе бьет Молотками по редким Разнообразным металлам. Старые корни хвоща Оловянно вьются из Черного зеркала вод, И пока прозрачный воздух Сыплет из песочных часов Золотые крупицы, Огни спасательных буйков Бросают яркие кольца Один за одним На стволы сосен. 1959Дерево Полли
Дерево мечты, дерево Полли: чаща палок, каждый пятнистый сук заканчивается тонким листком, не похожим на других либо призрачным цветком, плоским, как бумага, и цвета испарений, как мороза дыхание, филиграннее веера из шелка которым китайские дамы месят воздух, как малиновки яйцо. Сребро – волосое семя молочая на насест прилетая, висит, хрупкое, как ореол вокруг пламени свечного, как нимб огня болотного или касанье тучки-летучки своего канделябра чудного. В бледном свете легких венчиков одуванчиков, колес белых маргариток и анютиных глазок тигроликих, оно светится. О нет, не семейное древо, а дерево Полли это, однако и не райское древо, хотя связало пушинку кварца узами с перышком, с розами. Оно проросло из подушки ее, цельное, как паутина, шершавое, как рука, древо мечты. У древа Полины – дуга Валентина из слезно-жемчужных кровоточащих сердец на рукаве, а венец – шпорника звезда голубая. 1959Свечи
Последние романтики эти свечки: Огней перевернутые сердечки С восковыми перстами белизны прозрачно-молочной В свечении собственных нимбов, как святые мощи. Трогательно, что им безразлично Семейство выдающихся предметов, Просто ныряют на глазное дно В полость теней, в камыши ресниц, Хозяйке которых, отнюдь не красавице, уже за тридцать, Куда объективнее – дневной свет, Он воздаст каждому по заслугам. Им давно пора бы исчезнуть, как полет на воздушном шаре или волшебный фонарь. Время личных мнений прошло. Когда их зажигаю, щиплет в носу. Их бледная условная желтизна Тащит за собой ложные сантименты эдвардианской эпохи, И я вспоминаю свою бабушку из Вены. Она Школьницей дарила Францу-Иосифу розы. Детишки в белом. Пропотели и прослезились горожане. Мой дед в Тироле мыл полы, воображая, Как он парит метрдотелем в Америке В священной тиши ресторана Над хрустом салфеток и ведерками льда. Сладкие, как груши, кружочки света, Добры к инвалидам и сентиментальным дамам, Смягчают свет голой луны. Как монашки, пылают небесным огнем, не вступая в брак. Качаю младенца, который едва открывает глаза. Через двадцать летя тоже в прошлое кану, Как эти призраки, которые вертит сквозняк. Скатываются их мутные жемчужины слез. Что я могу сказать этому младенцу, Едва пробудившемуся к жизни? Мягкий свет обнимает ее, как шаль, Тени склонились над ней, как на крестинах гости.Вдова
Вдова. Само себя сжигает слово – И тело, как печатный лист в огне, Трепещет немо, тягой возносясь Над жгучей топографией багровой, Что сердца потушит единственный глаз. Вдова. И тенью эха мертвый слог Панель и нишу обнажил в стене, За нею потайной зияет ход: Воспоминаний затхлых воздух сперт И в никуда винт лестницы ведет… Вдова. Сидит паук жестокий, он – В центре ее безлюбых веретен. Смерть на одежде, шляпке, воротнике. Лицо больное мужа, как луна, Как моль, что рада бы убить она Вдругорядь, обретая рядом снова – Вложить его бумажный образ в сердце, Как письма от него, чтоб обогреться, Чтобы согрели, как живая кожа. Сейчас она сама – холодный лист. Вдова! Простор! Свободное владенье! Сквозняк в Господнем гласе ледяной Сулит лишь тяжесть звезд, простор Пустот бессмертных между звезд, Но в небе не поет ничто стрелой. Вдова – склонясь, деревья сострадают, Лишь одинокой скорби дерева, Как тени средь зеленых тех пейзажей – Или как черные зияют дыры даже. Сама как тень, подобье их – вдова; Рука в руке, внутри же – ничего. Бесплотная душа пройдет сквозь душу И не заметит в воздухе кристальном Другую душу, хрупкую, как дым, Не ведая, что позади, что впереди. Она страшится, что он будет биться В окно, как голубь, в омертвелость чувств, Как ангел голубой Марии, впредь, Слеп ко всему вне комнаты бездушной, Глядит он внутрь и будет век смотреть. 16 мая 1961Звезды над Дордонью
Звезды падают, плотные, как камни, в ветвистый Дозор деревьев, чьи силуэты темнее Небесной тьмы, ибо небо беззвездно. Лес – колодец. Падают звезды безмолвно. С виду большие, но падают, и не видно пустот. И на месте их паденья не полыхают огни, Нет никаких сигналов тревоги или страданий. Их поглощают мгновенно сосны. Там, где я живу, лишь редкие звезды Доживают до сумерек, и то после некоторых усилий. И они тусклы, за время долгого путешествия потускнели. А те, что поменьше и позастенчивей, никуда не стремятся, Оставаясь на месте, сидят вдалеке в собственной пыли. Они сироты. Я их не вижу. Оно потерялись где-то. Но сегодня ночью они без проблем эту реку открыли. Они отскреблись, уверились в себе, как великие планеты. Мне знакома только Большая Медведица. Скучаю по Ориону и Колеснице Кассиопеи. Может, они скромно свисают с утыканного шипами небосвода, Как для ребенка слишком простая задачка? Кажется, в бесконечном количестве дело, Либо есть они, но столь ярки их обличья, Что я не заметила их, ибо слишком усердно смотрела. Может, неподходящее для них время года. А что если здесь – не другое небо, а только Дело в моих глазах, которые изостряют сами себя? Такая роскошь звезд меня бы сбила с толку. Немногие, к которым привыкла, просты и прочны; Думаю, о таком разукрашенном заднике, не мечтают они Либо о мягкости юга, о большой компании. Для этого они слишком одиноки, пуритане, Когда одна из них падает, остается провал, Чувство отсутствия на ее старом сверкающем месте и Там, где лежу сейчас, вернувшись к темной звезде своей, Вижу в уме эти созвездия, Не согретые сладким воздухом этого персикового сада. Здесь все слишком просто; эти звезды слишком гостеприимны. На этой горе с видом на освещенные замки, где каждый Колокольчик звонит по своей корове. Я закрываю глаза И, как вести из дома, пью короткой ночи прохладу.Новый год в Дартмуре
Это – новизна: каждая преградка Аляповата, стеклянна и неповторима, Блестя и звеня фальцетом святого. Однако Не знаешь, как справиться с внезапным скольженьем, Слепой, белый, кошмарный, недоступный склон. Нет слов, чтоб описать на него восхожденье. Не одолеешь ни слоном, ни колесом, ни башмаком. Мы только пришли взглянуть. Ты здесь слишком недавно, Чтоб захотелось жить в мире под стеклянным колпаком. 1962Примечание:
Пробштейн, Ян Эмильевич (р. 1953) – поэт, переводчик поэзии, литературовед. Составитель, редактор, автор предисловия, комментариев и один из ведущих переводчиков книги «Стихотворения и избранные Cantos» Эзры Паунда (1 т., СПб, Владимир Даль, 2003) «Стихотворения и поэмы» Томаса Стернза Элиота (М., ACT, 2013). Участвовал в издании «Собрания стихотворений» Дилана Томаса (М.: Рудомино, 2015), автор 9 книг стихов, и книги о русской поэзии «Одухотворенная земля» (Аграф 2014). Стихи переведены на итальянский и английский. Всего более 450 публикаций на несколькихязыках.
Михась Поздняков Стихотворения
Поздняков Михаил Павлович – поэт, прозаик, критик, исследователь литературы. Род. в 1951 г. в дер. Забродье Быховского р-на Могилевской обл. в крестьянской семье. Окончил филологический факультет Белгосуниверситета, был одним из инициаторов создания и первым директором литературного музея Максима Богдановича, работал главным редактором издательства «Юнацтва», главным редактором журнала «Вожык», заместителем, а затем главным редактором журнала «Неман». С 2005 года – бессменный председатель Минского городского отделения 00 «Союз писателей Беларуси». Автор свыше 70-ти книг на белорусском и русском языках для юных и взрослых читателей. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Лауреат республиканских литературных премий. Живет в Минске.
Перевод с белорусского: Анатолий Аврутин«Край мой любимый, печальный, раздумчивый…»
Край мой любимый, печальный, раздумчивый… Нынче ты весь в непорочной красе. Боль унимаешь, что душу мне мучила, Солнцем играя на звонкой косе. Слышу за Грезой «кур-лы-ы…» журавлиное – Это и их дорогая земля. Спелой малиною, силой былинною Полнишь ты душу, грустить не веля… Сад опустевший с душою приветною Редкую грушу роняет к ногам, Втайне надеясь, что вспомнится светлое – Детство… Ребячий восторженный гам… В росах дробится заря многоцветная, Запах медвяный над лугом плывет. Всё здесь родное… Святое… Заветное – Память о прошлом и дней намолот. Вновь салютует мне небо высокое, Слышу соловушки звонкую трель… О, деревенька моя ясноокая – Чувств и поступков моих колыбель. В рощице след – перепуганный, заячий… В поле запретные маки цветут… Жить можно в разных краях припеваючи, Но умирать и рождаться – лишь тут…Отцовский сад
Сад отцовский… Кактихо… По две яблоньки в ряд… Но молчит воробьиха, И деревья молчат. Приунывшие груши Без гостинцев своих. А бывало – зауши Не оттянешь от них. Сливы высохли, вишни… Сад крапивой зарос. Почему же так вышло? – Всем вопросам вопрос. Поспешаем куда-то, Ищем новых путей. Нет осеннего злата Ничего золотей!.. И когда полпланеты Облететь ты успел. Просто вспомни, что где-то Отчий сад опустел…Родное слово
Цветет июль… На целый свет Звенеть соловушке пристало. А мне читается Купала, Для нас он больше, чем поэт. Волнует каждая строка, И Слово не устаревает – Доныне душу согревает, Пройдя сквозь бури и века. И в этих строчках есть ответ На все житейские вопросы. Мы без Купалы – безголосы, Нам без Купалы свет – не свет! Так пусть же радуется высь Строке, что в небе воссияла, И улыбается Купала, И губы шепчут: «Дождались!..»«Аист… По-нашему бусел…»
Аист… По-нашему бусел… Зорьки лазурная нить… Нужно служить Беларуси, Скромно и верно служить. Нет, ты на это не призван Возгласом: «Мы – бульбаши!..» Нужно, чтоб поле Отчизны Сделалось полем души. Предками с детства горжусь я – Теми, что спят меж берез. Нужно служить Беларуси Не потому, что здесь рос. На впечатления скорый, После нелегких дорог Всем говорю без укора: «Здесь нынче правды исток!..» Утром и полночью вьюжной, В стужу, прохладу и зной, Очень стране это нужно – Чтобы мы жили страной. Пусть же улыбки лучатся! – Родина… Всё здесь моё. Как ей в любви признаваться? – Сам я частичка её.Очи любви
Очи у любви – из чистоты, Пить и пить… Глядеть – и видеть счастье. Будто две криницы золотых – Замутить не смей ихбезучастьем. Очи у любви – из доброты, В них не свет, а ласковая мука. Таинством наполнены… И ты Огорчить не смеешь их разлукой. Очи у любви – сама светлынь, Молодого солнышка разливы… Ты их невниманьем не отринь, Женские глаза и так пугливы. Очи у любви – из тишины, В них сокрыта истинная тайна. Грозами, что взору не видны, Не разрушь идиллии случайно. Очи у любви – из глубины, Что хранит бездонье океана. Не печаль их… Видишь, как полны Эти очи силой окаянной?.. Очи у любви – из высоты, Той, которой верую и внемлю. Но взлетая в небо, помни ты – Расшибешься, падая на землю… Очи у любви – из чистоты… Очи у любви – из доброты… Очи у любви – сама светлынь… Очи у любви – из тишины… Очи у любви – из глубины… Очи у любви – из высоты… Очи у любви – глаза богинь, – Господи, к моим глазам придвинь!«Бродит месяц над хатой пустою…»
Бродит месяц над хатой пустою, Зацветает в канаве вода. Я с печально-тревожной душою Каждый год поспешаю сюда. Где-то в небе рыдает мой папа – Агроном, и садовник, и врач. Запустение… Дождик закапал… В небо некому молвить: «Не плачь…» Травянистым бреду переулком, Снятся дичкам тугие плоды. Сердце бьется тревожно и гулко Ощущеньем вины и беды. Не простят меня милый мой краю И над хатой ночная звезда, Что так редко сюда приезжаю – Лишь гостить приезжаю сюда… Потому и рыдаю душою, И предчувствую холод беды, Когда месяц над хатой пустою Озаряет пустые сады…Муравьи
Домок под ёлкой… Вдоль поляны Спешат – мураш на мураше. Гляжу на труд их непрестанный И чуть светлеет на душе. Ведь где-то очумели люди, Война, стрельба который год. Но время, время их осудит За путь, что к бездне приведет! Неужто вы – не человеки? – На щит вы подняли вражду. И вот бредут, бредут калеки И в эту сторону, и в ту… Идет войною брат на брата, И гонят истину взашей. Неужто людям поздновато Учиться жить у мурашей?..Святое
Пусть бегут, пролетают года, Увлекая в просторы иные, Только будут везде и всегда Возвышать нас понятья святые. День Победы! Отчизна! Народ! – С этим мы родились и шагаем, С этим каждый весною идет На свидание с праздничным маем. Май шагает, отвесив поклон Ветеранам – их мало осталось, Помня шелест победных знамен, Помня схваток смертельных усталость. Каждый третий в пожаре войны Вечной болью застыл, вечным стоном. И живем мы, не зная цены Синим рекам и соснам зеленым… Хорошо и свободно живем Среди этой красы величавой, Каждым сном дорожа, каждым днем И отцовской немеркнущей славой…Примечание: Анатолий Юрьевич Аврутин – поэт, редактор. Живёт в Минске.
Обратная почта
Валерий Скобло Дела писательские (Шутки такие)
Валерий Скобло – поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 г. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике. Основные публикации последних лет в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Иные берега», «Крещатик», «Литературная газета», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Связь времен», «Сибирские огни», «CnoBo\Word», «Урал», «Юность» и многих других. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международного конкурса стихотворного перевода «С севера на восток» (2013), дипломант литературной премии им. A. A. Ахматовой (2015). Живёт в Санкт-Петербурге.
«У них есть Иванов, у нас есть Иванова…»
Сразу обоим петербургским союзам писателей посвящается
У них есть Иванов, у нас есть Иванова, Ахматов есть у них, Цветаев есть у нас, Про ихнего И.Ф. я не скажу ни слова, Про нашего В.Т. я умолчу – атас! Наш с ними общий дом – вот для борений место. Чума на оба?.. Нет! – удача и успех! …Но, если поглядеть внимательно и честно… Скажу: тоска глядеть на этих и на тех. 2009 Я, действительно, могу забыть про чайник. Он не электрический – простой. Я, наверно, этот самый… Муз избранник С головой восторженно-пустой. Чайник пусть кипит, наполнив паром Кухню – что мне быта груз? Ведь меня таинственным отваром Опоили эти девять муз. Вот уже внизу пожарных спины – Что мне череда бегущих дней? Я люблю всех дочек Мнемосины, Но Эвтерпа для меня – других главней. Пусть огнем горит жены квартира – Для меня начальство – Аполлон. Не изменит мне пожар картины мира, Мусагет поможет… только он! Для фонтана это слабовато… Из брандспойтов бьет вода вокруг. Я, конечно, с Каллиопой и Эрато Тоже разделить готов досуг. Бьют баграми мебель как поленья… Где понять, скотам им, этот транс? Я горю в пожаре вдохновенья – Рано подводить земной баланс! 2011«Пока в себя поэт погру́жен…»
Пока в себя поэт погру́жен… Или, вернее, погружё́н, Банкиры не зовут на ужин, Не предлагают миллион. Но вот он встрепенется только, К перу потянется рука – Банкиры сразу спросят: «Сколько За прославленье на века?» И тут смутится он, конечно, И возмутится весь внутри, Чтобы потом сказать беспечно: «Ну, баксов этак штуки три.» 2011«Как поддаст он коленкой под зад…»
Как поддаст он коленкой под зад… Спать охота – ну, просто нет мочи… Я и сам послужить ему рад, Но не так вот – совсем среди ночи. Три часа. Все домашние спят, Город, улица, взрослые, дети… Запишу, что пошлет он. Подряд Стихотворные шалости эти. Почему же нельзя это днем Мне послать… дав хоть ночью мне волю? Я ведь, вроде, как помню о нем И забыть нипочем не позволю. Но ведь Музы, треножник и храм… На судьбину пенять мне негоже. Выбрал участь когда-то я сам… И начальство капризное тоже. 2011«За столом не читаю стихов…»
За столом не читаю стихов. Западло. Разве это не ясно? Пленкой жира покроется плов, И остынут и прочие яства. Водка станет напротив тепла… Или нравится теплая водка? Не поэзия вас привлекла – Скажем прямо… спокойно и кротко. За столом также я не пою, Никогда на столе не танцую. Вашу честь берегу и свою – Не поддамся на просьбу такую. Что стихи? Это тлен… мишура, Вот салат – это дело другое. Лучше выпьем еще раз. Пора! Ну, а вирши оставим в покое. Пейте, кушайте… ломится стол, Он хорош – места нетлицемерью. Я один нынче в гости пришел, А все Музы остались за дверью. Что за странная мысль – не пойму. А когда-нибудь… Это конечно… В час застолья служенье ему Аполлон запретил мне навечно. 2012«Откуда мне знать, что написано там…»
Откуда мне знать, что написано там – Сомненьями сам я измучен. Да, мною написано… Все-таки вам Скажу: я читать не обучен. Стишки сочиню, запишу – это да. Не зря говорят нам: писаки. Потом на листочки смотрю – ерунда Какая-то. Что там за знаки? Забыл… Просто напрочь забыл я, о чем Стишок. Вспоминаю напрасно. И чем был в процессе я так увлечен, Когда сочинял его страстно? Какая-то чушь на бумаге: значки… Строка закорючек проклятых… А пользы – одену… сниму ли очки – Ноль целых и ноль же десятых. Пришло вдохновение мне на беду… Слова и бессвязные звуки… Не вспомнить теперь: что имел я в виду? – За что эти страшные муки? Быть может, мечтаете радостно вы Писателем стать и поэтом. Есть уйма проблем – мой совет вам, увы! – Серьезно подумать об этом. 2012«Нелучшие стихи пошлю в один журнал…»
Нелучшие стихи пошлю в один журнал, А лучшие – в другой, что больше мне по нраву. Известен результат (я чувствовал… я знал…): Отвергнет их второй, пошлет их в сад… дубраву, Шумящие листвой… там лето и покой. Отвергнутым стихам там место… место смерти. Их не оплачет мой лирический герой, Тем более, я сам не стану – уж поверьте. Не думаю совсем, что тот, второй, неправ. Жизнь… как это сказать?., и проще, и грубее. …А первый – тот возьмет… к печати отобрав Те, что поплоше всех… что явно всех слабее. 2012«Слух о тебе пройдет… пройдет и память тоже…»
Слух о тебе пройдет… пройдет и память тоже. Как говорится, все проходит на земле. А результат трудов – как ни гляди – ничтожен, Накроется кой-чем… сокроется во мгле. Но, в общем, вовсе я и не про бренность мира. Стезей наезженною следовать к чему? Замкни уста, поэт… покройся пылью, лира… Стократно измени призванью своему. Тогда… о, может быть!., и возревнуют Музы, Такое ниспошлют – не страшен прах веков. И слух прокатится от Омска до Тулузы – Все будут повторять: А это – кто таков? 2012«Стихи растут, как тесто в миске…»
Стихи растут, как тесто в миске, Не в тот момент, когда пишу, И не тогда, когда я виски (Не водку же!) в сердцах глушу. Как на дрожжах… как на опаре… Когда (такой, – скажу, – экстрим!) Мы с Музою моею в паре Стишками этими грешим. Внимая этому порыву Со мною Муза пьет… абсент. О, мы совсем не склонны к пиву В сей исключительный момент. Верчу (она послушна дару) Я Музу, как Давид пращу, И пирогом, что с пылу, с жару, Я вас с восторгом угощу. 2013«Не хочет быть просто писателем…»
Не хочет быть просто писателем – Прозой только владеть… стихом, А хочет – народов спасателем, Наставником их, пастухом. Желает быть нравственным светочем, Пророком, суровым отцом… Желает не лавровых веточек, Но нимба… стерновым венцом. Портретного сходства не стану я Сюда добавлять – не мастак. Нужна ли здесь повесть пространная? Бывает… случается так. Понятно мне это стремление Поменять дар на больший чуть, Отвергая в душе сомнение – Но не симпатично… Отнюдь. 2013«Благодарят за внимание к ихней редакции…»
Благодарят за внимание к ихней редакции… (В смысле того, что послано именно им). Стишки написал (а мог бы скупать акции), Неясным чувством каким-то все время томим. – Ищите, – пишут они, – и обрящете, Но публикацию предложить не могут… пока. Стихов я качество буду, конечно, наращивать, Может, меня и заметят тогда… дурака. Заметят… и стишки у себя пропечатают, Вот и привалит мне счастье со всех сторон, Прославлюсь… буду полюблен девчатами… А пока за окном – только карканье мерзлых ворон. 2014Дарья Герасимова Стихи для детей
Герасимова Дарья, художник-иллюстратор, кандидат искусствоведения. Окончила Московский Государственный Университет Печати. Лауреат Российской премии «Алые паруса» за сборник авторской книги «Крокодиловая роща» (2003). Живет и работает в Подмосковье. Выращивает дочерей, сына, рыжего кота, двух собак и черепаху.
Лошадки
Над водой стоит лошадка В гриве – Ветер и трава. И в воде стоит лошадка, В гриве – Волны да плотва. За спиной одной лошадки Мокрый луг и новый дом, За спиной другой лошадки Облака и старый сом. Разошлись, кивнув друг другу, И не видно их нигде, И одна ушла по лугу, А другая – по воде.Штанишки
Шьем мы с бабушкой штанишки Для медведя и зайчишки, Для слона и носорога И ещё – для осьминога С клетчатыми, Длинными Восемью штанинами!Колыбельная (Саше)
Баю-баю, Баю-бай В старом парке Спит трамвай. Златорогий, рыжебокий Погрузился в сон глубокий. Баю-баю, Баю-бай Там, во сне, Прозрачный май. И летит трамвай, грохочет, Весь объехать город хочет, И на улицах рассветных Собирает он сутра Пассажиров разноцветных И весенние ветра. Баю-баю, Баю-бай, В старом парке Спит трамвай. Златорогий спит трамвай… Засыпаешь? Засыпай…Качели
Рано утром на качели Чьи-то бабушки присели. Поболтали полчаса – Полетели в небеса! Выше клёнов, Выше лип, Под весёлый Громкий скрип, Выше летних Ветерков, Белых птиц И облаков! А потом – всё тише, тише, Ниже птиц и ржавой крыши, Ближе к тени, к синеве, К спелым яблокам в траве, К старым песням, К прошлым дням, Ближе к внукам – и корням. Грелись голуби в пыли, Чьи-то бабушки ушли. А на старые качели Две девчонки рыжих сели.Летний великан
Над полями – облака Вдаль летят Издалека. На одном – гора и дом, Лес огромный На другом. На одном – шумит фонтан, На другом – Спит великан! Дремлет утром Свежим, ранним В белой шапке И кафтане. Ночью он не отдыхал, В небе топал, грохотал. Вниз глядел с горы летучей Этот летний великан, Над рекой летал на туче, Бил в огромный барабан. И среди небесных скал Онс друзьями хохотал! Лишь к утру Угомонился, Нашумел ся, Утомился. Съел с черникою пирог Спать на облаке прилёг. И летит, уставший, бравый, Над полями льна и ржи, И кафтан его дырявый В небе штопают стрижи!Осенний кот
Над посёлком В темноте Едет Осень на коте. Кот огромен, Полосат, А под ним – Река и сад, Старый дом да огород, Я с сестрёнкой у ворот. Мы глядим Как в темноте Едет осень на коте. И мурлычет, И поёт Желтоглазый этот кот. И щекочут облака Его тёплые бока!Луны
Луна над Бомбеем Прозрачна, тонка, И пахнут шафраном Вокруг облака. Луна над Парижем Кругла и бела На крышу собора Вздремнуть прилегла. По Нилу плывёт Будто лодка луна, Глядят на неё Крокодилы со дна. Луна над Гонконгом Сверкает, горит, Над Лондоном старым В тумане парит. Я помню, конечно, Луна лишь одна, Но разной такою Бывает она. И в небе весеннем Над нашим сараем Луна – словно блин С недоеденным краем!Две осени
Осень печальная В сером платке Тихо качает Синицу в руке, Бродит с дождями По сонным полям, Машет рукой Молодым журавлям. Осень весёлая В красном платке Звёзды и яблоки Моет в реке, Инеем красит Траву по утрам, Песни поёт Белокрылым ветрам. Утром стою У скрипучих ворот, Жду, кто из них Ко мне в гости придёт!Снегопад
Сугробы у дома, Сугробы в лесу, Огромный Сугроб Я на шапке несу. На шляпах прохожих, С приходом зимы, То башни, То замки, То просто холмы. А может быть это Не замки и глыбы, А снежные звери И снежные рыбы На шапках по городу Едут, глядят, Как белые хлопья Над миром летят. Расселись на шапках Лисицы и совы, Собаки и кошки, Слоны и коровы, И с птицей На шапке Гуляет мой брат, И шепчет с восторгом: «Какой снегопад!»Люди
Люди разные, Посмотри – У кого-то птица поёт внутри, У кого-то серая спит сова, У кого-то ворон склевал слова. Здесь – Весною кричат грачи, Там – О чём-то павлин молчит. У кого-то ласточка или стриж, У кого-то – весёлый чиж. Этот чиж Все дни напролёт Скачет, прыгает и поёт, Ветры слушает, что кружат, Учит песням своих чижат. А бывает Внутри живёт Полосатый, когтистый кот. Или нет никого внутри… Люди разные, Посмотри.Конь
Сделал Из валенка Дед Для меня Самого Лучшего В мире Коня! Вырвавшись утром На вольную волю Носится конь По весеннему полю. Если на улице Дождь проливной, Скачет по комнатам Вместе со мной. Летом мы с ним У пруда загораем, Рвём землянику И в прятки играем. Осенью сонной, Под тихим дождём, Медленно-медленно В школу бредём. Мчимся без шапок Зимой по селу… Вместе Вздыхаем Печально в углу. Самого верного В мире коня Сделал из валенка Дед для меня!Парад
Шумит вечерний, мокрый сад, А дождь звенит, поёт, Выходят важно на парад Лягушки из ворот. Из всех оврагов и щелей, Скликая остальных, Спешат они, Скорей, Скорей, В мундирах травяных. И принимать большой парад Под летний, гулкий гром, Бежит мой самый Младший брат По лужам, Босиком!Ветра
Над миром осенним, Я видел вчера, – Гуляли по небу Цветные ветра. Шуршали хвостами, Гудели вдали, По лужам, И рекам Несли корабли. Играли на дудках Из тонкого льда. Пасли облаков Белобоких стада. Под вечер сошлись Над заснувшим селом. Уселись за лунным, Огромным столом. И пели тихонько, Как все мы поём, О чём-то прекрасном, О чем-то своём. А утром опять Принялись за труды И сыпали снег На дома и пруды…Письмо
Водитель небесного Грузовика Куда-то везёт Над землёй облака И тучи везёт куда хочет, И в небе Гудит И грохочет! Я сяду у печки, Ему напишу: «Хорошей дороги тебе, Но прошу, Пожалуйста, С южных Далёких морей Вези нам не тучи С дождями Скорей, А солнце, Пропахшее чаем. Мы все его ждём И скучаем!Летний ливень
Летний ливень Хлынул вдруг, Вымыл тёплый Пёстрый луг. Вымыл яблоки и сливы, Намочил лошадкам гривы, Окатил водой коня, Вымыл брата и меня. Ливень солнечный, Грибной, Всё вокруг Растёт со мной! Под весёлый Гулкий гром Выше тучи Вырос дом! Вырос тополь у ворот, Стал похож на тигра Кот! Стал большим Лохматый пёс. Даже дедушка Подрос И шагает вместе с нами За огромными Грибами!Жаркое лето
Жаркое лето – Черничный пирог. Хочешь – зароешься В солнечный стог, Хочешь – весь день Прогуляешь в бору Или на речке, На вольном ветру. Утром наловишь Блестящей плотвы, Ночью послушаешь Пенье совы! Сыплются звёзды На старый порог. Лето – огромный Черничный пирог, Жаром сочится Лиловая брешь, – Радуйся жизни И ложками ешь!Весенняя песенка
Самый старый часовщик За работой петь привык. Он в подвальной мастерской Напевает день-деньской. Аза ним поют кукушки, И вороны, и скворцы, И весенние старушки, И тюльпанов продавцы. И прохожие, услышав, Эту песенку весной, Напевают, подпевают, Не торопятся домой, А над улицей взлетают, И над городом парят, И не важно им, что люди Не летают, говорят. А вдали – звенят трамваи, И с восторгом лают псы, И стучит Огромный город Как весенние часы!Жили бабушки в реке
Жили бабушки в реке, Возле старой ели, И на рыбьем языке Говорить умели. Не ловили мотыльков Солнечными днями, Любовались на мальков Где-то под камнями. Пели бабушки в реке, Около затона, И сажали на песке Травы для бульона. Не готовили к зиме Валенки с коньками, А катались на соме Между островками. Суп варили на росе Престарелым щукам. И скучали Все, все, все По далёким внукам, И болотным, И речным, Синеглазым, Водяным!Книжный обзор в мини – рецензиях От Эмиля Сокольского:
Лета Югай. Забыть-река.
М.: Воймега, 2015
Лета Югай и раньше была склонна смешивать миф и реальность, – что придавало её стихам особое обаяние. А в этой книге первый раздел так прямо и называется: «Записки странствующего фольклориста», – значит, мы имеем дело с поэтизацией фольклора, с его литературной обработкой?
Так, да не совсем. Конечно, опирается на фольклор – но дело мы имеем с чистой поэзией. Анна Ахматова писала, что стихи растут из сора, Инна Лиснянская уточняла: нет, не из сора, а из ничего; а вот стихи Югай – выросли из фольклора; но фольклор в них остаётся лишь фоном (и фоном очень интересным!), однако не фон у неё главное – а дыхание поэтических строк:
Ходит по небу пастух, одет в глухие меха. Самого почти не видать в тёмном небе густом. Он улыбкой похож на нашего пастуха, Только телом чёрен да крутит тонким хвостом.Во второй части книги – стихи, рождённые из глубины души: Лета Югай гармонично беседует с нами негромко и доверительно, один на один, делясь своими фантазиями, наблюдениями, впечатлениями…
Вадим Месяц. Стихи четырнадцатого года.
М.: Водолей, 2015
Стихи Месяца – цепь причудливых ассоциаций, неожиданные перемещения во времени – от мифологического, фольклорного до нынешнего, вполне реального. Впрочем, что такое реальность в стихах Вадима Месяца? Это воображение, вереница больших и малых событий, случаев, ситуаций, в которых не сюжет как таковой главное – а главное взгляд изнутри сюжета. Да, основное действующее лицо в стихотворениях Meсяца – сам автор-наблюдатель. Когда бы что в них ни происходило – всё так или иначе происходит одновременно и сегодня. Поэт собирает воедино, в одну дружескую связку, разные, порой незнакомые друг с другом предметы и явления; перетасовывает их, превращает одно в другое, как, например, в стихотворении «Часовой»: «Взгляд над рекой обратится в сухую пыль,/ рассыпаясь пеплом в бескрайний ночной Подол, / и упадёт у часовенки, как костыль, / будто хромой исцелился и в лес ушёл».
В «Стихах четырнадцатого года» есть и балладные, и песенные, и притчевые, и элегические мотивы, – часто – с мистическим налётом; в них всегда зияют тревожные пустоты невысказанного, веет космическим холодком.
И ещё. Книга – отчасти трагическая. «Ты, как дитя, очарован / пожизненным раем/и незаметно вступаешь/в безжизненный рай»; «И камня с моей души /никому не снять./И душу уже не выпустить/на свободу»; «что мне счастье расточительных слов / светлый морок ослепительных слёз / если вспомнить свой оставленный кров / лёгкий шелест новогодних стрекоз»… Такие ноты мы встречали в книге Месяца «Безумный рыбак», которая рождалась в душевно-тяжёлые для поэта дни. Если и четырнадцатый год был для поэта непростым, то новый сборник говорит о том, что душа, несмотря ни на что, всё-таки выпущена на свободу и что счастье расточительных слов побеждает любые душевные разлады.
Сергей Шестаков. Другие ландшафты.
M.: ateiier Ventura, 2015
Тональность книги можно определить как «счастья неясные знаки» (слова из стихотворения цикла «Маленькие галльские элегии»): её составляют в основном короткие, в восемь строк, стихотворения. Они так легки и воздушны, что воздействуют на меня физически: при чтении дышится свободней, на душу нисходят совершенный покой и тихая радость, «ладони прозрачны, зрачки, что две бездны, черны,/ вода голубее, синица желтее над вербой, / и небо такое, как будто мы все прощены / до первой печали, до утренней горечи первой», – в этих строках и полётное счастье, и предчувствие печали, и напоминание о горечи, а всё вместе – чистая гармония, просветлённость, – то, к чему и стремится настоящая поэзия. Автор путешествует, перемещаясь из одной части света в другую – и всегда с большим запасом тишины в душе, всегда готовый останавливать мгновение, улавливая, как сверхчувствительная антенна, все краски, запахи и звуки. Его миниатюры напоминают нежных тонов росписи по эмали, или – отражения в недвижных, задумчивых зеркальных водах. Впрочем, элегиям Шестакова (а почти все стихи в книге названы элегиями) не чужды и динамичные цветовые контрасты, легкая взволнованность: синева прорвётся с балтийским ветром/ через все прорехи скупой зари,/ и зима изумлённым наполнит светом/ полусонные карие янтари»… По прочтении книги Сергея Шестакова некоторое время не хочется читать других авторов.
От Германа Власова:
Юлия Белохвостова. Ближний круг.
М.: Перо, 2015
Идея книги Юлии Белохвостовой объясняется самим названием: ближний круг – движение солнца, годичные кольца, движение воздуха, увлекающее в центр яркие события для сохранения их в памяти. «Очерченный давно», он замкнут так, что «не видно стыка» и здесь «зима корнями сплетена с весной» для его прочности. Очерченные кругом – лирический герой, берег, море (Московское), рыбалка, цветы (флоксы, пионы), главный корабль и Sagrada Familia, а еще варенье из райских яблок и папина яблоня (пожалуй, главное стихотворение книги): «Вот эту яблоню за домом я помню дольше, чем себя…» Возможно, творчество (помимо благодарности Создателю) и состоит в том, чтобы воскрешать (по мысли В. Гандельсмана) ушедших близких и радоваться исполнению их планов: «Тот год, когда мы проводили отца, был яблочно богат. ‹…›… и яблоня библейской Саррой воспрянула и понесла – согнулись ветки под плодами, не в силах с ношей совладать, а в доме пахло пирогами, а в сердце стала благодать». Автор неравнодушен кживописи и впечатления от полотен передают ихдинамику: «… Полушубки, полушалки,/ смех и крики в стороне,/ а смельчак в высокой шапке/ в городок влетает шаткий/ на хрипящем скакуне <…">. («Взятие снежного городка»).
Интересно, что над калейдоскопом событий, этой подвижной мозаикой ближнего круга есть свой ангел (ангел-флюгер): «В городе, распластавшемся подо мной,/ Каждой мольбы прерывистый шепот слышу:/ Мимо меня не сбудется ни одной,/ Нет никого над городом этим выше.//Что ж из того, что флюгером я кружу:/ Как на таких ветрах оставаться стойким?/ Господи, ты же знаешь, что я прошу/ Не за себя. Спаси, сохрани – и только».//
Вольдемар Вебер. Продержаться до конца ноября.
М.: Русский Гулливер, 2014
Стихи Вальдемара Вебера, известного также своей прозой и переводами, сродни верлибрам русскоязычного Арво Метса – та же редкая лаконичность, емкость, меткость. Главное это то, что за скупыми зарисовками стоит настоящая жизнь – горькая, правдивая, удивительная и неповторимая: Там, в глубине России,/ мы не ждали известий./ Прикладывали ухо/ к рельсам железной дороги,/ к стенам разрушенных монастырей/ и слушали, слушали…//
Опыт жизни (часто невозвратимой), артефакты эпохи и память, незамутненная обидами, говорят о человеческом и внеременном. Когда важно увидеть «перышки на карнизе» и «нерожденных детей» во сне; сказать, сравнить душу с «пейзажем с чертополохом», вспомнить, как был заворожен в детстве «быстрым движением весенним ручьев», а «по вечерам – их неподвижностью» и поверить в то, что Создающий их тоже любит отдыхать.
Вообще, Веберу свойственно (почти по Ходасевичу) ощущение «непрочной грубости» жизни и отсюда – начало его юмора: Потомки их жертв/ гуляют среди них без опаски,/ как овцы среди каменных львов.// (Поселок заслуженных большевиков)
Время третьей книги стихов Вебера – нелинейно, стихи здесь – схолии, пометки на полях. Порядок не важен, ибо случай может оборвать любую жизнь и здесь поможет умение замирать и вслушиваться в умную тишину, роднящую такие разные судьбы: Состояние счастья – / путешествие по кромке пропасти./ Счастливым с печальными глазами/ ведомо это.
Примечания
1
Геннадий Леонидович Каневский. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Работает редактором корпоративного журнала. Автор шести книг стихотворений. Публиковался в российской и зарубежной периодике и поэтических альманахах. Победитель турнира Большого слэма 2007 г. (в паре с Анной Русс). Лауреат Петербургского поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» (2005), независимой поэтической премии «П» (2013), премии «Московский наблюдатель» (2013), премии журнала «Октябрь» (2015).
(обратно)2
Анна Александровна Фуникова – поэт, переводчик, эссеист, член Правления МОО СП России. Автор шести сборников стихотворений и документальной «Книги памяти жертв политических репрессий жителей города Электросталь». Лауреат премии им. Р. Рождественского.
(обратно)3
Пушкин Лев Анатольевич, бывший вице-губернатор Оренбургской губернии, похоронен на Покровском кладбище Владивостока в январе 1920 г.
(обратно)4
Людмила Александровна Волкенштейн (1857-1906), узница Шлис-сельбургской крепости. Похоронена на Мемориальном Покровском парке.
(обратно)5
Айзенберг Михаил Натанович – поэт, эссеист. Родился в 1948 г. в Москве. Работал архитектором-реставратором. Автор восьми книг стихов и четырех книг эссе. Лауреат Премии Андрея Белого (2003), премий журналов «Знамя», «Стрелец», «Новый мир» (Anthologia). Живет в Москве.
(обратно)6
Здесь и в конце II части река – Миссисипи. Элиот родился и вырос в Сент-Луисе, шт. Миссури, городе при слиянии Миссисипи и Миссури.
(обратно)7
Ср.: «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра, более, нежели стражи – утра», Пс, CXXIX, б.
(обратно)8
В славословии англиканской службы: «As it was in the beginning, is now and ever shall be».
(обратно)9
Рыбаки, занятые ловлей трески на знаменитой, часто туманной Большой Ньюфаундлендской банке.
(обратно)10
Символ грехопадения.
(обратно)11
124 и ел.: реминисценция из Бхагаватгиты.
(обратно)12
Второй эпиграф из Гераклита к поэме Четыре квартета: οδός άνω κάτω μία και ώυτή [ «Путь вверх и путь вниз – один и тот же»].
(обратно)13
Бхагаватгита, VIII, б.
(обратно)14
Бхагаватгита, II, 47.
(обратно)15
Ср. «Virgine madre, figlia del tuo figlio» [ «О Дева-Мать, дочь своего же Сына»], молитва св. Бернарда – Данте, Рай, XXXIII, 1.
(обратно)16
Ср. «… la Regina del cieLo» – Данте, Рай, XXXI, 100.
(обратно)17
Католическая молитва о Благовещении.
(обратно)18
Ср. хоры в мистерии Элиота The Rock [Скала]: «… a moment in time and of time, A moment not out of time, butin time, in what we call history…»
(обратно)





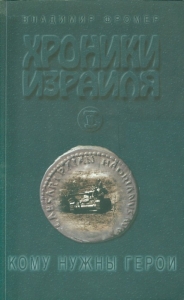
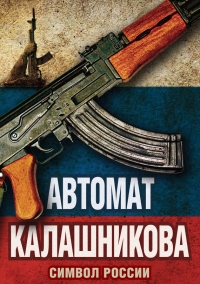


Комментарии к книге «Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2016», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев