Юрий Александрович Федосюк Утро красит нежным светом…: Воспоминания о Москве 1920-1930-х годов
Предисловие
Многие догадаются, но читатели младшего поколения могут и не понять, почему книга воспоминаний моего отца о Москве 1920– 1930-х годов названа «Утро красит нежным светом…» Долгие годы в Советском Союзе была очень популярной песня на стихи поэта В. Лебедева-Кумача «Москва майская», которая начиналась так:
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом Вся советская земля. Холодок бежит за ворот, Шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, Сердце Родины моей!В песне говорилось о весенней красавице Москве и о москвичах, весело и радостно встречающих праздник Первомая.
Некоторые сборники, в которых напечатан текст этой песни, указывают и год ее создания – 1937. Мы помним, что тот год был одним из самых тревожных в истории нашей страны. По всему Советскому Союзу шли санкционированные Сталиным массовые репрессии против ни в чем не повинных людей, многие семьи уже успели получить уведомления о том, что «за антисоветскую деятельность» их родные и близкие приговорены «к 10 годам заключения без права переписки». Лишь пять десятилетий спустя стало достоверно известно, что эта формулировка обозначала немедленный, сразу же после вынесения приговора, расстрел.
А за рубежами нашей страны тем временем сгущались тучи грядущей Второй мировой войны…
Мне кажется, что обо всем этом – и радостном, и тревожном – как раз и говорится в книге, которую вы сейчас держите в руках.
В ней рассказывается о том, какой была наша столица примерно в те годы, о которых В. Лебедев-Кумач написал свою песню, и как жили в то время москвичи. Некоторые страницы этой книги проникнуты светлым настроением. Возможно, это потому, что люди в то время и вправду почему-то гораздо чаще испытывали радость и душевный подъем, а может быть, из-за того, что автор вспоминает о днях своей молодости, а такие воспоминания всегда «красят нежным светом» повествование. Другие страницы книги печальны – вероятно, оттого, что жизнь в те годы действительно была полна лишений и тревог, но, может быть, и потому, что автор пишет о безвозвратно ушедшем…
Знаете ли вы, какие игры были популярны среди юных москвичей в 1920—1930-е годы? А где и как проводили свое свободное время взрослые? Представляете ли себе, во что одевались тогда жители Москвы, как выглядели московские улицы и магазины? Известно ли вам о том, что неделя в нашей стране далеко не всегда состояла из семи дней и имела единый для всех выходной день – воскресенье? А то, что в конце 20-х – начале 30-х годов в стране были запрещены не только религиозные праздники, но и обычные новогодние елки? Если нет, то обязательно прочитайте эту книгу!
Книгу написал Юрий Александрович Федосюк (1920–1993), журналист, филолог и историк, хорошо известный своими книгами по этимологии русских фамилий (Что означает ваша фамилия? – М., 1969; Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. – М., 1972; переиздано в 1981, 1996 и 2002 гг.) и по истории Москвы (Бульварное кольцо. – М., 1972; Лучи от Кремля. – М., 1978; Москва в кольце Садовых. – М., 1982; переиздано в 1991 г.).
В 1998 г. в издательстве «Флинта» вышла первым изданием книга Ю.А. Федосюка «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века». В ней автор рассказывает о тех чертах культуры и быта прошлого, упоминания о которых могут быть непонятны нашему современнику при чтении русской классики. Вот названия некоторых глав этой книги: «Народный календарь», «Меры и веса», «Как одевались», «На чем передвигались», «Быт и досуг». Внимательный читатель легко заметит, что книга, предисловие к которой он читает сейчас, немного похожа на книгу «Что непонятно у классиков», даже названия глав перекликаются друг с другом. Перед вами тоже своеобразная энциклопедия особенностей быта прошлого – прошлого, гораздо более близкого к нам по времени, но тоже во многом уже забытого.
Завершая это предисловие, хочу сделать одно необходимое предупреждение. Книга «Утро красит нежным светом…» была написана в самом начале 1990-х годов. Многое в Москве за это время переменилось, и потому читателю следует иметь в виду, что то «сейчас», о котором пишет автор, – это чаще всего «сейчас» 10-летней давности, а не наш сегодняшний день. При подготовке книги к печати я стремился не перегружать ее примечаниями, но там, где это совершенно необходимо, все-таки сделал их.
М.Ю. Федосюк
1 Начало
4 августа 1925 года во дворе дома № 8 по Казарменному переулку в Москве случилось маленькое, но очень важное для меня событие: к подъезду № 1 подкатили сразу три извозчичьи пролетки с нашим семейством (пять человек), встречающими и с самыми необходимыми вещами. Остальное следовало багажом. Резинотрест, где работал отец, которого перевели из Ленинграда в Москву, предоставил нам отдельную квартиру из четырех небольших комнат.
Ехали мы с Ленинградского вокзала, который в ту пору по традиции всё еще называли Николаевским, хотя официальным именем его было Октябрьский. После прямолинейного, строгого Ленинграда, относительно тихого, благодаря мостовым, сложенным из деревянных торцов, Москва оглушила грохотом повозок, удивила прихотливыми поворотами кривых улиц, суетливым многолюдьем.
Мы поднялись на второй этаж, на один лестничный пролет, и вошли в квартиру № 3. Тут же была раскупорена бутылка шампанского по случаю сразу двух событий – новоселья и 43-летия отца. Последнее подтверждает дату, когда из недолговременного ленинградца я превратился в москвича. А было мне пять с половиной лет.
Ровно через 16 лет, 7 августа 1941 года (как писал поэт Самойлов – сорок скверного года), из той же квартиры, по той же лестнице, я, недоучившийся студент, с повесткой в кармане и с рюкзаком на плечах отправился на призывной пункт. Оглянулся на дом, на подъезд не без грусти: вернусь ли?
Через четыре года, 3 сентябре 1945 года, вернулся – из Германии, в тот же подъезд, ту же квартиру, неразрушенную, неуплотненную, с тем же составом семьи. Повезло, как не многим из моего поколения.
Пусть не обманут эти начальные, сугубо личные строки читающего: далее последует не автобиография (мало кому интересная) и не исповедь (никем не требуемая). Буду писать не о себе, а о своем времени» быте, Москве, какой я её помню в детстве и юности. О незаметных подчас изменениях в жизни города, страны, судьбах соотечественников. Но не по книгам или другим письменным источникам, а через призму собственной памяти. Потому что личная память, не излитая на бумагу, умирает сразу же с человеком, написанное же «мой прах переживет и тленья убежит». Без памяти даже самых обычных, рядовых людей нет полноценной истории. Официальная же история, как правило, социологическая схема. Это дама очень важная, она пренебрегает мелочами. Лес из могучих стволов, с листвой, но без отдельных листочков, с фауной, но без конкретных птичек, насекомых, белочек. А ведь в них-то главная прелесть леса.
Пусть личный опыт каждого мал и узок, но без него история обеднена, обескровлена.
Постараюсь писать об интересном. Тут затруднение: то, что любопытно мне, другому безразлично. Ровесники скажут: «Это мы и без тебя помним», новые поколения – «Какое нам до этих мелочей дело?» Кто подскажет критерий отбора фактов? Никто, это дело совести и чуткости самого автора.
Особенно важны те мелочи, которые пока никем не записаны и уже сегодня прочно забыты. Можно и в малом увидеть значительное. Иначе это малое может потонуть в Лете – мифической реке забвения. Суровые медики использовали ее название для мрачного термина – «летальный исход». Они правы: смерть – это прежде всего забвение, утрата накопленного в памяти. Люди смертны, но то, чему они были свидетелями, есть частица бытия всего человечества и не имеет права бесследно исчезнуть в Лете. А ведь сколько уже, наверное, исчезло! Историки спорят о крупных фактах, которые могли бы быть восстановлены через частности, будь они где-то зафиксированы.
Итак, Москва 1925—1930-х годов. По поводу первой даты предвижу скепсис: что может запомнить пятилетний ребенок? О большой истории – почти ничего, о ближнем, окружающем – многое. Хорошо помню себя с трех лет, даже сидячую колясочку, в которой меня возили. Коляска – пустая мелочь, а вот ленинградское наводнение 1924 года, равное тому, что случилось за сто лет и описано Пушкиным в «Медном всаднике», помню хорошо. Страшные те дни прочно врезались в детскую память, когда-нибудь опишу.
А сейчас о Москве, о нашем доме и дворе, о первых московских впечатлениях.
2 Наш дом и двор
Восприятие ребенка своеобразно. Он наблюдает только то, что вблизи него, – это минус, зато наблюдает гораздо пристальнее, чем взрослый, – это плюс. Земля с её травкой, камушками, запахами гораздо ближе ребенку, чем взрослому, и дело здесь не только в малом росте – для ребенка все это заметней и обозримей. Новизна впечатлений, свежесть восприятия превращает каждую мелочь в нечто значимое и глубоко пронзающее душу. Вот ползет между травинками земляной червь – ребенок долго будет наблюдать за извивами его движений, уследит, когда и как залезет он в неприметную земляную норку. Упавший с дерева лист, повинующийся незаметным дуновениям ветра, травяная тля, неторопливо ползущая по стеблю растения, стайка воробьев, живущая своей подвижной и непостижимой жизнью, – все это составляет микромир ребенка, надолго запоминается, снится по ночам, рождает десятки вопросов.
Все когда-либо видели: идет усталая, измученная мать, тянет за руку ребенка, ей некогда, а маленький человечек не спешит – ему так важно рассмотреть какую-то птичку, картинку на стене, бабочку, до которых матери никакого дела нет. Мать и сын – не столь различны интересы, как несходен внутренний мир!
Постепенно от земли взор поднимается ввысь, раздвигается вширь. Это тоже образование, без книжки и указки, но очень важное – стихийное накопление знаний, жизненного опыта. Родители не уделяют этому внимания, ребенок чувствует их отчужденность и глухоту к его интересам, растет стена непонимания. На иной наивный вопрос взрослые реагируют смехом – ага, лучше впредь не задавать, пусть останется во мне, когда-нибудь сам уясню. Родителям важно лишь самое неинтересное: чтобы вовремя кашу поел, не забыл на горшок сходить.
А детские фантазии, грезы, страхи, подчас вовсе необъяснимые, причудливые и алогичные, как сны! Это ребенок чаще всего держит в себе, как тайное тайных, непостижимое многоопытными и всезнающими взрослыми. И какой-то интерес не к простому, обычному, а к страшному – к кровожадным сказкам, рассказам об опасностях, грозящих маленьким детям. Нет таких опасностей – придумаю сам, почти в них веря. Вот на краю двора какая-то темная яма – не живет ли в ней коварный Бармалей или дракон, утаскивающий детей? Страшно, но тянет посмотреть, чуть какое-то движение почудится в яме – бежать. Но опять возвращаешься, чтобы испытать таинственное и сладостное чувство страха. Лишь бы остаться в невредимости!
Взрослые это отметают как детские причуды, а сами тянутся к страшным детективам, к рассказам о привидениях, к чертовщине Эдгара По… Чем объяснить эти тайны человеческой психики, рождающиеся еще в раннем детстве?
Пишу об этом потому, что сам испытал всё это ребенком, в частности в нашем московском дворе.
А двор ничего загадочного собой не представлял: три голокирпичных высоких корпуса, расположенные в одну линию, объяты узкими асфальтированными полосами, рядом с которыми – незримый, всегда запертый подвал. Ниже полос – остатки старинного сада, вытоптанного почти до полного бестравья. Невысокий кирпичный барьер ограждает асфальтированный двор от сада. Барьер используется жильцами как сиденье. Здесь молча восседают старики, попыхивая «козьими ножками», отдыхают от подвижных игр ребята, к вечеру рассаживаются болтливые дворовые кумушки.
Наш корпус – в самой глубине двора, ближе не к Казарменному, а к Дурасовскому переулку с его областной милицией. Позднее узнал, что фанерный фабрикант Панюшев начал застраивать обширный купленный им участок с нашего корпуса, потому с него началась нумерация квартир, третий же корпус, нарядный, отделанный плитками, выходящий на Казарменный переулок, построен был последним, и номера квартир в нем носили числа за 90 и даже 100.
В Гражданскую войну наш подъезд полностью выгорел – так рассказывали старожилы. Обгоревшую часть корпуса откупил и восстановил Резинотрест. Проект составил молодой архитектор Резинотреста Рухлядев. Позднее он строил здание речного вокзала в Химках, В 1925 году корпус был готов, мы были первопоселенцами квартиры, если не считать того, что временно в ней помещался детский сад.
Наш подъезд заселили работники Резинотреста. «Спецы» и начальники получили по отдельной квартире на семью, малосемейные начальники рангом пониже заняли квартиры по двое. Первый (полуподвальный), шестой и седьмой этажи были густо заселены рабочим классом: вдоль узкого коридора – крохотные комнаты, как каюты на пароходе, общие кухня, ванная, уборная.
Жилищное неравенство, таким образом, было налицо, но не помню ропота: рабочий люд исстари привык к мысли, что всякому сверчку – свой шесток. Одно дело – люди образованные, руководящие, которые «с пбртфелями ход ют», другое дело они, простые, малограмотные работяги. Только после войны, точнее после 1953 года, подвальные и верхнеэтажные пролетарии или их уже выросшие дети получили отдельные квартиры, равноценные тем, что получала интеллигенция, – разумеется, уже в новых домах.
Итак, дом наш был семиэтажным – по тому времени редкость. В это не сразу верилось; задрав голову, считал: раз, два, три… сбивался, снова считал: да, в самом деле, семь. Это вселяло гордость, таких домов вокруг не было. Мы, маленькие обитатели дома-гиганта, хвалились высотой нашего жилища перед ребятами соседних малоэтажных домов.
Над домом простиралось только голубое, замешанное белыми облаками небо. Иногда с глухим гулом его пересекал самолет, в ту пору именовавшийся аэропланом. Это сразу же отвлекало от игр и других наземных интересов, взоры устремлялись ввысь («Где он? Ах, вон, вон!»), и дети исступленно скандировали немудреный стишок:
Ироплан, ироплан, Посади меня в карман, Из кармана упаду, Всю головку расшибу.О этот примитивный дворовый детский и полудетский фольклор! Почему он так цепко влезал в детские души, запоминался раньше и прочнее чарующих стихов и сладостных песен? Здесь, наверное, сказывалась неискушенность детской души, легко подпадавшей под обаяние простейших слов, четкого ритма и чеканных рифм.
Стоило закапать дождю, как дети хором декламировали стихи, наполовину им непонятные:
Дождик, дождик, перестань, Мы поедем на Рязань, Богу молиться, Христу поклониться.Ловили паука, отрывали ему ногу, оторванная конечность импульсивно делала гребущие движения. На это тоже был стишок:
Коси, коса, Пока роса.Вот попалось в руки крохотное красное насекомое – божья коровка. Если паук – злой, то это – Божье существо, давить и мучить его грех – так объясняли взрослые. Наглядевшись, можно было сказать:
Божия коровка, Улети на небо, Принеси нам хлеба.А она не летит, хоть крылышки есть. Дунешь – упадет, куда-то исчезнет. Какое там небо! И откуда надежда, что такая маленькая тварь может принести с небес хлеба? Может быть, это древнее языческое поверье: благословенное насекомое может вымолить у Даждь-бога дождь с неба, то есть обеспечить людей урожаем?
Были и дразнилки. Не расслышишь сказанного, спросишь: «Чего?» – последует ядовитый стишок:
Чего, чего. Села баба на чело И кричит: «Чего? Чего?»В школе я узнал, что «чело» означает «лоб», и счел стишок совсем бессмысленным, но потом выяснилось, что в деревнях челом называют отверстие в русской печи, на которое и в самом деле можно усесться.
Обидчика часто дразнили так:
Колька-Колястик, Вшивый поросястик!Конечно, это «модель»: вместо Колька можно было вставлять любое имя, в том числе женское.
Играли и с девочками, но постепенно такое общение стало рассматриваться как зазорное. Чуть детвора заметит, что мальчик слишком много времени проводит с девочкой, начинается перешептыванье, а потом внезапно оба оказываются в центре круга, издевательски декламирующего:
Тили-тили-тесто, Жених и невеста, Тесто засохло, А невеста сдохла.А то какой-нибудь балбес постарше подойдет к маленькому и с невинным видом попросит:
– Скажи «стакан».
– Стакан.
– Твой отец таракан.
Очень обидно становится, но балбес не унимается:
– Скажи «веревка».
– Веревка.
– Твоя мать воровка! Э-э, слышали? Его мать воровка! Он сам сказал.
От старших ребят можно было услышать стихи посложнее, да и позабористей. В ходу был, например, такой куплетец, произносимый многократно, громко и нараспев:
Товарищи, внимание! На нас идет Германия, Французы ни при чем — Дерутся кирпичом.Эта чушь, бесспорно, отголосок недавно прошедшей Первой мировой войны, а может быть, и немецкой оккупации, последовавшей после Брестского мира. Доставалось и американцам:
Один американец Засунул в ж… палец И думает, что он Завел свой граммофон.Подрастая, я всё большее участие принимал в дворовых детских играх. Они передавались – без изменения правил – от старших к младшим, быстро вспыхивали и так же быстро угасали, заменяясь другими. Игр было десятки, казалось, что они бессмертны; куда же они все или почти все бесследно исчезли? В современных дворах играют всего в какие-либо три-четыре игры. Загадка для социологов и психологов: почему так мало стало групповых игр?
На первом месте стояли уцелевшие до наших дней салки – в Ленинграде они называлась пятнашками. Дотронуться до другого означало осалить его, в Ленинграде – запятнать. Второе место занимал «штандер» – игра с мячом: как только водящий произносил: «Штандер!», все обязаны были замереть на месте, а тот, в кого попадал мяч, становился водящим. Жмурки и прятки не требуют пояснений. Интересны были варианты пряток – «обознатушки», когда прячущиеся менялись какой-либо частью одежды, дабы водящий назвал не то имя и продолжал водить, а также «двенадцать палочек». На доску-рычаг накладывались 12 маленьких палочек, затем кто-нибудь нажимал на конец доски и палочки разлетались в разные стороны. Водящий, прежде чем пойти искать, обязан был найти и вновь разложить на доске палочки, в это время играющие прятались. Самым эффектным было, воспользовавшись тем, что водящий далеко отошел от доски, подкрасться к ней и вновь нажать на её конец – ему снова приходилось собирать палочки, неловкого «заваживали» и доводили до слез.
Часто в этих случаях в окне появлялась мама неудачника и говорила:
– Ребятки, что вы над ним издеваетесь? Иди, Котенька, домой, брось эту глупую игру, я тебе конфетку дам.
Играли в кошки-мышки, чижика, вечный коридор, круговую веревочку, лапту, казаки-разбойники, горелки – игры, подчас довольно сложные и известные современному поколению только по названиям да по упоминаниям в классической художественной литературе. В горелки играл Нехлюдов с юной Катюшей в «Воскресении» Льва Толстого; как много теряют нынешние читатели, не зная содержания этой прекрасной игры, столь лирически описанной Толстым. У меня же до сих пор в ушах звенит припев горелок:
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо — Птички летят, Колокольчики звенят. Горим!И начинается перебежка горящих, спасающихся от ловцов.
Специфически девичьими играми были бессмертные «классы», родившиеся едва ли не в Древнем Риме и распространенные, как я узнал, во всем мире: от Гренландии до Аляски и от Новой Зеландии до Латинской Америки. Любили девочки играть с мячом у стенки в игру, называвшуюся «девять-десять», во всякие соревнования со скакалкой.
Игр с пением было немного, одна из них начиналась с того, что кто-нибудь (водящий, определенный по «считалке») садился на корточки в центре круга из участников игры, которые пели:
Сиди, сиди, Яша, Под ореховым кустом, Грызи, грызи, Яша, Орехи каленые, Медом начиненные…Дальнейшие слова, да и самый смысл игры я забыл: кажется, водящий Яша должен был выбирать себе невесту из круга или ловить кого-то. Сходной игрой была «корзиночка», которая запомнилась благодаря нудно-сентиментальному тексту и мотиву. Дети – непременно нечетное число – становились в круг, один выходил из круга и выбирал себе пару. При этом крут пел:
В этой корзиночке много цветов, Я принесла их из разных садов, Розы, фиалки, лилии там есть, Всяких цветочков в корзиночке не счесть.Далее стихи принимали несколько эротический характер:
Маятник качается, Двенадцать часов бьет, Петя просыпается и к Лидочке идёт. Лидочка, Лидочка, как вы хороши, Любит вас Петенька ото всей души.Имена, разумеется, соответствовали водящему и его избраннице.
Круг сохранялся, но постепенно переформировывался: рядом, взявшись за руки, стояли парочки. Последнюю участницу, никем не избранную, выгоняли на всеобщее позорище в центр круга и издевательски пели:
Наша корзиночка стала пуста, Лысая крыса осталась одна.Жестокая игра! «Лысая крыса» начинала горько и безутешно рыдать. В эту игру, по идее общую, играли чаще всего одни девочки, мальчишки презирали её как бабски сентиментальную. Девочки же часто затевали «корзиночку» для сведения личных счетов, заранее договариваясь, кого оставить «лысой крысой».
Любопытно другое: 50 лет спустя мне попались в руки тексты песен из популярнейшей в пушкинское время оперы Геснера «Леста, или Днепровская русалка». Эту оперу Пушкин цитирует в «Евгении Онегине» («Приди в чертог ко мне златой!..»), не без ее влияния написана пушкинская «Русалка». Уже к середине прошлого века «Леста» была прочно забыта. Но один из ее хоров, как я прочитал, начинается словами:
В этой корзиночке много цветов, Я принесла их из разных садов.Вот какой долгожительницей оказалась «Леста», вернее пара ее бездарных стихов. Впрочем, уже давно игра «корзиночка» вышла из обихода.
Ребята постарше иногда и фал и в городки, вообще же игры, требующие сложного снаряжения, не практиковались – видимо, из-за всеобщей бедности. Катка во дворе не было, зато короткое время была земляная гора со ступеньками, сохранившаяся с дореволюционных времен, – специально для катания зимой на салазках. Гора памятна мне тем, что в пятилетнем возрасте, катаясь с нее, я свалился с салазок, ударился головой об острый угол полозьев и долго ходил с пластырем на темени. Вскоре гору эту срыли.
Став постарше, я увлеченно играл во дворе в футбол, пока родители мне это не запретили: игра сопровождалась отчаянным и всеслышимым матом: футболисты были ребята тертые и отчаянные, почти все – с соседних дворов, пользующихся недоброй репутацией.
Много в нашем подъезде было детей бедных, полуголодных. Ходили они по-нищенски одетые: мальчишки – в драных, полу-длинных штанах, девочки – в вылинявших, застиранных ситцевых платьицах. Дети рабочих, выходцев из подмосковных деревень, многие на лето исчезали: «Я к бабушке в деревню поеду». Но многие оставались на всё лето в городе: пионерские лагеря в 1920-х – начале 1930-х годов были редкостью. С началом коллективизации всё меньше детей уезжали к бабушкам и дедушкам в деревню – не до них там было. Напротив, стали появляться ребята из деревни, которых сельские родители подкидывали на прокорм городским родственникам. Так появился однажды летом в нашем дворе Коля – хороший, порядочный парень, одетый в какие-то страшные лохмотья и вечно босой. Выяснив, что он послан на лето родителями-колхозниками, весь двор стал называть его Колхозник. Так звали его повседневно и вовсе не со зла – просто по месту происхождения. Он охотно откликался и играл вместе с нами. Только потом я понял, какой скверной пропагандой колхозов звучала эта кличка в применении к тощему, оборванному подростку, внешне выделявшемуся среди городских ребят. А ведь и городские были одеты не Бог весть как, так сейчас никто детей не одевает.
Иногда под нашими окнами раздавался детский крик, обращенный куда-то на шестой или седьмой этаж:
– Маму-у! Маму-у!
Не скоро сверху раздавался отклик:
– Ну чего тебе?
– Маму-у! Кинь хлебушка!
– Меньше бегай, а то на вас не напасешься! Скоро обедать.
– Ну, мамочка, хоть маленький кусочек. Очень есть хоцца.
Как правило, мать смягчалась и выбрасывала ломоть хлеба, обернутый в бумажку. «Хлебушек» немедленно поедался.
Конфеты были редким лакомством даже для нас, детей обеспеченных родителей. Конфеты ирис продавались поштучно каким-то торгашом у ворот. Стоили они копейку. Помню, с какой радостью я бежал за ириской к воротам, получив как премию копейку.
Брат отца дядя Миша, приходя к нам в гости, непременно приносил мне с сестрой дорогие конфеты «Мишка косолапый» – каждому по одной. Как радовались мы этому роскошному подарку!
Некоторые жильцы нашего подъезда – инженеры-спецы – уезжали на год-два в заграничные командировки. Сами они и дети их возвращались неузнаваемыми – во всем новом, «заграманичном», как тогда говорили. Я иногда, присаживаясь на барьер, прислушивался к разговорам рабочих – жильцов нашего дома. Из обмена мнениями явствовало, что заграница в представлении беседующих – рай обетованный. Даже если люди возвращались из какой-нибудь Турции или Бразилии. Все любили Россию, никуда не стремились уехать, но были твердо убеждены, что вечный удел России – бедствовать, так уж ей на роду написано. Расспросы приехавших подтверждали миф о зажиточной заграничной жизни. Укрепляли это представлении и импортные фильмы.
Кстати, представление это живуче и в наши дни. В чем секрет? Думается, не только в лучшем качестве заграничного ширпотреба, не в хороших условиях, предоставляемых нашим загранработникам. За границей я тоже видел богатые витрины, прекрасные товары, отличную технику. Но видел я там и немало приехавших из разных стран в поисках куска хлеба бедолаг, завидовать которым не приходится. Секрет во многом в том, что Россия никогда не видела бедного иностранца. Никакой араб или перс не приезжал в Москву без денег, в поисках работы. Приезжали с капиталами, а увозили гораздо больше. Даже московские китайцы, державшие прекрасные прачечные, жили великолепно – покуда их всех не выслали кого куда.
Только сейчас, когда Москву заполонили небогатые азиаты, африканцы и иные представители «третьего мира», заграница в умах россиян стала дифференцироваться. Да, есть богатые и есть бедные страны. Но Европа и Америка сохраняют свое реноме. В 1920-е же годы, когда наша страна еще не оправилась от двух войн и огромные средства отдавала на индустриализацию, контраст между россиянином и иностранцем или человеком, вернувшимся из-за границы, был разителен.
Многие спецы нашего дома, побывавшие за границей, и их семьи в 1937–1938 годах горько об этих поездках могли пожалеть. Они поплатились свободой, а то и жизнью. При всеобщей шпиономании пребывание за границей было хорошим поводом, чтобы быть обвиненным в том, что там тебя завербовали. Любопытна реакция простого люда на арест соседа-спеца: «Из-за чего бы это его забрали? Вроде порядочным человеком всегда был. Ах да, ведь он за границу ездил!» Всё становилось на места, да и самому дышалось легче: «Я-то не был, меня не заберут». Так складывался столь же странный, сколь и стойкий стереотип мышления.
Продолжу о дворе. Кроме игр бытовали и индивидуальные развлечения. Велосипеды были наперечет, только у некоторых юношей из зажиточных семей. Ни у меня, ни у сестры велосипеда, даже трехколесного, никогда не было. Обещали купить, да так и не купили. Дети, приезжавшие с родителями из-за границы, катались на привезенных «самокатах», иначе роллерах. Роллеры сверкали хромом и восхищали тщательностью отделки. Их владельцев одолевали просьбами: «Дай прокатиться, хоть немножечко». Но счастливые обладатели великолепных машин были скупы и осмотрительны: одолженный роллер мог уехать далеко и не возвратиться вовсе. Появились самодельные, грубо сколоченные самокаты; именно самокаты, изящное слово «роллер» к ним никак не подходило. Наша промышленность освоила эту нехитрую игрушку не скоро, теперь она вышла из моды. Вероятно, не выдержала конкуренции со ставшими более доступными велосипедами.
Мальчишки катали кольца: бегали с тонким обрезком металлической трубы. Кольцо удерживалось и направлялось твердой проволокой, верхний конец которой держали в руке, а нижний, с изгибом, обнимал края кольца. Занятие столь же шумное, сколь и однообразное.
Сад против наших окон когда-то был фруктовым. К моему приезду остались два грушевых дерева и несколько чахлых яблонь; деревья совершенно одичали. В июле, когда плоды только начинали поспевать, к деревьям устремлялись ватаги мальчишек со всей округи. Швыряли чем попало, ломали сучья и ветви, лишь бы добыть несколько мелких и незрелых плодов. Я пробовал – кислятина невероятная, тем не менее расхитители их обгладывали, а огрызками лихо швырялись друг в друга. Сбивание плодов было своего рода спортом, и спортом захватывающим. Наиболее ловкие взбирались на вершины деревьев и трясли их что было силы.
В первые годы недреманным стражем груш и яблонь выступал наш дворник, рыжеусый Адриан Михайлович. Одно его появление мгновенно разгоняло непрошеных любителей фруктов. Затем они осмелели и разбегались не сразу. Адриан Михайлович разражался резкой бранью с угрозами. Рассказывали, что до революции он служил сторожем в чьем-то богатом доме и привык свято охранять чужую собственность. Но чьей собственностью были одичавшие деревья теперь? Общественной, то есть всеобщей, а стало быть, ничьей.
В своем охранительном рвении Адриан Михайлович был одинок. Не помню, чтобы кто-нибудь из взрослых помогал ему спасать деревья. А они, деревья, оголялись и сохли год от года, вместе с ними старел и сникал их верный страж. Из рыжего, внушающего страх караульщика он превращался в тощего и немощного старика. Его слабеющие крики и сердитые упреки уже ни на кого не действовали. В ответ иногда раздавалось: «Убирайся, рыжий черт, пока в глаз не получил» или «Пошел бы спать, старый пёс». И Адриан Михайлович, терзаясь своим бессилием, со слезами на тускнеющих глазах, с глухим и невнятным ворчанием тихо удалялся в свою полуподвальную каморку. Мне было невыразимо жаль его, гораздо больше, чем гибнущие яблони и груши. На моих глазах разрушалась могучая и волевая личность. В Японскую войну он служил в кавалерии. Бывая в его каморке, я видел портрет лихого вояки с неведомыми мне крестами на груди и знакомыми торчащими усами. Теперь он кончал свой век вместе с любимыми яблонями и грушами, которыми никогда и не пользовался.
Наконец все плодовые деревья – возможно, остатки некогда расположенных здесь фруктовых садов Ивана III – были обломаны начисто и засохли. Вместе с деревьями отжил свой век и ретивый их охранитель. Голые деревья спилили, Адриана Михайловичи похоронили – незадолго до начала войны… Жизнь дерева и человека, эта банальная, но горестная параллель, впервые тогда возникла в моей юной и неопытной голове.
3 Гости нашего двора
Скорее не гости, а нежданные пришельцы. В те времена сервис не ждал к себе клиентов и не томил их очередями и выпиской квитанций, а сам являлся к потребителю. То и дело во дворе раздавались зычные крики:
– Паять, лудить, посуду чинить!
Или, всегда на один и тот же мотив, кто бы ни приходил:
– Точить ножи-ножницы!
Бородатый дядька, нажимая ногой на деревянную педаль точильного станка, быстро оттачивал принесенный хозяйками домашний режущий инструмент. Мы, дети, завороженно глядели на брызги искр, которые вылетали из-под точильного колеса и напоминали рождественские бенгальские огни.
Праздником было появление мороженщика с его ящиком на колесиках. Его окружали раскрасневшиеся, взволнованные дети. Мороженщик в белом переднике, но с немытыми руками быстро укладывал в ручную форму круглую вафельку, намазывал поверх нее сладкую, холодную массу, накрывал другой вафелькой, нажимал на низ формочки, и вот волшебная, желанная сласть в твоих руках. Как хотелось её вкушать медленно, продлить наслаждение, но жадность и быстрое таяние заставляли проглатывать порцию – увы, очень маленькую – почти мгновенно. Правда, еще оставалась такая услада, как обнимающие вафельки. А на них были отпечатаны разные имена в уменьшительной форме: Ваня, Маша, Петя, Люба и так далее. Какие же имена достались мне? А товарищам? Происходил живой обмен информацией. «У меня Лена. А у тебя?» – «У меня Саня, а с другой стороны Надя». Источники детских радостей непостижимы. До сих пор помню острое чувство восторга, смешанное с изумлением, когда на своей вафельке я прочитал: «Юра». Не волшебник ли мороженщик, что отгадал, как меня зовут?
Примерно раз в неделю под окнами раздавалось заунывное: «Старье берем! Старье берем!» Татары-старьевщики в тюбетейках и длинных выцветшие халатах, чаще всего по двое, по зазыву из окон приходили на квартиры покупать поношенную одежду. Сбывал её обычно отец, умевший и любивший поторговаться.
Методика «князей», как называли татар-старьевщиков, была отработана идеально. Какую бы вещь им ни выносили, они равнодушно и деловито, со скрупулезной тщательностью рассматривали ее на свет. Особо внимательно изучали кромки. Самую ничтожную дырку и потертость осуждающе отмечал желтый немытый палец.
– Совсем новая вещь, раза три надевал, – беспокойно и неискренно заверял отец, вынесший «князю» свои старые брюки.
– Какой новая, хозяин? Еще твой дедушка носил. Совсем плохая вещь.
– Чем плохая? – ярился отец. – Ты посмотри лучше!
– Вот, гляди, хозяин, – всё светится.
– Так то материал тонкий, дорогой, понимать нужно.
Вместе с тем в глазах татарина блистали искорки, выдававшие его заинтересованность в товаре.
– Так и быть, полтинник дам, не больше.
– Полтинник? Да ты смеяться пришел. Ты же их тут же продашь за три рубля.
– Шутишь, хозяин. За три рубля совсем новый брюки купишь.
– А это лучше, чем новые, материал английский, довоенный.
– Ладно, давай за семьдесят копеек, – говорит «князь», поспешно отсчитывая мелочь. – В убыток себе беру.
– Два рубля и не меньше, – заявляет решительно отец, отстраняя всучиваемые деньги.
– Ладно, бери рубль, если такой жадный.
– Полтора и ни копейки не сбавлю,
– Эх, хозяин, только время на тебя терял. Хороший деньги предлагаю, никто столько не даст.
Татарин решительно направляется к дверям, отец остается наедине с непроданными брюками и своей принципиальностью. Помешкав у порога, старьевщик исчезает. Отец начинает пристально рассматривать брюки, лицо его выражает то огорчение, то сознание правильности своих действий. Итак, сделка не состоялась. Куда девать ненужные брюки, когда еще ждать другого старьевщика?
Проходит минут двадцать, торг уже, казалось, забыт, как вдруг новый, резкий звонок в дверь. Тот же татарин.
– Ладно, хозяин, беру за полтора. Рахматулла добрый человек, себя не жалеет, убыток себе делает.
Отец с радостной торопливостью отдает брюки, исчезающие в необъятном мешке старьевщика, а по уходе его задумывается и горестно произносит:
– Эх, надул меня чертов татарин. Он бы и три рубля заплатил.
Однажды под окнами появился дуэт: лысый мужчина в мешковатом, потертом костюме, с галстуком-бабочкой на несвежем воротничке и не первой молодости дама в облезлой горжетке.
Татарин – старьевщик.
Рисунок начала XX века
Лысый забренчал на гитаре, а дама запела хриплым, надорванным контральто нечто старинное, душещипательное, вроде:
Разлука, ты, разлука, Чужая сторона, Никто нас не разлучит, Как мать сыра земля, А пташки-кынарейки Так жалобно поют И горькую разлуку Навеки нам дают.А потом вторым номером:
Пара гнедых, запряженных с зарею, Тощих, голодных и грустных на вид…При словах «ваша хозяйка состарилась с вами» на глазах певицы блеснули едва ли не натуральные слезы. Мне было искренно жаль пожилых, солидных людей, вынужденных зарабатывать себе на пропитание столь жалким и унизительным образом. Мнилось, что судьба певицы была сходна с биографией героини романса, что некогда она тоже блистала красотой и талантами. И вот…
Голос певицы был ужасен, однако тяга к сентиментальным романсам у женского населения дома была велика, они напоминали собственную молодость, мечты и надежды, развеянные ветрами не слишком счастливого брака и не очень радостного быта. Широко распахивались окна, и хозяйки, оставив все свои срочные домашние хлопоты, зачарованно слушали. В заключение раздавались жидкие хлопки и из окон верхних этажей к ногам артистов падали пятаки и гривенники, завернутые в бумажки. Мужчина быстро подбирал их и картинно, с достоинством раскланивался перед публикой.
Мое сочувствие к беднягам безжалостно подрывал дворник Адриан Михайлович, равнодушно взиравший на концерт, восседая на барьере:
– Пропьют они всё, дармоеды проклятые. Который год ходють, всё настоящей работы боятся.
А то приходил во двор седой небритый шарманщик. На его потертом музыкальном ящике сидел старый, вылинявший попугай. В верхнем отделении шарманки были плотно уложены какие-то таинственные сверточки.
Старик крутил рукоятку» шарманка издавала неясные, блеющие звуки – жалкие остатки звонкого некогда, а ныне стершегося мотива. Однако слушали эту музыку с большим вниманием не только дети, но и взрослые. За музыкальной частью следовало нечто вроде лотереи. Девицы совали старику не то пятак, не то гривенник (цена была твердо установленной). Оглядев и спрятав монету, шарманщик приказывал птице:
– Ну-ка, попочка, вытяни что-нибудь барышне на счастье.
Попочка равнодушно вытягивал клювом один на пакетиков, в нем оказывался ничтожный сувенир: дешевая расческа, копеечная переводная картинка, крохотное зеркальце. Моей сестре досталось жалкое медное колечко:
– Хороший выигрыш, девочка, скоро замуж выйдешь.
Однако за этот выигрыш сестре дома сильно попало. Пятак, а тем более гривенник в то время ценились высоко. Хорошо помню рассказ отца, как, для того чтобы уличить одну и работниц Резинотреста в воровстве, на столе оставили пятак; монета исчезла после её захода в комнату, и дело закончилось шумным скандалом, кажется, даже увольнением с работы.
Отец назвал шарманщика бессовестным жуликом.
Ходили по дворам и бродячие кукольные театры. Увы, только раз я наблюдал это старинное народное зрелище, и то мимолетно: шел в школу, ко второй смене. Народу собралось видимо-невидимо: и взрослые и дети. Все толкались, желая поближе протиснуться к проему в пестро расписанной ширме, служившему сценой. Гомон стих, как только раздвинулся занавес. Явился носатый, развеселый Петрушка, повел носом направо и налево, обозревая публику, и зычным, неестественным голосом самодовольно провозгласил:
Ого, сколько народу! Я вхожу в моду.Далее вынырнул усатый городовой, пытавшийся схватить Петрушку, но народный герой начал нахально дергать блюстителя порядка за усы, а потом под восторженный смех публики стукал его дубинкой по голове. Как можно понять, примитивный спектакль был не лишен классово-поучительного характера.
Плата за такого рода представления была добровольной – один из артистов обходил зрителей с шапкой. Кое-кто бросал монеты, иные норовили отойти или отводили взор.
4 Ранние уличные впечатления
В восприятии моего поколения отечественная история делится на два резко отличающиеся периода: до революции и после. Родился я три года спустя после октября 1917 года и, естественно, никакую «дореволюцию» видеть не мог. Теперь понимаю: видел, и весьма отчетливо. Вспоминая Москву своего детства и сопоставляя виденное с описаниями Москвы дореволюционной, осознаю: внешне город почти не изменился. «Весь мир насилья» был разрушен, но материальный мир остался, каким был. Конечно, вместо городовых появились милиционеры, вместо офицеров – красные командиры, вместо чиновников – скромные совслужащие, не стало богачей, исчезли с улиц пышные купеческие вывески. На праздники вывешивались красные флаги, революционные лозунги и эмблемы, изменились названия многих улиц. Но дома, заборы, мостовые, магазины, мебель, утварь и люди – разумеется, взрослые люди – были сплошь «дореволюционными», из той эпохи. Город сохранял старую застройку, новых домов почти не было. Более того, сказывалась разруха. После долгих лет мировой, а затем гражданской войны город был весьма обшарпан, запущен: на ремонт и благоустройство у государства еще не хватало средств. Изредка дворники освежали суриком деревянные ворота и заборы. Заборов тогда было очень много – остатки частных домовладений с их четкими границами.
Москва, кроме центра, выглядела провинциально и скромно. Старое давало себя знать на каждом шагу. Частновладельческие названия нагло пробивались на брандмауэрах сквозь жидкую побелку, удивляя своими ятями и твердыми знаками. Люки, электросчетчики, унитазы, даже комнатная электроарматура сохраняли названия своих дореволюционных производителей. Книг со старой орфографией было неизмеримо больше, чем с новой.
Но начну с того, что ребенку бросалось в глаза в первую очередь, – с земли. Не только переулки, но и крупные улицы – вроде Покровки, Маросейки, Солянки – были замощены булыжником. Это рождало своеобразный звуковой фон – грохот телег на металлических шинах слышался издалека. Вовсю звенели трамваи, тарахтели и пронзительно дудели редкие автомобили. Возле красивых особняков, превращенных в посольства и торгпредства, колёсный шум неожиданно затихал: некогда богачи-домовладельцы за свой счет залили прилегающую мостовую асфальтом. Эти асфальтовые островки отделялись от остального булыжного моря железными полосами. Но таких островков было очень мало, да и тянулись они всего метров на двадцать – двадцать пять. Въезжая на такой островок, гулкая телега делалась почти бесшумной, зато особенно четко слышалось цоканье конских подков.
Позднее я узнал, что булыжник по-немецки носит образное название – каценкопф, то есть «кошачья голова». Не видел я булыжника в Германии, но московские булыжные камни были гораздо крупнее кошачьих голов. С интересом наблюдал я работу мостовщиков. Оградив подновляемый участок мостовой пустыми бочками с наложенными на них ограждающими тесинами, здоровые бородатые мужики, стоя на коленях, обвязанных мешковиной, забивали в грунт новые камни, выравнивали выбоины. Важно было укладывать булыжник ровно, плотно: от одного неплотно забитого камня могла «поехать» вся мостовая. Вбивали булыжник большими молотками, затем действовали деревянными трамбовками, засыпая зазоры песком.
Тротуары во многих местах были асфальтовыми, но на тихих улицах и в переулках крылись плитняком. Плиты со временем прогибались в разные стороны, раскалывалась. По краям тротуаров стояли гранитные тумбы, служившие для привязывания лошадей. Приворотные тумбы ограждали воротные столбы и углы подворотен от ударов экипажей. У особо богатых домов стояли литые чугунные тумбы. На тумбах охотно сидели – своего рода одноместные скамьи. Отсюда и старая, глупая песенка:
Тарарабумбия, Сижу на тумбе я.В тихих, незаезженных переулках земляные зазоры между булыжниками и тротуарными плитами летом зарастали мятликом и подорожником – идиллическая картинка полузеленого уличного покрова. Булыжник только взрослым казался серой, безликой массой. Ребенок различал многообразие камней, среди которых не было двух одинаковых. Особенно красочной становилась мостовая после дождя; тут обнаруживалось, что камни разноцветные: синие, красноватые, желтые – и образуют мозаичный ковер. По желобкам вдоль тротуаров неслись дождевые потоки, то разливаясь в лужи, то сливаясь в узкие ручейки – плетёнки. Потоки несли всякую мелочь: пустые спичечные коробки, горелые спички, листья, щепки, обрывки бумаг. Как интересно было после дождя идти по тротуару, следя за движением этих «плавсредств», иногда подталкивая ногой застрявшее «суденышко». Но всё это заканчивалось решетчатым водостоком, заглатывающим мелочь и задерживающим крупное. Наряду с тумбами, хотя и пореже, по краям тротуаров стояли фонари. В моем детстве они были уже не масляными, а газовыми.
То были невысокие чугунные столбы с граненым стеклянным верхом, внутри которого помещалась горелка. К вечеру на улице появлялся фонарщик, вооруженный длинной крюковатой палкой. Концом этой палки он проворно открывал краны горелок, и улица постепенно озарялась мутно-желтым светом. Никакого кремня или огня у фонарщика не было, как же зажигался фонарь? Не скоро я узнал, что фонарщик только расширял отверстие горелки, незаметно горевшей и днём, с минимальным расходом газа. Не знаю, кто придумал такой способ, но он оказался предпочтительней и экономичней, нежели зажигание каждого фонаря путем влезания к горелке по приставной лестнице, как это делалось при масляных фонарях.
Картина московских улиц и дворов немыслима без импозантной фигуры дворника – обычно немолодого, крепкого мужика с бородой «лопатой» и в переднике. Он аккуратно подметал свой участок метлой из ивовых прутьев, после дождя разгонял лужи, убыстряя движение потоков к водостокам. Кроме метлы у каждого дворника был большой жестяной совок, куда он метлой загонял «конские яблоки», сбрасывая их потом неизвестно куда. До того у кучек с конским навозом неугомонно копошились воробьи – непереваренные зерна были их основной пищей.
Дворников часто заменяли их жены – сильные, дородные женщины с зычными голосами.
Зимой снег с мостовой дворники начисто не счищали – это парализовало бы движение транспорта, в то время преимущественно санного. При сильном снегопаде с мостовой убирался только свежий, поверхностный слой снега – это делалось с помощью широкого деревянного скребка со срезом, обитым жестью. Более тщательно очищались тротуары – металлическим скребком, а в гололедицу – еще и ломом. Очищенный снег сметался в большие гряды, тянувшиеся вдоль тротуаров. Исчезали они только к весне. Правда, изредка привозили неуклюжее устройство для снеготаяния: в большой котёл, подогреваемый дровами, набрасывали лежащий снег, и он превращался в воду. Это делалось обычно к концу зимы, когда к наземному снегу добавлялся снег, сбрасываемый с крыш.
5 В годы нэпа
Я еще застал нэп, вернее конец нэпа. Москва тех лет являла собой пеструю картину. Много было частных лавочек и палаток. В отличие от дореволюционного периода на вывесках не были крупно выведены фамилии частных владельцев: в начале указывалось назначение или название магазина, а уже ниже мелкими буквами ставилась фамилия хозяина. Напротив нашего дома висела вывеска: «Бакалейные и колониальные товары» – крупно; строкой ниже, мелко: «Л. Кригер». Я долго не понимал, что такое «колониальные товары» и из каких своих колоний вывозит их семья Кригер.
На углу Покровки и Машкова переулка находился частный кондитерский магазин с вывеской «Огурме». Сестра, изучавшая французский язык, пояснила мне, что по-французски это означает «Для лакомок». В «Огурме» меня посылали покупать сахар и чай, и эту миссию я, лакомка, выполнял охотно: не было случая, чтобы продавец не давал мне в виде премии за покупку несколько слепившихся леденцов монпансье, извлекая их щипцами из огромной, стоявшей на прилавке стеклянной вазы.
Привлечению покупателей нэпманы вообще уделяли немало внимания. Реклама для них поистине была двигателем торговли. До сих пор ненужным грузом в памяти лежат нэповские рекламные стишки, вроде:
Есть дороже, но нет лучше Пудры «Киска» Лемерсье.
Крошечная парфюмерная фабрика Лемерсье находилась неподалеку от нас, на Чистопрудном бульваре. Не уверен, что Лемерсье – подлинная фамилия её хозяина, а не рекламный псевдоним. Лучшей парфюмерией спокон веку считалась французская. Даже когда частников-парфюмеров заменили государственные фирмы, они избрали себе «французские» названия: в Москве – «Тэжэ» (Т – «трест», Ж – «жировой»), в Ленинграде – «Ленжет» (Ленинградский жировой трест).
Немало было и концессий. Американец Хаммер, и впоследствии хорошо известный как активный поборник американо-советского торгового сотрудничества, открыл в Москве фабрику канцелярских принадлежностей. Тогда он писался не «Хаммер», а «Гаммер» и уснастил всю Москву (а может быть, и всю Россию) плакатами с запомнившимся стишком:
Перья, карандаши Фирмы Гаммер хороши.Усиленно рекламировала зубную пасту – в то время новинку, только начинавшую вытеснять зубной порошок, – немецкая фирма «Хлородонт». Позднее о ней писали как о «крыше», под которой таилась шпионская организация германских фашистов. Эмблемой «Хлородонта» была женщина с ослепительно белыми зубами.
Время от времени в наш переулок приезжал огромный фургон, везомый парой упитанных лошадей. На фургоне красовалась большая надпись: «Яков Рацер – лучший древесный уголь». У дверей фургона быстро выстраивалась очередь домохозяек с ведрами. Древесный уголь, ныне в быту никому не нужный, в то время был ходовым товаром. Во-первых, утюги (электрических тогда не было), во-вторых, самовары, без которых не обходилась ни одна семья. В каждой кухне была вытяжка, к которой приставлялась самоварная труба.
Яков Рацер, как я позднее узнал, был угольным монополистом еще дореволюционной Москвы. Удивительно, как он сохранил свои капиталы и склады после многочисленных муниципализаций, и национализаций. Со мной в классе учился его племянник Виктор Шмидт, капитан футбольной команды нашего класса, а в одном из старших классов – родной его сын Женя Рацер.
Яков Рацер, предвидя, вероятно, недолговечность своей фирмы, учил сына музыке. Как правило, художественная часть наших школьных вечеров начиналась прелюдом Шопена или Скрябина, исполняемого долговязым мальчиком в не по возрасту коротких штанишках. Эта музыка единодушно почиталась скучной и исподнялась под шум и болтовню всего зала. Впоследствии Женя Рацер стал доцентом Оперной студии при Московской консерватории.
Слово «нэп» звучало как ругательство. Неожиданно явившиеся после всех бурь революции и гражданской войны богачи, одетые в роскошные наряды и пирующие в богатых ресторанах, вызывали негодование еле-еле сводящего концы с концами рабочего класса, тем более – многочисленных безработных. Родился даже горестный лозунг: «За что боролись?» В газетах появился термин «Гримасы нэпа». Критики писали, что многие спектакли и фильмы ставятся «в угоду нэповской публики». Были, конечно, и скромные, небогатые нэпманы, таких, наверное, даже было большинство, но на виду были нэпманы-жуиры, демонстративно щеголявшие своими капиталами. Постепенно частников стали прижимать растущими налогами, и вскоре на моих глазах частные фирмы и магазины полностью прекратили свое существование.
Характерная особенность нэповской Москвы – чрезвычайная разнородность населения. В уличной толпе почти без труда можно было определить сословную и профессиональную принадлежность людей. Полярность костюмов, обуви, головных уборов, причесок. Роскошно одетые по последней моде нэпманы: женщины – в коротких и узких юбках, с низкой прямой талией, с челками на лбу и завитками на висках, мужчины – в шляпах, с проборами посреди темени, в узких костюмах с непременным платочком в нагрудном кармане, в гетрах поверх лакированной обуви; старые интеллигентки в батистовых шляпках, кружевных наколках на груди, в высоких шнурованных ботинках; рабочие в серых блузах и брюках, заправленных в сапоги, кто постарше – в картузах, помоложе – в кепках с большим козырьком; скромные «совслужи» в толстовках и мешковатых брюках, летом – в сандалиях; солидные старорежимные инженеры – седая бородка клинышком, форменная фуражка с эмблемой – молоток и гаечный ключ крест-накрест. После шахтинского процесса (1928), особенно же – процесса Промпартии (1930) эти фуражки в карикатурах превратились в непременный атрибут вредителей и владельцы стали опасаться их носить. Военные ходили в длиннополых шинелях, зимой – в суконных шлемах-буденновках, никаких погон, золотых пуговиц и лампасов. Партийные работники носили полувоенные формы – френчи или гимнастерки, кожаные фуражки, брюки, заправленные в сапоги. Кстати, так были одеты все члены тогдашнего Политбюро (всех их до 1935 года именовали «вождями», потом остался только один вождь); исключение составлял разве что Молотов, никогда в армии не служивший. Комсомольцу появиться в шляпе или галстуке было гибели подобно – ходили в самых простых одеяниях, летом – с расстегнутым воротом. Женщины-активистки – в красных косынках (противовес буржуазным шляпкам), простых ситцевых блузках или платьях, нередко набитых рисунком серпа и молота либо трактора: шла механизация сельского хозяйства. Некоторые комсомольцы по праздникам надевали серую полувоенную форму – юнгштурмовку, заимствованную у немецкого комсомола. Выглядела юнгштурмовка не очень красиво, но при бедности тогдашней обычной одежды выгодно выделяла человека в толпе. Тем более что были в ней ремни и портупея. Помню статью в «Комсомольской правде»: девица призналась подруге, что вступила в комсомол ради того, чтобы получить юнгштурмовку, подруга донесла, и девицу с треском исключили из комсомола.
Реклама времен нэпа» Журнал «Новый зритель», 1927 г.
На улицах часто можно было встретить бывших красноармейцев, донашивавших военную форму, с обмотками, крестьян в картузах, косоворотках, сапогах, а то и в лаптях. Наконец, немало было и неопределенного рода занятий голытьбы в откровенных лохмотьях. Таких особенно много встречалось среди безработных. Где-то, проездом, я видел как-то одну из московских бирж труда. Мрачная картина: сотни мужиков с собственным инструментом – пилами, топорами, лопатами – толпились на площади в ожидании назначения хоть на временную, однодневную работу.
Мой отец – совслужащий – носил скромный костюм-тройку, но непременно с галстуком, модным в то время, – узким, в поперечную разноцветную полоску, с маленьким узлом. Такие галстуки почему-то называли селедками. К белой рубахе полагалась смена воротничков, которые прикреплялись к ней с помощью особых запонок. Это мудрое устройство, ныне начисто забытое, позволяло не менять или не стирать рубашку (тогда ее называли верхняя сорочка) ежедневно. Самым страшным был для меня непременный отцовский галстук. В то время любой галстук, кроме красного, пионерского, считался признаком зажиточности и буржуазности. Парней за ношение галстуков, как и девиц за употребление косметики, безжалостно исключали из комсомола. Дворовая ребятня изводила меня отцовским галстуком: «Твой отец – буржуй». Каждый раз, когда отец возвращался с работы, я, гуляя во дворе, внутренне сжимался, ощущая ядовитые взгляды дворовых товарищей. Как хотелось мне попросить отца, чтобы не носил он свои проклятые галстуки! Но о такой просьбе и помыслить было нельзя. Только позднее, когда галстуки перестали быть одиозными, мне запоздало пришел в голову упущенный аргумент: ведь сам Владимир Ильич всегда носил галстук!
Галстуки, шляпы, шляпки – всё это считалось интеллигентщиной, а интеллигенция тогда была не в чести, ведь прослойка эта совсем недавно верой и правдой служила буржуазии, злейшему врагу рабочего класса! Старую интеллигенцию терпели, покуда вырастала своя, рабоче-крестьянская, но не любили и не доверяли. Как-то в кино передо мной сидела пара – рабочий с женой-работницей. Я подслушал, как женщина, оглядев зал перед началом сеанса, сказала мужу: «Ну и народ здесь! Сплошь гнилая интеллигенция!». В тоне слышалась откровенная брезгливость.
В нашем классе кто-то назвал другого интеллигентом. Обиженный пожаловался учительнице, и добрейшая Анна Гавриловна, сама старая интеллигентка, объяснила классу: интеллигент – это не работник умственного труда сам по себе, а белоручка, не знающий труда физического. Большинство в классе были детьми интеллигентов в нормальном понимании этого слова, и из всех углов стали раздаваться радостные возгласы: «А мой папа сам стул починил», «А мой сам дрова колет», «А мой инженер, но дверь покрасил». Не хотел отставать и я. Вспомнив, что отец на днях прибил к стене костыль для картины, я громко сообщил об этом факте окружающим и почувствовал приятное облегчение: «Ура, мой папа не интеллигент!»
Детей интеллигенции долгое время не принимали ни в комсомол, ни в пионеры. В пионерском гимне подчеркивалось: «Мы пионеры – дети рабочих», как же мог петь такие слова сын какого-нибудь бухгалтера или инженера! Более того: детей интеллигенции наравне с детьми нэпманов или «бывших» не принимали в вузы; для получения высшего образования им надо было «вывариться в рабочем соку» – год или два поработать на производстве. Ограничение было снято только в 1936 году, с принятием новой конституции. Правда, еще до этого, в 1931 году, Сталин выдвинул свои знаменитые «шесть условий» (победы социализма). Одним из условий было широкое использование старой интеллигенции и большее доверие к ней.
6 Беспризорные и хулиганы
Снующие в уличной толпе грязные, угольно-черные подростки в лохмотьях. Обычное явление Москвы 1920-х годов – беспризорные. Печальное наследие Гражданской войны – дети, оставшиеся без родителей, без крова и какой-либо опеки. У них своя, таинственная жизнь, о которой мало кому известно. Откуда родом, чем питаются, где ночуют – никто толком не знает. Много написано о беспризорных, которых перевоспитывали в колониях, – хотя бы в «Педагогической поэме» Макаренко. Но кто описал жизнь «вольных», подлинных беспризорных?
Обычный промысел – попрошайничество, мелкое воровство. Особенно последнее. При появлении группы беспризорных на рынке торговки испуганно старались прикрыть руками свой товар – словно куры, прячущие под крыльями цыплят при виде коршуна. Только немногие беспризорные занимались «честным ремеслом» – покупали пачку папирос (сигарет тогда еще не было) и продавали их россыпью, втридорога.
Жалость к беспризорным сочеталась со страхом перед ними. Жизнь закалила этих ребят, сняла все моральные препоны и превратила их в наглых и коварных волчат. Приютишь, накормишь беспризорного – нет никакой гарантии, что вместо благодарности не будешь ограблен. Большими группами они не ходили, чтобы не бросаться в глаза, бродили по двое, по трое. Конечно, существовала у них какая-то организация, лидеры повзрослее, посылавшие их как на попрошайничество, так и на кражи и забиравшие львиную часть добычи. Известно было, что взрослые банды грабителей использовали беспризорных как «форточников», для стояния «на стрёме» и других вспомогательных услуг, требующих юркости и смелости.
Лазать по карманам беспризорным было особенно трудно – слишком выдавала внешность, заставлявшая мужчин придерживать карманы, а женщин крепко сжимать сумочки. Использовали приемы отвлечения: затевалась показная драка, шумиха, и в это время к глазеющим подкрадывались сзади и быстро выхватывали ценности.
Особенно много беспризорных можно было видеть на Каланчевской площади: в поисках лучшей жизни они непрерывно мигрировали по разным городам, пользуясь порожними товарняками, тормозными площадками, вагонными крышами. Естественно, что площадь трех вокзалов была местом, где беспризорных всегда было особенно много. Неслучайно по всем её стенам были расклеены предупредительные листовки: «Остерегайтесь карманных воров».
В пассажирских поездах беспризорные ходили попрошайничать. Чаще всего – в товаро-пассажирских, которые именовались в народе «Максим Горький» или попросту «максим», ибо ехала в них небогатая публика, во многом напоминавшая героев Горького. Слово это было настолько общеупотребительным, что давно уже не вызывало улыбки, а стало почти термином. «На скорый не достал, придется на максиме ехать», – можно было услышать около вокзальных касс. В классные вагоны беспризорных не пускали проводники, в «максимах» таковых, кажется, вовсе и не было.
Для попрошайничества использовалась особые сценарии и репертуар, придуманные явно не самими попрошайками, а их взрослыми патронами. Вот дверь вагона открывается, и на пороге появляется маленький оборванец со страдальческим выражением на лице. Четко и звонко он заученно провозглашает на весь вагон: «Граждане-товарищи! Вы видите перед собой круглую сироту, обездоленную жизнью. Батька погиб в немецкую войну, мамка померла с голоду в гражданскую. Приютила меня с сестренкой бабушка Анисья. Сестренка померла от тифу, бабушка, царство ей небесное, скончалася от старости, и вот остался я круглой сиротой-горемыкой. Нету у меня никого на целом свете, и живу я подаянием добрых людей. Граждане-товарищи, не оставьте несчастную сироту, помогите кто чем может».
Далее следовала заунывная, сердцещипательная песня – любимый шлягер беспризорного мира:
Ах, умру я, умру я, Похоронят меня, И никто не узнает, Где могилка моя. И никто на могилку На мою не придет, Только раннею весною Соловей запоет.После монолога и песни пассажирки начинают сопеть носами и утирать уголками косынок слезы. Расстегиваются кошельки, и развязываются узелки. В ладонь сироты сыплются медные монеты, в котомку – куски хлеба.
Зимой часть беспризорных подавалась в теплые края, но немало оставалось и в Москве, ночуя в подвалах полуразрушенных зданий, в котельных или в котлах для варки асфальта. К утру котлы остывали, и нередко из уст в уста испуганно передавалось: «Нынче в котле, что у нас на углу, мертвого парнишку нашли. Помер с холоду да? голоду. Милиционер утром подобрал».
Такого рода сообщения можно было прочитать даже в «Вечерней Москве».
Зимой головы многих беспризорных по уши утопали в почерневших, но довольно богатых меховых шапках типа «пирожок». Такие модные шапки носили в то время мужчины посостоятельней. Как же эти шапки оказывались у беспризорных? Подкравшись сзади и подпрыгнув, оборванец сдергивал шапку, ничем не закрепленную, с головы её обладателя и молниеносно исчезал. Отнимали беспризорные шапки и варежки и у школьников.
Попавшийся на краже беспризорный проявлял чудеса энергии и изворотливости. Однажды я был свидетелем того, как двое взрослых парней держали пойманного с поличным 12—13-летнего воришку, который ужом извивался, пытаясь вырваться из их железных рук:
– Ой, дяденьки, за что ето, отпустите! Ой, больно, больно, не могу, – следовали отчаянные стоны, хотя никакой особой боли не могло быть. – Зачем мучаете сироту?
Если жалобы не действовали, в ход пускались угрозы:
– Пустите, а то заплюю, я больной – заражу. Я Ваньке Идолу про вас скажу, он большой и сильный, он вам выдаст! У него ножичек есть, не жить вам после этого! Ой-ой, больно, отпустите, не брал я ничего: на земле лежало, я подобрал, ой, руку сломаете, – следовал душераздирающий рёв.
На помощь призывались окружающие:
– Ой, дяденьки, тётеньки, ослобоните меня от йих! Не брал я ничего, никого не трогал, чего они ко мне пристали? Ой-ой-ой!
Видя этот спектакль, толпа постепенно смягчалась и начинала уговаривать поимщиков:
– Да отпустите вы его, Христос с ним, всё одно краденое-то отняли. Ишь, у него еле-еле душа в теле.
Парни, дав вору крепкий подзатыльник и пинка в зад, отпускали его, и беспризорный с неожиданной для ослабленного быстротой удирал со всех ног.
Помимо беспризорных нэповская Москва кишела уголовниками и полууголовниками, бороться с которыми милиции было нелегко ввиду массовости этого явления. Немало было шпаны – подростков, живущих с родителями или с матерью – многодетной, полунищей вдовой. Над такими семья теряла всякую власть. Изрядное количество шпаны жило и в нашем дворе. Эти хулиганы подстерегали нас, благовоспитанных мальчиков, около подворотни, когда мы шли в магазин покупать хлеб или молоко (кошелка и бидон выдавали наличие денег). Требовали денег, в лучшем случае на обратном пути – сдачу. Террор был настолько силен, что хождение в магазины становилось пыткой. Обычно ссылались: денег нет – в ответ слышалось: а ну, разожми кулак, покажи карманы. Подчас в руке вымогателя сверкало «перо» – ножик. В ход он не пускался, но угрозу представлял реальную. Мне везло, денег у меня никогда не отбирали: завидя издали шпану, я старался прошмыгнуть через соседний двор или переждать. Но многие мои ровесники вынуждены были отдавать мелочь или получать тумаки. Тощий Изя Гольдберг из девятого подъезда (его изводили: «Жид, жид, на веревочке висит») пытался откупиться от поборов и побоев мелкими подачками – самое гиблое дело, ибо величина требуемого откупа каждый раз росла.
Я просил родных не посылать меня в магазин, но мольбы мои почему-то сочувствия не вызывали. Отец говорил, что надо уметь постоять за себя и давать достойный отпор. Где уж там!
Был во дворе один особенно мерзкий и опасный подросток по кличке Йодина. Лет ему было 13–14, семья от него отступилась, ни дворники, ни другие взрослые ничего не могли с ним поделать. Казалось, главной целью своей жизни он поставил вредить всем, без разбора. Разбивал камнями окна, бил и всячески обижал маленьких. Никакой уголовщины он не совершал, но был отпетым негодяем, не знавшим ни страха, ни совести. Слушая брань и угрозы взрослых, Йодина нагло и насмешливо смотрел им в глаза, явно наслаждаясь их бессильной злобой. В школу он не ходил и целый день шатался по двору, одним своим видом вызывая ужас детворы, которая тут же забирала свои игрушки и убегала подальше. А это ему было приятно.
Неподалеку была Хитровка, бывший печально знаменитый Хитров рынок[1]. Хотя милиция давно закрыла все ночлежки и притоны и выслала всех сомнительных хитрованцев, нравы этого московского дна еще долго давали себя знать. Хитровка была рядом с моей школой, и некоторым ученикам приходилось пересекать её по дороге в школу или домой. Одним из таких людей был учившийся на два класса старше меня Леня Хрущев, сын будущего генсека, а в то время секретаря МК[2]. Жили Хрущевы в новом доме в Астаховском (бывшем Свиньинском) переулке[3], Лёня, завзятый двоечник и прогульщик, парень лихой и сильный, не раз подвергался нападениям хитрованцев.
– Надо сделать так, чтобы не мы боялись Хитровки, а она боялась нас, – говорил, выступая на каком-то пионерском собрании, приятель Лёни, по фамилии Троицкий, а по кличке Мустафа: несмотря на чисто русскую фамилию, у него была совершенно татарская физиономия. – А для этого надо развивать мышечную силу. Надо быть сильнее хитрованцев, тогда они нас будет уважать и бояться. Как это сделать? Очень просто. – И Мустафа тут же с помощью венского стула стал показывать, как развивать бицепсы.
Заходили в наш двор и прилегающий к нему «Грибовский сад» юнцы лет 16–18, целыми группами по 8—10 человек. Нас, мелюзгу, они не трогали, о чем-то тайно беседовали, играли на деньги в ножички и расшибалочку или орлянку, а то и в карты. Иногда в этой компании фигурировала накрашенная девица, говорившая хриплым, почти мужским голосом.
– Это проститутка ихняя, – шепнул мне как-то соседский мальчик Борис. – Знаешь, что такое?
Я не знал, но, чтобы не упасть в глазах товарища, понимающе кивнул головой. Дома же украдкой заглянул в «Словарь иностранных слов» и прочитал: «Проститутка – женщина, торгующая своим телом». Краткое объяснение ввело меня в полное недоумение. Как можно торговать собственным телом? Руки, ноги что ли давать отрезать за деньги? Но все зримые части тела были у девицы на своем месте и в полной сохранности. После «Словаря иностранных слов» девица с загадочной профессией стала внушать мне почти мистический трепет.
Нельзя сказать, чтобы мир уголовников или полууголовников не оказывал влияния на нормальную молодежь. Грязные свои дела «урки» (так они назывались на жаргоне) прикрывали «блатной романтикой», проникнутой культом силы, отчаянной дерзости, товарищеской солидарности и конспиративности. Всё это было сдобрено налетом дешевой сентиментальности. Блатной язык и фольклор шел из «Одессы-мамы», немалую роль в его распространении сыграл молодой тогда Леонид Утесов, песни которого охотно подхватывала молодёжь: «С одесского кичмана бежали два уркана», «Жил-был на Подоле гоп со смыком» и т. п. Вся Москва пела трогательную песню об уголовнице Мурке; эта девица порвала с преступным миром, «связалась с лягашами и пошла работать в губчека», за что герой по приказу «малины» (банды) был обязан её убить, что и сделал, несмотря на сильное личное чувство к Мурке. Прощание убийцы с телом зарезанной жертвы звучало поистине трагически: «И теперь лежишь ты в кожаной тужурке, смотришь в голубые небеса…» Мораль же песни была отвратительна: жестокие законы «малины» преступать нельзя, за измену – кара любой ценой.
В школах, на «пустых» уроках, когда приближался директор или завуч, мы оповещали друг друга об опасности блатными словечками: «зека» (одесское «гляди-ка») или «шухер» (по-одесски «сыщик»). «Лягавить» означало «доносить, выдавать», «хаза» – «квартира», «бан» – «вокзал», «хруст» – «рубль» и т. д.
Первым полноценным звуковым советским фильмом была «Путевка в жизнь», повествующая о борьбе милиции с малолетними правонарушителями и об их трудовом перевоспитании. Фильм был поставлен талантливо и правдиво, идея его была весьма гуманна. Но, увы, блатной мир был изображен в нем настолько жизненно и красочно, что чем-то даже подкупал, вызвав новую волну подражания, во всяком случае внешнего. Песенки и блатные словечки из «Путевки в жизнь» получили широчайшую популярность, родились и частушки на темы фильма:
Мустафа дорогу строил, Мустафа по ней ходил, Мустафа по ней поехал, А Жиган его убил, —так бесхитростно излагалась одна из сюжетных линий фильма: бывший беспризорный татарин Мустафа, с энтузиазмом взявшийся за строительство узкоколейки и решившийся первым проверить её готовность на ручной дрезине, был убит главарем банды Жиганом, роль которого исполнял Михаил Жаров.
Особенно восхищал юную публику эпизод, в котором не исправившийся еще Мустафа ловко и незаметно, с помощью острой бритвы, вырезал у модницы заднюю часть богатой меховой шубки:
Мы «Путевку в жизнь» видали, Раздавался в зале смех; Мустафа у модной даме Вырезал на ж… мех.Но это был последний всплеск «блатной романтики». В 1932 году власти всерьез взялись за ликвидацию беспризорности как одного из питательных источников уголовщины. Вдруг, в мгновение ока, из Москвы исчезли все беспризорные. Их поместили в колонии, каждого сбежавшего немедленно хватала милиция. Заметно поредело жулье, притихла устрашенная принятыми мерами дворовая и уличная шпана. Хитровка стала тихим и мирным районом. Исчез и более не появлялся распроклятый Йодина. Хождение в магазины стало безопасным. Москва облегченно вздохнула.
В нашем дворе открылась летняя детская площадка с разными кружками и играми, для чего были построены дощатые помещения. В кружке рисования я принял деятельное участие. Всё происходило под надзором взрослых активистов. Шпана в той мере, в какой она осталась, туда и нос не смела сунуть.
Говоря о темных сторонах предвоенного пятнадцатилетия, нельзя не упомянуть о таком нигде не описанном явлении, как «помойщики». В то время в каждом дворе стояли большие ящики для сбрасывания мусора – металлические мусоросборники появились только в 1950-х годах. Вдруг повсеместно, в том числе и в нашем дворе, вонючие ящики-помойки стали заселяться грязными, оборванными бродягами. Они и жили, и спали в помойках или около них. Никого не обижали, но страх и отвращение внушали немалое. Промышляли помойщики тем, что сортировали отбросы: всё, что годилось как «вторичное сырье» (по-тогдашнему – утильсырье) где-то сбывали. Не очень приятно было пойти с мусорным ведром к помойке и наткнуться там на грязного, обросшего мужчину, одетого в тряпье, вероятно подобранное тут же.
Однажды помойщик завязал со мной разговор: «Ну, чего принес? Ничего годного, гляжу, опять нет. Ты попроси у мамки одёжи какой ненужной, обуви старой. А так, пустой, больше и не ходи».
Вскоре наш помойщик обзавелся «женой» – рваной, растрепанной и немытой бабой. Можно было лицезреть, как перед сном прямо на помойке они по-семейному распивали пол-литра водки, закусывая хлебом и солеными огурцами. Жену прозвали «помойщица». Асе, маленькой соседской девочке, мать грозила: «Не будешь слушаться – отдам тебя помойщице». Перспектива, действительно, была не из приятных. Ася пугалась, затихала.
Откуда взялись помойщики? Говорили о них разное. Некоторые считали их безработными, но безработица к моменту их появления была уже почти ликвидирована, а в разгар безработицы никаких помойщиков никто не видел. Другие говорили, что это раскулаченные крестьяне, бежавшие от ссылки. Однако опустившиеся и неряшливые бродяги были мало похожи на домовитых и хозяйственных кулаков, недавних сельских богачей. Скорее всего это были отбывшие свой срок арестанты, не нашедшие себе места в жизни. Возможно, массовое появление помойщиков было вызвано какой-нибудь амнистией того времени. Так или иначе, помойщики внезапно всплыли на поверхность и так же неожиданно, в одночасье, и исчезли – в 1932 или 1933 годах.
7 Кони и автомобили
В глубокий наш двор редко-редко заезжал автомобиль. Как правило, это был «таксомотор», по-современному – такси. В корпусе жило немало ответработников, но не помню, чтобы за кем-то из них была закреплена персональная автомашина. Времена были демократические, даже обладатели «трёх ромбов» отправлялись на работу пешком или городским транспортом.
Таксомоторами были обычно открытые автомашины заграничных фирм: маленький итальянский «Фиат», остроносый австрийский «Штайр» или тапирообразный, со срезанным радиатором французский «Рено». Шофер в кожаном шлеме со стеклами и в крагах казался нам, детям, пришельцем из другого мира, сейчас бы сказали – инопланетянином.
Каждый приезд автомобиля становился для детворы, особенно мальчишек, сенсацией. Мгновенно вокруг машины собирались десятки ребят, гам стоял невообразимый. Редкостный экипаж подвергался тщательному и восторженному осмотру и, когда отворачивался шофер, благоговейному ощупыванию. Как только шофер чуть отходил, наиболее наглые и ловкие бросались к торчащей у дверцы резиновой груше-клаксону и нажимали на нее – раздавался резкий, рвущий уши сигнал, казавшийся божественной музыкой. Молчаливый, невозмутимый шофер сердито оглядывался – вся толпа во главе с пунцовым смельчаком, коснувшимся запретного клаксона, быстро отступала. Пока машина не уезжала, толпа вокруг нее не расходилась. За отъехавшей машиной многие бросались вслед, пытаясь зацепиться на задке, где было укреплено запасное колесо, но это редко кому удавалось. Проехаться в самой автомашине было мечтой заветной, но неисполнимой. Как дивное видение, автомобиль скрывался за воротами, оставляя после себя быстро рассеивающийся вонючий дым и долго не исчезающие впечатления.
Более частыми посетителями двора были извозчичьи пролетки, а зимой санки. Это интересовало меньше. Если автомобилей в. Москве было немного, то конный транспорт, особенно гужевой – ломовые телеги, зимой дровни и розвальни, заполонял весь город. Лошади занимали меня необыкновенно. Я мог подолгу рассматривать стоящую у тротуара нашего переулка лошадь, низко опущенную её голову с печальными и, казалось, всепонимающими глазами. Летом лошадь облепляли мухи, особенно их привлекала слизь вокруг глаз. Бедное животное, желая отделаться от насекомых, мотало головой, обмахивало круп хвостом, но мухи были неумолимы. Иногда возница вешал на шею лошади торбу с сеном, и животное медленно, нежадно пожевывало корм.
Интересно было наблюдать и лошадиные отправления. Вот неожиданно к задним копытам животного стекала густая струя мочи, остро и пряно пахнущей. А то лошадь вдруг красивым султаном поднимала хвост, из-под которого выпадали круглые, ровные шарики. От них шел теплый парок, особенно заметный зимой. Наиболее наглые из воробьев, рискуя попасть под копыта, тут же бросались к желанной добыче.
А как хороша была сбруя, всякие там седелки, подпруги, шлеи, чересседельники – названия эти, конечно, я узнал гораздо позднее. Чем богаче была сбруя, тем обильнее украшали её медные бляхи, ослепительно сверкавшие на солнце. Непременной частью сбруи была дуга с названием артели или треста, владеющего упряжкой, даже с номером телефона. Дно телеги было уложено слоем сена, клочья которого лошадь, идущая вслед, норовила урвать.
Дуги, дуги… Ведь делать их очень непросто, их гнут из одного обрезка дерева, клееных дуг не бывает. Вот уж сколько лет живу, так и не узнал, почему за границей, даже в Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии, обходятся без дуг, прикрепляя оглобли прямо к хомуту, а у нас без дуги ни одна лошадь не везла.
Летом на головы некоторых ломовых лошадей для защиты от солнца надевались соломенные шляпы с прорезями для ушей. Это придавало мощному животному нелепый, игривый вид и очень смешило меня, особенно когда иной затейливый возчик украшал конскую шляпу потертой голубой или розовой ленточкой. Однажды я слышал, как дворник крикнул такому возчику, загородившему телегой въезд во двор: «Куды ж ты барышню свою поставил?» Не сразу я понял, что барышня – это лошадь в шляпке, украшенной лентами, но реплика показалась мне в высшей степени меткой и остроумной.
Возчиками были пожилые плохо выбритые или бородатые мужики, не стеснявшиеся в выражениях, как правило – пьяницы. Наш переулок очень привлекал их водочным магазином, который мой отец называл по-старому – казёнкой или монополькой. Здесь было целое скопище извозчиков, особенно зимой. Официально водка тогда целомудренно не называлась водкой, на этикетках значился эвфемизм – «русская горькая», «английская горькая» и даже «белое вино». Рядом с «казёнкой» находился продовольственный магазин, я не раз наблюдал, как возчик, в парусиновом плаще поверх тулупа, заходил туда, прося продавщицу: «Отсыпь маленько сольцы, родная». Продавщица отсыпала, не требуя платы. Возвратясь к своим дровням, возчик посыпал грубой, желтой солью краюху хлеба, извлеченную из необъятного кармана, распечатывал бутылку, отпивал из нее, заедая посоленной краюхой, иногда – с соленым огурцом. После этого, согревшийся и побагровевший, лихим ударом кнута он отправлял свою кобылку в дальнейший путь.
В отличие от современных шоферов, возчикам дозволялось править своими экипажами и в нетрезвом виде. Главным было доставить груз в сохранности и своевременно.
А это не всегда удавалось. И даже не по вине возчика. Лошади эксплуатировались нещадно, до последнего их часа. Несколько раз я был свидетелем сцен, больно сжимавших мое детское сердце. Старая кобылка еле-еле тянет нагруженную телегу. Выбившись из сил, падает на передние, потом на задние ноги. Возмущенный возчик, оглашая воздух омерзительной матерщиной, больно стегает кобылку, особенно стараясь попасть в глаза. Лошадь тужится, встает – ей явно неловко оставлять хозяина в столь затруднительном положении, делает несколько шагов и снова падает. Новые попытки поднять её и заставить двигаться. Но силы кобылки на исходе, на удары кнута она реагирует лишь судорожными вздрагиваниями ног и, наконец, белея глазами, испускает дух. Отчаявшийся, всё на свете проклинающий возчик распрягает её и идет звонить в свой трест, чтобы прислали на замену свежую лошадь. Это, разумеется, происходит не скоро, возчик, изрыгая проклятия, боится далеко отойти от телеги и поклажи… Дохлая лошадь, накрытая старой рогожей, иногда дня два-три одиноко лежит на мостовой, бока её заметно раздуваются. Проезжающие мимо лошади при виде мертвой товарки испуганно вздрагивают и отпрядывают. Вероятно, рассуждал я своим детским умишком, предвидят и свой подобный же мрачный конец.
Калужская площадь.
Фотография 1930-х гг.
Смешно и суетно было наблюдать деревенских лошадей, пришедших в Москву впервые. Их совершенно подавляла окружающая суета, они вздрагивали от гудков автомобилей, а видя проезжающий трамвай, в страхе становились на дыбы, безумно закатывая зрачки. Прохожие смеялись и подбадривали деревенских мужиков-возчиков, которые сами был растеряны едва ли меньше своих кобылок.
Редко-редко приходилось прокатиться на извозчике, но это ощущалось большой радостью. Извозчичьи пролетки, по современным требованиям, были экипажем весьма неудобным. На сидении с трудом умещалось три пассажира, дети обычно сидели на коленях у взрослых или устраивались в ногах. Ступенька была высокой, весь экипаж – неустойчивым и, когда грузный человек усаживался в него, заметно кренился в одну сторону. Лошадки, правда, выгодно отличались от ломовых: молодые, чищеные и быстрые. Сам извозчик прочно усаживался на козлы и виден был седоку преимущественно в спину, так и велся с ним разговор. Одет он был в темно-синий армяк со складками сзади (зимой – в тулуп), обут в сапоги (зимой – в валенки), голову его украшал картуз (зимой – особая мягкая шапка, закрывающая уши). Обычно это был мужик «в возрасте», видавший виды и любивший порассуждать. Если ломовые извозчики управляли лошадьми многословно и эмоционально, то легковые, напротив, действовали едва слышимо. Лошадь пускалась в ход изящным, непередаваемым на письме движением языка – особым чмоканьем; рулем, акселератором и тормозом служили легко подергиваемые в ту или иную стороны вожжи, и только при необходимости «экстренного торможения» произносилось громкое «тпрру» с добавлением, при замедленной реакции кобылки, слова «проклятая». Вообще же поражало какое-то загадочное единение извозчика, лошади и экипажа, словно это был единый, хорошо налаженный механизм.
Несмотря на рессоры и резиновые шины («дутики») ехать по булыжным мостовым было тряско и неудобно, переезд через трамвайные рельсы требовал особой осторожности: если у седоков была поклажа, то она норовила выскользнуть из рук. Тяжелые вещи – чемоданы, баулы – извозчик искусно привязывал на задке повозки. При дожде он поднимал кожаный верх, накрывал седоков клеенчатой полстью, но ни то ни другое не спасало от брызг, попадавших с боков.
Тем не менее путешествие на извозчике было желанным и памятным событием. Завораживала прежде всего скорость: знакомые улицы, дома, магазины мелькали мимо с невиданной быстротой, очень интересно было обгонять трамваи – ведь они задерживались на остановках, восхищала умная, быстрая и как будто знающая маршрут лошадка.
Особенно приятно было ездить на извозчике зимой, когда колесная пролетка заменялась низкими и глубокими санками. Помню, всей семьей мы были вечером в Большом театре, из-за поздней поры отец решил нанять извозчика – целая цепочка их стояла у фасада, дожидаясь конца представления. Это называлось «извозчичья биржа», ибо таксы не было, плата была «по соглашению», то есть устанавливалась после некоторого торга. Отец, отказавший двум, заломившим слишком высокую, по его мнению, цену извозчикам, нанял третьего, который, хотя и согласился на отцову цену, но жаловался, что делает это себе в убыток. Однако предложение превышало спрос, многие извозчики так и не обрели седоков.
Извозчик накрыл нас, пятерых, толстой меховой полстью, и лошадка рысью понеслась по улицам центра, засыпанным свежим снегом, словно это была не Москва, а пригородный поселок. Хлопья снега ложились на шапку, плечи и спину извозчика, попону лошади, забеляли полсть, из-под копыт лошадки вздымались снежные брызги, иногда захватывало дух, особенно на поворотах, когда санки резко заносило в сторону. Синяя снежная ночь, редкие огни в окнах, желтый свет газовых фонарей, запушенные снегом деревья и крыши – незабываемое сквозь толщу десятилетий блаженство. Никогда не ездил на тройке – городские извозчики были только одноконными, но воспетая русскими писателями ямщицко-троечная романтика, навсегда исчезнувшая, понятна мне уже по этому короткому путешествию по зимней Москве 1926 или 1927 года.
На моих глазах конный транспорт в первую пятилетку сменился автомобильным. Телеги и дровни, спасаясь от конкурентов, на некоторое время надели на себя большие колеса, обутые в резиновые шины, и получили нелепое название «автокачки». Но час их пробил, эти «ни павы ни вороны» вскоре исчезли навсегда. Извозчиков вытеснили такси. Уже в 1935 году мне запомнилась фраза в разговоре взрослых: «Вот старомодные люди, до сих пор на извозчиках ездят». Такси, прежде всего новоявленные «газики», стали обыденным явлением. Говорят, последний московский извозчик исчез в 1939 году, хотя некоторые уверяли меня, что несколько извозчиков курсировало по московским улицам еще в годы войны. Не знаю, не видел.
Вместе с исчезновением конного транспорта изменились и московские мостовые. Булыжник уступил брусчатке и асфальту – сначала на крупных улицах, а в 1950-х годах – даже в глухих переулках. Удивляло меня, что асфальт поначалу укладывался на старый булыжник, разумеется, выровненный и усыпанный гравием или покрытый битумом, – основание достаточно прочное. «Культурный слой» Москвы тем самым поднялся на 15–20 сантиметров, под ним утонули нижние ступеньки подъездов, тумбы стали коротышками. Впрочем, скоро их убрали вовсе, за ненадобностью. Некоторые из них, чугунные, оказались стволами старых пушек и ушли в музей.
Даже в зимнее время поверхность московских мостовых стала ныне ощутимо иной. Раньше лошади выбивали копытами ступенчатые ухабы, полозья накатывали устойчивые колеи. В местах наибольшего скольжения, особенно на поворотах, снег уплотнялся, становился зеркально полированным, а на солнце быстро желтел. Теперь всего этого не стало. Зато выросли гряды, окаймляющие тротуары, образованные из более тщательно убираемого с мостовых снега. (Тут не могу не заметить: чудесное, старое слово «мостовая» в наши дни почему-то стало вытесняться уродливо-казенным «проезжая часть улицы».) Но гряды теперь недолговечны: их убирает снегоочиститель, грузя по транспортеру на самосвалы. Прежний сплошной снежный покров на московских мостовых стал редкостью. Вряд ли по Москве, даже в снегопад, можно теперь проехать на полозьях. А раньше на колесах проехать было трудно, автомобили то и дело буксовали.
Москва без лошадей – такого не могли бы представить себе не только наши далекие предки, но и довоенные её жители. Москва без автомобилей – такого не могут представить себе не только наши дети и внуки, но и мы.
8 Рейсовый транспорт
Трамвай я хорошо знал еще по Ленинграду, где мы жили до Москвы. Но московский трамвай мне полюбился гораздо больше ленинградского вот почему: в Ленинграде по обеим сторонам вагона стояли сплошные скамьи, сидящие пассажиры оказывались спиной к окнам. Что за интерес ездить, не видя, что за окнами? Чтобы видеть, надо было выворачивать голову, что было и неудобно, и утомительно. В московских трамвайных вагонах скамьи (кроме передних и задних) стояли перпендикулярно к окнам, открывая интереснейший обзор.
Хозяином вагона была кондукторша (мужчины-кондуктора были редки) – обычно полная, пожилая женщина с громким голосом. Она продавала билеты – рядом с денежной сумкой на плече её висели три билетные катушки. Почему три? Потому что до 1930 или 1931 года плата за проезд в трамвае была не единой, а в зависимости от расстояния, исчислявшегося «станциями». Станциями назывались не перегоны между соседними остановками, а несколько таких перегонов – вроде нынешних зон на пригородных поездах. Длина станций была разной и для меня не совсем вразумительной. Итак, билеты были трех родов: 8, 11 и 14 копеек. Продавались билеты и на «полторы станции». Незнающим кондукторша определяла стоимость билета по названной пассажиром остановке. Добрые кондукторши помогали приезжим советами, усаживали инвалидов и детей, называли ближайшие остановки, а иногда пускались в разные сторонние рассуждения и воспоминания. В 1957 году, когда кондукторов стали заменять билетными кассами, со мной разговорилась кондукторша, работающая на линии «А» с самого её основания, то есть с 1911 года. Вот был кладезь воспоминаний! Злые кондукторши, которых с годами почему-то становилось больше, чем добрых, всё время «воспитывали» пассажиров или злобно огрызались. Зато они очень ловко ссаживали пьяных.
Пневматические двери появились в трамваях только после войны. До того отправление трамвая происходило так: кондукторша, стоявшая в заднем конце вагона, справа, убедившись, что все сели, дергала за веревку, конец которой соединялся с рычагом простого механического звонка, находившегося над головой у вагоновожатого. Да, именно «вагоновожатого»; теперь его уже давно переименовали в «водителя трамвая». На тонкое «динь» кондукторского звоночка, вожатый отвечал гулким «бом-бом» своего ножного звонка: дескать, понял, отправляюсь. Если вагон имел прицеп, кондуктор прицепа звонил кондуктору моторного вагона, а уже тот вожатому.
Во время езды вожатый усердно пользовался своим «бом-бом»: уличная дисциплина тогда была слабая, многие приезжие, особенно из деревни, не учитывали опасностей уличного движения.
Театральная площадь.
Фотография 1929 г.
Многие вместо «трамвай» произносили «трынвай». Всякие наезды и аварии происходили чаще, чем сейчас. Во всяком случае, я, по малолетству ездивший в трамвае нечасто, видел их немало. Обычными были и пробки, заторы рельсового транспорта. После того как, съезжая с Рождественской горы, вагоны с непрочными тормозами налетали на впереди идущие, на гребне горы устроили установку со специальной сигнализацией: только после сигнала, что передний трамвай вышел на Трубную площадь, пускался в ход ожидающий. Но и это не спасало от аварий. Проблему решили просто: сняли эту линию вовсе – убыль, до сих пор ощущаемая москвичами.
Летом площадки были открытые, проветриваемые. Левые дверные проемы наглухо закрывались решетчатыми загородками метровой высоты. Зимой устанавливались сплошные двери, но неотапливаемый вагон в морозы превращался в передвижной холодильник, ехать в котором, даже при обилии пассажиров, было очень зябко.
Особенно тяжела была работа вагоновожатого, сидевшего на высоком табурете с круглым сидением. Его рабочее место не сразу догадались отгородить от салона. Хотя одет он был и тепло: в ватник, тулуп и высокие валенки, – постоянно открываемая передняя дверь уравнивала температуру с уличной. Автоматические стрелки вводились медленно, на перекрестках дежурили постовые стрелочники – бесформенные фигуры, облаченные в теплое тряпье. Но иногда стрелочник отсутствовал, и вожатому самому приходилось вылезать из вагона и собственным ломиком переводить замерзшую стрелку.
Прицепные вагоны, редкие в 1920-х годах, в 1930-х стали обычными, при этом ходил не только один, но и два прицепа. Выражение «трамвайный поезд» становилось вполне закономерным. В качестве первых прицепов долгое время использовали бывшие вагоны конки, окончательно упраздненной в Москве в 1912 году. Равнодушие к отечественной истории, свойственное 1920—1930-м годам, привело к тому, что ни одного коночного вагона, столь достойного музейного хранения, в Москве не сохранилось.
На задке вагона, помимо торчащего буфера, висел конец тормозного шланга, по-уличному – колбаса. Езда на буфере или на колбасе была любимым спортом московских сорванцов. Сегодня это можно делать с тем же успехом, но я давно «буферщиков» не вижу. Почему? Может быть, московские дети стали воспитаннее или за это следует очень строгое наказание? Я думал над этим. Нет, причины иные. В отличие от предыдущих поколений, современные дети привыкли к скоростям, избалованы ими. Быстрая езда стала бытом, и всё меньше детей смотрят в окна городского и междугородного транспорта. Можно было бы любоваться сменой пейзажей, но по телевизору покажут не хуже. Магия быстрой езды, захватывавшая наше поколение, потеряла свое очарование. Произошла ломка психологии миллионов людей начиная уже с детского возраста… Сейчас привлекают уже не скорости, тем более трамвайные, а только сверхскорости.
На верхушке моторного вагона был укреплен диск с номером маршрута, под ним – горизонтальная дощечка с указанием конечных пунктов. По странному капризу еще Городской думы для этого укоренилась форма прилагательных: так, трамвай линии 3, шедший от Семеновской заставы до Даниловского рынка, был снабжен дощечкой «Семеновско-Даниловская» (имелось в виду «линия»), № 24 – «Лефортовско-Хамовническая» (хотя проще было бы написать «Лефортово – Хамовники»), № 9 – «Лубянско-Останкинская». Номера (цифры) были выведены не стандартным шрифтом, а по-разному – тем самым каждый трамвай имел как бы собственную индивидуальность, и, видя номер, я словно встречал знакомого. Трамвай линии № 33 подмигивал мне верхними жирными точками своих завитушек, № 15 был прямой и строгий педант, особо миловиден круглотой своих цифр был № 23 с конечной петлей на Хохловской площади, частично дублировавший «А».
На дощечке под «А» было начертано «Бульварная»; одно время для отличия правого и левого маршрута на диске к букве «А» добавлялось «пр.» (правая) и «л.» (левая). По поводу правого маршрута пошляки острили: Аннушка – проститутка бульварная.
Одно время по бокам вагонов устанавливались транспаранты с коммерческой рекламой, затем её сменила политическая агитация. Хорошо помню транспаранты с лозунгами «Все на выборы в советы» и «Пятилетку – в четыре года», затем транспаранты исчезли вовсе.
С началом первой пятилетки население Москвы стало бурно расти, и городской транспорт превратился в «узкое место» столицы. Трамваи шли, увешанные гроздьями людей, из дверей торчал людской ком цеплявшихся друг за друга. Пассажиры обвивали хвост вагона, стояли на буферах. Переполненный московский трамвай стал одной из любимейших тем юмористов и карикатуристов.
Помню рассказ: в набитом трамвае, не разглядев друг друга, поругались парень и девушка, ехавшие на свидание друг с другом; оба вышли к условленному месту в измятой одежде, с оборванными пуговицами, а главное – насмерть разругавшиеся трамвае.
В остроумной сатирической поэме «Евгений Онегин в Москве», сочиненной известным юмористом Архангельским, были такие строки:
Вцепившись в трам, подобно кошке, Висит Татьяна на подножке, Онегин сзади, сам не свой, Уперся в спину головой.Трамвайной проблеме посвятили острый фельетон «Любимый трамвай» Ильф и Петров. Он был напечатан в «Известиях» и стал сенсацией. Всё это привело к решению строить в Москве метрополитен. Без него разросшаяся и многолюдная Москва была бы совершенно парализована.
Еще о старом трамвае. На некоторых крупных остановках дореволюционных времен сохранились крытые павильоны. Они спасали ожидающих трамвая от дождя и зноя. Помню два таких павильона на Театральной и Страстной (ныне Пушкинской) площадях. Под павильоном на Страстной был крутой спуск в подземную общественную уборную, одну из немногих в тогдашней Москве. Уличные уборные в большом количестве появились на улицах Москвы по специальному решению Моссовета от 1936 года. До того были дворовые уборные, посему во многих дворах можно было прочитать строгую надпись: «Уборной во дворе нет».
Пока в трамвае не было пневматических дверей, то есть вплоть до послевоенных лет, он обладал одним, правда сомнительным, преимуществом: можно было вскакивать и выскакивать из вагона на ходу. Огромная экономия времени! Милиционеры штрафовали за это, но соблазн не идти от остановки до дома или от дома к далекой подчас остановке был велик. Особенно охотно пользовались этой возможностью на поворотах и подъемах, там, где трамвай замедлял ход.
Году в 1935 трамвайщики ввели такую новинку: наряду с номером маршрута головной вагон снабжался лобовыми фонариками, цвета которых также обозначали номер. Составили целую цветовую цифровую систему: красный фонарик – один, зеленый – два, синий – три, желтый – четыре. Для однозначных номеров был и нейтральный цвет – белый, таким образом, левый фонарик маршрута № 6 закрывался белым стеклом, правый – цветным. Для «буквенных» маршрутов придумывались сочетания несуществующих номеров, так, «А» выделялся бледно-лунным и красным фонариками, как если это был бы 91-й маршрут (которого не существовало), «Б» – бледно-лунным и зеленым фонариками (т. е. формально 92-й). Эти цветовые обозначения просуществовали некоторое время и после войны, хотя смысл их мне так и остался неясен – какая-то польза была лишь в том, что вечером, будучи в некотором отдалении от остановки, человек мог бежать или не бежать к ней, видя издалека огни приближающегося трамвая.
Году в 1936 или 1937 московские трамвайные вагоны, традиционно окрашенные в красный цвет, кто-то решил перекрасить в зеленый. Появилось уже немало таких необычного цвета вагонов, пока перекраску не отменили: ученые доказали, что красный цвет лучше всего видим в тумане и в сумерках. Так было написано в газетах.
С автобусом я был знаком менее, по ближним улицам он не ходил. Первые автобусы в Москве были импортные, английские, фирмы «Лейланд», коричневого цвета. Одна из линий пролегала по Мясницкой. Уродливые, с маленьким передком и высоким неуклюжим кузовом, они отчаянно гудели и испускали бурый дым. Ездить в них было неудобно: крутые ступеньки, малая вместимость, тесный салон. Помню споры взрослых: как правильно произносить – «автобу́с» или «авто́бус»? Большинство произносило автобу́с – по аналогии с «омнибус», позднее тем не менее утвердилось авто́бус. Любопытно, что словарь Ушакова 1935 года издания допускает оба ударения.
Троллейбус, появившийся на улицах Москвы в 1933 году, сразу полюбился москвичам. Первый маршрут проходил по улице Горького, я немедленно совершил бесцельную ознакомительную поездку. По сравнению с автобусом троллейбус показался просторным и комфортабельным, даже внешне – красавцем. Поездка в нем оставляла чувство приобщения к чему-то очень удобному, ультрасовременному. С прицепом троллейбус никогда не ходил, но перед войной были пущены двухэтажные троллейбусы – на верхний, тоже крытый и застекленный этаж, взбирались по лестнице сзади, обзор оттуда открывался прекрасный.
Автобус фирмы «Лейланд».
Фотография 1931 г.
Настоящим праздником для Москвы был пуск первой линии метрополитена «Сокольники – Парк культуры» с ответвлением до «Смоленской» (от «Улицы Коминтерна», ныне «Калининская»[4]) – всего-навсего 12 километров. Ход строительства, борьба с плывунами, преодоление многочисленных трудностей широко освещались прессой. Подчеркивалось, что московский метрополитен будет лучшим в мире, и я не мог дождаться, когда же наконец увижу это диво. Профессия метростроевец тогда считалась профессией героической; когда метростроевцы в своих касках и замазанных глиной робах появлялись на улицах, толпа их приветствовала как людей подвига.
До официального открытия линии совершались пробные поездки уже и с пассажирами, месткомы выдавали на них специальные пропуска.
Троллейбус на Первой Мещанской ул. (ныне просп. Мира).
Фотография 1937 г.
Съездив на метро, отец и мне раздобыл такой пропуск, я с трепетом вошел в вестибюль станции «Кировская»[5]. Жаль, что такой исторический документ, как пропуск, был отнят на контроле. Кругом я увидел множество таких же счастливцев. С волнением, мешающим всё спокойно воспринимать, я спустился по длинному эскалатору в подземный вестибюль, вошел в мягко подкативший голубой поезд. Сесть на диван не удалось: вагон был забит. Нечего и говорить, что поездка была чисто аттракционная. Многие выходили на каждой станции, щупали облицовку. Еще сильно пахло штукатуркой и белилами, кое-что доделывалось. Однако восторгам не было предела: подумать только, на огромной глубине сооружены роскошные дворцы, доступные каждому, дворцы, подобных которым не найдешь и на поверхности земли! Особенно восхищали две технические новинки: эскалаторы и пневматические двери. Вся Москва спорила, какая станция самая красивая. Предпочтение отдавалось двум: «Комсомольской» (радиальной) и «Дворцу Советов» (ныне «Кропоткинская»).
Придя на следующий день в школу, гордый и красный, я целую переменку рассказывал одноклассникам о своих впечатлениях. Впрочем, через несколько дней моя монополия кончилась: метро открыло свои двери для всех.
Любопытны рассуждения и предубеждения, связанные с московским метро (некоторые говорили «метро») первых дней его существования. С понятием подземелья от веку связывалось представление о потёмках – многие до посещения метро думали, что это полутемная пещера. Такое можно прочитать даже в стихотворении Маяковского о будущем метрополитене (сам он до открытия не дожил), где он писал о метро как о месте раздолья для жулья (темно!). Иные опасались, что многометровые своды не выдержат нагрузки и где-нибудь когда-нибудь обрушатся на людей. Очень смущали подтеки на стенах – действие могучих подземных вод. Какую-то женщину отговаривали идти в метро работать кассиршей – дескать, пойдет и не вернется, а у нее дети. Брат моей бабушки – сердечник – так и не дерзнул проехаться в метро, опасаясь спертого воздуха и непривычного атмосферного давления. Люди боялись ступить на эскалатор, а в его конце сойти с него – вдруг не успеешь сделать шаг и поглотит бездна. Страшились пневматических дверей, которые будто бы могли больно стукнуть створами по замешкавшемуся пассажиру или провезти его по тоннелю с наполовину высунутым туловищем или застрявшей ногой.
Еще не так давно пресса писала о чрезмерной роскоши подземных дворцов московского метро. Это скорее относится к послевоенным станциям. Сегодня первые станции уже не кажутся роскошными и чрезмерно богатыми. Мрамор давно уже перестал быть привилегией царских дворцов. Такие станции, как Сокольники, представляются довольно тесными, примитивными, если не сказать убогими. Но первое время все станции напоминали пышные терема.
Кассовых турникетов тогда не было. В обычной кассе покупался картонный билет, напоминавший железнодорожный, стоимостью в 50 (потом 40) копеек. Правила предписывали поездку только в одном направлении и один раз. По вагонам ходил контроль, проверяя билеты и указанное на них время.
Пробный поезд московского метро на станции «Охотный Ряд».
Фотография 1935 г.
Перед вступлением на эскалатор билет гасился (надрывался) стоящим в начале эскалатора дежурным. Образцы первых билетов я сохранил. На билетах значится: «Московский метрополитен им. Л.М. Кагановича». Каганович как первый секретарь МК партии отвечал за строительство метро. В тот период он был любимцем Сталина и имя его везде популяризировалось, даже ставилось рядом с именем Сталина как его «ближайшего соратника». На радиальной станции «Парк культуры» многие годы там, где сейчас портрет Горького, красовалось панно, изображавшее в рост Сталина и Кагановича, еще носившего в 1935 году черную бородку. Станция «Охотный ряд» некоторое время носила имя Кагановича.
Метро верно служило москвичам не только как самое быстрое и удобное средство транспорта. В годы войны оно использовалось в качестве бомбоубежища, что предусматривалось при строительстве. Более того, до сих пор можно видеть приспособления, способные превратить станции метро й газоубежище, к счастью так и не использованные. В июле 1941 года дневная воздушная тревога загнала меня в строившуюся тогда станцию метро «Сталинская» (ныне «Семеновская»). Тут я увидел станцию метро в стадии строительства, сырую и холодную, без облицовки. Но в 1944 году, несмотря на военные годы, станция открылась в по-мирному богатом оформлении.
Первые билеты московского метро
Оформление ряда станций за последнее 30-летие изменилось. Убраны все изображения Сталина и почти всех его соратников. После 1956 года художнику П.Д. Корину пришлось переделывать два своих мозаичных плафона на станции «Комсомольская-кольцевая»: «Парад 7 ноября 1941 года» и «Парад Победы». Одиозные персонажи на трибуне мавзолея были заменены нейтральными фигурами. Гигантский мозаичный портрет Сталина в рост встречал пассажиров при выходе с эскалатора на станции «Арбатская», сейчас там осталась только пышная гипсовая рама. На станции метро «Курская-кольцевая» у входа, что рядом с вокзалом, сохранился пышный аванзал, напоминающий античный храм. Здесь, среди колонн, стояла импозантная статуя Сталина. Портреты Сталина, несомые демонстрантами, на панно станции «Добрынинская» заменены портретами Юрия Гагарина; эта «штопка» весьма заметна.
Самое неприличное проявление культа личности Сталина в оформлении московского метро являла собой станция «Новослободская». Там на панно в конце подземного вестибюля, была изображена молодая мать с ребенком на руках. Дитя протягивало свои ручонки, словно к солнцу или к самому Богу Саваофу, к помещенному рядом профилю как бы благословляющего его Сталина, Не хочу казаться умнее, чем я тогда был, но зрелище этой почти религиозной картины сильно меня коробило, и кое с кем из близких я этим поделился. Но люди слушали равнодушно, они уже привыкли ко всему.
Культ Сталина на первых линиях метро никак или почти никак не отразился (был только портрет Сталина и Кагановича, и то на холсте, на станции «Парк культуры»), Сталин стал героем станций метро только после войны.
Любопытно, что в первые годы по окончании строительства московский метрополитен стал достопримечательностью столицы, затмив все остальные выдающиеся сооружения. Не было крупного государственного деятеля, приезжавшего в Москву из-за границы, которого чуть ли не на второй день пребывания не возили бы в метро. Помню восторженные отзывы о московском метро чехословацкого президента Бенеша. В экскурсиях по метро высокопоставленных иностранных гостей сопровождали видные советские деятели.
Как только открывалась новая линия метро, не было москвича, кроме замшелых стариков, который не полюбопытствовал бы по ней проехать. Сейчас не только я, но и многие совсем молодые люди этим не интересуются. Метро стало обыденщиной, и даже обидно за архитекторов, удачно спроектировавших многие новые станции: никто специально смотреть их творения не ездит. Поэзия новизны превратилась в прозу быта.
9 Телефон, радио, начало телевещания
У нас в квартире вскоре после нашего приезда установили телефон. Номера тогда были пятизначные. Наш был 4 08 54. До революции действовали четырехзначные номера. В 1930 году появились автоматические аппараты, с диском, номера стали шестизначными – но первым знаком была не цифра, а буква, обозначавшая районную телефонную станцию. С 1968 года ввели семизначные номера, сплошь цифровые.
Наш аппарат был настенный – сейчас таких и не ставят. Никакого диска. Поднимаешь трубку и ждешь. Наконец женский голос произносит: «Станция». Называешь нужный номер. Голос повторяет названный номер, перепроверяет. Отвечаешь «да». Потом слышится какой-то шорох, после чего тот же женский голос объявляет: «занято» или «готово». В последнее время вместо «готово» телефонистки говорили «даю» – экономился один слог.
Так было в идеале. На практике же иначе. Сколько ни предупреждала печать, вежливые и многоречивые люди не просто называли требуемый номер, а произносили лишние, только загружавшие сеть слова: «Пожалуйста, барышня, будьте так добры соединить меня с номером…», «Благодарю вас, барышня» и т. п.
«Барышня» в те годы было словом ходовым. Всякую интеллигентную прилично одетую девушку называли барышней. Родилось даже журнально-фельетонное выражение «совбарышня», но комсомол такие словечки отвергал: «Не для того революцию делали, чтобы баре оставались». Комсомольцы называли себя ребятами, комсомолок – девчатами. В единственном числе – товарищ. Однако грубоватое «девчата» в 1930-х годах, не без влияния популярной пьесы Ивана Микитенко «Девушки нашей страны» стало заменяться на «девушки». И в качестве обращения к молодой особе утвердилось «девушка», никаких «барышень» не стало.
Но телефонные коммутаторщицы именовались только барышнями. Были они весьма воспитанны и выдержанны, но все же подчас теряли спокойствие. Если вы часто звонили и слышали «занято», попадая на одну и ту же «барышню», она разражалась упреками: «Переждите немного, я же вам сказала «занято», нельзя же каждую минуту звонить».
Телефонное общение с живым коммутаторщиком, а не с автоматом имело свои преимущества: не надо было мучительно вспоминать номера экстренных вызовов; со «скорой помощью», справочной или бюро ремонта телефонная барышня соединяла немедленно, не требуя называния номера.
Году в 1930-м пришли мастера и заменили наш аппарат другим – автоматическим, с наборным диском, но тоже настенным. Некоторое время автоматические и «простые» телефоны действовали в Москве параллельно, перестройка всей сети требовала времени. Чтобы вызвать с простого аппарата абонента автоматического, телефонистке просто назывался его номер, предваряемый буквой, обозначающей районную станцию. Чтобы телефонистка не ослышалась, предпочитали называть не букву, а название станции: Е – Бауманская, Г – Арбатская, Д – Миусская и т. д.
У нас была Таганская, или «Ж». Мой школьный приятель Павел С. вскоре после того, как у нас обоих установили автоматические аппараты одной и той же станции, спросил меня: «Знаешь, как набирать «Таганскую»?» И сам же ответил: «Сунь палец в Ж и крути до отказа». Шутка была ходячей. Не очень аппетитно, но отражает время.
С 1968 года радикальных изменений в московской телефонной сети не происходило. Будем ожидать видеотелефона. Зато большие перемены произошли в радиовещании. Помню его зарождение в Москве.
Как-то отец принес маленький деревянный настольный ящик. Сверху он был оснащен всякими мелкими устройствами. Главным была крохотная спиралька, управляемая ручкой. Другим концом спиралька соприкасалась с полупрозрачным кристаллом. Механика управления аппаратом была и проста и сложна: надо было поймать на кристалле точку, куда проникали радиоволны. Хитрый прибор назывался детектором.
Начало иллюстрированной инструкции по пользованию автоматической телефонной связью.
Из книги «Список абонентов московской городской телефонной сети», 1939 г.
Усилителя на приемнике не было» звук еле слышался через наушники. Иногда волна пропадала, и мучительные поиски её начинались снова. Потели ушные раковины, иногда удары пульса в ушах заглушали звуки радиопередача.
Тем не менее и взрослые и дети жадно вырывали друг у друга наушники. «Хватит, ты уже наслушался», – говорила сестра. А я только начинал слушать или, вернее, слышать. Другие же, как мне казалось, слушали недопустимо долго. Томило любопытство: а что же они слышали? Но слушающий безмолвствовал, дабы собственной речью не затруднять восприятие.
Я любил слушать передачу «Радиопионер», а также почему-то «Рабочий полдень». Вечерами часто передавали оперы из Большого театра. Однажды на спектакле присутствовал отец. Мы заранее договорились, что он даст о себе знать, делая последний аплодисмент.
Пару наушников в тот вечер разделили надвое. Один взяла сестра, другой – я. Передавали «Руслана и Людмилу». Музыка была нам безразлична, лишь бы услышать отцовский хлопок. Людмила допела наконец свою бесконечную каватину, раздались аплодисменты. Закончились, но вот одинокий хлопок – отца! Нет, еще хлопок – уж это точно он. Вдруг еще два хлопка – один из них уже явно отцов. И так после каждой бравурной арии и по окончании каждой картины.
Отец вернулся поздно, мы встретили его ликующим «Слышали, слышали!» Не оперу мы, глупцы, слушали, а его хлопки.
Детекторные приемники вскоре были заменены радиотрансляционной сетью. Кажется, в 1930 году на верхнюю полку буфета был водружен черный картонный диск в железном ободке, закрепленный на шарнирной стойке. Звук исходил из центра диска, откуда торчала тоненькая иголочка. Тут всё было гораздо проще, чем в детекторе, – вставляешь вилку в штепсель и регулируешь громкость. Никакой настройки не требовалось. Правда* работала только одна станция, оповещавшая о себе так: «Внимание, говорит Москва». Зато слушали передачу сразу все; недаром аппарат поначалу назывался громкоговоритель.
Незадолго до войны появились первые отечественные ламповые радиоприемники со шкалой настройки. Это были громоздкие и уродливые, но сработанные не без претензии ящики. У нас такого не было. Знакомые, обладатели совершенных аппаратов в первые же дни войны испытали горькое разочарование: ламповые приемники приказано было сдать, дабы враг не мог использовать их в подрывных целях. Только через четыре года приемники вернули владельцам и они, промолчавшие всю войну, заговорили снова.
Наш же громкоговоритель, вскоре сменивший свое торжественное имя на более скромное – репродуктор, честно нес свою службу всю войну. Он рассказывал о поражениях и победах, передавал сообщения Совинформбюро и речи Сталина. Только после войны, надорванный и засиженный мухами, он был заменен репродуктором в виде пластмассовой шкатулки.
Экспериментальное телевещание существовало еще до войны, но его мало кто видел: телеприемники не продавались. Когда оно стало массовым? Хотя это выходит за рамки описываемого периода, хочу напомнить: со второй половины 1953 года. Опасаюсь, что какой-нибудь писатель XXI века напутает и напишет в своем романе, что герои видели и слышали по телевизору выступления Сталина. Этого не было и быть не могло. Даже похороны Сталина по телевизору не передавали. Разумеется, чистая случайность, но начало телевещания совпало с началом хрущевской эпохи.
Первые аппараты с маленьким экраном для увеличения изображения снабжались линзой с дистиллированной водой. Назывались они КВН-49. 1949 год, вероятно, год получения патента, а КВН – инициалы конструкторов: Кенигсона, Варшавского, Николаевского. Остряки расшифровывали КВН так: купил, включил, не работает.
10 Развитие Москвы
Москва моего детства, особенно если сравнить ее с сегодняшней, выглядела бедной, убогой, обшарпанной. Весь архитектурный антураж не изменился в целом с 1914 года. Кое-где были видны следы октябрьских боев 1917 года и периода Гражданской войны: выбитые кирпичи на здании МГСПС (впоследствии музей Ленина)[6], простреленная снарядом трамвайная мачта около памятника Пушкину, каменные фундаменты разобранных на дрова небольших деревянных домов, оставшихся в годы разрухи без хозяев. Здания, уже десять-пятнадцать лет не ведавшие ремонта, даже «поддерживающего», ветшали. Где-то на окраинах строились жилмассивы для рабочих, вообще же новостроек было мало. Кое-где в центре появлялись новые здания для учреждений, выполненные в сухих, геометрических формах (никакого декора, только прямые углы!), конструктивизм негласно был объявлен ведущим стилем социалистической эпохи.
С наплывом людей из провинции некогда богатые многокомнатные квартиры в предреволюционных доходных домах превратились в коммунальные – на несколько семей. Существовал приказ, предписывавший на каждом доме вывешивать жестяные доски со списком ответственных съемщиков – по квартирам. Любопытно было читать эти списки: при каждой квартире значилось до десятка фамилий! Каким-то обратным приказом все эти доски после войны были удалены. Помню случайно уцелевшую в 1961 году доску в подъезде дома № 1 по Машкову переулку: только в квартире № 17 была указана одна фамилия – Е.П. Пешкова (вдова А.М. Горького), во всех остальных проживало по нескольку семей; а ведь в доме, комфортабельном и благоустроенном, до революции жили преимущественно представители интеллигенции, профессура и врачи.
Коммунальные квартиры стали непременным и неизбежным атрибутом послереволюционного быта. Можно себе представить, как осложняли жизнь «места общего пользования», кухня, где одновременно шипело несколько керосинок и примусов, вражда случайно объединенных жилплощадью самых различных по культурному уровню и происхождению семей, драка за крохотный участок в коридоре или на кухне: «Опять ваш велосипед весь коридор загораживает», «А вы свой столик на кухне подальше отодвиньте, нечего других оттеснять», «Вы бы хоть научились в уборной воду спускать, теперь лакеев нет», «Не смейте собаку в ванне мыть» и т. п. Входы в квартиры были снабжены либо несколькими «индивидуальными» звонками, либо одним общим, но с многочисленными карточками: Ивановым – один раз, Петровым – два звонка, Сидоровым – два коротких, один длинный и т. д. На самих входных дверях висело по нескольку почтовых ящиков с указанием фамилии и выписываемой периодики.
Государство было еще слишком бедно, чтобы за свой счет строить жилые дома; строили их жилищно-строительные кооперативы, иногда – с дотациями предприятий. Это не значит, что в домах ЖСК каждая квартира была на одну семью: если не хватало денег, то член жилкооператива заранее рассчитывал на комнату в коммунальной квартире, даже если у него были подрастающие дети. Дома ЖСК строились со всеми удобствами (газ, ванные), и квартиры в них казались раем для жителей подвалов и полуподвалов.
Подсосенский переулок, дом 13 – долгое время это был пустырь с остатками разобранного на топливо дома. Но вот в 1929 году сюда пришли строители. Это была первая виденная мною стройка дома. Я внимательно следил за ходом строительства, рисовал на картоне различные его стадии, не ленясь вырисовывать каждый кирпичик. Строили вручную: сначала землекопы вырыли котлован, затем каменщики заполнили его глыбами белого (бутового) камня и залили цементом. Потом бородатые мужики в парусиновых передниках ловко клали ряды кирпичей, промазывая промежутки раствором. А почему здесь пропустили, не кладут? Ага, значит, будет окно, выкладывают только простенки справа и слева. Каменщики вели себя как аристократы, это все же были мастера; они покрикивали на чернорабочих, таскавших «на горбу», с помощью особого устройства – «козы» кирпичи по шатким мосткам и трапам. Никаких строительных кранов, одна лишь физическая сила. Кажется, только бочки с раствором поднимались к местам кладки на блоках.
Наконец стройка подведена под крышу, плотники устанавливают белые, обтесанные стропила, из-за чего верх здания выглядит гигантским обглоданным скелетом. Но вскоре кровельщики обшивают стропила листовым железом, и долго звучат в ушах их звонкие молоточки: бим-бим-бим.
Однако это не всё: дом построен, но еще не одет. С крыши спускают люльки (какое нежное, детское слово для грубо сколоченных ящиков!), с которых штукатуры ловко набрасывают на стены цемент, а потом выравнивают его мастерками. В это же время оконные проемы заполняются рамами, стекольщики быстро вставляют в них стекла, маляры проворно красят крышу, рамы, двери, водосточные трубы – и вот вместо пустыря стоит высокий и красивый дом под № 13. Стоит как-то странно, словно застенчивый новичок, правым углом ближе к улице, левым отступя, будто робея подойти к тротуару. Высокий и красивый… Так мне казалось тогда – сейчас (хотя его надстроили до шести этажей) он видится убогим и низкорослым. Тем не менее это памятник эпохи, типичный для первой пятилетки: дом, построенный без всяких экскаваторов, подъемных кранов, разбрызгивателей и подобной техники – одними лишь крепкими и умелыми мужичьими руками.
Так возводились в Москве первые советские дома. Особая ответственность лежала на инженерах: не дай Бог в чем-то ошибиться, недоглядеть – осудят не просто за халатность или небрежность, а обвинят во вредительстве. Ведь, как правило, диплом у инженера не советский, а еще с царским орлом – какого-нибудь императорского училища, а сам он – дворянского происхождения, то есть потенциальный классовый враг.
В те же годы у Большого Каменного моста выросли огромные темно-серые корпуса Дома правительства, как его тогда называли. Это был первый советский многоквартирный «жилмассив» – с театральным залом, кинотеатром, столовой и магазинами.
Коридор коммунальной квартиры.
Фотография 1929 г.
Квартиры распределялись среди крупных ответственных работников Совнаркома и ЦК. Самым высоким домом Москвы 1920-х годов было здание между Калашным и Средним Кисловским переулком, сейчас хорошо просматриваемое с Арбатской площади. Арендовал его Моссельпром – популярная и влиятельная в те времена торговая организация, которая, располагая большими возможностями и средствами, сбивала цену на сельскохозяйственные продукты у частника. Моссельпром выделял огромные средства на рекламу, даже дом в Калашном был уснащен коронным девизом этого объединения, сочиненным Маяковским: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Прямоугольный дом с высокой башней на некоторое время стал одной из достопримечательностей столицы и даже горделиво именовался «московским небоскребом». Мне выписывали журнал «Пионер»; приложением к одному из его номеров была картонная раскройка дома, которую я старательно вырезал и склеил там, где было указано. Так «московский небоскреб» в миниатюре утвердился и на моем подоконнике, месте моих домашних игр и занятий. Вниманию современной молодежи: собственным письменным столом я обзавелся только тогда, когда мне стукнуло 42 года.
Широкое строительство развернулось в 1930-х годах; ему предшествовала грандиозная ломка. В первую очередь церквей как центров религиозного мракобесия. Список снесенных в 1928–1934 годах церквей, как правило – ценных памятников архитектуры, мог бы ввергнуть в уныние не только современного любителя старины, но и человека, совершенно равнодушного к архитектуре. Но древность тогда вообще была не в почете; к зданиям относились, как к бытовым вещам, домашней утвари: чем старее, тем ненужней. К тому же все старое связывалось с эксплуататорским строем и слова тогдашнего государственного гимна «Весь мир насилья мы разрушим до основанья» понимались не только в социальном плане, но и как слова о материальном, вещественном «старом мире».
Сносились не только церкви, но и гражданские сооружения, многие, как объяснялось, для расширения улиц и площадей, облегчения транспортного движения. Так исчезли Красные ворота на одноименной площади, которые мне, ребенку, особенно нравились венчающей фигурой юноши-ангела с трубой. В 1936 году были разобраны Триумфальные ворота, ныне восстановленные на новом месте, но совершенно потерявшие там свою значимость и монументальность, – пример, лишний раз подтверждающий, как подлинно ценное архитектурное сооружение прочно вписано в окружающий пейзаж и как не терпит оно переноса в другое место.
Площадь Красные Ворота до и после сноса триумфальных ворот. Одна из открыток серии «От старой к новой Москве». 1930-е гг.
В знаменитой Сухаревой башне мне еще удалось побывать: там помещался Музей истории Москвы, тогда – Коммунальный. С Сухаревой башней дело обстояло сложнее, снесли её волевым решением, но после некоторой дискуссии. Она действительно загораживала две крупные магистрали и приводила к серьезным транспортным заторам[7]. Чуть ли не ежедневно около нее случались аварии, нередко с человеческими жертвами, и довод гуманности в устах сторонников ее сноса звучал весьма весомо. Передвигать же громадную башню или делать объезд вокруг нее для той поры было делом малореальным. Так или иначе, участь великолепной башни, построенной на столь неудачном месте, в 1934 году была решена.
В том же году была сломана Китайгородская стена на участке от Лубянки до Варварской площади. Вот это уже вряд ли было необходимо: ширина Китайского проезда до Ильинских ворот была бы достаточной и для современного движения, далее же (на Старой площади) стена никому не мешала и ничего не стесняла, езда там все равно на двух уровнях. Другое дело главное её украшение – ворота с башнями. Арки их действительно были крайне узки. Если бы тогда объявили Китай-город заповедным, закрытым для транспорта местом, то всё можно было бы сохранить. Но заповедным местом Китай-город не объявлен даже сегодня из-за обилия государственных учреждений.
Китайгородская стена между Ильинкой и Лубянкой мне хорошо памятна: школьником я нередко наведывался сюда на книжный рынок. Вся полоса около стены была усеяна палатками книготорговцев, а кое-кто торговал и с лотков или прямо с земли, разложив товар на холстине. Торговля была сплошь букинистической, здесь можно было откопать изумительные книжки, и только мой тогдашний глупый возраст ограничивал собственный выбор томиками Жюля Верна и Уэллса. Да и денег было мало. А торг был таков: владелец лавки визуально оценивал отобранные книги (копаться в них можно было сколько угодно). Помню, я отобрал две книги, он решительно добавил к ним третью, по своему выбору (тоже неплохую для подростка) и сказал «Ну, давай свой рубль и проваливай». Купюру торговец видел или угадывал в моем кулаке и сразу смекал, что она – единственная.
Сухарева башня. Фотография 1930-х гг.
Лубянская площадь. Справа – Китайгородская стена и Никольские ворота, открывавшие въезд на Никольскую ул.
Фотография 1929 г.
Торговали у Китайской стены и старинными картинками – лубками и офортами, иные приносили целые альбомы с видовыми открытками, а то и голыми красавицами. Среди литературы было много предреволюционных изданий – книги «властителей умов» тогдашней интеллигенции, всякие там Ницше, Шницлеры, Стриндберги и Уайльды. Но в избытке были и классики, в любых изданиях и по любой цене – от массовых пятикопеечных изданий до импозантных брокгаузовских фолиантов. Немало встречалось старинных курьезных изданий – допотопные сонники, лечебники, письмовники и песенники, цена которых была невысока, поскольку спросом они почти не пользовались. Но были, конечно, и. очень ценные издания, которые торговцы в ожидании солидного покупателя прятали под прилавком.
Если бы на машине времени запустить на тот рынок современного денежного книголюба, с ним случилось бы одно из двух: либо он тут же умер бы от потрясения, вызванного богатством выбора, либо увез бы целый грузовик букинистической литературы, цена которой с тех пор выросла раз в двадцать.
Когда рынок закрыли, многие букинисты перекочевали в другие места центра, обосновавшись в глухих подворотнях или глубоких нишах зданий. Помню знаменитого Ципельзона, сменившего свою лавку у Китайской стены на торговый стенд у входа в нынешний театр Ермоловой. Уже после войны я слышал его публичный рассказ о себе, который передаю в собственном, но, по-моему, точном освещении. В годы революции он, нищий студент, женился на дочери действительного статского советника, обладателя огромной библиотеки. Старый сановник был, разумеется, не в восторге от брака своей единственной, воспитанной гувернантками дочери с безродным евреем, к тому же крайне уродливым и с «дурными манерами». Но презираемый зять оказался столь проворным коммерсантом и знатоком книг, что, скупая за бесценок библиотеки других «бывших», не только спас семью от голодной смерти или во всяком случае распродажи всех богатств, но и способствовал её (и своему) полному процветанию. Так что брак дочери оказался на редкость удачным.
Но вернусь к архитектуре. Наиболее громким и грозным актом уничтожения архитектурного памятника был снос храма Христа Спасителя, господствовавшего своим гигантским золотым куполом над всей Москвой[8]. Это было бы равносильным сносу в Ленинграде Исаакиевскош собора, тоже, между прочим, сооружения эклектического, спорных художественных достоинств, и тоже, бесспорно, символа самодержавия и православия. Однако ленинградцы оказались умнее москвичей: они сохранили едва ли не все свои памятники, даже сугубо одиозные, вроде церкви Воскресения на крови и конной статуи Николая I. Кажется, не уцелела только маленькая церковь Знамения перед Московским вокзалом, но построенная после войны на её месте станция метро «Площадь Восстания» откровенно имитирует формы снесенной церкви.
Внутренняя часть Китайгородской стены в районе Старой пл. Фотография 1927 г.
Тихо и незаметно исчезли в Историческом проезде древние Иверские ворота с двумя проездными арками: военным парадам с их могучей техникой они несомненно мешали[9]. В том же 1931 году от здания ГУМа перенесли к храму Василия Блаженного памятник Минину и Пожарскому. Знатоки говорили: «Ведь Минин показывал Пожарскому рукой на Кремль, дескать, вставай, спасай династию», им отвечали: «Потому и переставили».
Страшной потерей для Москвы был бы снос храма Василия Блаженного. Такое намерение было, собор заграждал движение танков и артиллерийских орудий во время парадов. Называли даже инициатора сноса – архитектора Щуко. Спас собор архитектор-реставратор П.Д. Барановский, ему бы следовало поставить хотя бы бюст около собора. Сталин в последний момент внял гласу разума и отменил снос.
Факт, который уже никто не помнит, но за подлинность которого я ручаюсь, ибо он меня крайне поразил: по чьему-то влиятельному приказу (скорее всего, самого Сталина) в 1933 или 1934 году отрезок Кремлевской стены между Спасской и Никольской башнями был густо закрашен белой краской. Вероятно, казалось, что белый цвет лучше выделит мавзолей. Но опыт не удался, и белую краску вскоре начисто отскоблили.
Кстати о мавзолее. Построенный в 1930 году, он стал подлинным украшением площади, трудно себе представить, что когда-то его не было. В этом блестящая заслуга А.В. Щусева. Удивительно, как маленькое сооружение, окруженное громадными стенами и башнями, не утонуло среди них, а стало естественным композиционным средоточием обширной площади. Парадокс, едва ли не единственный во всей истории архитектуры.
Еще о парадоксах. Многие не поверят: как ни велика была ненависть к свергнутому самодержавию, но еще на 18-м году советской власти главные башни Кремля венчала эмблема монархии – двуглавые орлы, видимые отовсюду. Только в 1935 году их сняли и заменили огромными золочеными звездами, но они оказались слишком тяжелыми и угрожали целости башен. Через год их заменили более легкими, нынешними, светящимися в темноте.
Снос значительных архитектурных памятников, прежде всего церквей, продолжался до 1936 года, но с возрождением патриотизма и изменением отношения к отечественной истории волна спала.
Напомню, что до 1935 года термин «патриотизм» был запретным, так же как слова «родина», «отечество», даже в сочетании с эпитетами «советское», «социалистическое». Какая там родина, если Маркс говорил, что отечество пролетариата – весь мир, а Маяковский призывал «в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем»! Однако в конце 1935 года «Правда» опубликовала статью, посвященную постановке оперы Бородина «Богатыри» в Камерном театре. Ставил оперу Таиров, текст ее переработал Демьян Бедный. В ней были осмеяны русские народные герои – богатыри, и такое издевательство над русской историей и фольклором газетой резко осуждалось. С тех пор негативное отношение к дореволюционной России, её истории переменилось: уже в 1937 году страна торжественно отпраздновала 125-летие Бородинской битвы – в той самой войне, название которой «отечественная» в учебниках истории стояло в иронических кавычках. На Бородинском поле стали спешно восстанавливать заброшенные и полуразрушенные памятники героям битвы. Медленно, но твердо стало меняться отношение и к другим памятникам старины.
Не будь этого поворота в официальных исторических взглядах, Москва (да и не только Москва) не досчиталась бы еще многих исторических памятников, ценность которых бесспорна.
В 1920—1930-х годах, да и позднее были сломаны сотни скромных старинных усадебок и домишек эпохи Екатерины и Александра I, провинциальных и миловидных. Все они или почти все, не будучи Подновляемы, пришли в аварийное состояние и выглядели, как ветхие лачуги. Честно говоря, никто об этих домиках тогда особенно не сожалел – по многим причинам. Во-первых, они не казались особенно старыми (сто лет для здания – не возраст), в них подчас жили если не внуки, то правнуки первовладельцев. Во-вторых, став коммунальными квартирами, они и вовсе лишились элементарных удобств: жильцы были рады-радёшеньки отсюда уехать. В-третьих, такие дома сотнями сносились и до революции – они освобождали место для более современных и комфортабельных домов, то был естественный процесс сноса и замены старого жилого фонда, никого не удивлявший и не возмущавший. Сейчас, когда ампирных домишек осталось наперечет, мы законно скорбим по каждому новому сносу. Тогда же их было море и сохранять, тем более реставрировать их казалось неразумным и неэкономичным.
Разумеется, надо было законсервировать несколько наиболее живописных старинных кварталов Арбата и Староконюшенного переулка, наименее испорченных предреволюционной застройкой. Сейчас хватились, но уже поздно: «пушкинская тропа» мало чем напоминает улицы времен Пушкина.
Размышляя обо всем этом, нельзя не заметить: общественное мышление за последние лет тридцать заметно изменилось. Тогда мы предпочитали смотреть только вперед, теперь всё чаще оглядываемся назад, пытаясь сопоставить прошлое с сегодняшним. Так не только в нашей стране, но и везде в цивилизованном мире. Когда-то прогресс в технике, градостроительстве, экономике и т. п. нам представлялся явлением только желанным и отрадным. Сегодня, видя угрозу термоядерной и экологической катастрофы, мы все чаще задумываемся над теневыми сторонами прогресса и склонны идеализировать прошлое, видеть в нем преимущественно хорошие черты. Не случайно в этой связи увлечение стилем «ретро». При этом мы настолько избалованы бытовым комфортом, что считаем его совершенно естественным. Глядя на обиталища великих людей прошлого, мы забываем о том, что, с нашей точки зрения, они были убийственно дискомфортными. Сегодня даже самый ярый любитель старины счел бы для себя совершенно оскорбительным, если бы его переселили в дом с дровяным отоплением, где ему пришлось бы самому доставать и колоть дрова, топить печи, не забывать вовремя закрыть вьюшку. Но это еще не так страшно; а что бы вы оказали о выгребных ямах, вонючих ассенизационных обозах, свечном освещении, дикой антисанитарии Москвы еще сто лет назад, когда жителей ее безжалостно, часто еще в молодом возрасте, косили инфекции и эпидемии? Когда приходилось с нетерпением ждать водовоза с бочкой не очень свежей воды, вычерпнутой подчас прямо из Москвы-реки? Об удобствах, в которых живет нынешний москвич, обладающий современной квартирой, не мог сто лет назад мечтать даже московский генерал-губернатор.
* * *
В июле 1935 года было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструкции Москвы». Я тогда же купил брошюру с его текстом, она у меня сохранилась. Тут многое любопытно, хотя бы то, что в начале стоит СНК, а потом уже ЦК; соответственно этому постановление подписано сначала Молотовым как председателем Совнаркома, а потом уже Сталиным как секретарем ЦК ВКП(б). Несмотря на это, генеральный план вскоре стал называться Сталинским, а Сталин – его великим вдохновителем и организатором.
Перечитывая постановление, убеждаешься, что многое в нем было правильным и остро необходимым: Москва должна была стать современным и удобным для всех ее жителей городом, очиститься от трущоб, обрести все блага цивилизации. И в этом направлении еще до войны за каких-нибудь шесть лет (план был рассчитан на десять) было сделано немало. Достаточно упомянуть развитие водопровода и канализации даже на окраинах, широкую газификацию и электрификацию, усовершенствование транспортной сети и т. п.
Однако во многом план страдал гигантоманией и утопизмом. Это особенно касалось новой планировки города. План предусматривал «сохранение основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей». Что это означало? При сохранении старых радиальных и кольцевых магистралей их предполагалось расширить чуть не вдвое; при этом целиком «зарезалась» та или иная сторона плотно застроенной старой улицы, то есть сотни капитальных и еще крепких домов следовало снести. А куда переселять людей? Об этом в плане не говорилось ни слова.
Кроме того, предусматривалась пробивка через живое тело города новых широких магистралей – в этой части план был реализован лишь после войны, причем дело ограничилось лишь двумя магистралями – Новым Арбатом и (частично, без Остоженки) Комсомольским проспектом, если не считать Новокировского, который, как приходилось слышать, до центра (Лубянской площади) доведен не будет[10].
Тверская ул. до реконструкции. Слева – здание Центрального телеграфа.
Фотография 1929 г.
Что касается радиальных магистралей, то осуществлена была лишь реконструкция улицы Горького[11]. Это, бесспорно, сделать было нужно, Москва получила столь необходимую ей достойную главную улицу. Только тот, кто помнит старую, узкую, кривую и холмистую Тверскую, поймет, что без реконструкции она не могла бы продолжать выполнять свою роль и стала бы неким тромбом города.
Проект планировки района Дворца Советов.
Из журнала «Архитектура СССР». 1935 г.
До 1935 года набережные Москвы-реки были укреплены камнем лишь от Устьинского моста и до Большого Каменного, берега Яузы вовсе не были «одеты камнем». По зеленым склонам, заросшим крапивой, репейником и щавелем, бегали ребята, валялись подозрительного вида босяки. Особенно ужасны были берега Яузы, даже около её устья. Кое-где, привязанные веревкой к колышку, блеяли козы. Сюда сливались помои, среди репья валялись изношенные калоши, дырявые ведра, дохлые кошки. Бурая, с лиловыми нефтяными подтеками Яуза, обтекая кирпичи и коряги, испуская зловоние, с трудом пробивала себе путь к Москве-реке, и это всего лишь в каком-нибудь километре от Кремля.
Еще до войны Москва-река и Яуза преобразились неузнаваемо. Уровень поднялся за счет волжской воды, старые мосты заменились широкими, новыми, булыжные набережные были расширены и заасфальтированы. Всё это предусматривалось планом и было точно и в указанный срок выполнено.
Но сколько в генплане было нелепого и несообразного! «Красную площадь расширить вдвое» – за счет чего? Говорили – ГУМа: вместо него, вернее в глубине, за ним, проектировался огромный и уродливый Дом промышленности, буквально задавливающий Кремль. Композиционным центром города, должен был стать уже не Кремль, а 420-метровый Дворец Советов, увенчанный более чем стометровой статуей Ленина, которая, как говорили знатоки, большее время года была бы окутана туманом и облаками. К нему от Лубянской площади должен был вести новый широченный проспект, жертвой которого стал бы не только квартал против Библиотеки им. Ленина, но и Манеж. Предусматривался снос кварталов между Волхонкой и Большим Каменным мостом; стоит посмотреть этот уцелевший, к счастью, квартал, плотно застроенный капитальными жилыми домами – целый районный город.
Дворец Советов, строительство которого началось и было прервано войной, оказался никому не нужен – ни на старом, ни на новом месте, избранном после войны на Ленинских горах[12]. Сколько бы стоило это помпезное сооружение, за счет которого можно и нужно было бы построить для москвичей сносные квартиры или, во всяком случае, лучше подготовиться к войне. С какой горечью я узнал уже после войны, что любимец Гитлера архитектор Шпейер, ознакомившись с генпланом реконструкции Москвы, предложил фюреру свой план нового Берлина с центром – Дворцом Германии на каких-то десять метров, ради рекорда, выше проектировавшегося Дворца Советов!
Изучая генплан 1935 года, приходишь к мысли, что он по праву был назван сталинским. В нем чувствуешь руку и волю Сталина: план это во многом волюнтаристский, беспощадный ко всему старому, дореволюционному, преследующий целью превратить исторический центр Москвы – любой ценой и в кратчайшие сроки – в помпезно-парадную декорацию, которая вызывала бы у людей коленопреклоненное восхищение и верноподданнический трепет. Такого масштаба план мог бы, пожалуй, составить только Петр Великий, аналогию с которым Сталин отвергал («Исторические параллели рискованны, данная – бессмысленна», – сказал он в беседе с немецким журналистом Эмилем Людвигом). Разница была лишь в том, что у Петра было больше вкуса, чем у Сталина, а главное, что Петр умел привлекать к работе талантливых архитекторов и доверяться их вкусу. Сталин же имел в своем распоряжении сотню, быть может, неплохих профессионалов, но ни одного гения. Никто из них не посмел бы ему возразить ни словом, ни взглядом.
Как хорошо, что сталинский радикальный генплан после войны был тихо пересмотрен и скорректирован с удалением из него большинства гигантоманских замыслов, а в 1971 был заменен новым, гораздо более разумным, жизненно насущным.
* * *
Еще до принятия сталинского плана был снесен старый Охотный Ряд, насколько помню, мало украшавший центр Москвы, – разнородные, преимущественно приземистые здания с лавками. Рассказывали, что в ночь закрытия лавок, перед их сносом, из них ринулись полчища потомственных охотнорядских крыс – организованно, стройно, чуть ли не поротно и побатальонно. Направлялись они по Моховой к Москве-реке. На утро будто бы нашли скелет растерзанного постового милиционера, оказавшегося на пути крысиной армии. Куда ушли эти твари – неизвестно.
На правой стороне Охотного Ряда построили гостиницу «Москва», которую в период строительства именовали «Гостиницей Моссовета». Мне еще тогда охотнорядский фасад здания не нравился своей дробностью и невыразительностью. Гораздо более привлекало аскетически строгое здание на противоположной стороне (тогда тут помещался Совет труда и обороны)[13]. Вскоре расчистили участок между «Москвой» и Манежем, плотно застроенный старыми каменными зданиями, в том числе унылого вида гостиницей со странным названием «Лоскутная». Рядом с гостиницей, напротив нынешнего «Интуриста», был старенький дом с букинистическим магазином, в котором всегда было обилие изданий первых лет революции, часть их была напечатана с помощью примитивной множительной техники – всякого рода сочинения футуристов, имажинистов, акмеистов и т. п.
Раскрылась огромная площадь, вначале не имевшая официального имени – её называли то Манежной, то Новоманежной, то Университетской. В 1967 году её бездумно наименовали площадью 50-летия Октября и поставили закладной камень памятнику в честь этой годовщины[14].
Планировать сооружение памятников не в память самих событий, а в честь их годовщин мне кажется бессмысленным, тем более когда их никто и не собирается ставить. Такова же судьба памятника, который в 1954 году обещали соорудить в память 300-летия присоединения Украины к России, закладной камень в сквере у Киевского вокзала с большой помпой открыли, а о памятнике, кажется, и вовсе забыли.
И еще о нереализованных памятниках. Постановление «О генеральном плане реконструкции Москвы» предусматривало постройку на стрелке Водоотводного канала монумента в честь спасения челюскинцев. Ажиотаж по поводу спасения быстро прошел, и этот пункт постановления остался на бумаге. Кажется, на этом месте, а может быть, где-то неподалёку, но во всяком случае тоже в центре Хрущев в 1956 году предложил соорудить мемориал жертвам сталинских репрессий. Но предложение не было оформлено постановлением Правительства и, естественно, повисло в воздухе, о нем мало уже кто и помнит[15].
Пушкинская пл. и «дом с балериной» на ул. Горького.
Фотография 1951 г.
В 1939 году прорубалась новая улица Горького, взрывались и передвигались здания, я бегал смотреть на реконструкцию, старая Тверская мне хорошо была знакома, каждый дом и магазин, но никакого сожаления к ней я не испытывал, снесенное казалось уродующей столицу рухлядью; даже старое поколение москвичей никаких сожалений не высказывало, а радовалось. Правда, к корпусам архитектора Мордвинова москвичи отнеслись с иронией, но благодушной: посмеивались над арабскими башенками, украсившими дома по левой от центра стороне. Как рядовая, фоновая застройка новые корпуса быстро прижились, какое-то единство стиля улицы они создали. Чтобы акцентировать угол дома № 17, выходящего на Пушкинскую площадь, Мордвинов, зодчий весьма посредственный, ни к селу ни к городу установил на верхушке статую балерины с поднятой рукой (а не ногой), ныне давно уже снятую. Под статуей, в начале Тверского бульвара, оказался памятник Пушкину. По этому поводу кто-то посвятил Мордвинову эпиграмму:
Над головою у поэта Воздвиг ты деву из балета, Чтоб Александр Сергеич мог Увидеть пару стройных ног.Все говорили, что статуя изображает Лепешинскую, якобы жившую в том же доме. Как-то, оказавшись на одном приеме за столом рядом с балериной, я спросил её об этом. Вот её ответ:
– Никогда я там не жила и никто статую с меня не лепил. Слухи, быть может, вызваны тем, что в начале войны я дежурила на этой крыше вместе с Мишей Габовичем, тушили немецкие зажигалки.
На месте нынешнего сквера на Пушкинской площади стоял Страстной монастырь с высокой, но весьма безвкусной колокольней. Сквозь её арку мимо заурядных кирпичных зданий бывших келий обсаженная деревьями дорожка вела в главный пятиглавый храм, очень старый и живописный. В храме помещался довольно интересный антирелигиозный музей. Одним из его главных экспонатов были мощи Александра Невского, выставленные для того, чтобы показать их тленность – одни кости да череп. Тогда еще Александр Невский не считался героем русской истории, числился заурядным феодальным князьком, а канонизация и вовсе делала его личность отрицательной. Только фильм Сергея Эйзенштейна вернул Александру Невскому былое величие, накануне войны он стал фигурой нужной и заметной, ведь именно он разбил на Чудском озере немецких псов-рыцарей. Правда, во время действия договора с гитлеровской Германией (1939–1941 гг.) фильм был снят с экранов, но с начала войны снова стал широко демонстрироваться. Однако куда дели прах – не знаю. Церковь Страстного монастыря разобрали в 1938 году, с нею исчез и музей.
В феврале 1937 года Пушкинская площадь стала центром проведения всенародных торжеств по случаю столетия со дня гибели поэта. На колокольне Страстного монастыря повесили макеты обложек изданий Пушкина на разных языках. Я был свидетелем того, как гранильщики меняли старый, искаженный Жуковским по цензурным соображениям текст по бокам памятника на новый. Старый текст («И долго буду тем народу я любезен… Что прелестью живой стихов я был полезен») был рельефный, его сбили, дабы на новой плоскости высечь подлинный: «И долго буду тем любезен я народу… Что в мой жестокий век восславил я свободу».
Страстная (с 1937 г, – Пушкинская) пл. В правой части площади – Страстной монастырь.
Фотография 1920-х гг.
Правда, на другой стороне текст был правильный, не нуждавшийся в изменении» но ради единообразия его тоже высекли заново: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». В первое десятилетие после войны эту строфу избегали цитировать: в ней упоминался «друг степей калмык», а калмыки к тому времени были высланы Сталиным из родных степей в Среднюю Азию.
Итак, в 1938 году монастырь снесли, и на площади образовался обширный пустырь, используемый для всякого рода праздничных базаров. После войны здесь разбили пышный сквер, а в 1950 году сюда перенесли, вопреки робким протестам ряда видных деятелей культуры, памятник Пушкину. Действительно, если вглядеться, сугубо лирическая, интимная фигура задумавшегося Пушкина, предусмотренная Опекушиным для тихой бульварной аллеи, не очень подходит к просторной площади и пышному скверу; на таком бойком месте не очень погрузишься в задушевное раздумье!
Памятнику Пушкину был посвящен богатый городской фольклор – стишки и анекдоты, слишком вольные для цитирования. Около него было излюбленное место свиданий, которое называлось так: у Пампушкина на Твербуле. В этом есть что-то французское: парижские студенты свой любимый бульвар Сен-Мишель именуют только Бульмиш.
Расположенный на берегу Яузы, поблизости от её устья, Андроников монастырь, один из древнейших в Москве, превратился после революции в неприглядные руины. Его не сломали лишь потому, что бывшие кельи хорошо подошли для рабочих общежитий. В главном храме устроили склад. Часть стен и высоченную, видимую издали колокольню разобрали на кирпич. Кажется, именно из этого кирпича рядом, на монастырском кладбище, воздвигли дом культуры завода «Серп и молот». Никто не посчитался с тем, что на кладбище были похоронены некоторые видные деятели русской культуры, в том числе первый русский актер Федор Волков. Сейчас плита с его именем положена около собора, но это псевдомогила: останки его, покоившиеся рядом, на кладбище, не уцелели. Дом культуры был построен рядом с бывшим монастырем не случайно, а символически: он должен был затмить своим великолепием недавнюю твердыню мракобесия и религиозного ханжества.
После войны, когда оценка прошлого радикально изменилась, строения монастыря были бережно восстановлены и превращены в музей Андрея Рублева. Не восстановили только колокольню; впрочем, она была не столь древней, как остальные строения. На старом месте остался стоять дом культуры, его сейчас никто и не замечает, столь проигрывает это заурядное творение конструктивистов первой пятилетки на фоне мудрой красоты, созданной безвестными строителями монастыря. А ведь мыслилось достичь обратного!
Как жаль, что в 1920—1930-е годы не нашлось у нас десятка влиятельных и одновременно умных голов, которые понимали бы важность разумного сочетания при реконструкции города старого и нового! Точнее – ценного старого и действительно интересного нового.
Насколько же богата Москва чудесными архитектурными памятниками, что и сегодня, после всех бессмысленных и безумных ампутаций, в ней сохранилось так много очаровательных уголков и видов, бесценных реликвий прошлого!
11 Звуки, звоны, храмы
Мы больше видим, чем слышим. Поэтому больше вспоминаем о виденном, чем о слышанном, – исключение, конечно, составляет всякого рода устная информация. О Москве пишут, как выглядела она тогда-то и тогда-то. А как слышалась Москва?
Разумеется, город в 1920—1930-х годах был шумнее, чем сегодня. Прежде всего, он был густо заполнен людскими голосами. Сейчас народу на улицах больше, но разве оглушает вас говор прохожих? Мы просто не замечаем его. А вот Майков сто с лишним лет назад писал (пусть не о Москве, о Петербурге):
Весна! выставляется первая рама — И в комнату шум ворвался, И благовест ближнего храма, И говор народа, и стук колеса.Заметьте: говор народа. Вряд ли поэт имел в виду гомон детей – на улицах они не играли. И едва ли прохожие тогда разговаривали громче, чем теперь. Говор народа – это зазывы уличных торговцев, выкрики извозчиков, перебранки простонародья. В моем детстве всё это тоже звучало назойливо и громко. Особенно же «стук колеса» – громыхание железных шин по булыжнику; звук был резкий, раздражающий более, чем звук автомобильных клаксонов, когда ими еще разрешалось пользоваться в городе.
В рассказе Бунина «Казимир Станиславович» читаю: «Поднявшись, открыл окно, – оно выходило во двор, – и на него [героя рассказа] запахло свежестью и городом, понеслись изысканно-певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоколов…» Этот двор московской гостиницы «Версаль» сохранился – ныне Большая Дмитровка, 13. Недавно побывал там. Прислушался к шумам. Ни одного из описанных Буниным звуков не услышал. Только ровное гудение автомобильных и троллейбусных моторов, меньше – звуки радио и телевизоров из открытых окон. И больше ничего. Обеднела звуковая палитра Москвы!
Застал я в детстве перезвон церковных колоколов, который особенно громок был в православные праздники, прежде всего – на Пасху. До сих пор пасхальный перезвон звучит в памяти. Никакие записанные на пленку «Ростовские звоны» с ним не сравняются, так как сосредоточены в одном месте. Оркестровой же площадкой для пасхального перезвона служила вся Москва и даже ближнее Подмосковье.
Симфония эта слышалась по-разному в зависимости от того, где находился слушатель. Оглушительно (от первого удара вздрогнешь!) звонила ближняя церковь, в интервалах слышался звон более дальних, и неярким, но красочным фоном, словно бледные акварельные краски, из дальнего далека доносился звук окраинных церквей.
Вряд ли сговаривались звонари, но пасхальный благовест составлял некую стройную и согласную мелодию. Скорее всего, тут действовала мастерская импровизация. Иногда колокола разных церквей звучали в унисон. Поражал контраст глубоких басовых звуков больших колоколов с дробным трепетаньем малых колокольцев, звеневших во много раз чаще и заливистей. Москву наводняли божественные звуки, и в самом деле пришедшие с высоты – самого неба. Казалось, пели сами небеса.
Звон прекращался так же внезапно, как и начинался, но еще долго продолжал звучать в ушах.
Сторонние, но ставшие привычными и неотъемлемыми от благовеста звуки: карканье испуганных неожиданным звоном галок и ворон, особенно отчетливо слышимое в интервалах между ударами. Мятущиеся стаи черных птиц напоминали мне гоголевскую нечистую силу, отступавшую при первых криках петуха. Впрочем, это уже зрительное впечатление.
Колокольный звон запретили в 1928 или 1929 году, с началом широкой антирелигиозной кампании. Сначала закрывали церкви и изымали церковные богатства. Помню груды сверкающей церковной утвари, выносимой из подвалов храма Воскресения, что на углу Покровки и Барашевского переулка, видел я, как на канатах спускали с её колокольни колокола. Толпа молча глазела, старушки крестились.
Показали снятие колоколов в каком-то тогдашнем киножурнале. Спущенный колокол вдруг неожиданно взмыл вверх и утвердился на прежнем месте. Отрезок заснятой ленты был пущен в обратном направлении. Недоумение публики разрешалось ироническим титром: «Так мечтали богомольцы, но так никогда не будет».
Наша семья не была религиозной» но в церквах я изредка бывал. Церковь Воскресения в Барашах поражала меня роскошным убранством. Удивили меня и деревянные лари-гробницы с изображением Христа, снятого с креста. К священнику (была страстная пятница) стояла длинная очередь святить куличи. В верхушку кулича была воткнута искусственная розочка.
После закрытия этой церкви в ней было устроено картофелехранилище, а затем на бывшей паперти появилась вывеска: «ГУЛаг НКВД».
Побывал я с отцом и в знаменитой церкви Успения на углу переулка, названного в 1922 году Потаповским в честь её строителя Петра Потапова. Та была значительно выше, иконостас казался больше и богаче. Чем-то она напоминала уцелевшую церковь Троицы в Никитниках, но та как-то сжата, как цветы в букете. Успение же на Покровке раскидывалось пышным кустом.
Слишком раскидывалась: южная сторона храма сильно выпирала на улицу (галерея служила крытым тротуаром), что послужило предлогом для того, чтобы снести его вовсе как мешавший движению. На месте церкви разбили чахлый сквер с деревянной забегаловкой. Вспоминали, что в 1812 году этой церковью восхищался сам Наполеон, поставивший для её охраны своих гренадеров.
Однажды отец повел меня в Храм Христа Спасителя, внутрь. Службы не было. Сквозь большие окна проникал дневной свет, искусственного освещения не требовалось. Храм потряс меня величиной. Задрав голову, я с трудом рассмотрел подкупольный свод с изображением бородатого Саваофа. Но больше всего меня поразило, что внутри храма стоял другой храм, и немалых размеров. Казалось, я нахожусь не в закрытом помещении, а на широкой площади.
Если многие московские церкви разбирались тихо и торопливо, то снос Храма Христа Спасителя в 1931 году сопровождался огромной шумихой. Печать напоминала, что на освящении его присутствовал Александр III, и это служило как бы укором храму.
Храм Христа Спасителя. Перед ним – памятник Александру III.
Фотография начала XX в.
Позднее у входа поставили памятник отцу последнего царя, очень плохо выполненный вошедшим в фавор Опекушиным; памятник сняли еще в 1919 году. В этом храме вскоре после революции патриарх Тихон всенародно предал советскую власть анафеме – происшествие, которое художник Корин намеревался запечатлеть в огромном полотне «Русь уходящая». Словом, храм не зря был объявлен твердыней монархизма и мракобесия. Его торжественно взорвали, чтобы освободить место для строительства Дворца Советов – величайшего в мире сооружения. Взрыва я не видел и не слышал, но гора тяжелых обломков храма долго еще возвышалась на Кропоткинской площади. «Был храм Христа Спасителя, стал хлам Христа Спасителя», – острили юмористы. Обломки разбирали и вывозили еще несколько лет. Накануне войны отрыли глубокий котлован и установили первые фермы будущего Дворца Советов. В войну фермы сняли и использовали для восстановления взорванных мостов. После войны котлован использовали для бассейна. На том дело и кончилось.
Конечно, Дворец Советов можно было бы сразу расположить в другом месте. Но важно было именно здесь, на месте главного храма Москвы: это должно было символизировать победу новой идеологии над идеологией церковной.
В тех же целях нынешний Дворец культуры ЗИЛа соорудили не где-либо на обширных, в то время свободных территориях Пролетарского района, а именно на месте старинных строений Симонова монастыря. Не все знают, что построили только первую очередь дворца, благодаря чему частично Симонов монастырь уцелел. Вообще же планировалось его полностью уничтожить, заменив новыми конструктивистскими сооружениями культурного назначения. Но до этого дело не дошло.
Одна за другой исчезали знакомые мне нарядные церкви на ближних и дальних улицах: прекрасный своими строгими формами храм Иоанна Предтечи на площади Земляного вала; громадный, словно могучий кедр, Никола – Большой Крест на Ильинке; живописный Никола в Столпах с гробницей убиенного боярина Матвеева – царского любимца, украшавший Армянский переулок; стройная колокольня церкви Ильи на Воронцовом поле, столь органично замыкавшая перспективу Подсосенского переулка; овеянная ароматом глубокой старины одноглавая церковь Гребневской Божьей Матери на Лубянской площади.
Восьми-девятилетним мальчиком я сопровождал свою тетю, когда она ходила к частной портнихе, жившей во дворе церкви Харитония – да, да, именно того «Харитония в переулке», где Пушкин поселил приехавшую в Москву Татьяну Ларину. Красная, раскидистая, словно с картины Юона, церковь так же прочно впечаталась в мою детскую душу, как и удививший меня женский манекен, стоявший в комнате у хромой портнихи. Почему-то вспоминается солнечный апрельский день, звездные купола на фоне синего неба, стаи галок вокруг них, весенний воздух, пахнущий свежевыстиранным бельем. Вместо церкви сейчас тут стоит унылое школьное здание, одним своим видом способное отвратить от учения. А как же домик Татьяны? Он стоял напротив – нелепый, одноэтажный, обшитый тёсом, вовсе не похожий своим очаровательным уродством на типичные для Москвы ампирные особнячки. Конечно, Татьяна – миф, тем более легенда её проживание в этом домике; потому-то совершенно аварийное строение снесли в 1940 году. А если бы церковь и домик дожили до наших дней – представляю, сколько шуму было бы вокруг них: автобусы с экскурсантами, художники с мольбертами, киносъемки, телепередачи!
Церковь Успения на Покровке.
Фотография начала XX в.
Из дальних, непамятных церквей в эти годы исчез приземистый храм Николы в Подвесках на Каляевской улице[16], увековеченный Суриковым на его знаменитом полотне «Боярыня Морозова».
Говорили, что некоторые церковные строения сумел отстоять Луначарский, – так, якобы ему обязана своим спасением церковь Всех Святых, что на Варварской площади, недавно отреставрированная как памятник Куликовской битвы.
Многие церковные здания после закрытия церквей стояли обезглавленные и обезображенные, уже не украшая, а уродуя городской пейзаж. Когда-то, глядя на них, я говорил: «Лучше бы их вовсе снесли»; теперь вижу, что одно уже сохранение их было великим благом. Пример: храм Введения в Барашах (угол Подсосенского переулка), возрожденный ныне в первозданной, невиданной прежде красе.
Иные закрытые церкви пытались перестроить, дабы стереть с них черты религиозности и приспособить к новому назначению – неудачно, получались ни павы ни вороны. Году в 1930-м знакомый инженер при мне сказал отцу: «Церковное зодчество – идеал слияния формы с функцией. Как церковь ни перестраивай, сразу видно, что это церковь и только церковь». Запомнилось.
* * *
Теперь ясно: в 1928 году Сталин решил одним ударом покончить с двумя оставшимися от старого строя врагами – религиозной идеологией и кулачеством. С кулачеством получилось, с религией – только наполовину. Как только началась война, недоучившийся воспитанник духовной семинарии понял, что в защите отечества от фашизма православная церковь может сыграть положительную, патриотическую роль. Отношение к церкви у Сталина изменилось: в 1944 году он восстановил патриаршество.
Захватывая советские территории, гитлеровцы стремились использовать религиозные настроения и обиды, нанесенные православной церкви, в своих политических целях. Дабы показать себя «защитниками религии», они, открыто исповедовавшие атеизм, поощряли на оккупированных территориях открытие упраздненных, но уцелевших церквей, возобновление в них богослужения.
Разумеется, не за свой счет, а на средства прихожан. Быстро отыскивался поп и весь причт, обязанный в своих службах призывать верующих молиться за фюрера как за «освободителя России от большевиков».
При изгнании оккупантов Сталин повел весьма тонкую политику: открытые с разрешения гитлеровцев церкви, не разрушенные в ходе боевых действий, он велел сохранять и продолжать в них службу. Не хотел, снова закрывая церкви, вызвать у освобожденного населения нежелательные настроения.
К концу войны повсюду – на фронте и в тылу – разнеслись слухи, что Победа будет ознаменована всеобщим благовестом московских (а может быть, и других городов) церквей. Этому радовались, мечтали послушать хотя бы по радио – такова была любовь к церковному звону. Меня спрашивали об этом солдаты, я не знал, что ответить: хотелось верить и вместе с тем не верилось. Как известно, слухи оказались ложными.
Но то было уже другое время: некоторые священники стали получать от правительства медали. А в 1928–1929 годы против религии были приняты самые крутые меры. Служители культа рассматривались как открытые классовые враги. На них натравливалась молодежь, священник, выходивший на улицу, подвергался насмешкам и издевательствам, иногда вслед ему сыпался град камней. Распевалась частушка: «Долой, долой монахов, раввинов и попов, залезем мы на небо, разгоним всех богов». В ходу была и такая нелепая песенка: «Сергей поп, Сергей поп, Сергей валяный сапог».
Особые протесты вызывал звон колоколов не закрытых еще церквей. Нас, второклассников, заставили подписывать петицию о закрытии близлежащей церкви: колокольный звон-де мешает нам заниматься. Был расклеен плакат: «Колокольный звон – для старух и ворон». Насчет ворон – чепуха; вороны колокольного звона как огня боялись.
В 1929 году римский папа Пий X, выступая против преследования религии в России, призвал к крестовому походу против СССР. Это подлило масла в огонь: на плакатах и карикатурах толстый папа изображался благословляющим пушки и снаряды, направленные против нашей страны. Теперь уже ходить в церковь значило поощрять планируемую интервенцию.
Многие священники высылались, другие спешили расстричься и заняться какой-либо мирской профессией. Ходить в церковь стало опасно. Слышал разговоры: женщина заметила сослуживицу, выходившую из церкви, донесла, и богомолку прогнали с работы. Рекламные полосы газет заполнились объявлениями: «Я, служитель культа такой-то, понял, что обманывал народ, и снимаю с себя сан». Но чаще можно было прочитать такое: «Я, сын служителя культа такого-то, отрекаюсь от отца и не желаю с ним иметь что-либо общее». Подобное отречение становилось индульгенцией: отрекшийся мог поступить в вуз» его могли принять на более или менее ответственную работу; принадлежность же к духовному сословию исключала и то и другое. Поговаривали, что многие отречения были предварительно согласованы с родителями, не желавшими закрывать своим детям дорогу в жизнь, семейные же связи в глубокой тайне поддерживались,
С целью отвлечь людей от церкви накануне крупных православных праздников повсюду устраивались вечера с играми и танцами, концерты. Поначалу эти вечера носили несообразные названия: «Красная пасха», «Красное рождество» и т. п. Это не мешало многим их участникам, придя домой, на следующее утро «разговеться» и отметить отвергаемый праздник хорошим застольем. Разве только без хождения в церковь.
Вместо крестин устраивались гражданские октябрины, обычно в клубах, с привлечением представителей общественных организаций. В торжественной обстановке новорожденному присваивалось не христианское, а новое, революционное имя: Ким (т. е. Коммунистический интернационал молодежи), Револ (Революция, Октябрь, Ленин), Владлен (Владимир Ленин), Маркс, Коммуна, Марсельеза, Энергия и т. п.
Взрослые люди тысячами меняли свои наследственные, «поповские» фамилии: Спасский становился Безбожниковым, Преображенский – Октябрёвым, Троицкий – Советским. Об этом можно прочитать в старых газетных подшивках. Правда, к концу 1929 года фамилия Троицкий снова пошла в ход: после высылки из СССР Троцкого сотни его однофамильцев решили переменить свою фамилию на сходную, но менее одиозную – Троицкий.
Православная церковь до 1917 года была в России господствующей, государственной, поэтому-то в первую пятилетку она стала главным объектом кампании. Но, разумеется, борьба шла против всякой религии, всех вероисповеданий. Плохо знаю, как обстояло дело в мусульманских районах, но помню разговор со старым русским крымчанином во время пешего путешествия по
Крыму с приятелем летом 1939 года. Тогда Крым, населенный преимущественно татарами, был Крымской АССР. Этот крымский старожил, участник Гражданской войны, говорил нам об очень скверном отношении крымских татар к русским и к советской власти в целом. Одной из причин, по его словам, было закрытие в Крыму всех мечетей и высылка мулл. Мы переспросили; да, все мечети были закрыты, без исключения. Не могу проверить, так ли это было. Во всяком случае, на южном берегу Крыма, который мы весь обошли, ни одной действующей мечети мы не встретили…
Отрицательные последствия крайних мер в отношении религии стали вскоре очевидны. В июле 1929 года было принято постановление «О недопустимости искажения партийной линии в области борьбы с религией», в котором осуждалась практика закрытия церквей без согласия трудящихся и без соответствующей подготовки к этому населения. В допущенных «перегибах» (термин постановления) обвинялись, разумеется, власти на местах. Характерное для Сталина азиатское лицемерие: все свои явные ошибки задним числом относить на счет чрезмерно ретивых и невежественных местных администраторов, якобы не понявших четких и правильных директив, исходивших сверху. То же вскоре случилось и в отношении перегибов в области коллективизации и раскулачивания: Сталин решил выйти сухим из воды, опубликовав (когда уже поздно было исправлять ошибки) свою известную статью «Головокружение от успехов».
Несмотря на постановление 1929 года, я не помню, чтобы какая-нибудь незаконно закрытая церковь, во всяком случае в Москве, была восстановлена. Сделанное было сделано. Однако накал постепенно угасал, и верующих оставили в относительном покое. В 1947 году был распущен совершенно захиревший в войну Союз воинствующих безбожников во главе с Емельяном Ярославским (кстати, весьма непродуманным было назначение на этот пост еврея – в глазах православных «иудея»). Антирелигиозная пропаганда была переименована в научно-атеистическую, часто её даже стали называть более мягко и общо – научно-просветительной.
Многие старики и поныне утверждают, что крутые меры против религии в начале первой пятилетки были-де совершенно неизбежны в условиях обострения классовой борьбы в те годы. Это заблуждение: даже если полагать, что все служители культа были настроены против советской власти (чего на самом деле не было), то опасность они представляли небольшую, так как политическое и экономическое влияние церкви на народные массы было резко подорвано уже первыми советскими декретами. Еще более глупо было бы считать, что миллионы верующих (из которых большая часть участвовала в трех революциях) представляли собой потенциальных врагов нового строя. Это ошибочное мнение опровергло столь серьезное испытание, как Великая Отечественная война. Зато какую-то часть верующих принятые крутые меры, невозможность исповедовать свой культ, несомненно, толкнули «на другую сторону баррикад». Сами себе врагов нажили.
Теперь ясно: свойственное Сталину «раздувание опасности» слева и справа объяснялось болезненностью его параноидной натуры и желанием всяческими крутыми мерами укрепить свою единоличную диктатуру. Политический, моральный и культурный ущерб, нанесенный стране антицерковными акциями, ныне бесспорен.
Такой урон стране с богатейшими культурно-христианскими традициями мог быть причинен только разве иноземными, иноверческими завоевателями. А тут мы уничтожали свое же древнее культурное наследие собственными руками! Даже татаро-монгольские покорители Руси, следуя заповедям Корана, в период между военными действиями проявляли терпимость к христианской религии и старались не восстанавливать против себя покоренное население бессмысленным уничтожением храмов и церковных сокровищ. Что же касается Москвы, то, не будь этой кампании, она была бы много краше и богаче, чем ныне. Бесплодно составлять списки утраченного и уже невосстановимого, но исторический урок полезен.
…Летом 1979 года я работал в здании, расположенном около церкви Трех святителей в Малом Вузовском (ныне – Малый Трехсвятительский) переулке. Многолетняя реставрация этого архитектурного памятника наконец завершалась. За 50 лет до того церковь была закрыта, с нее были сорваны христианские атрибуты – огромные золоченые кресты. Не исключено, что при этой акции состоялось нечто вроде антирелигиозного митинга. Церковь была видна из окон школы, в которой я учился, но – не буду врать – снятия крестов я не лицезрел, а мог бы. Теперь же я собственными глазами наблюдал, как спокойно, без всякой шумихи, рабочие поднимали на уже восстановленные купола новые прекрасные золоченые кресты, изготовленные на государственный счет на одном из государственных заводов. Подняли кресты, закрепили – и церковь стала украшением окружающей местности. Всё стало на свои места – и в буквальном, и в переносном смысле. Сказать бы об этом одному из участников предполагаемого антирелигиозного митинга – не поверил бы, сказал бы, что это необоснованные надежды классового врага. Как в том хроникальном фильме, где путем обратного запуска пленки показывалось возвращение снятых колоколов на прежнее место.
Вот так меняются времена – к лучшему.
12 Уличные сценки
Уличная жизнь в Москве всегда была сутолочной, оживленной и шумной, особенно в центре. Но кое-какие сценки привлекали внимание и крепко запомнились.
…Внезапно обычные городские шумы заглушаются торжественными звуками духового оркестра. По центру медленно шествует похоронная процессия. Милиционер жезлом останавливает движение – замирают на месте – трамваи, извозчичьи пролетки, грузовики, телеги. Шестерка лошадей, украшенных султанами из перьев, запряженная цугом, катит белую колесницу с гробом под балдахином – катафалк. По сторонам катафалка торжественно шествуют мужчины в белых хламидах и в цилиндрах – факельщики. Один из них ведет под уздцы переднюю лошадь. Почему факельщики? Объясняли, что когда-то они несли вокруг гроба зажженные факелы. Позади – духовой оркестр, играющий скорбный марш. Сразу за катафалком – длинная траурная процессия. Весь длинный путь до кладбища надо проделать пешком – такова традиция. Разве только вдове и матери покойного разрешается ехать за гробом в нанятом извозчичьем экипаже. Вся процессия, включая экипаж, двигается со скоростью пешехода. Иногда гроб красный – стало быть, хоронят коммуниста. В этом случае оркестр играет не Шопена и не Бетховена, а старый революционный траурный марш, музыку и слова которого я хорошо помню:
Вы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной к народу, Вы отдали всё, что могли, за него, За жизнь его, честь и свободу!Под этот трогательный марш, рассказывали мне, хоронили еще при царе революционеров, погибших в ссылке, в тюрьме или на каторге, а если на свободе – то от пули жандарма или шашки казака. Нынешний покойник погиб уже не «в борьбе роковой», но, бесспорно, борьба значительно сократила его век, хоть это уже старик. Правда, стариками в то время считались люди 40—50-летнего возраста.
Позади гроба – друзья и соратники, беловолосые, седоусые мужчины во френчах, участники трех революций. Кое у кого на груди поблескивает редкий в то время орден Красного Знамени. Женщины в высоких ботинках, старомодных шляпках с траурной вуалькой – как много они видели и пережили!
Эти лица и фигуры глубоко врезались в мою детскую память – люди одного поколения, чем-то схожие между собой даже внешне, как-то и скроенные одинаково. Подчеркнутая пуританская скромность и выработавшаяся годами лишений мужественная сдержанность. Именно они делали революцию, не ожидая от нее для себя каких-либо благ и привилегий. Они и после победы революции с презрением относились ко всякого рода материальным льготам и внешним почестям. Ходили пешком или ездили в трамваях, когда можно было бы выхлопотать персональный автомобиль. Отрицали всякие дополнительные пайки и казенные дачи. Не пристраивали своих детей в вуз или на престижную работу. Принципиальные во всем до фанатизма.
Теперь размышляю: как сложилась дальнейшая судьба шедших за гробом? Удалось ли им также быть похороненными с почетом? Или в 1937–1938 годах они снова оказались в тюрьмах и лагерях? Мало ли за что! Быть может, когда-то проявили «колебания» и голосовали не так, как следовало, либо вздумали в давние еще годы в чем-то поперечить тогда еще скромному и демократичному «Кобе»[17], а он это запомнил; либо просто «пали жертвой» не «борьбы роковой», а примитивного доноса, написанного негодяем-карьеристом. И вот эти заслуженные люди превратились во «врагов народа», отверженных зэков, и трупы их были сброшены в смердящую яму, что позади лагерной уборной.
Как важно было тогда «умереть вовремя»! Не из-за почестей, конечно, а ради своего доброго имени, ради благополучия жены и родственников, будущего своих детей. Слыша названия площадь Ногина, улица Красина, улица Фрунзе и т. п.[18], кощунственно радуюсь, что эти люди умерли «вовремя», то есть в славе. Почти не сомневаюсь: проживи они подольше, судьба их сложилась бы трагично и, несмотря на все запоздалые реабилитации, их имена были бы полузабыты. Какая уж там площадь Ногина!
Позднее коммунистов стали хоронить в открытых грузовиках, борта которых были обиты красным кумачом с черной каймой. Оркестр помещался в другом грузовике, но провожающие шли пешком, и вся траурная процессия двигалась со скоростью пешехода.
Скромные похороны совершались на погребальных дрогах – белой повозке, запряженной парой лошадей, без всяких там балдахинов и факельщиков. Такие похороны я встретил в апреле 1934 года на Покровском бульваре, когда шел ко второй смене в школу. Провожающих было много, но поразило не это: на дрогах около гроба сидела собака. Она показалась мне знакомой, где-то я ее уже видел. Так ведь это любимый дуровский пёс, постоянно сопровождавший знаменитого клоуна на арене и понимавший его с полуслова! Вечером из газеты узнал: да, в самом деле, хоронили Владимира Дурова[19]. У пса были влажные, человеческие глаза, он и на сей раз всё понимал.
Со второй половины 1930-х годов появились похоронные автобусы со специальным постаментом для гроба. Близкие сидели вокруг фоба, остальные ехали позади, в обычных нанятых автобусах или же в легковых автомашинах. Никто уже не шел, все ехали. Поначалу моторизованные похоронные процессии двигались с траурной медлительностью, потом всё чаще стали набирать скорость, а ныне уже ничем не отличаются от обыкновенного скоростного транспорта. Спешим, спешим! Не только на жизненных путях торопимся, но даже и по дороге на кладбище!
* * *
Но вот и веселая, бодрая сценка 1920-х годов: по улице шагает отряд юных пионеров в белых рубашках и в красных галстуках. Впереди гордые своими ответственными обязанностями знаменосец, горнист и барабанщик, искусно отбивающий дробь. Прохожие останавливаются, лица их осветляются добрыми улыбками: идет молодая смена. Пионеры, чувствуя всеобщее внимание, подтягиваются и стараются строго соблюдать строй и ритм. «Раз, два, три, четыре», – отсчитывает вожатый. Раздается звонкая песня:
Мы поднимаем Алое знамя. Дети рабочих, Смело за нами!Пионерский отряд.
Фотография 1927 г.
Парад физкультурников на Красной площади.
Фотография 1930-х гг.
Близится эра Светлых годов. Клич пионера: «Всегда будь готов!»Затем пауза, слышен только четкий перестук шагов (хотя обувь-то, обувь так еще плачевна!). Вожатый громко произносит: «К борьбе за дело Ленина будьте готовы!» Строй хором отвечает: «Всегда готовы!»
К середине 1930-х годов, когда пионерская организация из сравнительно небольшого авангарда детей рабочих превратилась в организацию массовую, охватывающую всех подростков, её военизированная обрядность, перенятая во многом от дореволюционных бойскаутов, быстро начала угасать. В 1970—1980-е годы редко можно было встретить школьника в красном галстуке, в прежние же времена появление пионера без галстука становилось предметом строгого обсуждения в отряде. В пионеры тогда принимали только лучших – как по социальному происхождению, так и по поведению, успехам в учебе и общественной работе: «Пионер – всем ребятам пример». Пионерские атрибуты были предметом гордости членов этой организации и зависти недопущенных. Прохождение строем по городу – радостное, памятное событие.
Как всегда и везде, массовость и всеохватнооть нивелировали организацию и стерли её особую специфику и внешнюю обрядность.
* * *
Довоенные первомайские и октябрьские демонстрация отличались грандиозным размахом и неподдельным энтузиазмом. Чтобы поглядеть на них, я бегал к Покровским Воротам, ближнему от нашего дома месту прохождения демонстраций. Вот было веселье!
То был рубеж 1920-х и 1930-х годов. Колонны алели флагами и лентами – никакие «нейтральные цвета» вроде голубого, зеленого и розового тогда не допускались. Над шеренгами поднимались большие транспаранты: «Да здравствует мировая революция!», «Даешь пятилетку в четыре года!», «Догнать и перегнать Америку», «Долой мировой империализм!», «Даешь ударные темпы!» и всякие другие «даешь» – «долой» – излюбленная в те годы антитеза.
Незадолго до того английский министр иностранных дел Остин Чемберлен добился разрыва дипломатических отношений с СССР; карикатура на этого длиннолицего джентльмена с неизменным моноклем на глазу встречалась на каждом шагу. Колонны пели популярную «Винтовочку»:
Мы тебя смажем, мы тебя почистим И заляжем в камышах. Не позволим лордам и фашистам Нашей стройке помешать.Вот несут движущийся макет: советский рабочий бьет Чемберлена по физиономии так, что у того из глаза выскакивает монокль. Надпись кратко, но выразительно гласит: «Лорду – в морду!» Нигде не писалось, но из уст в уста передавалось хлесткое двустишие: «На английский ультиматум мы ответим русским матом». Отвечали не только матом: широко проводился сбор средств на военную авиаэскадрилью под названием «Наш ответ Чемберлену». Несли плакаты и макеты аэропланов, изображающие будущую эскадрилью.
Вот в грузовике везут ряженых: тучного, набитого золотом капиталиста рабочий бьет по цилиндру тяжелым молотом; капитал ист, предвидя свою скорую неминуемую гибель, забавно дрожит и визжит. Демонстранты хохочут и кричат рабочему: «Бей покрепче!»
В 1929 году популярной сатирической фигурой стал римский папа, объявивший крестовый поход против СССР. Ряженого толстого старика в тиаре рабочие лупили его собственным крестом. Жирный русский поп одной рукой кадил, другую протягивал за деньгами прихожан, приговаривая: «Все люди – братья, люблю с них брать я». Галерея врагов советской власти на карикатурах была поистине необъятна: кроме папы римского, капиталиста и попа – недобитый белогвардеец, кулак с обрезом, лицемерный инженер-вредитель из спецов, мерзавец-бюрократ, нэпман, пьяница-летун и т. п.
В том же 1929 году китайская военщина стала устраивать вооруженные провокации против СССР на Дальнем Востоке. Тут же на демонстрациях появился плакат с карикатурой: красноармеец поднимает на штык тщедушного китайского генерала, жадно потянувшегося было к территории СССР.
Позднее отец стал меня брать с собой на демонстрации. Мы шли от Маросейки в колонне Резинотреста. Тогда на демонстрацию ходили не особо выделенные представители организаций, а все желающие. И даже нежелающие: не ходить на демонстрацию считалось проявлением нелояльности. Поэтому демонстрации были очень массовыми, продолжительными и внушительными. Путь до Красной площади был недалек, но из-за обилия колонн больше стояли, чем продвигались. Однако стояния вовсе не были скучными и томительными. Появлялся гармонист, и начинались танцы; сухонький пожилой продавец из галошного отдела лихо сплясал русскую, полная женщина из бухгалтерии, дробно тряся плечами, с неожиданной легкостью исполнила цыганочку. Девушки и парни танцевали очень популярный в народе тустеп, под который пели кем-то придуманные глупейшие слова: «Девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо, только шоколада».
В затишье две девушки подговорили гармониста сыграть фокстрот «Таити». Гармонист нехотя согласился, девицы сцепились руками и начали мерно вышагивать этот новый, недавно пришедший с Запада танец. Не тут-то было! Как из-под земли вырос партийный секретарь Резинотреота, одетый, как и положено было в те годы партийному работнику, в военный китель, и закричал: «Что это за буржуазное разложение! Петухова, Сидорова! Немедленно прекратить! – И к гармонисту: – Чтоб больше такого не играть, понял?» – «Понял», – хмуро ответил гармонист.
Но тут впереди заколыхались знамена, и колонна двинулась. Все быстро стали на места в своих шеренгах, некоторые – жуя купленные у лотошниц булочки. Сначала шли, потом побежали. «Скорей, скорей!» – торопили распорядители. Колонна растянулась. Пожилой главбух потерял калошу, под общий смех её кинули ему сзади вдогонку. Но у Ильинских Ворот резко остановились, образовалась каша: мы опоздали и должны были пропустить вперед другую колонну. Снова остановка, недолгая, но веселая остановка.
Примерно так же выглядели демонстрации, когда я стал ходить на них со старшими классами нашей школы. На остановках танцевали теперь уже дозволенный фокстрот, играли в «жучка» и «кошки-мышки», к кому-то, тайно сговорившись, подкрадывались сзади и ни с того ни с сего начинали «качать», высоко подбрасывая кверху. Ощущалась неведомая ныне огромная коммуникабельность людей. Вот рядом идет колонна какого-нибудь Мосэнерго, это явствует из головного оформления. Тут же из соседней колонны начинают скандировать: «Салют советским электрикам, ура!» Электрики не остаются в долгу: «Братский привет трудящимся ткацко-отделочной фабрики № 8!» Завязываются мимолетные знакомства: «Эй, девушка в синей шапочке, идите к нам в колонну, у нас веселее!» – «Да что вы, – краснеет польщенная девушка, – я со своим цехом иду». – «Ишь, какая гордая, а у нас ребята лучше ваших песни петь умеют». – «Ну это еще как оказать», – возражают задетые ребята, и тут же глубокий бас запевает:
Ты, моряк, красивый сам собою, Тебе от роду двадцать лет. Полюби меня, моряк, душою. Что же окажешь мне в ответ?Тут вся организация подхватывает:
По морям, по волнам, Нынче здесь, завтра там.Но не успевает песня разгореться (кстати, время рождения этого популярнейшего перед войной «Моряка» – 1830-е годы), как из соседней, соревнующейся колонны раздается мощное, всезаглушающее:
Идет, ломая скалы, ударный труд, Взовьется песней алой ударный труд. Стоит буржуй за рубежом, Грозит нам новым грабежом, Но уголь наш и сталь Его зальют рекой, Зальют расплавленной рекой.«Моряк» пытается перекрыть «Ударный труд», но новую песню подхватывают и сзади идущие колонны. Вдруг раздается команда: «Пошли, двинулись, не отставать!» и только что завязанные дружеские контакты мгновенно распадаются.
В 1933 году нашу колонну на площади Революции остановила пропущенная вне графика колонна Метростроя. Метростроевцы шли не разболтанно, как большинство организаций, а строго чеканя шаг, почти как военные. На них были чистые спецовки, а в руках – макеты отбойных молотков. Они дружно пели собственную песню с припевом: «Мы строим наш метро советский» (сейчас сказали бы «метро советское», но тогда род слова еще не утвердился).
Резинотрестовские девицы (тогда я еще шел вместе с отцом) истошно закричали: «Ура, ура строителям метрополитена!». Любимцы москвичей с горделивыми улыбками браво продефилировали мимо.
В другой раз встретилась колонна комсомольцев в серых юнг-штурмовках, затянутых портупеями, в бриджах и шерстяных гетрах. Кто-то из нашей колонны, мужчина, восторженно воскликнул: «Пролетарский привет военизированному комсомолу, ура!» «Ура!» – подхватила вся колонна. Комсомольцы первой шеренги приветствовали нас полуприподнятой рукой и проскандировали: «Рот-фронт, рот-фронт, рот-фронт!»
На подступах к Красной площади колонны демонстрантов приводились в относительный порядок. Линейные поторапливали: «Быстрей, не задерживаться!» Все взоры устремлялись к трибунам мавзолея, люди старались разглядеть стоявших там руководителей, как тогда еще говорили, вождей: «А вот Сталин нас рукой приветствует». «А рядом с ним Калинин, видите?» «А вон с усами Орджоникидзе». «Где же, это ж Буденный». «Да Буденный левее, с Ворошиловым. А Орджоникидзе в сером кителе». «Вон Молотов, в шляпе который» и т. д. Характерно, что большинство стоявших, начиная со Сталина, носили полувоенную одежду – своего рода партийную форму той эпохи. Интеллигентские шляпы можно было увидеть разве только на Молотове и Калинине. Впрочем, на октябрьской демонстрации 1934 года я узрел рядом со Сталиным еще одну фигуру в шляпе, очень худую и высокую, – Максима Горького. Первый и последний раз, когда я видел живого Горького.
Метростроевцы на ноябрьской демонстрации.
Фотография 1933 г.
Накануне войны, году в 1939 и 1940-м, меня в числе других отобранных студентов нашего института и некоторых других московских вузов выделили в сводную колонну допризывной молодежи. До этого несколько дней и много часов нас усиленно муштровали на Москворецкой набережной и около военкомата. Во время репетиций, как они назывались, кормили за казенный счет.
На трибуне Мавзолея во время первомайской демонстрации 1936 г.
Слева направо: Л.М. Каганович, Г.К. Орджоникидзе, Е.М. Ярославский, К.Е. Ворошилов» А.И. Микоян, И.В. Сталин, Г. Димитров.
Одеты мы были в свое, гражданское, только поверх пальто заставили надеть ремни и выдали трехлинейные винтовки. Наша небольшая сводная колонна замыкала военный парад. Первый раз я шел правофланговым, который, как известно, равняться не должен, а смотрит только вперед, соблюдая направление, и поэтому я никого на трибунах не разглядел. Второй раз я шел знаменосцем, впереди, и, скосив глаза, увидел машущего рукой Сталина. Приятно было на следующий день прочитать в газетном отчете: «В заключение военного парада строевым шагом, мало чем отличаясь выправкой от кадровых частей, прошла колонна допризывной молодежи» или что-то в этом духе.
Послевоенные демонстрации, в которых я участвовал, не казались мне столь стихийно веселыми и преисполненными энтузиазма, как довоенные. Может быть, я постарел или прелесть новизны для меня утратилась, но что-то в массовых празднествах появилось казенное, заорганизованное. Всё более громоздким и пышным становилось оформление, резко увеличились число и величина портретов Сталина; казалось, вся демонстрация посвящалась только ему одному.
Демобилизовавшись в апреле 1946 года, я уже 1 мая, надев гражданское, шел в небольшой колонне ВОКСа[20] от Грузинской площади через улицу Горького к Красной площади. Молодых мужчин в нашей организации тогда было мало, большинство – женщины. Рядом шли старики и мужчины, по хворости не ведавшие военной службы. Какому-то болвану вздумалось украсить нашу колонну гигантским деревянным макетом ордена Победы. Притом макет этот не снабдили колесиками, его надо было нести на весу, держа на двух древках. Весил он пуда четыре. Естественно, начальник колонны поручил нести макет мне, как недавнему строевику, но напарника найти было нелегко: пройдя метров сто, каждый назначенный покрывался потом и требовал немедленной замены. А заменять никто не мог или не желал. Конечно же, требовать замены мне не пришлось, спасибо, что хоть как-то находили быстро сменяющихся напарников. Так я и пронес тяжеленный макет до самой Красной площади, весь скрючившись, с дрожащими от усталости руками. Женщины еще посмеивались: «Орденоносец», но мне было не до шуток. А на Красной площади военные к тому же орали: «Выше, что же вы такой орден к самой земле опустили!» С затаенными проклятиями бросил я макет у стенки храма Василия Блаженного и, облегченный, радостно помчался домой.
В 1946 году страну постиг неурожай, и народ, наголодавшийся в войну, снова стал страдать от сильного недоедания. Наша организация, занимаясь пропагандой, рассылала фотографии парадов и демонстраций во все страны. Однако почти все снимки демонстрации 7 ноября 1946 года наше начальство забраковало и их никуда не послали. «Почему?» – недоумевал я, глядя на снимки обычных для меня колонн рядовых москвичей. «А ты вглядись повнимательней», – посоветовал мне кто-то из старших и опытных. Я вгляделся внимательней и ужаснулся: на фоне ГУМа брели бедно одетые шеренги тощих полудистрофиков с вымученными улыбками. Что и говорить, сквернейшая пропаганда для Запада!
До сих пор не могу простить себе, что не взял и не сохранил хотя бы одну из забракованных фотографий – ценный документ для современного поколения сытых и хорошо одетых москвичей.
* * *
Было в старой Москве зрелище, уже недоступное нынешним поколениям, – ледоход. Современные московские ледоходы таковыми вообще называться не имеют права: лед взрывается где-то в верховьях, и в черте города по Москве-реке плывут уже не льдины, а какие-то жалкие комья снега и мелкое ледяное крошево.
В старину же ледоход был картиной увлекательной, выражаясь нынешним языком, остросюжетной. Запомнился ледоход 1934 или 1935 года, когда, выйдя из кинотеатра «Ударник», я оказался на Большом Каменном мосту и простоял на нем до самых сумерек. Тогдашний мост был и в самом деле каменным, трехпролетным, на двух опорах. Протиснувшись сквозь толпу мужчин и подростков к перилам, я устроился над опорой (или быком, как её именовали в народе), ближней к Дому правительства, лицом навстречу течению, то есть в сторону Крымского моста.
У Большого Каменного моста.
Фотография начала XX в.
Большая Якиманка во время наводнения 1926 г.
Шел густой, плотный, покрытый затвердевшим снегом лед. Прибрежные льдины наползали на бетонные набережные, словно хотели взобраться на них, спасаясь от натиска мощных соседей. Но тут эти льдины начинали крошиться по краям и с обломанными кромками, несколько уменьшившись в размере, продолжали двигаться вниз по реке.
Быки в сторону, противоположную течению, были оснащены острыми металлическими выступами – ледорезами. Самим интересным было столкновение большей льдины с ледорезом. Вот толпа приметила приближающуюся к мосту громадную льдину. Внимание напряжено до предела:
– Да нет, минует она ледорез, вона вправо её заносит.
– Ничего, краем еще упрется.
– Где же краем? – замечает всезнающий седовласый дядя Костя (или дядя Коля – какая разница!). – Протри глаза, вишь, как она завертелась. Деваться ей некуда, аккурат на бык ползет.
Все замирают, наблюдая за льдиной, как за живым существом. Но льдина как бы чувствует угрозу ледореза и в последний момент ухитряется проскользнуть мимо него, пожертвовав лишь небольшой своей частью, мгновенно превращающейся в осколки. Общий вздох огорчения.
– Ну вот энта-то непременно на ледорез натолкнется. Гляди, какая агромадная. И прямо на бык ползет, – пророчит дядя Костя.
И в самом деле: плывет не просто льдина, а большое ледяное поле со следами санных полозьев и конских копыт, клочьями оброненного сена. Совсем недавно где-то около Можайска здесь был переезд через реку.
Публика настороженно замолкает.
Ледяное поле, словно желая доставить удовольствие зрителям, прямиком двигается на опору. Вот, почувствовав острую преграду ледореза, оно с яростью налезает на него, дыбится и, кажется, готово броситься на нас, толпу праздных зевак. Мост содрогается, становится страшно: не обрушится ли? Но вот под давлением ледореза поле с треском разламывается на две почти равные части. Соскальзывая по обе стороны ледореза, они как бы неохотно уплывают в проемы. На мосту гул одобрения.
– Вон он её как! Будто ножом полоснул.
– Толстая, стерва.
– Ведь вот хотела обойти, да на удалось.
– Так ей и надо.
– А ведь деревенский мост не устоял бы.
– Какое устоял бы! Их в ледоход знаешь, сколько сносит? Одни щепки летят.
– Да и не всякий городской устоит.
– Ну наш-то хоть какую льдину выдержит. Строили с пониманием.
– Да, таперь уж так не построят. Не те мастера.
– Гляди, мужики, новая ползет.
– Новая, да уж не такая. Жидка больно.
– Ну с етой он расправится, как повар с картошкой.
Новая льдина, поменьше, но, пожалуй, потолще предшествовавшей, ударяется о ледорез, чуть отходит, словно беря разгон, но участь ее тоже решена: сначала её рассекает трещина, напоминающая молнию, затем льдина разламывается надвое.
Уже смеркается, на дальней льдине сереет какой-то продолговатый предмет.
– Гроб что ли или бревно?
– Сам ты бревно. Не видишь что ли – лодка.
В самом деле: лодка, вернее остаток лодки, вмерзшей около берега в лед. Все осуждают ленивого хозяина лодки, не вытащившего её вовремя на берег.
– Что там лодка, я видал, как собаку с конурой на льдине несло.
– Как же конура-то на реке оказалась?
– А хрен её знает, может, кобель на цепочке на лед затащил.
– Ну ты скажешь!
– Ей-богу, сам видел!
– А то, бывает, и людей уносит.
Взоры зевак устремляются вдаль с тайной жестокой надеждой увидеть льдину с людьми.
После ледохода на реке начинался паводок. В предвидении его подвальные и полуподвальные окна прибрежных домов заделывались плотными щитами, зазоры между ними и стенами промазывались варом. Тем не менее вода нередко заливала нижние помещения, после паводка пожарные откачивали её насосами. Узнав про москворецкие наводнения еще дошкольником, я стал смертельно бояться, что вода зальет и нашу квартиру, расположенную на втором этаже. Однако меня успокоили: наш дом стоит далеко от реки и к тому же на холме.
После постройки в 1938 воду канала Москва – Волга и связанных с ним водохранилищ вода в реке регулируется и Москва избавилась от угрозы наводнений. Построили и новые мосты, однопролетные, без опор. Так что если бы даже лед не взрывался в верховьях, увлекательной картины разламывания льдин ледорезами увидеть было бы нельзя.
А жаль: ледоход был праздником, хотя и некалендарным, для многих москвичей.
13 Бульвары
Я сызмальства был «околобульварным жителем»: наш переулок выходил на Покровский бульвар. На этом бульваре ребенком я играл в мяч, потом пересекал его, идя в школу, в Большой Вузовский переулок[21], а в студенческие времена гулял здесь или сидел на скамейке, беседуя с приятелем.
Однажды в теплую зиму 1940–1941 года, возвращаясь домой после студенческой пирушки, поздно вечером я долго сидел на бульварной скамейке с молодым поэтом Михаилом Кульчицким. Крупный, широкоплечий Михаил, сильно, но приятно подвыпивший, никак не отпускал меня, читая свои стихи:
Самое страшное в мире — Это быть успокоенным, Славлю мальчишек смелых, Которые в чужом городе Пишут поэмы под утро, Запивая водой ломозубой, Закусывая синим дымом…Стихи молодого харьковчанина сменялись признаниями: «Мы с тобой не пропадем, Юра! Ты богатырь, и я богатырь».
Но богатырем был он, а никак не я, потому-то, наверное, он вскоре и пропал навсегда – погиб под Сталинградом в январе 1943 года, оставив после себя несколько прекрасных стихотворений. А не погиб бы, то, уверен, превратился бы в крупного поэта.
Чистопрудный бульвар.
Открытка 1938 г.
В начале августа 1941 года, накануне ухода в военкомат, светлым вечером я в одиночестве вышел прогуляться на Покровский и Яузский бульвары, особенно мне дорогие, поразмыслить наедине, попрощаться с местами детства и юности. Посидел молча на одной из скамеек Яузского бульвара, но недолго – всё настроение испортила какая-то приставшая девка.
…В сентябре 1945 года я приехал из Германии в Москву, было очень рано, часов шесть утра. Не желая будить родных, не торопясь, я прошелся от метро «Кировская»[22] и долго сидел, осмысляя прошедшее, на первой от Казарменного переулка скамейке Покровского бульвара. Наконец, в половине восьмого, решился пойти в родную квартиру, где все давно уже были на ногах, попал к завтраку, но радость встречи несколько нарушил посторонний – гость из Ленинграда, слепой Слава Бершадский, мать которого была из рода князей Кропоткиных.
В Ленинграде не было бульваров, во всяком случае таких бульваров. Потом я убедился: хваленые парижские и венские бульвары, узкие и пыльные аллейки, – ничто по сравнению с московскими! Мало кто ценит и осознает, какое это украшение Москвы. Когда в 1937 году разнесся слух, что тогдашний председатель Моссовета Булганин решил уничтожить бульвары, дабы в случае войны на их месте могли бы базироваться или при необходимости садиться наши боевые самолеты, люди были крайне встревожены. Только-только убрали сады и бульвары Садового кольца, но то не вызвало особого огорчения. А вот Бульварное кольцо, или, как его еще называли, кольцо «А»… Я чуть не заплакал, представив себе вместо Покровского и иных бульваров широкий, голый проезд. К счастью, обошлось.
Как-то, уже после войны, я ехал на трамвае «Аннушка» по Бульварному кольцу. Рядом сидела провинциальная девочка лет десяти, жадно прильнувшая к окну. Вдруг она громко и удивленно сказала матери: «Мама! Какой сад длинный!» Только новизна восприятия могла породить такое определение. Действительно, Бульварное кольцо – необыкновенно длинный сад.
Сады на Садовом кольце. Садово-Кудринская ул.
Фотография 1930-х гг.
Каждый бульвар имел и имеет свое лицо. Общими тогда были сетчатая ограда, простоявшая до 1947 года, когда её заменили современной чугунной, с особым рисунком для каждого бульвара; афишные тумбы, неведомо в какое время и для чего исчезнувшие; круглые железные писсуары в некоторых местах (видны были только ноги посетителей) да турникеты на выходах, с вспыхивающей при приближении трамвая надписью на табло: «Берегись трамвая». Зачем нужны были турникеты, мне до сих пор неясно. Отец объяснял: чтобы на бульвар не заезжали телеги и пролетки с лошадьми. Но они спокойно могли бы въехать на бульвар в его начале и конце.
От нашего переулка к Хохловской площади вела узкая аллея, обсаженная тополями. Трамвай наружной линии «А» (или, по-московски, «Аннушка») круто сворачивал к сужению. Справа от аллеи проходила деревянная ограда учебного плаца Покровских казарм. Можно было видеть, как низкорослые, бритоголовые красноармейцы упражнялась в преодолении полосы препятствий или кололи штыками набитое соломой чучело.
Позволю себе опять сугубо личное отступление в связи с Покровскими казармами. Мне рассказывали, что в 1910 году здесь венчались мои родители. В 1970-е годы, работая поблизости, я нередко в обеденный перерыв закусывал тут в госснабовском буфете[23]. Как-то, работая в архиве, на старых планах посмотрел: где же находилась казарменная церковь? И оторопел: точь-в-точь на месте нынешнего буфета. Вот здесь у амвона стояли молодой, в черной визитке отец и юная мама в белой фате и подвенечном платье. А ныне на этом знаменательном для нашего рода месте я, уже немолодой и потертый мужчина, прямой результат этого венчания, покупаю у толстой тёти Дуси сардельки и чай с сочником. Никак не могу представить себе это место в 1910 году, как и они, давно ушедшие из жизни, не могли бы вообразить себе здесь своего отпрыска 60 лет спустя. Да, странное совпадение: поистине всё возвращается на круги своя. Но нередко в весьма прозаическом варианте.
Покровские казармы.
Открытка начала XX в.
Году в 1930-м на Хохловской площади проложили трамвайный круг и пустили отсюда по Бульварному кольцу и далее, по улице Герцена[24] к Тестовскому посёлку трамвай линии 23. Одинокая «Аннушка» получила дублера-спутника. Я почему-то сразу же влюбился в 23-й маршрут, вернее в его номер, сочетающий круглую, мягкую двойку с нечетной, двухскобчатой, как бы замыкающей тройкой. Парадокс: не любя математику, я тянулся к цифрам. Странная любовь: я даже предпочитал ездить именно на 23-м трамвае. Говорил домашним с какой-то гордостью: «Я на 23-м поехал», чтобы лишний раз, словно сладостное имя любимой, произнести заветное число. В ответ слышал: «Что же ты сразу на «А» не сел?» – «А на 23-м удобнее», – врал я.
Это – тема для размышления психологов, а может быть, и психиатров. Впрочем, что тут необыкновенного? Так же, как бывают любимые имена – не только собственные, но и нарицательные, цвета, деревья и т. п., можно необъяснимо очаровываться и знаками, как людьми – без всякого повода и обоснования.
Интересней и богаче скромного Покровского бульвара был Чистопрудный. Помимо пруда, на котором летом катались на лодках, а зимой – на коньках, здесь было немало любопытного. Китайцы торговали своими самобытными игрушками: прыгучими, набитыми опилками мячиками на тонкой резинке, надувными шариками, издававшими при выпуске воздуха звук «уди-уди», «тещиными языками». Фотограф-«пушкарь» снимал людей на фоне полотнища с пышным замком и лебединым озером. Напротив кинотеатра «Колизей» (нынешний театр «Современник») был тир, какие-то аттракционы с выигрышами. Рядом, в «раковине», играл военный духовой оркестр, пахло шашлыками из дощатого, обращенного к пруду террасой ресторанчика с итальянским названием «Тиволи». В конце бульвара, у Мясницких Ворот, теснились квасные будки частников. Сейчас известен только один квас – хлебный, тогда же было великое множество сортов: яблочный, грушевый и даже «дедушкин» и «бабушкин». Сам пил, но вкуса не помню. Продавался и морс, всегда красный, кажется, из клюквы.
Кстати, продавцы кваса и морса продавали свои напитки не из стаканов, а из кружек и мыли эту посуду не водяным фонтанчиком, а погружая кружки в невидимое для покупателя стоящее в их ногах ведро. Не исключено, что все кружки полоскалась в одном и том же ведре.
От скамейки к скамейке ходили цыганки, предлагая погадать. Под зонтом сидел умелец, вырезавший с натуры силуэты-профили желавших запечатлеть себя необычным способом, к нему стояла очередь.
Однажды я видел на Чистых прудах цыгана с большим ученым медведем на цепи. Цыган приказывал:
– Мишенька, покажи, как малые ребята горох крадут.
Медведь лениво нагибался и делал загребучие движения лапами.
– Мишенька, покажи, как старая барыня красится.
Под общий смех публики медведь, игриво склонив голову, начинал водить лапой по морде. В шапку цыгана сыпались медяки.
В 1936 году Чистопрудный бульвар назвали детским парком. Построили эстраду для представлений, над которой висел популярный лозунг: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Рядом установили портрет вождя, державшего на руках девочку-узбечку Мамлакат Нахангову, отличившуюся на сборе хлопка. По центральной площадке вышагивал верблюд, возивший между своими горбами визжащих от восторга и страха детей.
Семечками и мороженым торговали на бульваре постоянно. Аллеи были густо усыпаны подсолнуховой шелухой.
Именно на Чистопрудном бульваре летом 1932 года я впервые отведал новый, фабричный тип мороженого – эскимо на палочке. Этикетка на серебряной обертке была украшена рисунком белого медведя. Поначалу мороженое именовалось «эскимо-пай», но непонятное «пай» вскоре исчезло. Фабричное мороженое разных сортов, включая многослойные сандвичи, быстро вытесняло кустарные кружочки, объятые вафельками.
Одновременно вместо квасных палаток в Москве появились коляски, с которых торговали газированной водой. Автоматов тогда не было – торговали только живые продавцы. Пять копеек – стакан без сиропа, десять – с сиропом. Вокруг сосудов с сиропом вились осы. В жаркую погоду к коляскам выстраивались очереди. Слышались замечания покупателей: «Получше помойте стакан», «Наливайте сироп сполна, как положено», «У вас не сироп, а какая-то кислятина».
Днем на бульваре шла одна жизнь, вечером – другая. Дневными завсегдатаями бульвара были мамаши с детьми и пенсионеры. Частные «фребелички»[25] водили группы маленьких детей, обучая их иностранным словам, развлекая играми. Как и ныне, сидели матери с колясками, читали книжки или вязали, временами покачивая или прокатывая взад-вперед коляски. На скамейках по двое, по трое сидели старорежимного вида инженеры-старики со свежими газетами, что-то обсуждали. Присядешь рядом – разговор умолкал или переходил на шепот.
Кстати, году в 1933-м в Москве, раньше всего на бульварах, появились газетные стенды, поначалу застекленные. До того такой вид пропаганды был вовсе не известен. Первый газетный стенд я увидел именно на Чистопрудном бульваре.
Вечером плохо освещенный бульвар превращался в гульбище, никак не соответствующее названию «детский парк». Из Покровских казарм в массовом порядке отпускались в увольнительную красноармейцы, большинство которых, конечно, были не москвичами. Одновременно бульвар заполнялся местными домработницами – категорией населения, в то время многочисленной. Все они были одеты по тогдашней моде: тёмный жакет, длинная широкая юбка клёш, на ногах – приспущенные белые носки, дешевые туфли. Из-под берета вылезала челка. Роста они были маленького, именовались однообразно – Марусями или Зинами – и получили нарицательное прозвище «фордики», в честь дешевой и массовой автомашины.
Боже, что тут начиналось! На одной скамейке – тогда еще они были не диванного типа, а старинные, плоские – усаживалось тесно человек десять обоего пола, быстро налаживалось знакомство, сидящие разбивались на парочки. От угощения семечками контакты переходили в объятия, поцелуи и весьма откровенные прикосновения. Идя вечером от метро домой, я с трудом пробивался через шеренги красноармейцев и домработниц. Все происходило спокойно, пьяных не было, солдаты не хулиганили, милиция не вмешивалась, а патрулей в ту пору как будто и не водилось.
…Летом 1939 года я катался по пруду на лодке вместе с однокурсниками – Виталием Здыдневым, ныне крупным ученым-славистом, и Сергеем Наровчатовым – впоследствии известным поэтом. С упоением читали стихи полузапрещенного тогда Гумилева:
И твое лишь имя, Хельга, для моей гортани Слаще самого старого вина.Наровчатов жил по-холостяцки (родители куда-то уехали) в новом доме на углу Сретенского бульвара и улицы Мархлевского[26]. Помню его неопрятную комнатушку с не застеленной с утра постелью. Завидовал отдельной комнате, самостоятельности и бесконтрольности его поведения.
В другой раз на тех же Чистых прудах летом Наровчатов рассказывал, как вместе с тремя друзьями ездил строить Ферганский канал. Хотелось себя испытать, проверить на трудностях. Он начал с того, как нелегко было купить железнодорожные билеты сразу на четверых. Я прервал рассказ вопросом:
– Значит, поехали вкупе купе купив?
Наровчатов одобрил мой экспромт снисходительной улыбкой:, аллитерации тогда были в моде. Он уже знал себе цену как поэту, хотя нигде не печатался.
…Вернусь к маю 1928 года. Вся Москва покрылась тогда рифмованной рекламой:
Все на книжный базар — На Тверской бульвар!В те далекие времена было важно приохотить население к чтению, заставить полюбить книгу. Поэтому с большой рекламой и устраивались книжные базары – на видном месте, с уведомлением, что книги в первую очередь предназначаются для рабочего класса, поэтому многие продаются по сниженным ценам.
В газетах писали, что какое-то время продавцам будут помогать именитые деятели культуры – поэты, артисты, в том числе Маяковский, Асеев, Качалов, Гельцер. Авторы будут снабжать книги собственными автографами. Вот каких усилий требовала тогда пропаганда книги!
В воскресный день отец повел меня и сестру на этот базар. Увы, никого из названных знаменитостей мы в киосках не узрели. Торговали обыкновенные продавцы.
Бронзовый Пушкин, стоявший в начале бульвара, был великолепным эпиграфом к базару. Позади памятника красовался огромный транспарант «Книжный базар». Далее, по обеим сторонам главной аллеи базара, плотно выстроились киоски, с трех сторон унизанные книгами и брошюрами.
Насколько помню, никаких раритетов здесь не было. Продавались в основном популярные книжки, посвященные политике, гигиене, кулинарии, физической культуре, географии, кооперативной торговле, разоблачению религии, науке. Были и художественные произведения, в том числе переводные, с маркой издательства «Земля и фабрика», сокращенно ЗИФ.
Мы долго бродили от киоска к киоску. Отец купил мне книгу Виктора Окса «Среди дикарей» (о Миклухо-Маклае) и несколько старых, уцененных номеров журнала «Всемирный следопыт». На одном из них, на задней обложке, был изображен огромный пароход с названием (или обозначением порта приписки) Ливерпуль. Новое для меня слово показалось столь красивым, звучно-переливчатым, что я не уставал его повторять про себя.
Понравился мне и журнал, заполненный рассказами о неведомых странах и увлекательных путешествиях. На будущие годы отец выписал мне его вместе с приложениями – собранием сочинений Джека Лондона и тонким, но не менее интересным журналом «Вокруг света».
Сестре были куплены какие-то брошюрки о театре и открытки кинозвезд, пополнившие её коллекцию, – Лия де Путти, Глория Свенсон, Эмиль Янингс.
Никакой давки и ажиотажа у киосков не было, несмотря на воскресный день. Мы прошли от памятника Пушкину до памятника Тимирязеву.
И еще о бульварах. Как человеку трудно представить себе, что земля – шар, так и мне, подростку, не верилось, что бульвары – замкнутое кольцо, а не просто линия, пусть и не совсем прямая.
И хотя «Аннушка», отъехавшая от нашей остановки, минут через 40 возвращалась на то же место, мне хотелось проверить кольцеообразность её линии самолично, а не с помощью трамвая, Бог весть как там проложенного, для чего лучше всего было пройти весь его маршрут пешком.
И вот в один прекрасный летний день 1932 года я пустился в это недальнее, но и не совсем обычное путешествие. Оно хорошо мне памятно поныне.
Пройдя Покровские казармы с их плацем, Хохловскую площадь с конечной петлей обожаемого 23-го, ныне давно уже не существующую парикмахерскую на углу Покровских Ворот, я вышел на Чистопрудный бульвар.
Там тоже всё мне было хорошо знакомо, но я впервые углядел небольшой угол, отклонявший Чистопрудный бульвар от прямой линии Покровского. Это было для меня важно.
Чистопрудный бульвар был закрыт от Мясницкой улицы уродливым, громоздким домом. Как радовался я, когда года два спустя его ломали – сам видел тучи пыли и падающие кирпичи. На месте этого старинного дома образовалась площадь с изящным павильоном метро «Кировская».
Далее путь мой шел по узкому, тесному Водопьяному переулку где, оглушительно тренькая, меня обогнал трамвай «А». Сретенский бульвар я миновал мгновенно. В конце его стоял закладной камень памятника Грибоедову, вскоре исчезнувший.
По Рождественскому бульвару идти было весело и легко – под гору. Зато для транспорта и подъем и спуск были мучительны. Телеги с грохотом спускались по булыжной мостовой.
С горы хорошо было видно, что от Трубной площади (через которую тогда ходили трамваи) Петровский бульвар делает заметный угол влево.
У остановки «Трубная площадь» в мрачном доме на углу Трубной улицы находился магазин под вывеской «Мусульманская конная». Около него толпились татары в халатах и тюбетейках.
Цветной бульвар начинался каменной лавкой с вывеской «Цветы», как бы оправдывавшей название бульвара, ибо никаких клумб и цветников тогда на этом бульваре не было.
«Ворота» – перекрестки с бурным уже тогда движением транспорта – сильно замедляли мое продвижение, но вскоре я оказался в тесном проезде Скворцова-Степанова[27], по левую сторону которого тянулась глухая, обшарпанная стена Страстного монастыря, справа же высилось новое здание «Известий» – проезд напоминал ущелье.
На углу Тверской сверкал рекламой какого-то нового «мирового» кинофильма кинотеатр, неведомо почему именовавшийся по-французски – «Ша нуар» (Черный кот); потом он стал «Центральным». А по другую сторону Тверской манил огромными витринами Дом книги, в котором продавалась литература на всех языках мира.
В глубине площади, на углу Большой Бронной, стоял другой кинотеатр – «Палас», в котором почему-то чаще всего показывались приключенческие фильмы.
Здесь трамвай делал крутой поворот в сторону правого проезда Тверского бульвара и останавливался у старинного павильона, верх которого служил укрытием от дождя, а внизу, в глубоком подвале, находилась одна из очень немногих на московских улицах общественная уборная.
В начале Тверского бульвара стоял грустный, задумчивый Пушкин, который в ту пару еще не «восславлял свободу», а по вине своего осторожного редактора Жуковского был «любезен народу» лишь «прелестью стихов живых».
По правую руку Пушкина высилась ампирная церковка Дмитрия Солунского, напротив же памятника – высоченная колокольня Страстного монастыря с рекламой «Автодора», под ней – конечная остановка одновагонных трамваев линий 12 и 13 и биржа извозчиков. Справа от памятника, на бульваре, находился крохотный кинотеатрик с архаическим названием «Великий немой».
Через площадь проходила узкая и заполненная транспортом Тверская – уже тогда главная улица города.
Тут я изрядно устал, но, дав себе слово не присаживаться, бодро двинулся вдоль Тверского бульвара. Мимо промелькнул Камерный театр, уже тогда заклейменный критикой как «эстетский»[28], впереди показалась сутулая спина Тимирязева.
И вот я уже у Никитских Ворот, где поворачивает вправо, на улицу Герцена[29], мой любимый трамвай № 23, оставляя в одиночестве старушку Аннушку. Начало Никитского бульвара занимает тяжеловесный дом с аптекой.
Такой же дом, но с молочной и парикмахерской загораживает вид с Никитского бульвара на Арбатскую площадь, А вид этот интересен. Слева популярный кинотеатр «1-й Совкино», ныне «Художественный»; здесь показываются уже только звуковые кинокартины, это первый экран столицы. Справа – круглый угол столовой Моссельпрома, нынешняя «Прага». Сразу за кинотеатром – громадный ангар Арбатского рынка, где летом полно вкусных ягод и овощей[30]. Толпы покупателей входят и выходят из-под арки рынка. Идут к трамвайным остановкам – никаких станций метро и в помине нет.
В начале Гоголевского бульвара в окружении фонарей со львами сидит согбенный, словно напуганный уличной суетой Гоголь. Остряки называют андреевский памятник «Нос в шинели»[31].
Арбатская пл.
Фотография 1929 г.
От Воздвиженки мимо кинотеатра, к Арбату, делая крутую дугу, ползут переполненные трамваи. Сейчас уже трудно себе представить, каким образом узкий Арбат вмещал две трамвайные колеи, а по бокам еще шли автобусы и прочий транспорт.
Кривой Гоголевский бульвар выводил к Пречистенским воротам, где на стрелке Остоженки и Пречистенки в приземистом домике помещался кинотеатр с романтическим названием «Чары». Впереди, за глухим забором, высилась гора обломков взорванного недавно храма Христа Спасителя.
Далее память моя дает осечку. Кажется, Соймоновский проезд был закрыт, дабы не мешать разборке храма, и трамвай «А» был пущен по Волхонке и Ленивке.
Ленивка выходит к низенькому трехпролетному Каменному мосту, за которым высится гигантский комплекс только что сооруженного Дома правительства. Но я вместе с рельсами трамвая «А» следую по набережным – Кремлевской и Москворецкой. На них стоят высокие мачты энергопередачи.
Гоголевский бульвар.
Памятник Н.В. Гоголю работы Н.Д. Андреева
Напротив «Дворца труда»[32] – главная московская электростанция МОГЭС. Из труб валит густой дым. На здании котельной – две симметричные выемки. В праздники, когда МОГЭС иллюминирован пышнее, чем любое другое здание Москвы, в выемках ставятся гигантские портреты Ленина и Сталина.
Но вот и Устьинский мост, старый, вровень с набережными. Поворачиваю на Устьинский проезд. Справа – квартал неказистых домов, из-за которых торчит вышка бывшей водонапорной башни.
В двухэтажном кирпичном домике у Яузских Ворот – почта, наше отделение, 28-е. Стало быть, близок дом.
Яузский бульвар ведет в гору, уф, как тяжело, как хочется присесть. В середине аллеи – таинственный домик в псевдорусском стиле. Здесь в давние времена какой-то инженер пытался устроить артезианскую скважину и воздвиг над ней теремок. До воды так и не добрался, а теремок всё стоит.
По линии Воронцово Поле – П од кол о кол ьн ы й переулок проходят трамвайные рельсы 31-го маршрута, вагоны всегда переполнены – это единственная прямая связь Курского вокзала с центром.
Но вот и родной Покровский бульвар – широкий, с густыми кленами и ясенями. На скамейках сидят слушатели Военно-инженерной академии, недавно переведенной сюда из Ленинграда, зубрят конспекты. Они, конечно, еще без погон, ведь погоны носили белогвардейцы. На отложных воротниках – черные петлицы. Вот встретилась знакомая учительница из нашей школы, с удивлением посмотрела на запыхавшегося мальчика. Наконец, угол Казарменного переулка, место моего старта, а теперь финиша. Дом телефонной станции с длинными окнами-щелями. Спросил время у прохожего. Весь маршрут, бесспорно кольцевой, как я теперь окончательно убедился, пройден за час пятьдесят минут.
Бульварное кольцо, зеленый перстень московского центра, как многое оно говорит коренному москвичу! Есть много песен о дрянных парижских бульварах, и ни одной – о московских. А ведь московские бульвары намного старше парижских.
Сохранилось фото: маленький мальчик, закутанный в кашне, стоит на Чистопрудном бульваре, с салазками в руках, рядом – две девочки постарше. Это я в возрасте восьми лет и две моих сестры: родная – Нина и двоюродная – Галя. Сзади отчетливо виден двухэтажный флигель дома Ns 8, впоследствии одно из владений издательства «Московский рабочий».
Случайное совпадение: именно это издательство выпустило в 1972 году мою книгу «Бульварное кольцо».
14 Торговля
Смутно помню докарточный период, когда торговля была ненормированной и общественный (кооперативный) сектор вёл упорную борьбу с частным. Государственный же сектор занимал в розничной торговле скромное место. Продовольственными и мелкими сопутствующими товарами торговала рабочая потребительская кооперация. Сегодня это кажется странным: почему же сразу государство не монополизировало в своих руках розничную торговлю? Ответ прост: не было еще ни сил, ни средств. Именно перед кооперацией ставилась задача постепенного вытеснения с рынка частника. А частник отчаянно сопротивлялся, всеми мерами заманивая к себе покупателя.
Официальная пропаганда вовсю старалась дискредитировать частника и побудить население покупать товары в кооперативе. Эта тема была одной из ведущих в газетах, плакатной агитации, в постановках «Синей блузы»[33]. Повсюду раздавался призыв: «Не покупайте у частника, лучшие товары – в кооперации!» Поддерживаемая государством кооперация широко пользовалась рекламой, боролась с частником путем регулярного снижения цен на потребительские товары. Частник, теснимый налогами, снижать цены не мог, но рекламой тоже пользовался. Такого размаха коммерческой рекламы, как при нэпе, я уже не помню; сказывалась ожесточенная конкуренция обоих секторов. Рекламные плакаты и объявления назойливо били в глаза на каждом шагу. Ими были заполнены стены, газеты, журналы – почти как в капиталистических странах. С ликвидацией частной торговли (1931 год) рекламой еще довольно широко пользовались государственные и кооперативные фирмы (старые москвичи хорошо помнят огромные надписи на брандмауэрах: «Пейте томатный сок!», «Я ем варенье и джем»). После войны она захирела, а затем и вообще сошла на нет: покупательский спрос при недостаточном предложения в рекламе не нуждается, в этом случае рекламируются лишь неходовые, залежавшиеся товары – скорее нужна антиреклама.
В докарточный период мы покупали продовольствие (уродливый термин «пищевые продукты» вошел в обиход только в 1950-е годы) в кооперативном магазине, находившемся в нашем доме (Казарменный переулок, 8). После переоборудования в 1928 году продавцами в нем стали одни лишь женщины (кроме мясника). Это было удивительной новинкой для той поры, когда продавцами по старой традиции служили везде одни лишь мужчины. Новинка получила широкую огласку: я с гордостью прочитал очерк о нашем необыкновенном магазине в журнале «Огонек». Смелое нововведение преподносилось как новый шаг к раскрепощению женщин, к полному уравниванию их в правах с мужчинами.
Частная торговля велась не только в лавках и в палатках, но и вразнос. Уличные торговцы фруктами носили свой товар в больших корзинах, умещая их на голове, без помощи рук, что очень меня поражало, – акробатический номер, который я пытался испробовать на себе, используя домашнюю утварь, старательно, но с полной неудачей. Правда, у меня не было круглой войлочной прокладки, которую разносчики клали себе на голову, чтобы лучше удержать корзину.
Уличные продавцы устраивались со своим товаром у бортов тротуаров, где и вели торговлю фруктами, в частности мочеными яблоками, солеными помидорами и огурцами, домодельными конфетами сомнительного качества, чаще всего «ирисами» и «барбарисами» – мне казалось, что названия эти рифмуются неслучайно. Отмечу, что большинство уличных торговцев были мужчины – женщины чаще торговали летним товаром: зеленью, овощами, фруктами, это были подмосковные крестьянки. Иногда в наш переулок приезжала большая фура с арбузами, ими торговали «на вырез»: плохой арбуз отбраковывался и клался в сторону.
Кооперация конкурировала с уличными частниками, организуя торговлю с фирменных лотков. Это чаще всего были лотки «Моссельпрома», с которых торговали конфетами, папиросами, всякими мелкими несъедобными товарами. Лоточниками чаще были женщины, у них была особая голубая форма и фирменное кепи с большим козырьком. «Папиросница от Моссельпрома» – таково было название одной из первых советских кинокомедий.
* * *
В 1920-е годы государство упорно внедряло метрическую систему – взамен веками действовавших русских мер. Таблицы перевода их на метрическую систему печатались на обложках ученических тетрадей, в календарях и разного рода справочниках. Тем не менее в магазинах, несмотря на замену гирь (пружинные весы с циферблатом начали появляться только с 1930-х годов), всё еще часто слышалось слово «фунт». Я твердо усвоил, что фунт – это 400 граммов, а килограмм составляют два с половиной фунта. К моему удивлению, в магазинах нередко говорили: «Взвесьте мне два с половиной фунта» вместо более удобного и простого «килограмм» или «кило». Сказывалась вековая привычка.
Уезжая с отцом за город, иногда спрашивали местных крестьян, далеко ли до такой-то деревни. Встречный обычно отвечал: «Версты четыре будет». Версты или километра? «Да какая разница: что верста, что километр». Различие в 67 метров не принималось во внимание: большинство населения долгое время считало, что километр – это переименованная верста, В деревнях по-прежнему мерили участки деревянными растопырками-саженями, не скоро расстояние между кончиками обоих колов сократили до двух метров и сам нехитрый прибор переименовали в «двухметровку».
Меры ёмкости: ведро и «мера» – держались долго. Стандартными мерами продавали сыпучие товары и овощи на рынках. Была большая мера (металлический цилиндр) объемом с крупное ведро, полмеры и четверть меры. Сколько в них было кубических сантиметров, понятия не имею, да это и не имело особого значения: товар был на виду, хочешь – соглашайся с ценой, не хочешь – не бери. Сейчас рыночная торговля маленькими мерками, обычно стаканами, сохранилась лишь при продаже мелких ягод и семечек.
Литры для измерения жидкостей вошли в обиход очень рано, возможно еще до революции. Даже у частных молочниц были разливные мерки на длинных рукоятках емкостью в литр и пол-литра. Только пол-литра именовались «кружкой», а литр – «двумя кружками».
Сахар продавался «головами» – большими конусообразными слитками, обернутыми в особую синюю бумагу. Дома его кололи для чая пестом или обратной стороной толстого ножа – косаря.
Кое-какие мелкие штучные товары продавали гроссами. Гросс равнялся 12 дюжинам, т. е. 144 штукам. Это не старинная русская мера, а остаток западной двенадцатеричной системы, некогда утвердившейся на Руси. Почтовую бумагу продавали дестями; десть равнялась 24 листам.
Метрическая система привилась довольно быстро. Даже слово «пуд» сейчас услышишь редко. А еще в 1930-х годах пуд фигурировал в государственных планах и официальных документах. Был лозунг: собирать урожай зерновых по 7–8 миллиардов пудов в год.
* * *
В конце 1928 года, с началом первой пятилетки, была введена карточная система снабжения населения сначала хлебом, затем и другими продуктами, а в 1929 году (он вошел в историю как «год великого перелома») также и промтоварами. Но еще до этого стали ощущаться перебои в снабжении, появились очереди. Запомнилась глупая частушка: «По бульвару кура шла, на ходу яйцо снесла, а хозяйки увидали, мигом в очередь все встали». Очереди, очереди… С тех пор даже и после ликвидации карточной системы они стали неотъемлемой частью нашего быта. Причины их вовсе не однозначны. Часто дело не в товарном дефиците, а в недостатке торговых точек и продавцов, то есть в экономии на так называемых накладных расходах в торговле за счет времени и сил покупателя.
Москва заполнилась очередями. Бытовала прибаутка: «Кто последний? Я за вами – вот Москва двумя словами».
Причины введения карточной системы всегда экстраординарны: неурожай, война. Установление карточной системы в первую пятилетку мне до сих пор непонятно: не было ни неурожая, ни войны. Даже в Первую мировую войну карточки в России были введены только в 1916 году. В энциклопедиях и учебниках объясняется: единоличное сельское хозяйство с его отсталой техникой и низкой урожайностью не могло полностью удовлетворить потребности растущего городского населения; рост этот был вызван социалистической индустриализацией.
Индустриализация и в самом деле шла полным ходом, отвлекая из села часть трудоспособного населения, а в селе проводилась коллективизация, которая сопровождалась механизацией. Однако объяснить этими двумя факторами внезапную необходимость строгого нормирования потребительских товаров затруднительно, тем более что стала ощущаться очень острая нехватка продуктов и карточки с их скудными пайками подчас «не отоваривались». Думается, причина наступившего кризиса не в этом или не только в этом, а главным образом в следующем: во-первых, коллективизация, завершившаяся в 1932 году, не сразу позволила резко увеличить производство и продажу сельхозпродуктов – перестройка привела к сбою; к этому надо добавить, что многие крестьяне, вместо того чтобы сдавать свой скот колхозу, забивали его на личные нужды. Во-вторых, в целях скорейшей индустриализации, требовавшей широкой закупки за границей оборудования, государство резко увеличило экспорт сельхозпродуктов. Производство же ширпотреба сократилось из-за того, что главные силы и средства были брошены на строительство предприятий тяжелой индустрии и выпуск её продукции в увеличенном объеме.
Каждый трудящийся получил «заборную книжку» – маленькую белую брошюрку с листочками, разделенными на купоны по видам товаров. Название «заборная книжка» меня рассмешило; мне объяснили, что оно не от слова «забор», а от «забирать» – имелись в виду нормированные продукты.
Чтобы получить заборную книжку, надо было стать пайщиком ближайшего кооператива, это стоило не то 50 копеек, не то рубль в месяц. Дело в том, что продажей нормированных продуктов занималась не государственная торговая сеть, а городская кооперация во главе с Московским советом потребительских обществ – организацией массовой и весьма весомой.
Каждый район имел свой трест («общество»), наш носил звучное название БРРОП – Бауманское районное рабочее общество потребителей. Магазины стали именоваться кооперативами. Только и слышно было от женщин с сумками: «Чего в нашем каперативе дают?», «А очередь большая?», «А талоны на крупу отоваривают?» Забот у хозяек заметно прибавилось.
Отец тоже стал пайщиком «каператива» – того самого магазина в нашем доме, где торговали одни женщины, теперь это стал «наш кооператив». Иногда созывались собрания пайщиков, весьма бесплодные: пайщики ругали руководство за отсутствие продуктов, руководство неизменно оправдывалось тем, что на базе «продуктов нет». Так рассказывал отец, пока еще ходил на эти никому не нужные собрания.
Здание Мосельпрома в Нижнем Кисловском пер. Открытка 1920-х гг.
Как раз в это время Максим Горький начал издавать журнал «Наши достижения». В связи с этим злые языки пустили по Москве анекдот: «Знаете ли, что такое заборная книжка? – Бесплатное приложение к журналу «Наши достижения».
Однако заборные книжки просуществовали очень недолго. Их заменили цветными листочками – продовольственными карточками, выдаваемыми каждому потребителю раз в месяц. Для каждой категории едоков был свой цвет, а главное – свои нормы снабжения. Высшую категорию получали рабочие, независимо от квалификации, затем шли служащие, включая инженеров, техников, врачей, низшей категорией были иждивенцы. Дети имели преимущество в получении молока и молочных продуктов. Но как раз их-то не хватало, за молоком выстраивались длиннейшие очереди. Молоко продавалось в разлив, никакого фасованного молока в бутылках или пакетах тогда не существовало, продавцы разливали молоко в крынки и иную посуду покупателя. Очень плохо обстояли дела и с мясом: поголовье скота резко упало.
Однако далеко не все жители Москвы получили карточки. Представители враждебных классов были объявлены лишенцами, и карточек им не выдали. Я долго думал, что лишенец – оттого, что лишен карточек, на самом же деле им становился тот, кто был лишен избирательных прав, – бывший капиталист, недавний нэпман, царский жандарм или иной слуга самодержавия и буржуазного строя. Лишенцами стали и все служители культа.
Однажды у ворот нашего дома стояла бледная, интеллигентного вида женщина с грудным ребенком и девочкой постарше. Она просила подаяния, объясняя прохожим, что им не дали карточек: муж служил в белой гвардии. Женщины сочувствовали, клали в её сумку довески карточного хлеба.
Во дворе вывесили список лишенцев нашего дома. В числе их значился живший в соседнем подъезде инженер-путеец с громкой фамилий Хитрово. Не знаю, за какие грехи его объявили лишенцем: может быть, за дворянское происхождение, или же какое-то время он служил в белой, гвардии. Насколько мне известно, помещиком он не был. Тем не менее Хитрово преспокойно продолжал работать и жить без карточек. Его сына Жоржа воспитывала мать-француженка, она не разрешала ему гулять по двору одному, а сопровождая его, громогласно обучала его французским словам, что вызывало издевки дворовых ребят из пролетарских семей. Когда он подрос и стал ходить один, его спрашивали: «Жора, а почему говорят Франц-узкий, а не Франц-широкий?» Жора со всей серьезностью отвечал, что был такой народ – франки, от которых произошли французы, – он не понял каламбура. В Великую Отечественную войну Жора спасся лишь благодаря исключительному умению плавать. С разбомбленного в Керченском проливе транспорта доплыл до Тамани, После войны служил инженером-гидростроителем.
Продуктовые карточки, почему-то неотоваренные
Однако вернусь к снабжению. Вскоре уравнительная система рационирования продуктов с прикреплением по месту жительства изменилась. Каждое учреждение и предприятие, стремясь ублажить своих рабочих и служащих, вырывало себе какие-то льготы и повышенные возможности снабжения. Появились ЗРК – закрытые рабочие кооперативы и «закрытые распределители» тех или иных организаций. Входить в них можно было только предъявляя пропуск: некоторые товары там продавались сверх карточек, поэтому посторонние были нежелательны. На прилавках иногда появлялись халва, конфеты, фрукты и иные товары, не предусмотренные карточками. Дабы покупатель, даже прикрепленный, не покупал их дважды, на карточке ставился штампик.
Академия наук, Большой театр, всяческие наркоматы обзавелись особо богатыми закрытыми рас предел ителя м и; каждый хотел всякими правдами и неправдами, «по блату» к ним примазаться.
Отец законно прикрепился к закрытому распределителю, находившемуся на Мясницкой улице, в том помещении, где до того и после находился популярный посудно-фарфоровый магазин. С начала первой пятилетки магазин стал продовольственным. От нас это было далеко, но меня часто посылали туда «отовариваться», предварительно строго внушая, чтобы не потерял пропуск, карточки, деньги и не упустил ценного товара, который к моему приходу оказался бы на прилавках. С большой кошелкой я тащился, проклиная всё на свете, по Покровке, Маросейке, Большому Комсомольскому переулку[34] в этот вечно забитый народом распределитель. Отстояв там бесконечные очереди, с туго набитой кошелкой плёлся обратно, опасаясь домашних упреков: что-то сделал не так, купил не то или не купил того, чего надо было бы. Чтобы облегчить путь, придумал себе станции – ориентиры по маршруту, словно был поездом или трамваем: Покровские ворота, Аптека, Красная церковь (Успения – тут-то её и снесли)[35], Девяткин переулок и т. п. Было мне 12–14 лет – золотые годы отрочества.
В связи с бурной индустриализацией вскоре было понято значение для нее инженерно-технических кадров, в том числе и старых. Сам Сталин призвал к уважительному к ним отношению. Появилось сокращение ИТР – инженерно-технический работник. Если раньше человеком № 1 в стране был рабочий, то теперь почти наравне с ним стали и ИТР. Им предоставили особые, завидные карточки с повышенными нормами, привилегированные распределители – итээровские. Потом появились особые виды карточек – «литер А» и «литер Б». Что за этим крылось – не знаю, мы не получали, но запомнилась острота: «Отныне знатных потребителей разделили на две категории: литерАторов и литерБЕтрров».
В целях скорейшего решения мясной проблемы в 1931 или 1932 году развернулась кампания за массовое разведение кроликов. Доказывалось, что кролик неприхотлив в пище, очень быстро плодится, а мясо его высококалорийно. Москва покрылась плакатами и транспарантами, пропагандирующими усатого кормильца; даже на Историческом музее помню полотнище, показывающее, как из пары кроликов нарождается целая их армия в профессии большей, нежели геометрическая. В связи с этим ходило немало анекдотов, из которых помню только один. Гусь спрашивает кролика: «Что это ты стал ходить с таким гордым видом?» Кролик: «А что же мне не гордиться? Твои предки, гусь, всего лишь какой-то Рим спасли, а мои потомки всю Россию спасут».
Дворовые наши старики, недавние выходцы из деревни, отнеслись к кроличьей кампании скептически. Говорили, что такие опыты были и раньше. В самом деле, кролик плодовит, но вместе с тем легко подвержен заразным, и прежде всего простудным, заболеваниям, всё это кончится массовым падежом кроликов. Так и случилось, после чего «кроличья кампания» мгновенно прекратилась.
* * *
В 1931 году в советском торговом мире произошла сенсация: открылись магазины Торгсина. Торгсин расшифровывался как «Торговля с иностранцами». То были нарядные, фешенебельные магазины, необычные для довольно-таки обнищавшей в годы первой пятилетки Москвы. Покупателем мог стать каждый, не только иностранец. В магазинах продавались редкостные, уже забытые было товары, некоторые даже импортные. Магазины разделялись на продуктовые и промтоварные. К скупочным пунктам Торгсина устремились москвичи с остатками фамильных драгоценностей, золотыми обручальными колечками, серебряной посудой, окладами, снятыми с икон. Металл скупался на вес, драгоценные камни оценивались по стоимости товароведами. В обмен выдавались боны. В магазинах Торгсина можно было купить всё, что душе было угодно: белоснежные пшеничные батоны, ветчину, красную рыбу, икру, любые деликатесы вплоть до ананасов. В промтоварных магазинах предлагались ценные ткани, модные костюмы, фасонная обувь. О нарядной женщине говорили: это у ней всё, небось, из Торгсина. Некоторые мои одноклассники хвалились заграничными карандашами и резинками, которые родители купили им в Торгсине. Боны выдавались в Торгсине также в обмен на иностранную валюту.
Магазин Торгсина.
Фотография 1930 г.
Смысл Торгсина был ясен: собрать у населения уцелевшую после реквизиций 1920-х годов (они прекратились) иностранную и царскую (золотую) валюту и драгоценные металлы – всё это было необходимо государству для закупки за границей нужного для индустриализации оборудования. Обесценившийся и не имевший гарантии советский рубль заграница к оплате уже не принимала. Соблазн для населения, снабжавшегося по карточкам, был велик – думается, что идея Торгсина вполне себя оправдала.
Вскоре за Торгсином в Москве открылись коммерческие магазины, где товары, как правило высококачественные, продавались без карточек и в любом количестве, но по повышенным, «коммерческим» ценам. Помню отделы деликатесных продуктов в этих магазинах. Откуда-то всплывшие, словно из небытия, бывшие приказчики от Елисеева и Белова, чистенькие старички в белоснежных халатах и черных кожаных нарукавниках, артистически отрезали блестящими, остро отточенными ножами ломти розовой ветчины, кусочки балыка, отвешивали черную икру, ловко обертывали их тонкой бумагой и изящным жестом вручали покупателю: «Пожалуйте, милости просим». Слюнки текли при этом зрелище.
* * *
Напомню мелкий, всеми уже забытый факт из торгово-финансовой жизни Москвы 1932 года. Внезапно из обращения стала исчезать разменная монета. Куда она подевалась – никто понятия не имел. Торговый оборот стал испытывать великие трудности. Заплатишь в кассу ассигнацией, а кассирша сдачи не дает: нет мелочи, жди, когда кто-то заплатит металлическими деньгами. А никто платить не хочет, даже те, у кого есть, стараются приберечь. В трамвае вспыхивали постоянные скандалы: кондуктору все вручают не мелочь, а рубли, у него же нет сдачи. «Я вас ссажу за безбилетный проезд!» – кричит кондукторша, а пассажир в ответ ей сует рублевку: вот же я хочу заплатить, а вы мне сдачи не даёте! – «А откуда я дам сдачи, если все мне одни только рубли да трешки всучивают, поищите в карманах!»
Дело дошло до того, что госбанк стал выпускать книжечки с купонами, равноценными разменной монете. Рублевая книжечка содержала купоны достоинством в три, пять, десять, пятнадцать и т. д. копеек, обязательные к приему в государственных магазинах, кажется, и на транспорте, но точно не помню.
Официально затруднение объяснялось вредительством. Остатки враждебных классов умышленно собирали и припрятывали разменную монету с целью сорвать торговый оборот и причинить трудности советскому государству и людям. В одной из кинохроник показывали обыск не то у кулака, не то у бывшего кулака: в погребе у него были закопаны мешки – нет, не с золотом, а с обыкновенной разменной монетой. Мешки изымали, вредителя арестовывали.
Думаю, однако, что даже тысяча кулаков не смогли бы таким путем изъять столь ощутимо из обращения разменную монету.
Видимо, просчитался эмиссионный банк, который, желая оставить государству, столь остро нуждавшемуся в тот период в цветном металле, побольше этого металла, резко сократил выпуск разменной монеты, полагая, что и выпущенной ранее монетой люди обойдутся, а попадавшую в банк мелочь сдавал государству как металл, взамен выпуская ассигнации. Однако недостаток вскоре стал ощутим, и произошла своего рода цепная реакция: люди стали приберегать металлические деньги. Или же кто-то пустил ложный слух о предстоявшей якобы денежной реформе, при которой разменная монета, как правило, не заменяется и остается в прежней цене. Отсюда стремление её не расходовать.
* * *
С победой колхозного строя в Москве появились колхозные рынки. Точнее, старые, обычные рынки переименовали в колхозные, и торговавшим на них колхозам предоставили какие-то льготы и удобства. Поначалу на них и в самом деле главное место занимали колхозы и отдельные колхозники. Колхозы продавали продукты, оставшиеся у них после сдачи положенной нормы государству.
Ближний к нам колхозный рынок расположился на Хитровской площади и назывался «Хитровский колхозный рынок». Для него использовался длинный навес, сохранившийся от старого, легендарного Хитрова рынка. Разумеется, новый рынок ничего общего со старым не имел, торговали на нем только сельскохозяйственными продуктами. Просуществовал он недолго: в 1934 году на его месте построили здание техникума.
Наша семья не роскошествовала, но и не голодала. Питались преимущественно картофелем, капустой, разными кашами, в основном гречневой – её чаще всего выдавали по карточкам. Пили кофе-суррогат. Колбаса и сыр на столе были редкостью, но мясные блюда варились почти ежедневно. Отцу часто особо жарилась яичница: добытчик! Мне не хватало сладкого, сахара – юношеский организм его требовал в повышенных количествах. Оставаясь один, что было не так часто, я воровал в буфете сахар и варенье, это подкрепляло силы.
Хлеба хватало, к 1934 году даже образовались излишки. Бабушка иногда посылала меня с излишками хлеба на рыночек, что собирался на Лялиной площади, недалеко от Курского вокзала.
Там я менял хлеб (черный) на молоко в соответствии с рыночными обменными расценками. Иногда же просто продавал хлеб – смешно сказать – колхозникам. Они охотно покупали.
* * *
Рост производства потребительских товаров сделал возможным отмену карточной системы. 1 января 1935 года отменили карточки на продукты, а 1 января 1936 года – на промтовары. Государственные цены были сближены со сниженными коммерческими. С отменой карточной системы в городах упразднили потребительскую кооперацию; все её магазины перешли к государству.
Отмена карточек была проведена в праздничной атмосфере. Отмечалось, что она знаменовала полную победу социалистической системы как в сельском хозяйстве, так и в торговле. Накануне нарком торговли СССР Микоян выступил с речью, в которой обещал народу полное и стабильное наличие всех продовольственных товаров: они посыплются-де на покупателя как из рога изобилия. Рисунок рога изобилия с выпадающими из него различными вкусными вещами сразу появился повсюду: на стенах, плакатах, в газетах, журналах, в кинохронике. С недостатком продовольствия, казалось, было покончено навсегда. Зерновая проблема была решена. Речь пошла уже о более питательном и разнообразном ассортименте. Тут и появился лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее».
И в самом деле: в 1936–1939 годах положение с продовольствием нормализовалось. Насколько помнится, в эти три-четыре года был достигнут баланс между спросом и предложением. При нэпе предложение резко превышало спрос, в послевоенные годы спрос заметно превышал предложение. А в указанный период продукты первой необходимости можно было купить повсюду в Москве без особого труда. Деликатесы тоже были в изобилии, но цены «кусались», поэтому особых очередей не было ни за рыбой, ни за ветчиной, ни тем более за черной икрой. Красная же икра не считалась деликатесом, она продавалась повсюду и недорого. Так же как консервированные крабы.
В открывшихся «Гастрономах» продавались не продукты широкого ассортимента, как сейчас, а именно товары гастрономические – деликатесы. Всё остальное продавалось в магазинах треста «Бакалея», в наши дни давно уже упраздненного. На улицах и на бульварах открылось множество кафе и закусочных; особо притягательны были молочные закусочные, где за недорогую цену и без особых очередей можно было вкусно позавтракать: меню предлагало широкий выбор всевозможных молочных продуктов плюс сардельки или сосиски, а также непременный омлет. К этому времени закрылись за ненадобностью не только коммерческие магазины, но и торгсины.
Удар продовольственному снабжению Москвы нанесла война с Финляндией. Не знаю почему, но в декабре 1939 года продукты из магазинов (кроме хлеба) исчезли начисто. В лютый мороз я бегал по нашему району в поисках продуктов, но принес только ломти лежалого, затвердевшего сыра. Было объявлено, что карточную систему не возобновят, но лучше бы возродили: перебои со снабжением в Москве были весьма ощутимы. А ведь то была маленькая война, далеко от Москвы, которая, как подчеркивали газеты, велась только силами Ленинградского военного округа. Трудно объяснить, почему же она вызвала столь ощутимые трудности со снабжением, да еще такого города, как Москва. Едва ли это было вызвано стремлением москвичей «запастись» на всякий случай; думается, что во избежание неумеренной скупки про запас торговые органы переборщили, намеренно задерживая товары на базах.
После окончания Финской войны (март 1940 года) положение выправилось, но прежнего уровня торговля не достигла. В воздухе запахло большой войной, уже бушевавшей на Западе, и это, бесспорно, заметно сократило поток из «рога изобилия»: надо было делать большие государственные запасы.
С присоединением Прибалтики в кондитерских магазинах появились эстонские и латвийские конфеты. На вкус они были много хуже наших, но красивая упаковка, красочные обертки создали им некоторую популярность, их быстро расхватывали как интересную новинку: как-никак «заграничный товар».
Из особенностей розничной торговли предвоенной Москвы напомню о торговле в разлив, наряду с хлебным квасом, брагой. Кружка этого коричневого, вкусного, немного хмельного (но меньше, чем пиво) напитка стоила 50 копеек, и мужская часть населения вкушала его весьма охотно.
Начало Великой Отечественной войны не привело к опустошению московских магазинов, снабжение оставалось нормальным – очевидно, научил урок Финской войны, В августе 1941 года ввели карточки. Их отменили только 1 января 1947 года, одновременно с проведением денежной реформы, когда ввели в обращение новые денежные знаки, они обменивались в масштабе 1 к 10 старым, то есть за старый червонец выдавали новый рубль. Разменная же монета сохраняла свою прежнюю стоимость.
15 Театр
Театр вошел в мою жизнь очень рано. Еще в Ленинграде, лет пяти отроду, я повидал в Мариинском театре фокинский балетный спектакль «Петрушка», «Жар-птица», «Шопениана»[36]. В «Петрушке» запомнился балаганный дед, показывавший куклы в левом углу сцены, сам Петрушка, но не русский, а в костюме Пьеро; в «Жар-птице» – витающая в пурпурной пачке балерина, освещенная ярко-красным цветом; в «Шопениане» ничего не запомнилось. На следующий день я нацарапал маминой сестре письмо о виденном, указав название тройного спектакля. В слове «Шопениана» я без всяких задних мыслей вместо «Ш» написал «Ж» (так послышалось), что послужило предметом добродушных насмешек взрослых.
В Москве театральные впечатления тоже начались с музыкальных спектаклей. Сначала «Эсмеральда» в Большом театре со знаменитой Екатериной Гельцер в заглавной роли. Особое впечатление произвело то, что на сцену она выходила с настоящей, живой козочкой. Очень тяжело было видеть бедную Эсмеральду в рубище, с распущенными волосами, когда её вели на казнь, зато увлекло зрелище горящего собора Парижской Богоматери. Феба танцевал муж Гельцер – Василий Тихомиров, красивый, прекрасно сложенный мужчина в алом трико. Обоим много аплодировали, успех постановки был велик. Однако дома у нас Гельцер не столько восхищались, сколько осуждали: выходить на сцену, изображая молоденькую девушку, в столь преклонном возрасте! Гельцер тогда было 50 лет, но она сохранила и грацию и легкость.
Слыша осудительные в её адрес разговоры, я сочинил двустишие: Гельцер душка, да старушка. Взрослым понравилось, его цитировали гостям и тем, к кому мы ходили в гости.
Затем я снова повидал ту же Гельцер в первом революционном балете – «Красном маке» Глиэра. Его поставили к десятилетию Октябрьской революции. Тут меня прежде всего поразил новый занавес театра: старый, с изображением какой-то колесницы, вокруг которой плясали вакханки и амуры, и разбросанных цветов, то есть, как сейчас понимаю, в духе французского рококо, стал использоваться только между картинами. Новый же представлял собой монтаж рекламных плакатов всякого рода торговых объединений. Он призывал подписываться на заем, пить «Ессентуки», а заодно – армянские коньяки, покупать изделия Москвошвея и посещать дорогие рестораны. Разглядывать и читать его было очень занятно, но к театральному действу он никакого отношения не имел. Новый занавес являл собой дерзкий вызов классическому театральному антуражу императорской эпохи и, разумеется, звучал диссонансом на фоне золоченых лож и малиновых штофных обоев.
Театр Ш. Омона на Большой Садовой ул.
В 1920—1930-е гг. в этом здании помещался театр В.Э. Мейерхольда.
С 1940 г. на этом месте находится Концертный зал им. П.И. Чайковского.
Рекламный занавес Большого театра. Фотография 1925 г.
Балет был ярок, динамичен. В первом действии показывался китайский порт с прибывшим советским пароходом, его капитана играл уже знакомый мне красавец Тихомиров. Советские матросы плясали «Яблочко». Танцовщица Тая-Хоа (Гельцер) влюблялась в советского капитана – представителя нового, свободного мира. Накурившись опиума в кабачке, она видела прекрасный сон: ей грезилось освобождение Китая, советский капитан, покоривший силы зла, уносил её куда-то на руках.
В послевоенной версии балета (я видел её не раз) любовная линия отсутствовала: всякие личные чувства между иностранцами и советскими гражданами по новым нормам считались недопустимыми, непозволительными. Советский капитан вызывал у юной Тая-Хоа не эротическое, а только лишь, если так можно выразиться, политическое влечение. Сам он, разумеется, оставался недоступен любовным чувствам за границей. Исчезло также курение опиума: положительной героине столь порочное занятие возбранялось. Сидя в таверне, она просто засыпала от усталости и видела фантастический сон. Соответственно этому вскоре переименовали и сам балет: вместо «Красный мак» (из мака добывается опиум) – «Красный цветок», хотя под этим цветком по-прежнему подразумевался мак, но только как символ свободы и радости.
Важно отметить, что первый опыт советского балета на революционную тему оказался на редкость удачным, благодаря прекрасной музыке, постановке, декорациям и исполнителям. Он пользовался небывалым успехом, долго не сходил со сцены. Сняли его только в 1961 году из-за резкого конфликта с Китаем.
Осенью 1948 года, в дни 50-летия МХАТа, на приеме в Доме актера директор этого дома Эскин подвел меня к одиноко стоявшей в углу пожилой женщине в скромном коричневом платье: «Екатерина Васильевна Гельцер». Бывшая знаменитая балерина протянула мне маленькую, сухую ручку. Тогда ей было 72 года. Небольшого роста, круглая, полноватая, она, конечно, ничем не напоминала былую Гельцер. Однако пыл молодости в ней не угас: она кокетливо щурилась, улыбалась, туловище её всё время было подвижным. Что мог я сказать балерине? Разумеется, что помню её на сцене, восхищался её искусством еще в детстве. Это было заметно приятно ей, она оживилась, но начавшийся разговор прервала чья-то официальная речь. Такова была моя первая и последняя личная встреча со звездой русского балета.
Затем я увидел в Большом театре первую в жизни оперу – «Кармен». Вышел не просто впечатленный, а потрясенный. Как важно рано знакомить детей с великими произведениями искусства! Конечно, я мало что понял в сюжете, но из музыки запомнились хабанера, куплеты Эскамильо, главное же – поразило само действие, яркое и красочное. Можно понять, почему даже гениальный Чайковский откровенно завидовал Бизе, сумевшему написать такую оперу. Чайковский даже не удержался, чтобы не позаимствовать у Бизе для своей «Пиковой дамы» эпизод игры детей в солдаты из «Кармен» – и тут и там в начале обеих опер. Кармен пела молодая Максакова, о которой говорили, что это восходящая звезда, – красивая, лёгкая, стройная. Всех восхищало, как она после кинжального удара Хозе (его пел невзрачный М икиша, тенор довольно посредственный) «колбаской» скатывалась с лестницы, ведущей в цирк, ступеней восемь. Особенно же пленил меня бравый, рослый Эскамильо, его пел Политковский, умерший совсем недавно, на десятом десятке жизни. Дома я долго и увлеченно рисовал на бумаге эпизоды из оперы, прежде всего солдат в невиданных конусообразных касках.
Недавно я размышлял: многие классические оперы на моей памяти как бы потускнели, перестают ставиться, а главное – нравиться. Это касается не только опер Мейербера и Гуно или нашего Даргомыжского, но даже исключительно популярных у публики времен моей юности опер Римского-Корсакова. «Кармен» же, сколько её ни слушаешь и ни смотришь, по-прежнему увлекает (кроме нудных, сентиментальных сцен с Микаэлой); кажется, что она написана только вчера, настолько опера не утратила своей свежести. Бесспорно, так будет и в XXI веке, когда огненную партию Кармен станут исполнять певицы, сейчас даже еще не родившиеся, а затем певицы, матери которых пока еще не родились.
Пусть не удивит читающего эти строки память 6—7-летнего мальчика на имена и названия: мне всегда виделась в них какая-то таинственная связь с обозначаемым предметом или лицом. Поэтому театральные программы я штудировал внимательно, помню даже имена всеми забытых исполнителей. Да и нарицательные слова меня завораживали. Перед началом «Кармен» я спросил кого-то из взрослых, сопровождавших меня: «Что будет в начале оперы?», мне ответили – увертюра. Я воспринял это незнакомое слово как «У Вертюра», вообразив, что Вертюр – персонаж, в доме которого происходит первое действие. Однако ни в первом действии, ни в остальных никакой Вертюр не появлялся, не обнаружил я это имя и в программе. Но ничего: и без таинственного Вертюра опера оказалась восхитительной.
В восьмилетием возрасте меня по случаю отправили вместе со стриженой и седой (сочетание в то время редкое) Валентиной Николаевной, матерью тетиной подруги, в оперный театр Станиславского на «Евгения Онегина». Ничего удивительного не было в том, что пушкинского романа я тогда еще не читал; удивительна была моя боязнь, что Валентина Николаевна откроет мое невежество и устыдит меня. Поэтому я делал вид, что знаю сюжет. Постановка была скромная, та же, что и ныне, не в пример пышным спектаклям Большого театра. Сидели мы где-то на галерке, я жадно следил за действием. Мне сразу же не понравился надменный пижон Онегин, зато симпатию завоевал милый и нежный
Ленский. Я с напряжением наблюдал ссору друзей и с нетерпением ожидал сцены дуэли: очень хотелось, чтобы Ленский застрелил Онегина, а не наоборот. В перерыве между картинами очень чесался язык спросить об исходе дуэли у Валентины Николаевны, но, во-первых, это сразу же открыло бы мое невежество, а во-вторых, страшно было потерять надежду на желательный мне результат поединка. Эмоция, знакомая современному телевизионному болельщику, смотрящему уже закончившийся на стадионе матч позднее, в видеозаписи. И вот сцена у мельницы: выстрел, и бедный Ленский падает замертво. Полнейшее мое огорчение, дальнейший ход событий уже никак не занимал меня. Вот если бы жив остался Ленский и женился бы на Ольге или хотя бы на Татьяне! Последние две картины оперы я смотрел уже без всякого интереса. Ленского нет – чего уж тут смотреть, поскорей бы кончилось!
Уже через десять лет, я выше всего стал ценить в опере именно её последнее действие, наиболее глубокое и яркое по музыке, сильнейшее в драматическом и психологическом плане. Ценю и вплоть до нынешнего дня – разумеется, наряду со сценой письма Татьяны.
Первым виденным драматическим спектаклем была, конечно же, «Синяя птица». Сейчас можно прочитать, что сложная символика пьесы Метерлинка никак не рассчитана на детское восприятие. Чепуха! Дело не в символике, не очень к тому же и сложной, а в сказочности. Ни одна прослушанная или прочитанная ребенком сказка не производит на него такого впечатления, как эта зримая театральная сказка, не сходящая со сцены уже 80 лет и выдержавшая проверку десятков поколений маленьких зрителей. Умение ребенка видеть в обыденном сказочное, фантастическое, сочетание в детском восприятии этих двух стихий учтены Станиславским до мельчайших деталей… Ставя «Синюю птицу», он явно окунулся в собственное детство! Сны сменяются явью, проза быта – грёзами тонко, красиво, изобретательно. Заурядная птичка становится фантастической Синей птицей, которую столь важно отыскать, пройдя через все трудности и препятствия. Окружающие предметы оживают, становясь друзьями или врагами. Сгорбленная соседка с костлявым именем Берленго превращается в очаровательную фею с мелодичным именем Бирюлюна. Если бы хлеб, сахар, огонь и вода вдруг ожили, то они вели бы себя именно так, как в пьесе Метерлинка, и никак не иначе! Особенно поразила меня сцена посещения детьми умерших дедушки и бабушки. Как точно передано непонимание ребенком трагической природы смерти! Никакого ужаса загробного мира, сидят себе мирно старички у своей хижины и вроде бы продолжают жить и мыслить, хотя давно уже «выпали из времени». Как естественно говорит дедушка мальчику: «Как ты вырос, Тильтиль» – ведь в самом деле он давно уже не видел внука. И какая доброта лучится из обоих стариков! Если бы выдумать мир заново, только так следовало бы устроить загробное царство – как продолжение жизни в мыслях.
Одно только смущало – птица, изображенная на занавесе. Почему она белая, а не синяя? Конечно, ни о какой чеховской «Чайке» я тогда не слыхал и был убежден, что занавес связан со спектаклем, но постановщики проявили непростительную невнимательность.
Спектакль оживил мои детские фантазии, очень хотелось верить тому, что не всё в сказке Метерлинка – выдумка: слишком скучно бы выглядел тогда белый свет. Незадолго до того мне подарили грошовый сувенир – фольговый перстенёк с цветным камушком. После спектакля, придя домой, я вообразил, что это, быть может, такой же волшебный перстень с алмазом, как и тот, который Фея подарила детям, и тайно стал крутить камушек, чтобы всё вокруг, как в «Синей птице», расцветилось звездами и я оказался бы в царстве сказки: со мной заговорил бы хлеб, а сахар дал бы отведать кусочек своего сладкого пальца. Помню мучительную раздвоенность сознания: ничего не выйдет, всё это сказка – думал я и тем не менее крутил и крутил «алмаз»: а вдруг?
Не только персонажи вроде Берленго-Бирюлины, казалось мне, обладают «говорящими именами», но и актеры-исполнители. Фею играла Елина, Свет – Еланская *– какие светлые, чарующие, наилучшим образом подходящие фамилии! Роль Хлеба исполнял артист Бутюгин – вот тут Елин или Еланский никак бы не подошли: в грузной фамилии Бутюгин мне слышалось что-то от буханки, краюхи и утюга. Ночь – Тихомирова, ведь и в самом деле ночью мир становится тихим, таинственным. Сахар – Вербицкий, белая, хрустящая фамилия. Так я распространял осмысленность, завершенность постановки на её чисто случайную сторону.
В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, я прочитал в газете о Метерлинке, которого считал давно умершим: старый бельгиец взял клетку со своей любимой синей птицей и, отчаявшись увидеть свою родину счастливой, уехал за океан. Так пе-. чально жизнь закончила чудесную сказку о Синей птице.
* * *
Шли годы, я рос и стал воспринимать чудо театрального искусства нормально, то есть по-взрослому, Чаще всего ходил в оперу и балет, но постепенно все большее место в круге интересов начал занимать драматический театр, прежде всего МХАТ. В 1930—1940-х годах я просмотрел едва ли не все постановки этого блестящего ансамбля. На смену актерам, положившим начало театру, Станиславский и Немирович-Данченко сумели вырастить талантливое второе поколение. Его «Чайкой» явилась пьеса Булгакова «Дни Турбиных» с блистательным составом исполнителей: Хмелев, Яншин, Комиссаров, Еланская, Ершов, Прудкин, Добронравов, Станицын. Сама пьеса была написана в чеховской манере, с тонкой психологической обрисовкой каждого персонажа.
Из разговоров взрослых узнал: пьеса подвергается резкой критике слева, так как в ней положительно выведены белогвардейские офицеры – враги революции. Действительно, по-чеховски человечная обстановка дома Турбиных – последнего мирного и привлекательного островка в бушующем море гражданской войны – была подана драматургом и театром с откровенной симпатией, что в ту пору показалось неслыханной наглостью. Даже «Боже, царя храни» под ёлкой пели, и это на втором десятилетии советской власти! Поэт Безыменский писал в «Комсомольской правде», что не может понять и простить то, что МХАТ столь идиллически изображает белых офицеров в Киеве 1919 года: именно такие, как Турбин, расстреляли тогда в Киеве его родного брата-большевика. Эмоции части публики можно понять: Гражданская война была вчерашним днем страны; несмотря на умиротворяющий конец, пьеса казалась вызывающе контрреволюционной. Как если бы вскоре после Великой Отечественной войны гитлеровских офицеров показали на сцене советского театра людьми хоть и заблуждавшимися, но вполне порядочными и симпатичными.
Время давно уже остудило накал страстей, сегодня никого не оскорбляет мхатовско-булгаковская трактовка давних событий, а тогда критерии были строгими: даже бесспорно критический, сугубо сатирический «Бег» того же Булгакова не допустили на сцену как пьесу контрреволюционную. «Дни Турбиных» вскоре сняли, но через некоторое время возобновили (тогда-то только я их и увидел). Спас пьесу не кто иной, как Сталин, горячо полюбивший её и МХАТ в целом. Он нашел в пьесе «рациональное зерно», открыто заявив: «Если даже такие люди, как Турбины, поняли несокрушимость советской власти, то это лучшая агитация за нас». После этих слов критиковать пьесу стало немыслимо и критика смолкла.
Ходил анекдот: ознакомившись с рукописью пьесы, за постановку которой горячо ратовал Немирович-Данченко, Станиславский высказал ему свои опасения: «А не посадят ли нас, Владимир Иванович, за эту постановку в ГУМ?» Далекий от новой, советской терминологии основатель МХАТа спутал ГУМ с ГПУ – тогдашним КГБ.
В «ГУМ» никого не посадили, а МХАТ вскоре сменил свою репутацию изжившего себя, враждебного революции коллектива на звание лучшего советского театра, достойного преемника реалистических традиций русского театрального искусства. Блестящая инсценировка «Анны Карениной» с Тарасовой и Хмелевым в главных ролях снискали театру невиданные лавры и почести. Сорокалетие театра в 1938 году было отпраздновано с огромной помпой, на режиссеров и актеров посыпались награды, почетные звания, их торжественно принимал сам Сталин – самый авторитетный зритель и поклонник МХАТа.
За год до постановки «Анны Карениной», в 1936 году, с театром случилась неприятность: в связи с постановкой пьесы Булгакова «Мольер» появилась рецензия, охарактеризовавшая эту постановку как вредную, антихудожественную, исказившую образ великого драматурга. Пьесу тут же сняли с репертуара и запретили вовсе. Сестра недоумевала: она^была на генеральной репетиции, постановка ей показалась блистательной, а исполнитель роли Мольера Станицын, казалось, превзошел сам себя. После 1953 года пьесу разрешили, я видел её и понял, почему она не понравилась Сталину: в ней весьма прозрачно показывался конфликт между тираном-меценатом и художником. «Король-солнце» Людовик XIV играл с Мольером, как кошка с мышкой, и в конце концов доводил своего любимца, ступившего за дозволенные пределы, до трагической кончины. Лицемерный и своенравный король стопроцентно напоминал Сталина, а несчастный Мольер – Булгакова. Запрещенная за её аллегории пьеса оказалась пророческой: снова попавший в опалу Булгаков тяжело заболел и вскоре умер.
Предвоенный МХАТ вовсе не топтался на месте, повторяя свои традиционные, сугубо реалистические приемы. Так, в 1934 году Станицын осуществил постановку «Пиквикского клуба» Диккенса в модернистских, необычных для театра декорациях Вильямса. Это был яркий, жизнерадостный спектакль, проникнутый добрым юмором и глубокой человечностью. От мхатовских традиций в нем остались тончайшая выверенность каждой роли, реплики, эпизода, в остальном же то был изобилующий театральными условностями гротеск, скорей напоминающий вахтанговскую манеру.
Я несколько раз смотрел «Пиквикский клуб» и запомнил его до деталей, но первое посещение осталось особо памятным. В сцене суда кто-то из сопровождавших (кажется, сестра) толкнул меня и шепнул: «Обрати внимание на судью – это Булгаков». В самом деле, в программе против роли председателя суда значилось: «Булгаков», но эта весьма распространенная фамилия не вызвала у меня никаких ассоциаций. Услышав затем: «Это тот самый Булгаков», я встрепенулся и стал видеть и слушать только одного судью. Мне он показался крупным, большеголовым (может быть, из-за огромного парика) мужчиной, с тяжеловесным подбородком, реплики его, как и подобает судье, звучали резко и повелительно. Самым интересным было то, что выдающийся драматург, не прошедший никакой театральной школы, органически вписался в спектакль, как опытный и полноценный актер. Никакой любительщины, высокий мхатовский профессионализм – пусть и в небольшой, эпизодической роли. Так я единственный раз видел живого Булгакова.
Украшением мхатовской сцены был великий Качалов. Увы, я повидал его лишь в нескольких ролях; Качалова в роли Чацкого упустил. Это был актер своеобразный, необычный: он не умел и не старался перевоплощаться, сквозь любой грим и характер сразу было видно: это не горьковский Захар Бардин и не гамсуновский Ивар Карено, а прежде всего Качалов, и только Качалов. И в этом, как ни странно, заключалось его главное очарование. Изменись Качалов до неузнаваемости, перевоплотись в изображаемого персонажа, вряд ли он нравился бы более. Он не приспосабливался к роли, а подгонял роль под себя. Его сразу же выдавали благородная, неторопливая манера, а главное – богатый, со множеством самых неожиданных модуляций и оттенков, проникающий в самую глубь души голос. Это был актер не сценического поведения, а прежде всего актер голоса.
В.И. Качалов в роли Юлия Цезаря.
Открытка 1903 г.
Больше всего Качалов запомнился мне в роли Чтеца в инсценировке толстовского «Воскресения». Задача, казалось бы, ставилась невыигрышная: действие всё время прерывает некий комментатор, говорящий текст от автора. Качалов мастерски справился с задачей. Оставаясь как бы в тени, никак не сливаясь с лицами, действующими на сцене, простой и скромный, в темной, наглухо застегнутой тужурке, почти без грима, манипулируя обыкновенным карандашом, он сумел, никак и ничем не имитируя Толстого, занять главное место в спектакле. Ка^к ни увлекательно была построена инсценировка, все с радостью встречали будничного, скромного Качалова, читающего текст Толстого так, как, конечно, не мог бы прочитать его и сам автор: проникновенно, то сочувственно, то гневно, реже радостно, порою с едкой иронией, иногда с добрым юмором, а то и с нескрываемой горечью. Главным было золотое чувство меры: никакого нажима и декламации, все слова доносились до зрителя в их первозданной, авторской красе, отчетливо и, не побоюсь сказать, вкусно. Качалов со сцены открыл нам божественную красоту толстовского слога, который обычно никем не замечается: образцовый русский слог традиционно приписывается Тургеневу и Бунину, тогда как – после Качалова это стало бесспорным – в тот же ряд следует поставить и Толстого.
После Качалова роль «от автора» в «Воскресении» играли Судаков и Массальский. Внешний рисунок, даже интонации оставались теми же, а очарования не было.
Слышал я Качалова и в концертах. В одном из них меня поразил исполненный им монолог Ричарда III. Тут, вопреки ранее сказанному, он даже перевоплощался, хотя выходил в обычном концертном костюме и без грима. Горбатый, с лицом, искривленным болезненной гримасой, Качалов-Ричард, узнав вдруг, что его полюбила желанная женщина, неожиданно выпрямлялся, лицо его просветлялось, приобретало человечность, он, казалось, вырастал в собственных глазах. До сих пор звучит в ушах:
Мне женщина сказала – я хорош, И женщине я верю. Я верю женщине, как солнцу.Холодок пробегал по спине… На глазах совершалось дивное преображение: уродливый, подлый и мерзкий человек очищался любовью женщины…
Забыт Москвин, а ведь он был очень ярким актером. В 1939 году или около того МХАТ поставил «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина. Состав был блестящий, но спектакль не удержался – не знаю почему, может быть, из-за пьесы, драматургически не очень крепко сшитой. Запомнился Москвин, игравший молодого Пазухина (а ведь актер был тогда вовсе уже немолодым), особенно сцена, когда Прокофий Пазухин узнает, что отец его наконец умер, оставив огромное наследство. То была длительная пантомима, с которой вряд ли справился бы кто другой.
Из темной глубины сцены на авансцену медленно идет… нет, не идет, а крадется, неровно ставя ноги, Прокофий Пазухин с таинственно-непроницаемым лицом. В нем борются два противоположных чувства: радость и старание скрыть эту радость. Никто еще ничего не знает, но все догадываются: больной старик скончался. Заплетаясь ногами, словно пьяный, Москвин останавливается, губы его дрожат, глаза, кажется, вывалятся из орбит не в силах выдержать внутреннего напряжения, и вдруг – никого кругом нет – начинается нечто вроде пляски, в которой выплескивается вся подлая натура молодого купчика. Какие-то радостнонелепые конвульсии. И всё без единого слова, несколько минут.
Незабываем был Москвин – Ноздрев в «Мертвых душах» Гоголя. Небольшой, плотный, он, словно шар, перекатывался по сцене, заряженный своим неуёмным темпераментом, стремлением чем-то ежесекундно проявить себя. Внешность Ноздрева Москвин перенял со знаменитой иллюстрации Агина, получилось полное подобие. Последующий исполнитель этой роли, Ливанов, после Москвина не смотрелся: крупный, вальяжный, он никак не соответствовал образу маленького пройдохи, зато подавлял собою всех – не только фигурой, но и игрой: как говорят актеры, «тянул одеяло на себя». Рядом с ним и Чичиков, и губернатор становились слишком мелкими и бесцветными, но яркость и цветастость ливановского Ноздрева портила ансамбль и самый замысел постановки. Москвин же во всех ролях старался вписываться в ансамбль, не выпячиваться. В знаменитой «камеральной сцене» допроса чиновниками Ноздрева о Чичикове Москвин был откровенно счастлив, чувствуя себя в центре внимания «отцов города», и срывал аплодисменты в финале. На чей-то вопрос: «А не Буонапарт ли Чичиков?» по лицу Москвина проходила целая гамма переживаний, в которой читалось: «Ну и загнул, но до чего здорово, как это мне первому в голову не пришло. Но надо поддержать – ведь это придаст мне весу». И вместо ответа москвинский Ноздрев молча берет чью-то шляпу, сдвигает ее на голове вкось, как треуголку, по-наполеоновски складывает крест-накрест руки на груди и глупым своим лицом изображает императорское могущество. Чиновники в ужасе отшатываются, лицо Москвина зажигается искренним восторгом.
Как молодой дельфин в море, плескался Москвин в роли самодура Хлынова в «Горячем сердце» Островского. В сочных, кустодиевских красках показывал он, до каких крайностей может докатиться богатый хам и деспот, ежели «его ндраву не препятствовать». Наверное, сам Островский был бы счастлив видеть такого исполнителя. То был каскад остроумнейших находок, неожиданных, но убедительных интонаций, жестов, мимики.
Второе мхатовское поколение проявило себя вскоре после «Дней Турбиных» в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Изящный, искрометный, талантливый до последней детали спектакль смотрелся на едином дыхании. Андровская, Баталов, Завадский, Яншин, Станицын, Комиссаров легкостью игры уносили зрителя во Францию (хотя действие шло в Испании) эпохи рококо.
В 1948 году, в дни 50-летия МХАТа, кому-то вздумалось на юбилейном сборном спектакле показать одно действие из этой давно ушедшей со сцены постановки. Сюзанну играла ссутулившаяся Андровская, Фигаро – постаревший и погрузневший Прудкин, оба ровесники театра. Получился конфуз. Очень хорошо сказал мне об этом гость юбилея главный режиссер Дрезденского театра Отто-Фриц Гайяр: «Бутылка великолепного некогда шампанского, давно откупоренная и выдохшаяся».
Со смертью Немировича-Данченко, затем Хмелева, постепенным уходом со сцены второго поколения МХАТ стал незаметно увядать. Конечно, прежний заряд чувствовался, особенно в старых спектаклях, но налицо были и приметы осени. Без воли и таланта прежних руководителей снизилась требовательность, третье поколение актеров уже не в силах было поддержать традиции. О первых симптомах упадка писала мне моя приятельница, актриса Кира И. Вот строки, написанные 20 января 1946 года непосредственной свидетельницей жизни театра:
«В театре всё смешалось. Смешалось так, что даже рассказать нет возможности. Никто никому не верит, никому ни до кого нет дела! Руководителя нет, и нельзя придумать, откуда он может вдруг появиться. В театр набирается масса новых актеров – они ходят по театру, появляются даже в спектаклях, но никто не знает, откуда они, зачем они и кто их пригласил. В каждом из готовящихся спектаклей не хватает одного из главных исполнителей – каким образом так получается, понять невозможно. Но театр не может выпустить ни одной премьеры.
И, как злой рок, театр преследуют болезни: умирает Иван Мих. Москвин, у Топоркова туберкулез, у Ершова язва, у Грибова воспаление легких и т. д. А в этой сумятице, полной неразберихи и несчастий, вдруг выплывают на важные места самые неожиданные люди. Они проникают в спектакли, они дают главный тон. Они плохо (редко бывает обратное) играют, но этого уже никто не замечает… Словом, ерунда. Гаев говорит в «Вишневом»: «Когда от какой-нибудь болезни предлагают очень много средств – это значит, что болезнь неизлечима»… Так и у нас сейчас в каждом углу театра предлагаются и обсуждаются тысячи способов спасения театра.
Больше всего меня ужасает человеческая разобщенность. И как это случилось – не понимаю. Ведь, казалось бы, в искусстве люди должны быть объединены. А ведь у нас даже наши народные не могут никак сговориться, не могут действовать сообща».
* * *
Предвоенная театральная жизнь Москвы славилась не только МХАТом, и кроме него были прекрасные театры и отличные постановки. Характерно, что некоторые драматические театры во многом держались на молодых и талантливых примадоннах. Во 2-м МХАТе это была Гиацинтова, в Камерном – Алиса Коонен, в театре Революции (ныне Маяковского) – Бабанова, в театре Вахтангова – Мансурова. Мужчины на их фоне выглядели бледнее, царил своего рода театральный матриархат.
Для 1930-х годов характерно обращение ряда режиссеров к старинной западноевропейской комедии. Из этого материала подчас лепились шедевры: «Много шума из ничего» Шекспира у Вахтангова (с Мансуровой и Симоновым), «Собака на сене» Лопе де Вега в Театре Революции (с Бабановой и Лукьяновым), «Хозяйка гостиницы» Гольдони в театре Завадского с Марецкой, «Валенсианская вдова» опять же Лопе де Вега и опять же с Бабановой. Ренессансный Лопе де Вега был в такой моде, что юмористы острили: «Лопай де Вегу, ничего другого всё равно не дадут». Лопали, однако, с удовольствием, тем более что спектакли были заполнены хорошей музыкой, танцами и песнями.
Из «авангардистских», спорных спектаклей помню «Гамлета» в Театре Вахтангова в постановке Акимова. Постановка эта была не столь мудра, сколько оригинальна и подчеркнуто театральна.
Роль Гамлета поручили некрасивому, коренастому Горюнову – дескать, нигде у Шекспира не сказано, что принц был красив, а о том, что он толст, упоминает королева Гертруда. Симонов – Клавдий метался по сцене, как стрекоза, этим режиссер хотел доказать, что Клавдий – король не по праву, никакого королевского достоинства. Офелия – Вагрина по ходу действия напивалась пьяной. Целый акробатический этюд разыгрывали странствующие актеры в интермедии «Мышеловка», причем особой легкостью отличался Люциан в исполнении молодого Дмитрия Журавлева. Борясь с мистикой, Акимов изгнал из постановки тень отца Гамлета – ведь такого не бывает. Встреча с Призраком просто грезилась Гамлету, он произносил текст в диалоге и за себя, и за покойного отца, во втором случае говоря в горшок, отчего голос приобретал гулкий, «загробный» колорит. Впоследствии эта постановка была объявлена «формалистической».
Событием в театральной жизни Москвы явилась постановка «Отелло» с Остужевым в заглавной роли. Я видел в этой роли и темпераментного, порывистого Ваграма Папазяна. Старый Остужев – Отелло не молодился, он был импозантен и сдержан в движениях. Лейтмотивом его трактовки роли была не ревность, а обманутое человеческое достоинство, тем более что обман исходил, по его мнению, от тех, кого он больше всего любил и кому более других доверял, – от друга и от жены. Вместе с утратой веры в людей рушился весь духовный мир Отелло – вот в чем заключалась трагедия! Как благородно играл Остужев своего Отелло! Храбрый военачальник, мудрый политик, нежный супруг – всё видно было в нем, не хватало только молодости; казалось, что это не муж, а отец юной Дездемоны. Трагические нотки, пробивавшиеся сквозь внешне спокойную и величавую речь обманутого Отелло, вызывали у зрителя трепет и слезы. Голос Остужева по красоте мог сравниться только с голосом Качалова. Но в убийство им Дездемоны не верилось – не мог столь умный и умеющий владеть собой человек решиться на такое черное дело. Да не мог он и стать жертвой подлой интриги: кто-кто, а остужевский Отелло сразу бы ее разглядел. Папазяновский Отелло был глупее, но достоверней.
Вспоминая крупных актеров моей юности – Качалова, Леонидова, Остужева, Юрьева, Мордвинова, Черкасова, Вс. Аксенова и других, нахожу в них нечто общее: огромное внутреннее и внешнее благородство, не деланый, а нутряной аристократизм, маетерское умение владеть своим телом, лицом, а главное – голосом. Традиция явно шла еще от времен классицизма; затем, утраченная было благодаря провинциальным трагикам типа Несчастливце ва, к концу века она возродилась, утончилась и облагородилась, обогащенная высокой драматургией и резким подъемом театральной культуры того времени: после Толстого и Чехова нельзя было уже просто «рвать страсть в клочья». Лучшие актеры героико-трагического амплуа были высококультурными, всесторонне образованными людьми, стоявшими вровень с веком.
Нельзя не признать, что среди современных актеров немало людей ярких и высокоталантливых. Но традиция угасла, актер измельчал – измельчал даже внешне: куда делись статные фигуры, благородная осанка, владение голосом?
* * *
Говоря о московских театрах моей молодости, я ни словом не упомянул один весьма важный – театр Мейерхольда. Стыдом всей моей жизни москвича является тот факт, что я ни разу в нем не был! Сказывалось влияние семьи, где всякий модернизм и авангардизм отвергался. Слушая впечатления отца о «Лесе», виденном им у Мейерхольда, я не испытывал сомнений: постановщик просто издевался над зрителем. Ходить в его театр не хотелось из опасения уйти эстетически оскорбленным. Да что семья! В прессе уже в 1935 году появился термин «мейерхольдовщина». Недавно еще считавшийся самым революционным театром страны, театр Мейерхольда внезапно получил клеймо формалистического, полностью враждебного принципам социалистического реализма. МХАТ и театр Мейерхольда как бы обменялись полярными местами в шкале официальных оценок.
Став студентом, я наконец решил пойти к Мейерхольду, чтобы самому составить представление об этом театре. Купил билет на «Лес», но как раз в этот момент театр закрыли, и вместо спектакля я получил деньги за сданный билет. Опоздал.
Но, как ни странно, с Мейерхольдом лично меня связала тоненькая ниточка, в некотором отношении небезынтересная. У меня сохранилось письмо от него. Вот как обстояло дело.
Юношей мне вдруг пришла в голову довольно банальная мысль завести альбом с автографами известных людей искусства. Купил открытки с портретами, вложил их в конверты, приложил, чтобы не утруждались, конверт с моим адресом, а также, конечно записку с просьбой надписать на память прилагаемую фотографию и всё это послал по почте.
В.Э. Мейерхольд. Открытка 1935 г.
Ответили Качалов, Алексей Толстой (просто расписался), не ответил Москвин. Мейерхольд, автографом которого я тоже почему-то решил обзавестись, не отвечал очень долго, я уже и забыл, что писал ему.
И вдруг приходит конверт с адресом, написанным моей же рукой, в конверте – посланная мною открытка с надписью наискосок: «Юрию Федосюк с приветом. Вс. Мейерхольд. Москва 16/11.38». Тут же – записка на четвертушке бумаги с печатным штампом «Народный артист республики Вс. Э. Мейерхольд». Вот содержание записки:
«Простите, т. Ю. Федосюк, что просьбу Вашу подписать открытку (фото) исполнил с таким запозданием. Известите меня о получении этого письма (можно по телефону 5-87-31).
С приветом
Вс. Мейерхольд.
15/11.38».
Я, конечно, не известил – сознательно. Боялся вероятного его вопроса, что больше всего понравилось мне в его театре, какие спектакли я видел. Врать не хотелось, да и было бесплодно, говорить правду – стыдно: сразу разоблачил бы себя как мелкого, беспринципного тщеславца. Лучше всего было отмолчаться.
Записка В.Э. Мейерхольда
А молчанием своим я, бесспорно, нанес дополнительный булавочный укол в сердце гонимого режиссера. Письмо свое с открыткой я послал за несколько месяцев до получения ответа, когда театр еще существовал. Но вот 7 января 1938 года вышло постановление о закрытии театра, над которым давно уже нависли тучи; до того, 17 декабря 1937 года, в «Правде» появилась статья с многозначительным заголовком «Чужой театр». Можно себе представить состояние Мейерхольда, оставшегося не только без своего детища, но и вообще без работы. Только в мае 1938 года он был назначен режиссером Оперного театра имени Станиславского. Сидя без дела дома, недавний баловень судьбы и государства стал приводить в порядок свои дела, разбирать накопившиеся письма; тут ему и попалась на глаза моя просьба, написанная неустоявшимся полудетским почерком (почерк мой всегда года на три был моложе меня). Наверное, его тронуло то обстоятельство, что и в последние годы у его театра нашлись поклонники среди молодежи. Стало немного совестно, что так долго не доходили руки откликнуться на пустячную просьбу юного незнакомца. С другой стороны, режиссер явственно ощущал, что блокирован, возможно, какие-то его письма не доходили до адресатов. Отсюда не только автограф, но и записка с извинением и странной просьбой подтвердить получение письма.
Но подтверждения не последовало – ни телефонного, ни письменного, а в том же 1938 году Мейерхольд был арестован как «враг народа». Тот Мейерхольд, избалованный признанием, который еще за несколько лет до этого кокетливо говорил ученикам: «Я часто просыпаюсь ночью в холодном поту с мыслью, что я стал банален, что у меня в жизни всё слишком благополучно, что я умру под толстым стёганым одеялом». А в 1940 году он, при не оглашенных до сих пор обстоятельствах, умер в заключении, вряд ли «под толстым стеганым одеялом».
Мы, тогдашние студенты, думали, что настоящие, большие трагедии – принадлежность лишь далекого прошлого, шекспировских времен. Судьба Мейерхольда – типичная трагедия XX века. Низвергнутый с вершин театрального Олимпа, этот признанный лидер режиссерского искусства умер в неизвестности, с позорным ярлыком «врага народа», презренного «зэка». Настоящие трагедии тихо совершались вокруг нас.
Административному закрытию при Сталине подвергся не только Театр Мейерхольда. В разные годы были закрыты МХАТ 2-й, Реалистический театр Охлопкова, таировский Камерный театр, Государственный еврейский театр, но из всех театральных руководителей репрессирован и вычеркнут из истории театра был один лишь Мейерхольд.
Неисповедимы пути русского театра. В его бессмертие я верю, никакие новые виды искусств и средства коммуникаций не зачеркнут потребности непосредственного общения зрителя с актером. Однако, если сравнивать, общая культура театра и актерское мастерство за последние полвека, на мой взгляд, несколько снизились. Всякого рода авангардизм, некогда запретный и потому привлекательный, уже исчерпал себя. Полупустая сцена с неясного назначения конструкциями никого уже не удивляет и не привлекает. Аплодисменты художнику раздаются лишь тогда, когда зритель видит на сцене реальный и живописный пейзаж или интерьер. Что касается режиссуры и приемов актерской игры, то живая жизнь оказалась гораздо богаче и интересней всяких формальных выдумок.
Хорошие и плохие актеры были и будут всегда. Нынешние актеры, независимо от дарования, часто просто отбывают номер, проглатывают текст и откровенно халтурят. Насколько режиссеры старательны в постановочных выдумках, настолько же они стали равнодушны к исполнению, особенно старых спектаклей. Иные постановки откровенно скучны, ловишь себя на том, что думаешь о постороннем и поглядываешь на часы: когда же кончится? Раньше такого, во всяком случае во МХАТе, не бывало: напротив, хотелось, чтобы спектакль длился подольше. Как жаль, что свистеть и шикать в театре давно уже считается хулиганством. Ради поднятия театра следовало бы узаконить и возродить эту отмершую реакцию зрителя. Сегодня любой спектакль, даже самый слабый, заканчивается вежливыми аплодисментами. И актеры, и режиссеры тем самым считают, что всё обстоит благополучно. Театральное представление должно быть для зрителя и актера праздником. Как редко это сейчас бывает!
Характерно, что актерские работы в кино, как правило, гораздо интереснее, чем на сцене, хотя играют часто те же артисты. Причина в том, что по своей специфике киносъемка заставляет режиссера быть требовательнее и придирчивее, чем театральная постановка. В кино что снято, то и остается, в театре уповают на то, что многое можно исправить и доделать. На деле же после премьеры спектакль забывается и разбалтывается. Тем самым кино стало серьезным конкурентом театра.
В заключение несколько слов о том, как выглядели театры, чем их обслуживающий персонал отличался от нынешнего, то есть о внешней, формальной стороне.
Разницы, разумеется, особой нет. Большой театр со временем расстался со своими твердыми знаками в золоченых надписях «Партер», «Бельэтаж» и т. п., но сохранил свою извечную пышность. Первым новым театральным зданием стал театр Красной Армии[37], открывшийся в 1940 году. Его фойе, буфеты и холлы казались пустынными из-за непривычной огромности. Необычными были также стены и потолки, расписанные фресками в модном тогда патетически-монументальном стиле.
В старых театрах особый колорит создавали капельдинеры и гардеробщики – как правило, седенькие, аккуратные старички, очень вежливые и услужливые, но откровенно ожидавшие чаевых. Говорили, что некоторые из них работали, не меняя своего места, еще с прошлого века. То-то они повидали разной публики и актеров! Персонал был главным образом мужской, но уже до войны мужчин стали активно вытеснять женщины. Изменилось и название должности: не капельдинер, а билетер. Ушли в прошлое и такие названия, как контрамарка и галерка. Контрамарку переименовали в пропуск, галерку (официально «галерея») – в балкон такого-то (верхнего) яруса. Когда-то галерку именовали «раёк», но этого названия я уже не застал.
Театральные буфеты в прошлом посещались не столь активно, как ныне. Сейчас иной раз кажется, что люди перед посещением театра дня два голодали. Раньше к буфетам относились спокойней, в антракты туда не бежали, а шли, и толкотни там не было. Нынешний мещанин считает посещение театрального буфета непременным, сугубо престижным. Ради этого можно даже опоздать к действию.
Долгое время антракты давались между каждым действием, даже если действий было пять. Из-за этого спектакль длился очень долго, тем более что вечерние спектакли начинались не в 19.00, а в 19.30. Технологические усовершенствования сделали возможной быструю смену декораций и тем самым сокращение числа антрактов до одного, максимум двух. Маленькие спектакли идут вообще без антракта – дело в прежние времена неслыханное. Сокращение числа антрактов до одного-двух произошло в 1950-х годах.
Прежде почти у каждого драматического театра был свой оркестр – удовольствие дорогостоящее. Развитие техники магнитозаписи избавило театры от этих расходов. Сейчас даже балетные спектакли некоторых трупп идут в сопровождении магнитозаписи.
Прежде в театрах было очень душно, особенно на верхних ярусах. Кондиционеры принесли в театральные залы свежий воздух. Этого мы не ценим и не замечаем.
Публика. Ныне, если исключить премьеры и особо яркие спектакли с гастролерами или знатными дебютантами, это люди среднего возраста, как правило, пары. До войны гораздо больше ходило в театры молодежи, бедно одетых, но хороших, искренне увлеченных театром молодых людей обоего пола. На «дефицитные» спектакли они подчас целую ночь простаивали в очереди к театральной кассе, там знакомились, составляя компании, объединенные общим интересом. Сидели высоко, но их реакция на спектакль была тонкой и правильной, они задавали тон и формировали во многом мнение остальной публики.
Сейчас, по-моему, этого нет.
Нынешние прощальные выходы актеров на сцену по завершении спектакля, своего рода «парады-алле» в последовательности по рангам: сначала мелкие исполнители, в заключение главные – по-моему, раньше не практиковались. Выходили все вместе, взявшись за руки.
Сейчас неловко уходить из театра, как только закроют занавес, даже если спешишь или если спектакль не понравился. Надо переждать «парад-алле». Раньше оставались аплодировать лишь те, кто этого хотел, остальные уходили сразу.
В музыкальных спектаклях аплодисменты дирижеру и оркестру перед началом последнего действия ныне стали традицией. Как всё обязательное, такая овация несколько искусственна и формальна. Перед войной такого не было, особо оркестр никто не чествовал. Возможно, это было несправедливо.
Так незаметно, в большом и малом, изменились театральные нравы и обычаи.
16 Кино
Я застал эпоху немого кино в самом её расцвете. Никто не думал, что так скоро после расцвета последует не медленное увядание этого вида кинематографии, а почти мгновенная его смерть.
Уже в 1920-е годы кино было одним из любимейших и доступнейших средств развлечения масс. В театр ходили немногие, в кино – все. Кинотеатр взрослые еще нередко называли «кинематографом», молодежь из шпаны – киношкой.
Большинство московских кинотеатров было оборудовано еще до революции в перестроенных помещениях старых зданий. Как правило – на втором этаже, так почему-то требовала пожарная охрана.
В нашем районе действовали две старых «киношки», носившие вычурные дореволюционные названия: «Волшебные грёзы» у Покровских Ворот и «Нерон» на Земляном Валу. В 1929 году они получили новые, соответствующие духу времени наименования – «Аврора» (в честь крейсера) и «Спартак». В Белгородском проезде приютился еще один крохотный кинотеатрик – «Маяк», как говорили, самый маленький в Москве, всего на 200 мест. Сколько-нибудь солидная публика туда не ходила, его заполняла окрестная голытьба. Даже проходить мимо «Маяка» было неприятно – того и гляди нарвешься на драку, приставание, вымогательство.
Солидная публика ходила в расположенный на Чистых прудах просторный «Колизей» – теперь в его помещении играет театр «Современник». Там и фильмы шли первоклассные, то был один из «первых экранов» столицы.
Крупнейший по вместимости кинозал Москвы именовался соответственно – «Колосс». Нет надобности говорить, что большинство москвичей называли его «Колос». Так же как кинотеатр «Форум» упорно именовали «Форум». «Колосс» располагался в Большом зале Консерватории, а эксплуатировался в часы, когда не было концертов. Когда консерваторскому залу возвратили его музыкальную монополию, крупнейшим кинотеатром Москвы стал «Ударник». Это был первый кинотеатр столицы, построенный в советский период. Он поражал своей величиной и современностью, огромным кинозалом, просторными фойе и буфетами. Открылся он 7 ноября 1931 года. Будучи построен в доукрашательскую эпоху, он и сейчас импонирует строгим рационализмом и хорошим архитектурным вкусом.
Мы, дети, чаще всего ходили в ближние старенькие киношки. Детские билеты туда стоили 15 копеек. Такова же была цена пирожного в соседнем кондитерском магазине фабрики имени Бабаева, который по старому владельцу все называли абрикосовским. Заполучив пятиалтынный (так называлась 15-копеечная монета), каждый подросток сталкивался с дилеммой: пойти ли в кино или полакомиться пирожным.
Чаще всего я ходил в «Аврору». Днем этот кинотеатр никогда не был заполнен до отказа. Между задними, средними и двумя передними рядами зиял провал – места пустовали. К началу сеанса оба передних ряда заполняли шустрые шпанцы мелкого возраста. Они дрались из-за мест, срывали друг у друга кепки, бегали и переругивались. Кажется, это были безбилетники, хитрыми путями проникавшие в зал мимо контроля. Они мешали смотреть даже уже начавшийся фильм, покамест какой-нибудь бас из глубины зала не предупреждал: «Эй, затихните! Давно уши не драли?»
Немые фильмы шли с титрами. Вводные тексты вроде «А в это время…» или «Прошло пять лет», а также реплики персонажей снимались на специальные кадры. Учитывая малограмотность многих зрителей, титры показывались на экране утомительно долго. В это время по залу проходил громкий шепот: малограмотные читали титры по складам, грамотные читали их неграмотным спутникам. Изобразительные кадры чередовались с титрами таким образом: вот ревнивый муж занес над героиней карающий кинжал. Затем следовал титр: «Не убивай меня, Ринальдо, клянусь, я ни в чем не виновата». Далее публика с содроганием видела, как неумолимый Ринальдо пронзает жертву кинжалом, вслед за чем следовал титр: «Умри же, проклятая!»
Немые фильмы непременно шли с музыкальным сопровождением. Перед экраном стоял расстроенный рояль, на котором «музыкальный иллюстратор», иначе тапер, разыгрывал некое попурри из мелодий, каждая из которых соответствовала изображаемому эпизоду. Теперь понимаю: это требовало от пианиста не только выучки, но и известной подготовки, знакомства с фильмом, а также раздвоенного внимания.
Таперы более высокой квалификации играли вечерами, на серьезных фильмах. Для дневной публики играли неудавшиеся музыканты, а то и попросту халтурщики. Таперами почему-то всегда были немолодые мужчины в приличных, но поношенных костюмах, несвежих рубашках, но при галстуке.
В музыку никто особенно не вслушивался, она казалась естественным фоном кинофильма. Сам фильм снимался без учета какого-либо конкретного музыкального сопровождения. Но отсутствие музыки вызывало дружное возмущение всего зала. Как сейчас, когда пропадает звук.
Однажды в «Авроре» тапер вовремя не явился, и механик стал крутить фильм без него. Кадры шли своим порядком, но чего-то не хватало. Публика заволновалась и минут через пять начала орать: «Музыку!».
Еще через пять минут возглас «Музыку!» превратился в злобный вой, сопровождаемый топаньем ногами. Наконец в зал вбежал потный, измученного вида мужчина и торопливо уселся за рояль. Из рядов послышалось: «Проспал, маэстро?», «Давай, маэстро, догоняй!»
Взбившиеся лохмы бедного маэстро, когда он вбегал, силуэтом вырисовывались на экране. Поначалу я разделял негодование зрителей, а тут мне стало жаль музыканта: опоздал он явно не по своей вине. Может быть, у него внезапно заболела жена или с самим случился сердечный припадок. Горек был хлеб кинотаперов.
Кажется, в тот раз я впервые услышал слово «маэстро», и оно долго казалось мне унизительным ругательством.
Позднее я узнал, что не все кинотаперы были горемыками и неудачниками. Учась в консерватории, Шостакович подрабатывал как музыкальный иллюстратор. Постоянным тапером ближнего кинотеатра «Спартак» был в то время прославившийся впоследствии как композитор, автор популярных оперетт Юрий Милютин.
В двух-трех первостепенных кинотеатрах немые фильмы иллюстрировал небольшой оркестр. Всякая реклама кинотеатра «Художественный» (тогда – «Первый Совкино») снабжалась примечанием; «Кинокартина сопровождается оркестром под управлением Фердинанда Криш». Говорили, что Криш для каждого кинофильма готовит специальную партитуру и перед его показом проводит репетиции со своим оркестром.
Фильмы того времени анонсировались и рекламировались с необычайным размахом. По всему городу развешивались огромные щиты с изображением наиболее захватывающих эпизодов и главных героев. В словах кинопрокатчики не скупились: «Спешите посмотреть! Мировой боевик! Только одну неделю! Сплошные аншлаги! С участием всемирно известных артистов» и т. п. То же можно было прочитать даже в солидных газетах.
Иногда кинореклама преподносилась в стихах. На всю жизнь запомнилось: «Вы знаете новость? Нет? «Девушка с коробкой» выходит в свет». Можно было подумать, что «Девушку с коробкой» – посредственную кинокомедию режиссера Барнета – человечество ожидало многие десятилетия.
«Вечерняя Москва» долго разжигала любопытство своих читателей словами, разбросанными по всей рекламной полосе: «Анда… Одэли… Ута…» Через номер: «Такие таинственные сигналы получены по радио с далекой планеты». Что же дальше? Через некоторое время выяснилось, что сигналы расшифровываются как «Аэлита». Ну и что? Потом, окончательно истомив читателя, газета раскрывала тайну: выходит на экраны сенсационная кинокартина по одноименной фантастической повести Алексея Толстого. Спешите посмотреть!
И люди спешили. Иногда разочаровывались, но чаще получали удовольствие. Кино показывало необыкновенные, неправдоподобные ситуации, уводило от бытовых забот и нужд, демонстрировало необычайно красивых киногероев, экзотические города, головокружительные трюки. Мне кажется, в этом была главная притягательность немого кино. Но первенством тут владели иностранные боевики.
Советская кинопродукция, за исключением десятка действительно хороших картин, выглядела бледнее. Фильмы вроде «Ее путь» или «Дом на Трубной» весьма натуралистически показывали убожество окружающего быта, коммунальные кухни с керосинками, жалкие общежития, глупых управдомов, зажравшихся частников. Всё это не вызывало у зрителя особого восторга. Зато иностранные приключенческие фильмы действительно шли с аншлагами. Особенно если в них участвовали знаменитые Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Конрад Фейдт и другие звезды тогдашней кинематографии.
По молодости лет я не успел посмотреть «Знак Зорро» с Дугласом Фербенксом, о котором мне с захлебом рассказывали дворовые ребята постарше. Зато видел «Сына Зорро» с тем же Фербенксом, широкоплечим красавчиком с тонкими усиками, актером большого обаяния и таланта. Из всех схваток, даже против многочисленных противников, Зорро-младший выходил неуязвимым победителем. Так же как и его отец, он выводил острием клинка на лбу поверженных врагов знак «Z» Это была своего рода визитная карточка лихого дуэлянта. Никаких препятствий для сына Зорро не существовало. Запомнился эпизод: черноглазую синьорину, влюбившуюся в героя, злой отец спрятал в высоком и неприступном замке. Ночью сын Зорро, легко перебив шпагой многочисленную стражу, какими-то неведомыми путями появляется на башенке, где томится красавица. И вот она в его объятьях. Затаив дыхание, читаю на мигающих титрах:
– Как вы сумели сюда взобраться?
– Я прилетел к вам на крыльях любви!
Это «прилетел к вам на крыльях любви» долгое время казалось мне образцом героико-любовного слога. Наверное, не только мне, подростку. Помнится, зал в этом месте долго аплодировал.
Длительным успехом пользовался «Багдадский вор» с участием красивого и мужественного Конрада Фейдта. Экзотические арабские пейзажи, яркие одежды, ловкий, неуловимый герой – всё это магнетически завораживало зрителей, все слои населения тогдашней Москвы. Смотрели, забыв всё на свете, буквально разинув рты. Неслучайно родилась частушка:
Пошел смотреть «Багдадский вор», А русский вор бумажник спёр.Американский актёр Гарри Пиль изумлял всех невероятными трюками, которые выполнялись, конечно, с помощью несложной кинотехники. Так, спасаясь от погони, он, будучи почти схвачен полицейскими, прыгал через нью-йоркскую улицу с крыши одного небоскрёба на крышу другого. Такого рода трюки во многом повлияли на сюжет неплохой советской кинокомедии «Процесс о трех миллионах».
Трюкачество, бездумный культ человеческой силы и ловкости, разумеется, увлекали подростков. Наиболее смелые ребята пытались подражать любимым киногероям. Не знаю статистики, но уверен: многие такие попытки кончались трагически. Помню подростка, уцепившегося одной ногой за наружный край балкона четвертого этажа и державшегося только на одной руке. На все уговоры снизу прекратить опасную игру он отвечал одной и той же горделивой фразой: «Я – американский Гарри Пиль!»
Успехом пользовались и заграничные кинокомедии, особенно с гротескной парой – долговязый, носатый Пат и маленький, пузатый Паташон. Они постоянно попадали в смешные и глупые ситуации, из которых выходили с забавной невозмутимостью. По сути, их невзыскательные трюки напоминали номера ковёрных клоунов. Более значителен был Бестер Китон, главной особенностью которого была полнейшая невозмутимость во всех случаях жизни. Падал ли он в воду, попадал ли под автомобиль, избивался ли полицейскими – лицо его оставалось каменно-бесстрастным, что и вызывало – по контрасту – комический эффект. Впрочем, такова была «линия поведения» всех крупных комиков, включая и весьма популярного к тому времени Чарли Чаплина. Можем ли мы себе представить мятущегося от страха или хохочущего Чаплина? Но у Чаплина была тонкая, сдержанная мимика, очень многое выражали глаза преследуемого всем миром, забитого человечка. У Китона это начисто отсутствовало.
Хорош был забытый ныне Гарольд Ллойд. Комедии с его участием содержали подчас глубокую и интересную мысль. В фильме «Бабушкин внучек» Ллойд играл робкого, болезненно застенчивого юношу, которого во всём подавляла властная, энергичная бабушка. Но вот какой-то доброхот дарит бедному Гарри «талисман бесстрашия», и юноша, уверовав в свои силы, на удивление окружающих, совершает поступки мужественные и даже рискованные. Юмор фильма заключался в том, что внезапно, посреди подвига, Гарри вдруг обнаруживал утерю талисмана и мгновенно превращался в жалкого труса. И наоборот: веря, что оставленный дома талисман при нём, Гарри смел и решителен. Идея ясна: талисман – жалкая побрякушка, главное же – вера в собственные силы. В конце фильма понявший эту истину и преобразившийся герой становится «настоящим мужчиной» и женится на красивой девушке, к которой раньше и подойти даже боялся.
Большинство виденных мною советских немых фильмов составляли бесцветные и примитивные «агитки» на тему о Гражданской войне. Возможно, потому, что он и-то и показывались преимущественно на детских киносеансах. Герои-революционеры рисовались в этих фильмах привлекательными, отчаянными смельчаками, белогвардейские генералы и полковники – тупыми и трусливыми толстяками. Главное место в фильмах уделялось батальным сценам – кавалерийским боям, которые давались преимущественно дальним планом. Тут случались конфузы: публика аплодировала успешным атакам красных, а это оказывались временно преуспевшие белые, и наоборот.
Агитки на тему Гражданской войны настолько набили оскомину зрителю, что в конце концов полностью себя скомпрометировали, доставалось им и в прессе. Характерно, что, когда в 1934 году на экраны вышел звуковой, действительно великолепный фильм «Чапаев», название его не сразу привлекло интерес зрителей: «Да это нам уже сколько раз показывали!» Талантливый фильм реабилитировал тематику, убедил, что и о Гражданской войне можно снимать умные и тонкие фильмы. Не только герои, но и враги были показаны в «Чапаеве» нешаблонно: вспомним белогвардейского полковника в блестящем исполнении Певцова.
В эпоху немого кино было немало лживых, левацких фильмов. Один из них (как я позднее узнал) поставили в 1930 году авторы «Чапаева», прославившиеся вскоре братья Васильевы, с участием Григория Александрова, ставшего основоположником советской музыкальной кинокомедии. Фильм назывался «Спящая красавица». Сестра, увлеченная балетом, заразила этой любовью и меня. Балет Чайковского мы незадолго до того смотрели в Большом театре. Я был совершенно опьянен и зрелищем, и музыкой. И вот «Спящая красавица» на экране; разве такое можно пропустить?
Немой фильм, который тапёр щедро оживлял музыкой Чайковского, повествовал о постановке бессмертного балета в годы Гражданской войны или вскоре после нее. В первых ряДах партера – уродливые «бывшие», их жирные, разряженные жены. Большинство же мест занимает новый зритель – рабочие, красноармейцы. На сцене разворачивается некая пародия на балет – помпезное, – неуклюжее и постыдное зрелище. Толстая, накрашенная Аврора, мерзкий, злобный король – её отец, коротконогий, прыщавый принц в нелепом парике. Сквозь густой, сальный грим танцовщиков пробиваются струи пота. Смехотворные «придворные» ужимки, тяжеловесные, скованные па – всё вызывает смех и недоумение большинства публики. Только «бывшие» закатывают глаза в восторге, это зрелище по их вкусам. Тем более что прославляются монархи и их слуги – всё, что в России совсем недавно сметено огненным ураганом революции.
Реклама одного из звуковых фильмов 1930-х гг.
Обратите внимание на ее начало: «Смотрите и слушайте…»
Наконец рабочая публика разжигается гневом. Нет, такое старорежимное искусство ей не нужно. Пусть вместе с монархией отправляется оно на свалку истории! Публика кричит: «Вон, долой, позор!» Спектакль срывается. «Бывшие», злобно скалясь, удирают. Следует титр: «Разве хам понимает настоящее искусство?» На сцену вторгается группа возмущенных пролетариев. Под бурные аплодисменты пожилой рабочий в кожанке произносит речь: «Даешь настоящее пролетарское искусство! Долой искусство буржуев и помещиков!» Актеры, теряя на бегу накладные букли, парики и мушки, изгоняются со сцены. Публика кричит: «Долой Спящую красавицу!»
Реклама кинофильма «Броненосец Потемкин» (1925 г.)
Нет смысла пояснять, что название «Спящая красавица» было избрано символически: старое, классическое искусство «проспало» все революционные перемены. Неудивительно, что об этом фильме не повествуют (разве только упоминают название) монографии, посвященные братьям Васильевым и Г. Александрову.
Можно представить себе, с какими чувствами вышел я тогда из кинотеатра. Итак, любя балеты Чайковского, я тоже не с рабочим классом, а заодно с буржуазией и монархистами! И вместе с тем, как великолепен, чист и светел спектакль «Спящая красавица» в Большом театре, который, кстати, никто не собирался снимать с репертуара! Как совместить обе точки зрения?
Но вот в СССР пришла эпоха звукового кино. С трепетом пошел я смотреть первый «тонфильм». Это был киноконцерт, «сборная кинопрограмма», преследующая цель показать широкому зрителю возможности нового вида киноискусства.
Всё было как в обычном фильме, но… сопровождалось звуком! Впечатление было такое, как если бы в Третьяковской галерее вдруг зазвучали, заговорили бы знакомые картины, которым, казалось бы, законами природы положено безмолвствовать: запели бы «Дубинушку» репинские бурлаки, заголосили бы саврасовские грачи, стали бы произносить слова перовские «Охотники на привале».
А тут на экране что-то читал вслух Качалов, любимый всеми Иван Козловский спел «Спи, моя радость, усни», исполнил песню какой-то народный хор. Нет, не просто шевелили губами, а ожили, заговорили, запели!
– Это сзади, наверное, граммофон поставили, всего и делов, – утверждали скептики. – Народ-то дурак, долго ли обмануть.
Знатоки твердили о технике звукозаписи, фонограмме, синхронности, – но всё это было непонятно, непривычно и вызывало недоверие. Тот факт, что звук исходил из стоящих около экрана динамиков, не опровергал версию о граммофоне или общеизвестном уже радио. В будке же киномеханика всё было как обычно.
Во втором звуковом кинофильме, тоже «сборной программе», среди разных концертных номеров показали московскую трамвайную остановку: звенели и скрежетали тормозами вагоны, вокруг сновали мальчишки-газетчики, громко выкрикивая: «Вечерняя Москва», «Рабочая газета», покупайте!» Таков был один из тогдашних способов продажи газет, давно уже отмерший. Именно тут публика в зале встрепенулась, ожила: то был уже не академический концерт, а живая, всем знакомая сценка: «Слышь, орут, как в самом деле». Лед недоверия был сломлен.
А потом пошли один за другим художественные звуковые фильмы: «Механический предатель» с Игорем Ильинским, «Путевка в жизнь» Экка, «Встречный», «Златые горы»… Всего лишь два-три года – и на немые фильмы никто и ходить не хотел. Тем более что устарели они не только технически, но и морально. Были попытки озвучить фильмы, снятые еще как немые, появился даже термин «озвученный фильм», но успеха они не имели.
С появлением звукового кино изменился и род слова: вместо «фильма» (женский род) стали говорить и писать «фильм». В эпоху немого кино было только «фильма»: мировая фильма, заграничная фильма и т. д.
Почему же звук в кино изменил грамматический род слова? Техника звукового кино в значительной мере пришла к нам из Германии, где слово «фильм» мужского рода, а звуковой фильм называется «тонфильм». Поначалу и у нас звуковую картину называли «тонфильм», но не привилось – переделали; на «звуковой фильм», но уже «фильм», а не «фильма» – под влиянием слова «тонфильм».
Кстати, в эти же годы изменился род и другого слова: «санатория» превратилась в привычный нам «санаторий». Почему это случилось – не знаю, а вот насчет «фильма» – точно.
Смею утверждать, что звуковое кино с его широкими возможностями заметно повысило и художественный уровень советской кинематографии. В предвоенное десятилетие появилось немало отечественных звуковых кинофильмов, ставших киноклассикой.
Это общеизвестно. Но обращу внимание на другой факт, ныне менее памятный. Звуковое кино резко способствовало расцвету массовой песни. Почти каждый звуковой фильм имел свой «шлягер» – популярную песню, которую специально, часто в виде вставного номера, пел герой (или героиня). Фильм уходил из проката, но «шлягер» продолжал жить в многомиллионных устах масс. Никакие эстрада или радио не влияли так не запоминание мелодии песни, как звуковые фильмы. Были фильмы слабые, мгновенно сходившие с экрана, но если песня в них была хорошая, то она надолго переживала фильм. Давно уже никто не помнит фильма «Три товарища», но рожденная им «Каховка» долго сохраняла свою популярность.
Вообще же, едва ли не каждый новый звуковой фильм в те годы становился общественный событием. Пропустить его считалось неизвинительным, непрестижным, особенно для молодежи. Любимые фильмы смотрелись по нескольку раз, запоминались до мельчайших деталей. Иные реплики и словечки из фильмов становились ходячими выражениями, афоризмами: «Муля, не нервируй меня», «Мы скопские», «Фокус не удалей», «Шульберт» (вместо Шуберт) и т. п.
Нынешние телефильмы и телесериалы не играют той роли в общественном сознании, какую играли лучшие фильмы звукового кино. Причины этого явления понять трудно. Сейчас можно насчитать немало удачных, первоклассных художественных и телевизионных фильмов, намного превосходящих средний уровень довоенных кинолент, их смотрят миллионы, хвалят, но тут же и забывают. Исключение – «Семнадцать мгновений весны». Массовый успех этого телесериала подобен успеху лучших довоенных звуковых фильмов. А что еще?
Вероятно, обилие всякого рода поступающей отовсюду информации притупило остроту восприятия произведений кинематографии. Довоенный эстетический паёк советского человека был достаточно скуден, кино занимало в нем первое место.
Но вернемся к началу эпохи звукового кино. Подчеркиваю, оно способствовало росту интереса к кинематографии. Выпускались с самого начала неплохие, серьезные фильмы, но все они – включая знаменитый «Встречный» – несли печать своего времени, служили слишком прямой иллюстрацией актуальных политических требований и лозунгов, отличались схематизмом и дидактичностью, Так же как и последние немые фильмы. Трудись, выполняй пятилетку, борись с отсталыми настроениями и пережитками, крепи оборону, но… не смей расслабиться, забыть
о работе и политике, не пробуй предаться бездумному смеху.
И вдруг появились «Веселые ребята» Гр. Александрова – первая советская музыкальная кинокомедия. Сегодня она кажется наивной, но в то время потрясла всех. Прежде всего – отсутствием прямого политизирования. В «шлягере» этого фильма, прямо провозглашалось: «Мы будем петь и смеяться, как дети» (т. е. бездумно, вольно), хотя этим и следовала осторожная, «поправочная» строка – «среди упорной борьбы и труда». Характерен й припев: в одном случае – «Нам песня жить и любить помогает», в другом месте – «Нам песня строить и жить помогает». Маневр авторов был весьма прозрачен, и несмотря на это правоверные администраторы от культуры единодушно решили запретить фильм. Спас его лично Сталин: он благословил картину, прямо имитирующую бездумные американские (сиречь буржуазные) киноревю: «Почему же советскому народу, доблестно выполнившему первую пятилетку, не повеселиться, не посмеяться?». Строгие пуритане-чиновники и критики, уже потерпевшие незадолго до этого первое поражение в острой дискуссии «Быть или не быть советскому джазу» притихли, почувствовав новые веяния. Что касается публики, то она приняла фильм безоговорочно. Отличная музыка Дунаевского была в нем не просто иллюстрацией, она пронизывала всю ткань фильма, без музыки он был бы немыслим. Я вышел из «Ударника», где состоялась премьера «Веселых ребят», потрясенный. Песни этой кинокомедии запели буквально на следующий день, прежде всего молодёжь. Они стали частью быта.
«Жить стало лучше, жить стало веселей» – таков был лозунг, широко распространявшийся начиная с 1934 года, когда первые успехи соцстроительства стали зримыми и быт людей несколько облегчился. Одним из проявлений этого стала отмена карточной системы, существовавшей с 1928 года. Хорошо известно, что эти успехи Сталин приписал лично себе и умело воспользовался ими для прославления собственной личности. Полезно вспомнить, что время «Веселых ребят» и других перемен в искусстве совпало с бурным форсированием культа личности Сталина. Вскоре появился другой массовый лозунг – «Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь». Жизнь, бесспорно, стала лучше, но счастливой её называть было весьма преждевременно. Впрочем, это уже другая тема.
Своим новаторским фильмом Гр. Александров попал прямо в точку. Позднее он мне сам рассказывал о том, как Сталин проявлял к нему личную симпатию, даже подарил портрет с надписью, постоянно интересовался его новыми работами, хотя после помпезного «Цирка» творчество Гр. Александрова резко пошло на спад. Обычная беда художника, оставшегося стоять на месте и не сумевшего поддержать свой успех в новых, меняющихся условиях.
В 1930-х годах было выпущено немало интересных и талантливых художественных кинофильмов на самые различные темы. Многие из них смотрятся и сейчас. Наибольшее впечатление на меня произвели «Чапаев», «Юность Максима», «Петр Первый», «Гроза» (по Островскому), «Мы из Кронштадта», «Гобсек», «Бесприданница», «Иудушка Головлев», «Дети капитана Гранта», «Юность поэта» (о Пушкине), «Детство Горького», «Подкидыш». Немало способствовало успеху этих фильмов участие в них великолепных актеров, но заслуги постановщиков тоже были бесспорны.
Об этом достаточно подробно написано в очерках по истории советского кино, я же хочу рассказать о том, о чем нигде не написано, – об иностранных кинофильмах, сыгравших огромную роль в духовной жизни моего поколения.
После «Веселых ребят» менее строгими стали идеологические препоны – кинопрокат обрадовал всех образцовыми зарубежными фильмами. Впервые советский зритель познакомился с Диснеем: его «Три поросенка» шли вместе с талантливым мексиканским музыкальным фильмом «Кукарача». Кинофильмы австрийского режиссера Германа Костера с участием талантливой Франчески Гааль, в первую очередь «Петер», показали зрителю, что кинокомедия может быть умной, тонкой, психологичной и вовсе не обязательно строиться на невзыскательных трюках, как это было в эпоху немого кино, где постоянно на дураке-герое лопались брюки или он попадал в яму с водой.
Великолепен был «Последний миллиардер» Рене Клера – фильм о диктаторе-президенте, временами впадавшем в помешательство и вводившем тогда нелепейшие законы, которые беспрекословно исполнялись подданными. Так, он зачем-то отменил деньги, и розничная торговля заменилась натуральным обменом: за какой-то товар продавцу платили живой курицей, а сдачу он отдавал яйцами. Диктатор отменил стулья и сам же плюхался на пол, желая присесть на заседании своего кабинета министров. Отменил брюки – и вот дряхлые, кривоногие сенаторы являлись народу в коротких детских штанишках. Всё это было не просто язвительно (в Германии к тому времени пришел к власти Гитлер), но и уморительно смешно. В заключение живому диктатору ставился исполинский, карикатурный по исполнению памятник, вокруг которого народ водил хороводы.
Фильм шел недолго и вскоре исчез с экранов – думается, по политическим причинам. Уже к тому времени во многих городах страны стали воздвигаться гигантские памятники живому Сталину.
Показали нам в предвоенное десятилетие звуковые фильмы с Чарли Чаплином – «Новые времена» и «Огни большого города». «Диктатор» Чаплина, о котором много писали как об антифашистском фильме, так на экранах и не появился. Запомнился блестяще поставленный английский фильм «Человек-невидимка» (по повести Г. Уэллса). Посмотрели москвичи и изящную бытовую комедию Рене Клера «Под крышами Парижа» с прекрасной мелодичной музыкой Моретти.
Незадолго до войны, году в 1939-м, на экраны вышел американский фильм об Иоганне Штраусе – «Большой вальс». Бесспорно, это был не шедевр кинематографии, но успех его был совершенно ошеломляющим, у всех: от академика до домработницы. Хотя старой Веной там и не пахло – я убедился в этом, побывав в Австрии после войны (снимался фильм где-то в Калифорнии), – тонкий лиризм, красивые и благородные чувства героев, разумная доля сентиментальности и не в последнюю очередь, разумеется, умело вписанная в ткань фильм музыка «короля вальсов» – все заставляло смотреть «Большой вальс» по нескольку раз. Все восхищались талантливой игрой и чудесным голосом красивой Милицы Корьюс. На все мое поколение фильм, в котором нельзя было найти ни грана пошлости и безвкусицы, оказал огромное влияние. До сих пор поется песня на слова Матусовского об этом фильме – «Это было недавно, это было давно». Слова «Вена», «Штраус», до того произносившиеся равнодушно, приобрели какую-то магическую привлекательность.
В чем причина? Думаю, в том, что в достаточно убогую и трудную предвоенную жизнь нашу внезапно вторглось нечто чарующее, чистое и светлое, по чему так истосковались души. Всякая ткачиха или машинистка, утомленная будничным своим трудом, желала походить на обаятельную и умную героиню – Карлу Доннер, в которую без памяти влюбился молодой Штраус, очаровывать достойных, красивых мужчин (ах, куда же они подевались?), без устали кружиться в упоительном вихре забытого было вальса.
Живописные замки и парки, роскошные старинные костюмы, благородная манера общения, чарующая музыка – не это ли неизменно привлекает публику во все эпохи? Насколько трудно показать в искусстве романтику повседневного труда, настолько легко показать избирательно-праздничные моменты жизни, тем более чужой, её легко преодолеваемые невзгоды и бурные, радостные взлеты.
Не отсюда ли секрет неувядаемого успеха у самой демократической публики классических оперетт Штрауса, Легара, Кальмана, всю наивность которых побеждают два фактора: нарядность и легкость. Красивая легкость. Видимо, человеку во все времена свойственно тянуться к ней; вспомним современные эстрадные ревю с их фантастическими костюмами и таинственной игрой света. Уход от будней – вот в чем была, на мой взгляд, главная причина успеха «Большого вальса».
Фильм «Если завтра война» о быстрой и нетрудной победе над внезапно напавшим на страну противником вернул нас после «Большого вальса» к реальным проблемам современности. А по венскому лесу – не хотелось думать об этом – уже два года разгуливали не франты в цветных фраках и не красавицы в кринолинах, а господа с бритыми затылками и свастикой на рукавах, задумавшие «натиск на Восток».
…Цветных немых фильмов я не помню. Были только элементы цвета. Восторженные аплодисменты публики вызывало красное знамя, поднимаемое на фок-мачте броненосца «Потемкин» в знаменитом фильме Эйзенштейна. Здесь цвет был как бы политически необходим. Где-то читал: чтобы создать этот эффект, красную краску на знамени в целой серии кадров, притом на всех копиях фильма, наносили вручную. Иного выхода в черно-белом фильме не было.
Когда на экраны вышел первый цветной и одновременно звуковой фильм «Груня Корнакова» («Соловей-Соловушка»), звук уже стал привычным, а цвет особенного восхищения не вызвал. В картине шла речь о рабочем движении на Ликинском фарфоровом заводе – расписанная яркими красками посуда, бесспорно, украшала фильм.
Фабриканта Лузнецова (намек на реального владельца ликинских заводов Кузнецова) отлично играл Владимир Баталов, родной отец прославившегося впоследствии Алексея Баталова («Летят журавли», «Девять дней одного года»). Он был второстепенным актером МХАТа и, чтобы отличаться от своего знаменитого брата, рано умершего Николая Баталова, носил на сцене псевдоним Аталов. Героиню-работницу играла миловидная, но неяркая Наталья Шумахер.
Почему же первый цвет в кино не зажег сердца зрителей так, как первый звук? Вероятно, потому, что к цвету на экране люди привыкли еще со времен «волшебного фонаря» с его цветными пластинками. Главное же, наверное, отсутствие резкого качественного сдвига в восприятии. Ведь и сегодня, когда цветные фильмы стали обыденщиной, мы не идем смотреть фильм лишь потому, что он цветной, и спокойно смотрим хороший черно-белый фильм, не возмущаясь отсутствием в нем цвета.
Другой новинкой предвоенного кино были объемные (стереоскопические) фильмы. Как и в первых звуковых картинах, вначале показывалась сборная программа, дабы люди увидели возможности нового изобретения. С замиранием сердца пошел я в 1940 году на сеанс стереофильма в кинотеатр «Москва», что на площади Маяковского[38]. Не всё было идеально: часто надо было двигать головой, чтобы найти точку, дававшую стереоэффект. Но, уже когда улавливалась многоплановость изображения в глубине экрана, удивление было велико. Всего же больше потрясли кадры, в которых предметы как бы выходили вперед экрана, на зрителя. Вдруг торчком к залу вырастала рябиновая ветвь, к ней слетались откуда-то сзади вас птицы. Или прямо среди зрителей с экрана поплыли рыбы – казалось, вы сидите в огромном аквариуме. Клоун бросал в зал большие цветные шары, зрители шарахались, но шары из-за их спин возвращались к клоуну.
Уже после войны на площади Свердлова открыли кинотеатр «Стереокино», где показывали специально отснятые объемные фильмы[39]. Я видел там черно-белую «Машину 22–12» с Крючковым и моей сестрой Ниной в роли регулировщицы и цветную «Майскую ночь» по Гоголю. Увы, не получилось: стереоскопические эффекты отвлекали от содержания, а содержание не везде требовало стереоскопии. Органического слияния не произошло, и новинка не привилась. Очередь – за голографическими фильмами; может быть, они станут полноценным видом киноискусства.
17 Календарь и праздники
Если спросить современного молодого человека о том, как менялся календарь в России после Октябрьской революции, он ответит: уравняли даты с европейскими, переместили дни на 13 суток вперед – вот и все.
На самом деле все обстояло не так просто.
Да, 31 января 1918 года власти напомнили (а объявили несколько раньше), что следующий день следует считать не первым, а 14-м февраля. Отец вспоминал, что это вызвало великое смятение и недоумение: Россия спокон веку жила по юлианскому, а не по григорианскому календарю. «Новый стиль» был введен римским папой Григорием XIII для католических стран в 1582 году, с тем чтобы исправить расхождение, образовавшееся и продолжавшее нарастать, между отсчетом лет (т. е. полных оборотов Земли вокруг Солнца) и отсчетом дней (т. е. суточным оборотом Земли вокруг своей оси). Мера разумная, ибо каждые 128 лет набегала разница в целые сутки; календарная зима с её праздниками стала постепенно сдвигаться к весне, весенние праздники (в том числе Пасха) – к лету и т. д. Однако простому народу до этого не было дела, внезапный скачок вперед почти на полмесяца нарушал привычные представления русских и традиционные даты. Естественно, что еще долгие годы граждане Советской России воспринимали календарь раздвоенно: по-старому и по-новому. До сих пор любители повеселиться помимо официального Нового года празднуют и «старый Новый год».
Небольшая, но характерная деталь: Маяковский застрелился утром 14 апреля 1930 года. Когда весть об этом в тот же день разнеслась по телефону, многие услышавшие её подумали, что это нелепый первоапрельский розыгрыш: 14 апреля нового стиля всё еще воспринималось как 1 апреля по старому стилю.
Естественно, что сдвиг в календаре дней повлек за собой и сдвиг праздников – как религиозных, так и гражданских.
До 1929 года в официальном советском календаре значилось два вида праздников: православные и революционные. По-прежнему нерабочими днями оставались Пасха, Рождество, Троица, Успение, Благовещение и другие. Разумеется, в связи с реформой все они отодвинулись на 13 суток назад.
Революционными нерабочими днями были: 22 января – День памяти Ленина и «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года; 12 марта – Свержение самодержавия (годовщина Февральской революции 1917 года); 18 марта – День Парижской коммуны, он же был Днем МОП Ра – Международной организации помощи революционерам (имелись в виду зарубежные борцы за революцию, томящиеся в тюрьмах); 1 мая – День Интернационала; 7–8 ноября – День Пролетарской революции (социалистической Октябрьскую революцию стали называть только с середины 1930-х годов; термин этот ввел Сталин, у Ленина его еще нет, поскольку он писал, что на селе и после 1917 года уклад оставался мелкобуржуазным).
И до сих пор иностранцы с трудом понимают, почему праздники, именуемые октябрьскими, отмечаются у нас в ноябре. Каждому надо особо объяснять.
Как ни парадоксально, но нерабочих праздничных дней религиозного характера до самого конца 1920-х годов было у нас больше, чем советских. Особенно богат выходными в ту пору был март: Благовещение (25 марта), Свержение самодержавия и Парижская коммуна. Иногда на март еще выпадала Пасха, которую праздновали три дня – не только в воскресенье, собственно Воскресение Христово, но и в Страстную субботу, что перед этим, и в последующий понедельник.
На Благовещение, которое воспринималось как праздник наступления вёсны, бабушка пекла «жаворонки» – традиционные сдобные лепешки в виде птички; в головку их вставлялись две изюминки – глаза. Получив впервые благовещенского жаворонка, я тут же стал поглощать его с головы. «Что же ты делаешь? Какой жестокий, – заметили родные, – сразу же убил птичку, откусив голову». Сказано было, конечно, несерьезно, но я разразился горькими, безудержными рыданиями. Доедать лепешку уже не хотелось, разжеванная голова жаворонка застряла во рту и в горле. Я чувствовал себя свирепым убийцей, хотя, конечно, понимал, что птичка неживая. Ужасала необратимость содеянного.
Тут интересна особенность детской психологии – тяга к олицетворению всего похожего на живое. Это прежде всего заметно на отношении ребенка к куклам, хотя уже с двух-трёх лет он понимает, что кукла – существо неживое, не то что маленький братик или сестричка. Да, неживое, и вместе с тем как будто бы и живое – кто его знает, какая-то жизнь в кукле таится. Сказка о веселом Буратино, вырубленном из полена, наверное, потому-то так и нравится детям, что удовлетворяет их склонности оживлять предметы.
Но вернемся к религиозным праздникам. Крупнейшими были (и остались) Пасха и Рождество. На Пасху красили и разрисовывали яйца, пекли сдобные куличи, готовили сырные пасхи… Особенно мне нравились пасхи, которые лепились с помощью сборной дощатой формы с вырезом «ХВ» – Христос воскресе: белоснежные, упоительно сладкие, проложенные нежными изюминами. Крашеные яйца не только лупились друг о друга, чтобы узнать, у кого крепче, была и особая игра с ними – наклонный лоток, по которому яйца скатывались на плоскость, часто усеянную молодой травкой. При этом каждому важно было, чтобы пущенное по лотку-желобу свое яйцо разбивало чужое, уже лежащее внизу.
Был и такой симпатичный персонаж, пришедший в Россию с Запада, – веселый пасхальный заяц. Именно он якобы прятал в комнате пасхальные подарки – детям надо было их отыскивать. А заяц был хитер, прятал подарки в самых неожиданных местах, так что не скоро и найдешь.
На Рождество устраивалась елка. Она опьяняюще пахла свежей хвоей, этот аромат смешивался с запахом плавящихся стеариновых свечей, которые так приятно было зажигать, а к концу праздника задувать. Рождественские подарки не прятались, как пасхальные, а либо лежали под елкой, либо их привозил на салазках высокий белобородый мужчина в невиданном халате и мохнатой шапке – дед Мороз. В раннем моем детстве дед Мороз не столько радовал, сколько пугал, пока я не узнавал в нем переодетого отца.
Никакие электрические гирлянды ёлку не обвивали, и по сей день я считаю, что простые свечки на ёлке гораздо милее и уместней. Мне поручалось следить за свечами, догоревшие задувать, эту свою обязанность я исполнял с чувством огромной ответственности. Но однажды свеча подожгла засыхавшую елочную ветвь, от нее мгновенно запылала вся елка. Елку быстро погасили. Я не столько испугался пожара, сколько скорбел по преждевременно погибшей елке, ласково гладил её черные, обгоревшие ветви. Потрясение было так велико, что до сих пор запомнилась дата гибели елки – 9 января 1929 года.
Особым удовольствием было зажигание под елкой бенгальских огней, теперь их почему-то именуют бенгальскими свечами, хотя на свечи они мало похожи. Разлетающиеся во все стороны от шипящего стерженька ослепительно белые звездочки представлялись атрибутом волшебной сказки. Мне всегда казалось, что сгорали она слишком быстро, но какое же волшебство длится долго?
Елочные игрушки были преимущественно самодельными. Под руководством бабушки мы с сестрой обклеивали грецкие орехи белой и желтой фольгой, вставляли в верхушку спичку с нитяной петлей, чтобы можно было повесить. Клеили бесконечные цепи из разноцветной бумаги, вырезали картонные домики и картинки с изображением разных зверей. Этого удовольствия – делать многое собственными руками – не знают современные дети, обленившиеся из-за доступности покупных елочных украшений.
Различны были слова, служившие для обозначения подготовки праздничной елки. В интеллигентских семьях говорили «украшать елку», в полуинтеллигентных, мещанских это называлось «наряжать елку». А в самых простых, исконно русских семьях, в недавнем прошлом крестьянских, я слышал сочное словечко «убирать ёлку». Так три разных глагола, определяющих одно и то же действие, характеризовали ту или иную социально-сословную среду.
На Крещение я несколько раз наблюдал гадания взрослых, выполняемые не всерьез, а в шутку: топили воск, чтобы посмотреть, какая фигурка получится, какие-то мелкие вещицы прятали под положенные кверху дном блюдца и т. п. Всё это было как-то сложно и для меня, ребенка, неинтересно.
В то время все религиозные праздники, вопреки многовековой традиции, отмечались как нерабочие дни по новому стилю, то есть по дате день был прежний, но с отставанием в 13 суток. Как отнеслась к этому нововведению православная церковь и верующие? К тому времени официальная, тихоновская церковь утратила свои позиции, их отвоевывала новая, «обновленческая» церковь во главе с хитрым и умным митрополитом Александром Введенским (его главной резиденцией был храм возле нынешней станции метро «Сокольники»), а также другие церковные группы, призывавшие к строгой лояльности по отношению к советской власти: дескать, и в Писании сказано: «Всякая власть от Бога». Поэтому, насколько помню, все религиозные праздники отмечались церковью по новому календарю. Да иначе и немыслимо было: как привлечь верующих в церковь, если по старому стилю Рождество, например, выпадало не на воскресенье, а на рабочий день? А тут государство, с которым надо было ладить, предоставляло для празднования религиозных праздников свободные для всех от работы дни. Поэтому Рождество праздновалось и верующими, и неверующими 25–26 декабря, Крещение – 6 января, Пасха и Троица – по расчетам лунных месяцев, но по новому стилю.
Когда религиозные праздники были устранены из официального календаря и стали обычными рабочими днями, православная церковь всех толков и верующие снова стали их отмечать по старому календарю, т. е. Рождество – 7 января, Крещение – 19 января и т. д. – словом, как сейчас. Иначе говоря, в отношении религиозных праздников советскую реформу календаря православная церковь не приняла. Обновленческая же церковь, самая лояльная к советской власти, вскоре распалась и перестала существовать. Парадоксально, но когда Сталин восстановил патриаршество и вернул православной церкви какие-то прежние права и владения, то он признал законной церковью не обновленческую, а сильную своими традициями и числом приверженцев прежнюю, господствовавшую на Руси при царе церковь во главе с Синодом. К тому времени она отошла от своих антисоветских позиций и пошла на сосуществование с государством, соблюдая строгую лояльность.
Но обратимся к прошлому. В разгар антирелигиозной кампании, в 1929 году, не только отменили религиозные праздники, но и запретили рождественские ёлки. Пояснялось, что ёлка – символ христианской религии, к тому же обычай их рубить к Рождеству опустошает хвойные леса. Закрылись ёлочные базары, прекратился выпуск ёлочных украшений и свечей, устраивать ёлку строго возбранялось. Конечно, маленькие ёлки потихоньку рубились в подмосковных лесах и тайком, в мешках, обложенных тряпьем, провозились в московские квартиры. Но вид в окне освещенной ёлки грозил серьезным разговором с управдомом, а то и с милицией.
Для меня, обожателя праздничной ёлки, это было тяжелым ударом. Правда, родные ухитрялись покупать и устраивать нелегальные крохотные ёлки, но ощущение запретности, почти преступности такой акции надламывало детскую душу и портило весь праздник. Ёлка стала не в радость.
А тут еще в школе учительница Анна Гавриловна приказала нам нарисовать к отмененному Рождеству в тетради наряженную ёлку и перечеркнуть ее двумя толстыми красными линиями: «Долой ёлку!». Все, в том числе и я, послушно выполнили задание, но у моего соседа по парте, выходца из купеческой семьи Павла С. тетрадь оказалась пустой. «Где же твой рисунок?» – строго спросила Анна Гавриловна. «А я не умею на память рисовать, – простодушно ответил Павел, и впрямь художник никудышный, – могу только с натуры. А елку мне только завтра поставят, тогда срисую, а потом зачеркну».
Класс расхохотался, у Анны Гавриловны по лицу пошли красные и лиловые пятна: «Тогда уж вовсе не рисуй, не надо». И поставила Павлу в журнал «неуд», по-современному двойку.
Прошло семь тусклых, безъёлочных лет, и вдруг нечаянная радость: в «Правде» появилось письмо кандидата в члены политбюро Павла Постышева с предложением возродить добрый старый обычай – устраивать детские ёлки. Правда, не на Рождество, а на Новый год, но какая для детворы разница? Всё это хорошо вписывалось во вдохновляемую Сталиным атмосферу всеобщей радости и довольства. В газетах появились статьи, доказывавшие, что очистка лесов от мелкого ельника не только не вредит, но и помогает росту хвойных деревьев. Вспомнили, что сам Ленин устраивал для детей рабочих ёлки (между прочим, не на Новый год, а на Рождество, но об этом умалчивалось).
С той поры снова появились ёлочные базары и ёлочные игрушки, ёлки стали ставить не только в квартирах, но и в общественных местах, домах пионеров и клубах, и не только для детей, но и для взрослых. Имя Постышева, вернувшего людям отнятую у них радость, произносили с благодарностью, чуть ли не с благоговением, но не долго: в 1938 году этот добрый человек исчез, был вычеркнут из истории вместе со многими другими. Ныне он реабилитирован, в энциклопедии датой смерти указан 1939 год. Постышев погиб, но возрожденная им ёлка продолжает жить и радовать людей.
Вместе с религиозными праздниками в первую пятилетку был отменен и праздник Нового года – 1 января, он стал обычным рабочим днем. В самом деле, почему советским людям праздновать начало христианской эры? Ведь подлинная история человечества началась 7 ноября 1917 года, и в тогдашних календарях на первом месте значилось: «13-й (или 14-й) год Октябрьской революции», а потом уже, ниже и мельче, год христианской (она стала называться «новая») эры. Встречу Нового года с богатым застольем и шампанским объявили буржуазным, нэповским обычаем; сознательный рабочий должен праздновать только революционные праздники, а не всякие там Пасхи и новогодья. В статьях указывалось, что встречи Нового года способствуют алкоголизму и неумеренным расходам, нарушающим нормальный бюджет рабочей семьи. В фельетонах братьев Тур и в «Крокодиле» сатирически описывались пьяненькие интеллигенты, которые после встречи Нового года, шатаясь и икая, расползаются к себе по домам, в то время как навстречу им на утреннюю смену идут трезвые и сознательные рабочие, преисполненные стремлением выполнить и перевыполнить задания пятилетки.
С 1917 по 1928 год в стране действовал восьмичасовой рабочий день. Сутки разделялись на три части, это провозглашал популярный лозунг: «Восемь часов для работы, восемь – для отдыха, восемь – для сна». Обычная рабочая неделя тем самым составляла 48 часов. В первую пятилетку был введен 7-часовой рабочий день. В октябре 1929 года, вместе с отменой религиозных праздников как нерабочих дней, была упразднена и обычная семидневная неделя с ее седьмым свободным днем – воскресеньем. Вместо нее ввели пятидневку, она же непрерывка. Суть реформы состояла в том, чтобы предприятия и учреждения работали непрерывно, то есть каждодневно, без общего выходного дня.
Произошла огромная ломка в быту и на работе: в каждом цехе, отделе и т. д. рабочие и служащие разделились на пять частей, по избранным выходным дням: одни гуляли по 1-ми 6-м числам декады, другие – по 2-м и 7-м, третьи – по 3-м и 8-м и т. д.
Разумеется, тут дело не обходилось без споров и женских слез. Жена, например, хотела иметь одни выходные дни с мужем, а тому по производственной необходимости выходные назначались на те дни, в которые жена, тоже по производственной необходимости, обязана была работать. Согласовать весь этот разнобой никому не было под силу, везде оставались обиженные. Весь коллектив на работе никогда не собирался (а ведь приходилось проводить и общие собрания!), семья тоже, включая школьников, не всегда имела единый выходной день. Хитрые люди норовили не брать выходные по первым – шестым и вторым – седьмым дням декады, так как эти дни выпадали на первомайские и октябрьские праздники. Словом, поводов для конфликтов было немало. Одним из выходов служило то, что свободные дни для той или иной группы работающих временами менялись.
Насколько помню, в школе, как и других учебных заведениях, непрерывка не действовала, поскольку надобности в ней не было. Кажется, вся наша школа «гуляла» по 5-м и 10-м дням каждой декады. Но именно в эти дни родители могли работать.
С введением пятидневки вошло в обиход незнакомое мне до того слово «декада» – десять дней, две пятидневки, но не любые, а от 1-го, 11-го и 21-го числа каждого месяца. Позднее я узнал, что этот термин был введен Великой французской революцией в 1792 году: якобинцы заменили декадой семидневную христианскую неделю. Но у французов декада состояла из восьми рабочих дней, в девятый и десятый день они отдыхали.
Была попытка присвоить дням пятидневки новые наименования: «пятилетка», «третий интернационал» и что-то в таком роде, но это, конечно, не привилось.
Непрерывка ввиду ее неудобств просуществовала недолго:
1 декабря 1931 года ввели единую шестидневную неделю с обще-выходными днями по 6, 12, 18, 24 и 30-м дням каждого месяца. Рабочий день продолжал состоять из семи часов, таким образом, рабочая неделя составляла 42 часа.
К тому времени поразительно быстро забылись названия дней старой семидневной недели: всякие там вторники, четверги, воскресенья воспринимались уже как допотопные архаизмы, никто о них не вспоминал. Говорили: первый день шестидневки, второй и т. д. Определить их можно было моментально, благодаря несменяемости общевыходных дней. Сейчас мы-мучительно размышляем, свободны ли мы будем, скажем, 12-го числа следующего месяца, без табель-календаря тут обойтись трудно. В 1930-е годы каждый точно знал: 12-го будет выходной, а 13-е – рабочий день. 18 августа не случайно сделали Днем авиации: это был общевыходной день.
Трудно сказать почему, но и пятидневки, и шестидневки существовали только в городах и рабочих поселках. На селе продолжала действовать традиционная неделя, и сельский попик регулярно служил в церкви, там, где она сохранилась, воскресную литургию как ни в чем не бывало.
Я уже учился в вузе, когда примерно за год до начала войны, в 1940 году, везде и повсюду восстановили обычную семидневную неделю с воскресеньем в качестве свободного от работы дня. Люди восприняли это без радости: на целый день удлинялась рабочая неделя, к тому же и продолжительность каждого рабочего дня увеличилась с семи до восьми часов, новая рабочая неделя снова составила 48 часов. Эти нововведения негласно (т. е. не в газетах и не по радио), а в производственных коллективах, на собраниях, объяснялись обострившейся международной обстановкой (шла Вторая мировая война), необходимостью наращивать индустриальную и оборонную мощь страны на случай неожиданных провокаций мировой буржуазии. В это же время ввели строжайшие наказания за опоздания на работу свыше 20 минут и прогулы – вплоть до тюремного заключения.
48-часовая семидневная неделя действовала всю войну и многие годы после нее. Только в 1956—60-х годах рабочий день был вновь сокращен до семи часов. Однако вскоре его удлинили до восьми часов, но выходным днем стало не только воскресенье, но и суббота (начало 1968-го года).
После войны добавилось праздников: появился столь радостный, хотя и «со слезами на глазах» День Победы; снова ввели свободный день 1 января, так как веселая встреча Нового года стала узаконенной (вместо этого отменили как нерабочий день дату памяти Ленина 22 января), стал общевыходным днем женский праздник 8 марта (в 1920—1930-е годы он именовался «Международным днем работницы», а не «женщины вообще» и оставался рабочим днем).
…Перечитав эту главу, я убедился, что в ней гораздо больше объективной информации, нежели личных впечатлений. Это естественно: сохранение в советском календаре религиозных праздников и всякие там пятидневки и непрерывки выпали на те времена, когда я еще не работал и не учился или только лишь начинал учебу. Тем самым многое меня обходило стороной (кроме, разве, ёлки) и было более известно по разговорам взрослых. Тем не менее главу эту оставляю: важно помнить и такую сторону давно минувших дней. Тем более что о ней ничего не знает молодое поколение, а мои ровесники и люди постарше успели позабыть. А забывать о том, чего не прочтешь ни в каком современном учебнике истории, ни в коем случае не следует.
18 Парки
В августе 1928 года близ Крымского моста открылся Центральный парк культуры и отдыха – сокращённо ЦПКиО[40]. Открытию предшествовала широковещательная газетная кампания, и, как только оно состоялось, тысячи москвичей хлынули посмотреть необыкновенную новинку. В числе первых посетителей было и наше семейство.
Парк устроили на территории бывшей Сельскохозяйственной выставки, а до выставки эти земли занимали городские свалки. Ни того ни другого я, конечно, не застал, но вот парк в его первозданном виде помню. Подчёркивалось, что это парк нового типа, пролетарский, созданный в соответствии с требованиями культурной революции. Отсюда и название: не просто парк, а парк культуры и отдыха. Ныне мы в это привычное название не вдумываемся, а вдуматься стоит: оно запечатлело характерные черты своего времени. Ведь каждый парк служит для отдыха, но главное назначение этого – культура, а затем уже отдых. Казалось бы, логичней было назвать его парком культурного отдыха, но нет – слово культура было выделено и неслучайно поставлено на первом месте.
В отличие от соседнего старого Нескучного сада новорожденный сад был беден зеленью; конечно, его украшали газоны и клумбы, но деревья-саженцы были ещё низкорослы и тени не давали. Над ними возвышались стройные электрические фонари, на одной из аллей фонарные столбы имитировали форму ландышей. «До чего ж красиво!» – восхищались девочки. Против главного входа, у фонтана, установили большую скульптуру Шадра «Девушка с веслом». Обтянутая купальным костюмом, издалека кажущаяся нагой, женская фигура вызывала недовольство тогдашних пуритан и даже протесты в прессе. Вот какие тогда были строгие нравы!
Главный вход ЦПКиО им. М. Горького. Фотография 1947 г.
Самым интересным в парке были аттракционы. Постепенно я посетил почти все. Крутился на центробежном кругу, с ускорением вращения которого всех стоявших на нём разбрасывало по сторонам. Ходил по «комнате смеха», где разного рода кривые зеркала превращали зрителей в забавных уродцев. Побывал в «таинственной комнате», с виду – самой обыкновенной, со столом, стульями, шкафами, кроватью, диваном. Посетители садились на мостике, нависшем над комнатой. Вдруг стены её начинали вращаться, совершать обороты, ничто не падало, но сидящим казалось, что вращаются они вместе с мостиком, и некоторые, вообразив, что повисли вниз головой, кричали от страха… Садился в вагон электропоезда, вагон как вагон, раздавалась сирена, он как бы приходил в движение, трясся, по стенам бежали тени, а впереди, на экране, проецировалась кинолента с заснятым железнодорожным полотном.
Много было в парке народных увеселений и игр, по нынешним временам весьма наивных и примитивных, но собиравших множество посетителей. На массовом поле устраивались соревнования: бег наперегонки на одной ноге, бег в мешках; победители получали премии. Разучивались под баян советские песни: массовик развертывал рулон с крупно написанным текстом песни, любители хорового пения старательно повторяли каждый куплет, потом пели всю песню в целом: «В путь-дорожку дальнюю я тебя отправлю, Упадет на яблоню спелый цвет зари. Подари мне, сокол, на прощанье саблю, Вместе с острой саблей пику подари». «Отлично, превосходно, – ободряет массовик, – теперь перейдём к другой: «Сулико» – народная грузинская песня, любимая песня товарища Сталина», – и развёртывает новый рулон: «Я могилу милой искал, но её найти нелегко…»
В другом углу массового поля под баян разучивались танцы, но не бальные, а народные или псевдонародные. Потом этот вид культурного досуга стали называть «два прихлопа, два притопа, два прыжка и поворот». Это не пародия, а подлинная фраза, которую должны были повторять вслед за массовиком любители танцев. Мне запомнилась и другая, не менее забавная: «Играй громче, музыка а мы спляшем гопака!» И что же – разучивали с превеликим старанием и плясали с упоением.
Для детей в парке существовал большой Городок пионера и школьника с множеством развлечений и игр. Около набережной построили читальню, я нередко заходил в нее, листал журналы и книги. Много было «торговых точек» с простым и дешевым питанием, столовых, буфетов и чайных. Но нигде никакого спиртного – ведь это парк культуры, а не какой-нибудь буржуазный развлекательный Луна-парк.
В самом конце парка, около Нескучного сада, установили скульптурную галерею героев пятилетки, знатных стахановцев – плохо вылепленные гипсовые бюсты. Далее манил Зеленый театр, одно из чудес парка – как подчеркивалось, крупнейший в СССР театр: 20 тысяч зрителей, сцена, на которой могут поместиться три тысячи артистов. Он стоял под открытым небом, сиденьями служили простые скамьи. На огромной сцене чаще всего выступали входившие тогда в моду коллективы народного творчества, музыку и пение делали слышимыми мощные усилители. Дожди иногда нарушали представления, но никогда их не срывали: зрители закрывались зонтами или просто газетами. Публики в Зеленом театре всегда было полным-полно.
В те годы усиленно популяризовался парашютный спорт как один из. важных видов оборонной подготовки. Наряду со стахановцами, полярниками и отважными пограничниками – ловцами диверсантов парашютисты-рекордсмены были героями страны. В связи с этим неподалеку от Крымского моста построили 30-метровую парашютную вышку. Однажды я отважился с неё спрыгнуть. На верхушку приходилось долго забираться по крутой винтовой лестнице. Снизу верхушка башни, откуда спрыгивали, казалась высокой, сверху же земля показалась глубокой пропастью – любопытный оптический эффект. Спрыгнул легко и не без удовольствия. Внизу псевдопарашютистов (прыжок со столь кроткого расстояния, разумеется, амортизировался прикреплённым к парашюту краном-рычагом) встречал плотный круг зевак.
Во второй раз случился небольшой конфуз. Придя в парк с приятелем, я предложил, чтобы и он и я спрыгнули с вышки. Приятель отказался, тогда я взобрался на вышку один, а он наблюдал за мной снизу. Надели на меня лямки, подвели к краю, я глянул вниз, с высоты десятого этажа, – и тут ноги мои словно приросли к помосту, сделалось страшно. Но позади ждали своей очереди другие – нерешительные отнимали время, срывали план; мои раздумья длились недолго – мощный толчок в спину бывалого инструктора тут же низверг меня на землю. К великому моему счастью, ни мое замешательство, ни толчок не были замечены ни моим приятелем, ни другими наблюдавшими за прыжками снизу, и я вышел из круга, освободившись от парашюта, с гордо поднятой головой отчаянного смельчака.
Рассказываю об этом случае как о трудно объяснимом психологическом явлении: не в первый раз испугался, а во второй. Такое случалось не только со мной, но и с другими (по их рассказам), и в других житейских ситуациях. Один фронтовик-разведчик рассказывал мне, как трудно было ему во второй раз пойти в тыл противника, тогда как в первый раз он пошел смело и никаких опасностей не ощутил.
С той же башни можно было спускаться вниз, скользя по спиральному лотку, усевшись на особый коврик. Это я тоже испробовал, думая, что покачусь вниз с головокружительной скоростью, как на бобслее. Не тут-то было: дощатый лоток изрядно протерся и в некоторых местах лишился лака; кое-где я (как и другие) застревал, и приходилось подталкиваться ногами.
Протекающая рядом Москва-река тоже на сто процентов использовалась для отдыха. Сперва я покатался на ней на речном трамвае, потом на «народной лодке». Но вот открылась байдарочная станция. Позавидовав гребцам на байдарке, я дерзнул взять одиночную байдарку и, никем не обученный, самостоятельно прокатиться по реке. Для этого надо было раздеться до трусов. Уже с первого раза я научился грести нормально и получил огромное удовольствие, всем телом ощущая благотворное воздействие трех стихий – солнца, воздуха и воды. В студенческие годы греб довольно часто, но один, товарищей не нашлось. Стал даже лихачествовать – качаться на крутых волнах позади проходивших катеров, пока один опытный гребец не отсоветовал: байдарка легко опрокидывается, и сидящий в ней оказывается в воде вниз головой, а выбраться нелегко, потому что ноги спрятаны в корпусе суденышка. Иногда я плавал на байдарке до Бородинского моста, мимо пустынных тогда Лужников, покрытых складами и песчаными карьерами. Здесь было мелко, плескались местные ребятишки, доносились крики петухов, перевозчик возил на лодке людей к противоположным Воробьевым горам; трудно представить себе, что именно в этом захолустном тогда месте расположится в будущем стадион мирового значения.
Раза два я поплыл от водной станции вниз по течению, за Крымский мост, хотя это возбранялось. Но отвадил не запрет, а шпана, стоявшая на мосту: она закидывала лодочников и байдарочников огрызками яблок. Удивительно, с какой силой мелкий огрызок, сброшенный с высоты, сотрясал байдарку: она содрогалась и виляла, словно от удара булыжника. Одним словом, физика на каждом шагу.
Зимой в парке работали каток и лыжная станция. Собственных лыж у меня не было, по воскресеньям иногда я брал на прокат лыжи на парковой станции и пускался в долгий путь до Потылихи и обратно по накатанной колее, проходившей по плотному льду Москвы-реки. Недостаток был в том, что лыжня была абсолютно ровная, но лыжников встречались сотни.
Давние, идиллические времена! Фрунзенская набережная только начинала застраиваться крупными зданиями, тут и там торчали лачуги. Вся местность напоминала убогую окраину. После войны лыжная станция исчезла, река теперь вдоль парка не замерзает. Закрыли не только байдарочную, но даже и лодочную станцию, очевидно потому, что движение по реке стало слишком интенсивным.
В 1932 году парк посетил Максим Горький, он с восторгом о нем отозвался. Вскоре парку, как и десяткам других объектов в стране, присвоили его имя.
Тогдашняя Москва с наивной, молодой гордостью прямо-таки упивалась своим новым, прекрасным парком. Памятью этой гордости осталось название станции метро, расположенной сравнительно далеко, за мостом, – «Парк культуры» (вместо более естественного – «Крымская»). Лишний раз хотелось напомнить о парке как об одном из уникальнейших сооружений Москвы.
До войны в парке устраивались карнавалы, он был притягательнейшим местом для московской молодёжи. С утра до вечера на аллеях гремела музыка, лившаяся из репродукторов, – тогда они были еще новинкой и использовались весьма старательно; подчеркивалось ради привлечения публики, что весь парк радиофицирован и даже имеет собственный радиоузел. Можно посидеть на удобной скамейке, среди цветов, и послушать радио – столь мощное орудие массовой культуры. Радио тоже служило приманкой.
Бесспорно, Центральный парк сыграл немалую роль в деле воспитания широких масс и приобщения их к культуре. Люди в те времена не ведали ни телевидения, ни транзисторов, ни магнитофонов, источники информации и даже обыкновенной музыки были весьма скудны. Огромная разница с нынешним временем, когда перекормленный звуковой пищей москвич спасается от неё в уединённых местах Нескучного сада и Ленинских гор![41]
…Вскоре после Центрального парка в «парки культуры и отдыха» были превращены некоторые старые московские парки – Сокольники, Останкино, Измайлово и иные. Одновременно некоторым присвоили имена выдающихся людей: Останкинский получил имя Дзержинского, Сокольнический – Бубнова, Измайловский – Сталина. Однако в 1937 году, после ареста тогдашнего наркома просвещения Бубнова, Сокольнический парк снова остался без имени, Измайловский лишился имени Сталина в 1956 году.
Само собой разумеется, во всех городах СССР по примеру первого – московского – парка открылись собственные парки культуры и отдыха.
Новые парки культуры и отдыха, хотя и обогатились всякого рода аттракционами, павильонами и культурно-массовыми заведениями, продолжали сохранять свой исконный облик старинных усадебных парков и в смысле «интересности» ни в какое сравнение с ЦПКиО не шли. Это были скорее парки отдыха и культуры. Сюда ездили слушать птиц, а не радио.
Еще в 20-е годы мы ездили с семьей в Измайловский парк – отец упорно называл его по-старому – «Измайловский зверинец»; первый раз я вообразил, что это нечто вроде зоопарка и очень разочаровался, не увидев там никаких зверей. Изредка ездили в Петровское-Разумовское, которое тогда еще не именовалось Тимирязевским парком, но чаще всего – в Останкино. В то время это был живописный, но весьма запущенный парк – необыкновенно большой, сейчас он заметно уменьшился: часть его отошла под новый ботанический сад, другая – под ВДНХ[42]. Погуляв по аллеям, усаживались отдохнуть на скамейке около продолговатых прудов. Теперь это знаменитые пруды ВДНХ, я хорошо их знаю и представляю, но никак не могу в своем сознании согласиться, что это те же пруды, около которых я играл в детстве, настолько всё вокруг изменилось. Одни и те же пруды в памяти живут совершенно раздельно, будто это разные, ничего общего между собой не имеющие водоемы. Так бывает даже с целыми городами, если их посещаешь в разное время, особенно с разных концов.
Путешествие в Останкино отнимало не меньше часа. Мы ехали на «Аннушке» до Сретенских ворот, там пересаживались на трамвай № 9, который вез нас по узкой Сретенке, потом нырял под арку Сухаревой башни, далее выезжал на обсаженную с обеих сторон палисадниками 1-ю Мещанскую улицу[43] и вывозил к Рижскому (тогда ещё Виндавскому) вокзалу. Здесь старую границу города отмечали две громоздкие кирпичные башни; сама площадь Рижского вокзала носила название Крестовской заставы. За нею шел не длинный и широченный нынешний путепровод, а узенький, построенный перпендикулярно к железнодорожным путям мостик, ведущий к Пятницкому кладбищу с его миниатюрной, живописной церковью.
Отсюда трамвай сворачивал на Ярославское шоссе. То, что виделось вокруг, уже нельзя было назвать городом. Нет нужды говорить, что я не отлипал от окна, жадно всматриваясь в окрестности. Москва как бы кончилась: вдоль шоссе, плохо вымощенного, тянулись мелкие деревянные дома села Алексеевского. Огороды с чучелами. Колодцы с журавлями. Пыльные тополя со стаями галок. Трамвайные рельсы здесь не были проложены булыжником, а поднимались над землей, как железнодорожные. Долго в глазах мелькали пестрые купола Алексеевской церкви – других заметных ориентиров вокруг не было, не было и домов выше двух этажей.
За Алексеевским тянулись уже настоящие поля с перелесками. Где-то наконец трамвай круто сворачивал влево, на 1-ю Останкинскую улицу и сквозь толщу обсаженных кустами и деревьями обывательских домишек и пригородных дач устремлялся к Останкинскому пруду, где делал конечную петлю. В Останкине сочно пахло зеленью, навозом и куриным пометом, кудахтали куры и блеяли козы. Трамвай казался тут пришельцем из другой цивилизации.
Путешествие в Останкино было целодневным, мы брали с собой всякую снедь, закусывали, гуляли и возвращались домой уже в сумерках; дома не обедали, а только ужинали. От обилия воздуха и впечатлений, интересного, но долгого и утомительного пути я, ещё дошкольник, едва поужинав, засыпал глубоким сном.
Слева от пруда, не доезжая до дворца, зеленела редкая роща высоких деревьев. Она существовала еще в 1937 году, когда мы, мальчишеская компания нашего класса, как-то ездили играть сюда в футбол вместе с нашим классным руководителем. Теперь здесь находится телецентр с гигантской телебашней, высокие дома. О прошлом напоминает только шереметевский дворец с древней церковью налево от входа. Некогда зеленые берега пруда оделись в бетон, и пруд полностью утратил свой прежний сельский вид.
Избалованный метрополитенными скоростями, современный москвич томится даже при получасовом передвижении в трамвае или автобусе. А в те времена и трамвай, и автобус двигались гораздо медленней, чем сегодня. Поездка «за город», то есть в Останкино, Измайлово или Кунцево, требовала значительного времени и немалых неудобств. Но это воспринималось легко, как должное и неизбежное.
19 Три моих одноклассника
Вы вновь со мной, туманные виденья, Мне в юности мелькнувшие давно… Из сумрака, из тьмы полузабвенья Восстали вы… И.В. Гете. Фауст.1. Володя Азаров
Мой первый школьный класс был вторым классом. В те времена детей, получивших в семье начатки образования, разрешалось сразу же отдавать во второй класс. Наш 2-й «В» класс был целиком составлен из овладевших грамотой новичков.
На одной из задних парт сидел худенький, бледный мальчик с удлиненной, яйцевидной головой. Вел он себя тихо и отчужденно. В играх не участвовал, друзей не имел. Тонкие губы выражали сдержанно высокомерную улыбку. Звали его Володя Азаров.
Как-то на переменке мы разговорились.
– Кто твой фатер? – поинтересовался мальчик.
Узнав, что отец мой – всего-навсего служащий Резинотреста, Володя заметно оживился.
– А мой, – солидно заявил он, – правая рука самого Литвинова. Знаешь, кто это такой?
Кто же не знал Литвинова – тогдашнего наркома иностранных дел!
– Без него Литвинов, – гордо продолжал Володя, – ни одного важного решения не принимает. А мама моя – адвокатесса.
Помощник Литвинова, адвокатесса – такими знатными родителями никто другой в классе похвалиться не мог. Позднее я выяснил: отец Володи, крупный юрист-международник, в самом деле состоял консультантом у Литвинова. Статьи за его подписью можно встретить в старых солидных журналах, в том числе дореволюционной давности.
Володя не столько учился, сколько болел – бесконечные ангины, ларингиты, бронхиты. В классе его видели редко. Большую часть времени он проводил дома.
Вероятно, Володя рассказал обо мне родителям. Последовал телефонный звонок адвокатессы – я приглашался провести с Володей воскресенье.
Жили Азаровы в Лефортовском дворце на Коровьем Броде, Главный корпус и до революции, и в то время, и ныне занимал Военно-исторический архив. Квартира Азаровых находилась во втором этаже заднего корпуса.
Тщательно помытый и наряженный в лучший костюм, я робко вступил в дворцовые покои, где обитал Володя. Ни до того, ни по сей день столь огромной квартиры я не видел. В ней было не менее 150 квадратных метров. Рядом с гигантской столовой, освещенной арочными окнами в толстых нишах, находилась Володина комната – его царство. Здесь стояли кроватка, письменный стол, шкафы и полки, заполненные игрушками и книгами. По стенам висели географические карты; этажерку, забитую всевозможными учебными пособиями, венчал красавец глобус. Ничего похожего ни у меня, ни у знакомых ровесников не было. Я чувствовал себя пастушонком, которого удостоил приема знатный принц.
Однажды, в отсутствие отца, Володя показал мне его кабинет. Величию места способствовало и то обстоятельство, что сюда надо было всходить, а не просто входить – к кабинету вели ступеньки из паркета. Из высоких, застекленных шкафов на нас важно поглядывали, поблескивая золотым тиснением, корешки мудрых и непонятных книг. Массивный письменный стол, мягкая кожаная мебель, ковер, портьеры – такой кабинет мог принадлежать и самому наркому.
Скромнее выглядела комната матери. Ее заполняла широчайшая тахта, накрытая красным персидским ковром, вползающим и на стену. Над тахтой висела старинная лубочная гравюра с изображением многоглавого дракона, поглощающего грешников. Мадам Азарова, смуглая и черноволосая, как цыганка, являла собой тип – как я теперь представляю – салонной красавицы начала века. Она постоянно сидела на тахте, скинув туфли и поджав под себя ноги, и читала иностранные романы или разговаривала по телефону.
Кроме родителей в квартире жила бабушка – противная, оплывшая старуха, неслышно бродившая взад-вперед в своих неизменных мягких туфлях. Еду готовила кухарка. Теперь вспоминаю: ни супружеской спальни, ни комнаты бабушки, ни даже кухни я никогда не видел. Какой же величины должна была быть вся квартира, которую населяли всего четыре человека, с кухаркой – пять! Но кухарки в те времена помещались обычно в комнатке при кухне.
Многие воскресенья, с утра до вечера, я проводил у Володи. Вряд ли это способствовало моему физическому развитию – на улицу Володю, а тем самым и меня не выпускали, в квартире же было натоплено и душно. Комнаты не проветривались – не дай Бог сквозняк усугубит Володины хвори!
Обедали за торцом исполинского, персон на сорок, стола. Тут я впервые увидел Володиного отца – важного, полного, лысеющего мужчину.
За столом царила мертвенная тишина. Кушанья неслышно раскладывала по блюдам бабушка. Еда была изысканная, отменно вкусная, для меня непривычная. Однажды на второе подали жаркое со сливами. Такое сочетание меня удивило, я не удержался и изумленно нарёк:
– Разве едят мясо с ягодами?
Никто мне не ответил. Даже болтливый Володя не разжимал за столом уст. Думая, что меня не расслышали или не поняли, я повторил вопрос.
Отец Володи, грудь которого, сверкала белоснежной накрахмаленной салфеткой, аккуратно дожевав кусок, наконец произнес:
– Как видите, молодой человек, едят. А вам не вкусно?
– Нет, вкусно, но как-то странно – несладкое со сладким
вместе.
Долгая пауза. Затем я услышал вежливо-снисходительное:
– Видите ли, молодой человек, я, к сожалению, не специалист в области кулинарии и не могу удовлетворить вашу любознательность в этом вопросе.
Тут я понял, что у Азаровых во время обеда разговаривать не принято и мною проявлена невоспитанность. Однако промах мой остался без последствий: от дома я отлучен не был.
Играть и беседовать с Володей было интересно: он знал тьму увлекательных и неизвестных мне вещей. Больше всего его занимали география, путешествия, астрономия. Он показал мне на карте мира маршрут Магеллана, объяснил, что означают меридианы и параллели, широта и долгота, движение светил, принципы действия компаса и буссоли, особенности частей света; попутно развеял мое искреннее заблуждение в том, что если на Северном полюсе холодно, то на Южном – очень жарко, растолковал, почему ночь сменяет день, а зима – лето. На книжных полках его господствовали Жюль Верн и Майн Рид, Фенимор Купер и Луи Буссенар, журналы «Вокруг света» и «Мир приключений» – Володя охотно давал мне на дом свои богатства. Благодаря ему я уже в десятилетнем возрасте прочитал столь сложную книгу, как «Дерсу Узала» Арсеньева.
Володя с мягкой улыбкой удивлялся моему поразительному невежеству, но вместе с тем ценил мое общество; единственный ребенок, он был одинок, не знал товарищей-ровесников, родители же им занимались мало. Кроме того, моя отсталость приятно питала Володино тщеславие, и он усвоил по отношению ко мне тон вежливого, но уверенного превосходства.
Играли мы в разного рода настольные игры; тут я перманентно проигрывал, а редкие выигрыши мои Володя воспринимал как досадные случайности. Любимой же игрой нашей стала битва двух крепостей. Богатая история войн, документами которой был заполнен Лефортовский дворец, не ведала столь нелепого вида сражений. На гигантском обеденном столе каждый из нас строил из коробок и кубиков мощную крепость, обе крепости разделяла нейтральная полоса. За крепостными укрытиями расставлялась живая сила – оловянные солдатики. Каждый из нас поочередно метал во вражеский стан свинцовые шарики, служившие артиллерийскими снарядами. Задача состояла в том, чтобы уложить навзничь, то есть убить, неприятельских солдатиков. Одновременно разбивались форты и бастионы – восстанавливать их в ходе сражения возбранялось. И тут, как и в других играх, Володя, как правило, одерживал верх. Правда, дело обходилось не без хитрости. При всей своей наивности я вскоре заметил, что он намеренно медлит со строительством своей крепости, выжидая, когда я построю свою оборону; свои форты и бастионы Володя устанавливал против моих наиболее слабых и уязвимых мест. После гибели всех моих воинов и разрушения стен Володя гордо расставлял на руинах поверженной крепости своих солдатиков и водружал над ней свой флаг.
Когда мне исполнилось девять лет, я пригласил в числе немногих гостей на день рождения и Володю – он к тому времени несколько поправился и приехал, доставленный бабушкой, весь укутанный в шали и шарфы. Привез подарок – роман Жюля Верна «Из пушки на луну».
В детской компании приятель мой сразу как-то поблек и сник: неохотно участвовал в общих играх, предпочитая бродить из угла в угол с мрачной улыбкой Чайльд-Гарольда. Улучив, момент, он отвел меня в сторону и сказал:
– Жаль, что ты не знаешь французского языка, я бы тебе кое-что сообщил по секрету.
Мне хотелось спросить, когда Володя вдруг успел овладеть французским языком, но я сдержался и вместо этого посоветовал ему тихо высказать желаемое по-русски.
Тут Володя поведал мне то, что так его томило:
– И зачем только ты приглашаешь к себе девчонок?
А были всего две девочки, давние мои приятельницы.
Во втором и третьем классе миссия доставки меня к Володе и обратно выпадала на старшую сестру. Наши дома соединял трамвай 24-го маршрута, шедший мимо Покровских Ворот до Лефортовской площади и далее. Эта нагрузка никак не устраивала взрослеющую сестру. Володю к тому же она терпеть не могла и отзывалась о нем кратко и язвительно:
– Умный мальчик – голова огурцом.
Потом меня стали отпускать к Володе одного, но, если я засиживался, поторапливали из дома по телефону.
Когда мне стукнуло 12 лет, дядя Коля, бабушкин брат, решил мне отдарить 33 тома энциклопедии «Гранат», вышедших к 1917 году. Я не замедлил рассказать новость Володе.
– Ну что ж, – глубокомысленно изрек юный эрудит, – это будет способствовать твоему развитию.
И далее совершенно серьезно, без тени иронии:
– Когда прочтешь все 33 тома, я возьму тебя своим секретарем.
Я не нашел в этой фразе ничего унизительного, тем более что
смутно представлял себе обязанности секретаря – энциклопедия кончалась уже на букве «П» – и простодушно сообщил о Володином обещании домашним. Они были возмущены.
– И ты не ответил этому нахалу как следует?
– Нет, а что?
– А то, что у тебя нет никакого самолюбия.
Наверное, и в самом деле самолюбие отсутствовало.
В шестом классе Володя заболел основательно, из класса выбыл и возобновил учебу только через год, уже в другом, младшем классе.
Тут мы совершенно раззнакомились, хотя и виделись почти ежедневно: оба потеряли друг к другу всякий интерес. К 9-му классу (я был уже в десятом) Володя сильно вытянулся, стал говорить самоуверенным баском классного всезнайки, а на мои приветствия отвечал небрежным кивком головы.
И вдруг Володя исчез, как сквозь землю провалился, вместе с некоторыми другими своими одноклассниками. Шел злополучный 1937-й год. Шепотом передавали, что Азаров возглавил какой-то школьный нелегальный кружок, который собирался где-то вне школы и занимался политически вредными разговорами.
Представляю себе отчаяние родителей: единственный сын, умный и талантливый Лалик (так нежно называла его мать) где-то в Сибири, в ссылке, с его-то здоровьем… Да и положение родителей несомненно поколебалось: ведь они вырастили «врага народа».
Как ни странно, хворый юноша выдержал все испытания тюрьмы и ссылки. К моменту реабилитации отец его уже умер, вскоре скончалась и мать. От заведующего книжным отделом учреждения, в которое после войны я поступил работать (он же был и крупным книжным маклером), я узнал, что Азаров-млад-ший возвратился в Москву и распродает богатую отцовскую библиотеку.
А в середине 1960-х годов я прочитал в «Вечерней Москве» объявление: диссертацию на степень кандидата экономических наук защищает в Экономико-статистическом институте В.Е. Азаров. Это был, бесспорно, он.
Движимый каким-то неясным порывом, я поехал в унылое здание в Большом Саввинском переулке. Прошло более четверти века, но Володю я узнал сразу: на кафедре стоял худой, рослый мужчина, заметно облысевший. Ученый секретарь прочитал его биографию такой скороговоркой, что постичь что-либо в судьбе диссертанта было невозможно: родился тогда-то и там-то, далее без всякой паузы: с 1956 по 1961 год учился в Экономико-статистическом институте, окончил его с отличием, там же стал преподавателем… Словно не зиял в Володиной биографии многолетний, мучительный пробел.
Володя четко и уверенно чертил какие-то формулы и диаграммы на доске; всё, что он говорил, было для меня столь же темно и непонятно, как в свое время движение светил или принцип устройства горизонтального телескопа. Я снова, как в детстве, ощутил всё ничтожество своей поверхностной эрудиции перед монбланами Володиных познаний.
Мне не хотелось открывать своего присутствия, тем более что я не был уверен, помнит ли меня вообще Володя через столько тяжких и скверных лет. Тем не менее в перерыве перед голосованием некая загадочная сила повлекла меня к нему. Он стоял отчужденно в углу и нервно курил. Маленькая черноглазая женщина влюбленно смотрела ему в глаза, снизу вверх. Я подошел, пожелал ему успеха, пожал руку. Он с любопытством взглянул на меня, не узнав. Тогда я назвал себя.
Глаза Володи, суховатые и бесстрастные всё это время, вдруг зажглись неожиданным добрым и мягким светом.
– Юра, – взволнованно сказал он, – каким образом ты здесь? И ты пришел сюда только ради моей защиты? Не случайно, значит? Как я тронут, если б ты знал! А это моя жена Машенька. Познакомились, как ты догадываешься, в весьма отдаленных местах. Машенька, это Юра, друг моего детства, помнишь, я тебе о нем рассказывал?
Машенька подтвердила: да, я так много о вас слышала, спасибо, что пришли, ведь никто из старых (она подчеркнула это слово голосом) знакомых не пришел.
Последовали уговоры: надо обменяться телефонами, встретиться, повидаться, но все трое понимали: всё это бессмысленно, ничто уже нас не соединяет и соединить не может. Явился я сюда, в торжественный день, как призрак Володиного далекого детства, чтобы исчезнуть из его кругозора уже навсегда. Линии наших жизней, давно разошедшиеся, сойтись уже не могли.
…Не так давно в сберкассе меня обслуживала практикантка, студентка Экономико-статистического института, – так было написано на табличке. Я спросил её об Азарове. Она сказала, что это любимый их преподаватель, профессор, доктор наук, с недавнего времени декан.
Итак, Володя Азаров взял свое: выжил, всё вытерпел, стал крупным ученым. Я рад за него; как же рады были бы его родители!
И в заключение – странная параллель, которыми вовсе не бедна наша жизнь: не так давно, изучая историю московских зданий, я вычитал, что в старом корпусе Лефортовского дворца за двести лет до Володи жил другой слабый и болезненный мальчик – российский император Петр II, внук Петра Великого, сын опального царевича Алексея, очень похожий внешне на отца. Покои юного императора могли быть только в бельэтаже, то есть там, где потом находилась квартира Азаровых. Я мысленно вижу бледного, длинноголового подростка в расшитом кафтане, неслышно расхаживающего по огромной зале, которую помню как азаровскую столовую. В этом же доме юный император умер пятнадцати лет отроду от какой-то инфекции, которая была вызвана простудой. Володя при всех превратностях своей судьбы оказался всё же счастливее своего предшественника по квартире. Интересно, знает ли всеведущий Володя о том, кто жил в стенах его детства задолго до него самого? Наверное, не знал и не знает, а то бы похвалился в свое время мне.
Примечание: из этических соображений я слегка изменил фамилию Володи.
2. Гриша Зильберберг
В пятом классе у нас появился маленький, щуплый мальчик в больших очках – Гриша Зильберберг. Из-за крайней близорукости его посадили за самую переднюю парту, примыкавшую к учительскому столу. По росту и развитию он казался намного моложе своих одноклассников.
Внешность Гриши была бы подлинной находкой для авторов антисемитских карикатур. Резко выдавались тонкий горбатый нос и острый подбородок. Заметная смуглота напоминала об аравийских предках. Но самой главной достопримечательностью Гриши были его уши: огромные, словно чужие, они были приставлены к маленькому лицу почти перпендикулярно и казались на свету розово-прозрачными. Нечто подобное я видел на злобных антисемитских листовках и плакатах, распространявшихся фашистами и встречавшихся мне впоследствии на фронте.
Однако не уши и не малый рост сделали Гришу объектом насмешек всего класса, а крайняя его несообразительность. На уроках он вёл себя смирно и дисциплированно, не спускал близоруких глаз с учителя, выслушивал всё крайне внимательно, но, вызванный для ответа, городил вздор. Вопросы, которые иногда задавал Гриша учителю, возбуждали дружный хохот. Умственная отсталость мальчика была вне сомнений.
Никто Гришу всерьез не воспринимал, более того – почти весь класс над ним издевался. Особенно издевки усилились, когда вдруг стало известно, что Гриша не моложе, а старше всех нас: нам было по 13 лет, а Грише – уже 15! Одним из злейших гонителей великовозрастного недотёпы стал я. Из всех моих гадостей, направленных в его адрес, запомнилась одна: сложив осьмушку бумаги в виде книги, я написал на обложке: «Жюль Верн. Пятнадцатилетний идиот. Повесть о Грише Зильберберге». Сей титул должен был ассоциироваться с популярной среди нас, подростков, книгой Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Но если Дик в 15 лет сумел стать капитаном, то Гриша в том же возрасте оставался идиотом – такова была идея милой шутки. Полагая, что моя выдумка очень остроумна, я пустил обложку по рядам. Попала она и к Грише, но реакция его была неясна. Вообще все наши издевательства он выдерживал стоически: не злился, не раздражался, не плакал. По-видимому, так привык, что всю жизнь его со всех сторон тюкали, что выработал в себе стойкий иммунитет.
Одной из смешных привычек Гриши была манера беспрестанно теребить пальцами волосы надо лбом. Только необходимость записать что-либо отрывала его от этого занятия. Некоторых преподавателей это доводило до белого каления. Учитель физики, рослый и громогласный хохол Бацман, то и дело прерывал свои объяснения раздраженным замечанием: «Грыша, нэ круты!» Гриша на минуту отрывал руку ото лба, но затем с новым рвением принимался за обычное свое дело.
Вероятно, кто-то из преподавателей позвонил Гришиным родителям с просьбой отучить сына от скверной привычки. Родители решили вопрос радикально: коротко остригли мальчика. Мы с интересом разглядывали остриженного Гришу: хохолка спереди как не бывало, что же он теперь будет делать? Но только начался урок, как мы увидели, что Гриша принялся за пощипывание кожи на остриженном месте. Теребление продолжалось и в дальнейшем, независимо от наличия и отрастания волос. Так как Гришины пальцы всегда были в чернилах, то верхушку лба его отныне украшало большое темно-синее пятно.
– Остается его только скальпировать, – печально заметил один из нас.
Новым удивительным открытием явилось то, что Гришин отец был не каким-либо отсталым человеком с малым образованием, а личностью весьма высокого ранга. Он носил три ромба – по-нынешнему генерал. Работал в Наркомвоенморе, занимая ответственный пост начальника капитального строительства этого учреждения или что-то вроде того.
Скромный отпрыск никогда не похвалялся положением отца, узнали мы об этом случайно. Лишь однажды Гриша проболтался, что отец общается с тогдашним начальником ВВС Алкснисом, благодаря чему сам он, Гриша, познакомился с юной дочерью знаменитого командарма, «весьма занятной дивчиной». Это неосторожное откровение вызвало новый поток издевательств. Гришу стали изображать в крайне неподходящей ему роли не то влюбленного жениха, не то коварного совратителя. Его преследовали вопросами: «Как поживает дочка Алксниса?», «А когда у вас очередное свидание?» и т. п.
Постепенно к Гришиным странностям все пригляделись, был он незлобив, не огрызался, и его оставили в покое. В моей же душе возобладало доброе начало: привычка высмеивать Гришу сменилась жалостливой симпатией. Увидев единственного в классе, проявляющего к нему доброжелательный интерес, мальчик жадно потянулся ко мне.
После уроков я иногда гулял с Гришей, беседовал с ним. Побывал и у него дома. Жили Зильберберги в одном на военных корпусов, незадолго до того выстроенных в Потаповском переулке. Руководителем этого строительства, как я много позднее выяснил, был отец Гриши. Семья – отец, мать и сын – занимали отдельную, но весьма небольшую и скромную квартиру. Как у всех ответработников, перебрасываемых в то время с места на место, квартира была обставлена спартански простой казённой мебелью. Грише была отведена отдельная комната. Он владел велосипедом и фотоаппаратом «ФЭД». И то и другое так и осталось предметом неосуществившихся мечтаний моего детства. На велосипеде Гриша катался летом где-то в Краскове, фотографией же занимался и в Москве; нередко я заставал его в темной ванной за проявлением пленки или печатанием. Фотографии были никудышними: то недодержка, то передержка и во всех случаях эмульсионные пятна на снимке. Единственной памятью о Грише остались мои фотопортреты, снятые им в десятом классе, когда мы поехали с ним гулять в ЦПКиО. Качество ниже среднего.
Гришиного отца я не видел – он вечно был на работе или в разъездах. Мать, толстая и сварливая женщина, постоянно бранила и корила сына, так что у меня даже возникло подозрение: не мачеха ли она?
Мне кажется, что родителей Гриша не любил, как и они его, не оправдавшего их надежд тупицу и неудачника. Гриша был лишен не только симпатий одноклассников, но и родительской любви – грустная ситуация для формирования личности!
В беседах с Гришей выяснилось: он не столько глуп, сколько недоразвит и ограничен. Приведу удививший меня случай:
Однажды он сообщил мне на прогулке:
– Ты знаешь, Сабйнов умер.
– Какой такой Сабйнов? Первый раз слышу.
– Ты не слышал? Такой знающий, образованный! Даже я о нем слышал, отец говорил. Это же знаменитый певец.
Тут я понял, что либо сам Гриша при чтении газеты, либо его отец неправильно поставил ударение в фамилии Собинов. Деталь, рисующая кругозор семьи высокопоставленного военного.
Любая сказанная мною банальная острота, истрепанная шутка, произнесенная вовсе не для того, чтобы рассмешить, а просто так, между делом, вызывала бурную, восторженную реакцию Гриши. Всё для него было внове, словно он явился с другой планеты, ничего не знал и не слыхал. Как-то он пригласил меня пойти после уроков в кино, я отказался, объяснив: «Не могу: мои финансы поют романсы».
Я даже испугался от неожиданности: Гриша зашелся в пароксизме неуемного, неудержимого смеха, продолжавшегося минут пять. «До чего же ты остроумен: всегда найдешь что-то новое, такое смешное, сказать. Какой же ты молодец! Как я тебе завидую».
Лексикон же самого Гриши был убийственно убог: если хорошо, значит «мирово», если плохо, то «вшиво». «Сегодня диктант будет – ну и вшиво; завтра выходной – мирово».
Гриша проявлял равнодушие к школьным премудростям, кроме разве истории и географии, хотя и на них у него не хватало памятливости и сообразительности. Единственным хобби его было изучение международного рабочего и коммунистического движения. По-видимому, отец его когда-то работал в Коминтерне, и коминтерновские идеи исподволь, но прочно проникли в Гришино сердце. Во всяком случае, он считал мировую революцию делом едва ли не завтрашнего дня. Любимым занятием юноши были подсчеты, сколько членов насчитывает та или иная компартия, сколько голосов за неё подано, как и где развивается национально-освободительное движение. Особые упования Гриша возлагал на Китай, в политической обстановке которого разбирался неплохо. Сидя за письменным столом постоянно отсутствовавшего отца, обложенный соответствующей литературой, Гриша с упорством маньяка, неутомимо и сосредоточенно пощипывая лоб, составлял сводки и диаграммы роста влияния коммунистов в отдельных странах и во всём мире.
Даже национал-социалистский переворот в Германии Гриша рассматривал как важный шаг на пути к долгожданной социалистической революции, ибо, как он объяснял мне, террор фашистов неизбежно вызовет протест рабочего класса и ускорит тем самым назревание революционной ситуации. Словом, Гриша как политик был несокрушимым оптимистом.
Мои сдержанно охладительные замечания насчет революционной ситуации Гриша встречал в штыки, они кровно его задевали. Переубедить его было немыслимо.
Не успели мы кончить школу – шел незабываемый 1937 год, – как над головой Гриши грянул гром: однажды ночью пришли и арестовали отца, а затем и мать. Гриша был не столько огорчен, сколько ошарашен: допустить даже в мыслях ошибку властей он не мог. Долго и мучительно он искал причину арестов, пока на прогулке, под величайшим секретом, не признался мне:
– Ты знаешь, наверное, основания были. Как-то сидел я над своими расчетами, подошел отец, заглянул через плечо и сказал: «Неужели ты всерьез веришь в мировую революцию?» Я был так потрясен, что ничего и ответить не мог. И это сказал участник Гражданской войны, коммунист с 1917 года!
Насчет матери он не обмолвился ни словом, да я, естественно, и не спрашивал. Мать нигде не работала, но тогда считалось естественным: жена не могла не знать о помыслах и действиях мужа, а коль скоро не донесла, стало быть покрывала и тоже заслуживала наказания.
Однако надо было подумать и о себе, о том, чтобы продолжить образование. Гриша помышлял поступить на исторический факультет, но после ареста родителей рассчитывать на это в Москве не приходилось. К тому же всё имущество семьи было конфисковано, и Грише предложили убираться из квартиры на все четыре стороны. Он поехал к дальним родственникам в Гомель с надеждой поступить там в педагогический институт. Сначала он
забрал оставленные ему личные вещи и отправился разведать обстановку. Часть вещей второстепенной важности он принес на временное хранение мне с обещанием забрать при первой же возможности. Это была связка каких-то книг и тетрадей, неаккуратно вложенная в старый, рваный портфель.
Я легкомысленно согласился хранить Гришины пожитки, за что получил от домашних сильнейший втык: в Москве свирепствовали аресты и обыски, и хранить вещи из квартиры арестованных было более чем опасно. Отец приказал мне сплавить портфель куда угодно. Но куда? Гриша был в Гомеле, бросать его заветные вещи на помойку я счел бесчестным. Тогда домашние учинили обыск Гришиного портфеля. Ничего особенного там не оказалось (ведь официальному обыску вещи уже подвергались): старые Гришины учебники и тетрадки, толстая книга сочинений Гофмана. Однако нашелся и криминал – потрепанная военная карта-десятиверстка, которая тут же была изорвана в клочья и низвергнута в унитаз.
Вскоре явился за портфелем Гриша. Оказывается, родственники помогли ему сдать экзамены в педагогический институт; Гриша, хоть и на тройках, но прошел. Бесспорно, тамошние кадровики полностью утратили бдительность, так как порядочный Гриша не мог соврать в анкете и автобиографии о родителях. Наверное, делу помогло и то, что в институте был недобор» особенно лиц мужского пола, Гриша же был стопроцентный белобилетник, но зато мужчина. Так Гриша на свое горе стал гомельским студентом.
С тех пор наше знакомство свелось к жиденькой переписке. Последнее письмо, насколько помню, пришло в начале 1941 года. Оно пролежало у меня всю войну, потом я его выкинул, как исключительно глупое и неинтересное. Гриша делился впечатлениями от просмотренного им и неведомого мне историко-революционного фильма. По поводу какой-то детали высказывалось сомнение и запрашивалось мое мнение: что-то вроде того, могла ли конная Буденного быть в Касторной в 1918 году, если Кастор-* ная была взята только в 1919 году» – словом, нечто в этом духе. Земные дела, личные успехи по-прежнему мало занимали Гришу, на первом плане стояла минувшая Гражданская война и предстоящая мировая революция.
С тех пор ничего о Грише ни я и никто из моих одноклассников не слышали.
Нередко я размышляю о его дальнейшей судьбе, стараясь мыслить реально, не впадая в фантазии. Если бы Гриша остался жив после войны, то непременно побывал бы в Москве и заглянул ко мне, хотя бы написал письмо. Квартиру мы не меняли.
Бесспорно, он погиб уже в 1941 году. Но как?
Представляется такое: наступило 22 июня. Гриша – студент Гомельского пединститута. В армию его, 23-летнего, не берут: белый билет, скверное зрение и слабое сердце. Вряд ли он пригодился даже для рытья противотанковых траншей. Из-за крайней непрактичности, пассивности и благодушия ни в какой эшелон с эвакуируемыми Гриша пристроиться не мог. Стало быть, к приходу гитлеровцев в Гомель он оставался в городе. Лучшим исходом для него была бы гибель при бомбежке. Но, скорее всего, случилось иное.
Как только немцы развесили по городу приказ о явке всех евреев на регистрацию, Гриша послушно поплелся в указанное место. Внешность его вызывает злобные насмешки гитлеровцев: «Швайнеюде», – кричат ему вслед. Гриша и в те часы продолжает считать все происходящее грандиозным историческим недоразумением: немецкий рабочий класс, одетый в зеленые шинели, вот-вот поймет, что его предали и обманули, осознает свою ошибку и повернет оружие против поработителей. Ведь за плечами у германского пролетариата величайшие революционные традиции, миллионы голосов, поданные за коммунистов.
У одного из конвоиров, кажется Грише, добродушное лицо, это явно свой. «Тельман, рот-фронт», – говорит ему Гриша, но в ответ получает удар прикладом по голове. Сваливаются очки, солдат наступает на них сапогом – «крак», очки рассыпаются вдребезги. Вместе с тысячами гомельских евреев – стариков, женщин, детей – Гришу выгоняют за город и заставляют рыть себе длинные рвы-могилы. Люди плачут, молятся, но Гриша сравнительно бодр, его спасает собственная ограниченность. Он не верит, что казнь свершится, даже когда обреченных выстраивают вдоль рвов и гитлеровцы вскидывают автоматы. Полуслепому Грише кажется, что тут-то обманутые немецкие солдаты повернут их против фашистов-офицеров, над немцами взовьется неведомо откуда взявшееся красное знамя, раздастся пение «Интернационала» и восставшие солдаты вместе с приговоренными прошествуют победной демонстрацией обратно в город под лозунгом «Да здравствует социалистическая революция в Германии!»
Последнее, однако, что слышит маленький Гриша, – это команда «файер» и треск автоматов.
Несколько тысяч мирных жителей, преимущественно евреев, уничтожили гитлеровцы в Гомеле. Уверен: в одной из братских могил покоятся останки бедного Гриши Зильберберга, незлобивого и неудачливого представителя моего многострадального поколения.
3. Олег Большаков
Он явился к нам в начале учебного года в восьмом классе – хорошенький сероглазый мальчик с нежным личиком. К девятому классу Олег подурнел: безмерно вытянулся, черты лица огрубели, но добрая, светлая улыбка никогда не покидала его. Крупная, породистая голова, посаженная на детские плечи, делала их еще более узкими.
В девятом классе нас посадили рядом. Новый сосед оказался приятным в общении: ровным, приветливым, добродушным. Ничто, казалось, не могло вывести его из себя: ни учебные неудачи – учился он, как и я, весьма посредственно, ни домашние невзгоды. Из фамилии Большаков родилась кличка Большак, вскоре по созвучию переиначенная в несправедливое и обидное Ишак. Нисколько не обижаясь, он откликался.
Однажды он не без гордости поведал мне, что на самом деле фамилия у него двойная: Большаков-Лёвшин. Родной отец его, Большаков, давно умер, усыновил Олега отчим, инженер Лёвшин. Эта маленькая деталь окажется нелишней для дальнейшего рассказа. А мать его, добавил Олег, по национальности полька.
Учиться нам обоим было одинаково скучно. На уроках мы занялись увлекательной игрой. Крышки нашей старой парты кто-то еще до нас избороздил прихотливо извивающимися желобками, наподобие тех, что вытачивает жук-древоточец. По ним приятно было катать кончик карандаша. Разумеется, мы вообразили желобки железнодорожной сетью, ездили по ним карандашами взад-вперед, а затем приступили к совершенствованию: спрямляли и соединяли узлы новыми линиями, которые незаметно от учителей продалбливали ножичками во время уроков. Таким образом наклонные плоскости нашей парты превратились в подобие географической карты. Мы разделили её надвое – у каждого оказалась собственная страна с ямками, означавшими города, железнодорожными линиями и провинциями. Прямо от чернильницы, книзу, протянулась граница. Олег сидел около правой стены, я – слева от него. Правый мой локоть во время писания занимал ненужную Олегу левую нижнюю часть его территории; при демаркации эта провинция, названная Экстрема (крайняя), согласно «обычному праву», то есть традиции, отошла к моему государству.
Само собой разумеется, что обе смежные страны состояли в оживленных дипломатических отношениях. Наносились государственные визиты, заключались договоры, делались демарши. Всё это отражалось в газете, освещавшей события в юмористическом тоне, – пародия на настоящую прессу. Стыдно вспомнить, но оба великовозрастных балбеса, вместо того чтобы готовиться к окончанию школы и беспокоиться о своем будущем, изо дня в день увлекались детской игрой. Однажды наш любимый учитель истории Оранский поймал нас на обмене какими-то дипломатическими нотами, эти государственные документы изъял, глубокомысленно при этом процитировав: «Так в ненастные дни занимались они делом». Но игра продолжалась.
В отличие от окружавшего нас Большого мира, наш партовый мир мы назвали Малым миром. Что греха таить – в нем, несмотря на неизбежные трения, мы чувствовали себя уютней. У Малого мира был свой счет времени: обычная неделя превращалась в год. Так, если тот или иной президент избирался на маломирские четыре года, то по обычному земному летосчислению это составляло четыре недели. Столь же эфемерны были сроки действия договоров. Жизнь в Малом мире текла в 50 раз быстрее, чем в Большом, зато спокойнее.
Вскоре оба сообразили, что длительное мирное соседство двух государств в современной обстановке ненормально, и решили развязать войну. Для этого мы перенесли территории наших па́ртовых государств на большой планшет с миллиметровой сеткой. Разработали правила: суть их была в том, чтобы, поочередно делая ходы, то есть проводя черточки, означавшие движение войск, графически завоевать территорию противника. Условий для ведения войны в классе не было. Мы решили воевать у Олега Большакова дома, по воскресеньям.
Еще до того я побывал у него и познакомился с его домашними. Олег жил в большой, перегороженной ширмами и шкафами комнате коммунальной квартиры на Тверском бульваре. С ним жили мать и маленькая сестренка Нелли. Отчима я никогда не видал: вроде он жил здесь и не жил. Висели его пиджаки и плащи, но сам глава семьи постоянно отсутствовал. Инженер Лёвшин участвовал в Первой мировой войне (впрочем тогда она одна и была), и Олег показывал мне интереснейшие трофеи: немецкую каску с шишаком, часть ложа с затвором от трехлинейной винтовки, чей-то штык.
В комнате царил хронический беспорядок; мать Олега, маленькая проворная женщина, беспрестанно куда-то бегала, исчезала и вновь появлялась, что-то готовила, прибирала, теряла и находила, но вся её бурная деятельность никаких видимых результатов не приносила, а скорее способствовала усилению хаоса.
Нормальное питание в семье отсутствовало. Иногда мать вдруг вспоминала об обеде и срочно начинала готовить на керосинке гречневую кашу. Каша при этом пригорала. Нелечку временами кормили молоком с бубликами. Голодный Олег то и дело схватывал и жевал ломоть хлеба. Посуда была разномастной, плохо вымытой и щербатой. Другой наш одноклассник, побывавший у Олега в гостях, рассказывал мне, что однажды мамаша подала им на обед кашу, сваренную в ночном горшке. «Не беспокойтесь, – говорила она гостю, – горшок ни разу не использовался по назначению. Я купила его задешево специально для варки пищи. Очень удобно оказалась».
Тем не менее гость есть кашу из ночного горшка отказался. Я не привел бы этого анекдота, если бы рассказчик не отличался редкостной правдивостью, а то, что я наблюдал сам, не исключало подобного рода факта.
Случайная утварь, собранная в комнате Большаковых, отличалась старорежимно-мещанским пошибом: ширма, расшитая аистами, картинки салонного содержания (например, слащавый брюнет с ровным пробором ломает руки перед неприступной красавицей), разрозненные номера журналов «Солнце России» и «Новый Сатирикон» за 1916–1917 годы, граммофон без трубы с пластинками сплошь дореволюционного выпуска в плотных обложках торгового дома «Братья Пате»: танцы, романсы и арии из оперетт. Олег уверял меня, что мать его когда-то обладала хорошим голосом и выступала публично. Не знаю, так ли это было, но вкусы и репертуар этой женщины хорошо себе представляю по пластинкам: «Крики чайки белоснежной», «Гайда, тройка», «Жажду свиданья, жажду лобзанья» и всё в таком духе.
Любимой музыкой Олега был вальс из оперетты Легара «Граф Люксембург». Хриплый голос пел из граммофона, а Олег подпевал:
Прочь тоску, прочь печаль, Я смотрю смело вдаль, Скоро ты будешь, ангел мой, Моею маленькой женой.Любопытное существо являла собой единоутробная сестра Олега Нелли. Было ей тогда три-пять лет: хрупкая, с голубой жилкой у виска, с двумя белокурыми косичками. Крошечная девочка почему-то сразу же прониклась ко мне клокочущей ненавистью, хотя поводов к этому я, видит Бог, не давал. Тем не менее при моем появлении глаза её вспыхивали злобой и она начинала нарочито громко и отчетливо декламировать:
Рвать цветы легко и просто Детям маленького роста, Но тому, кто так высок, Нелегко достать цветок,Я не знал до того этих стихов Маршака, но, увидев у Большаковых книжку с ними, понял: смысл декламации состоял в том, чтобы дать мне понять мое близкое сходство с жирафом. Четверостишие, словно фуга, исполнялось непрерывно, на разные голоса, в различных вариациях, но всегда с усиленной выразительностью, преследующей целью уязвить меня до глубины души.
Вот мы играем с Олегом, о чем-то беседуем, а из Неллиного угла доносится в виде немыслимых рулад и пассажей: «Рвать цветы легко и просто» и т. д.
Наконец Олег не выдерживает и кричит:
– Нелька, перестань! Уши оторву.
Но девчонке только приятно, что на нее рассердились, – жаль только, что не я. Сначала тихо, как бы про себя, потом всё более громко и нагло она возобновляет: «Но тому, кто так высо-о-ок…»
В этом распевном «высо-о-ок» слышалась такая ненависть, какую в жизни, даже позднейшей, никто никогда ко мне не испытывал.
Взрослея, Олег всё больше заботился о своей внешности. Его щегольство было каким-то неполным, однобоким: старательно причесанные и смазанные бриолином волосы сочетались с немытой шеей, аккуратно разглаженные брюки («в стрелочку») – с плохо вычищенной обувью. То ли по бедности, то ли по особому пристрастию он чаще всего носил кургузый темно-синий пиджачок с накладными плечами и скругленными бортами. Брюки были много светлее. «В этом весь шик», – поучал он меня.
Однажды, придя к приятелю, я застал его в особо приподнятом настроении. Заговорил о том, о сём, но Олег явно ожидал от меня другого:
– Ты что, не замечаешь?
– А что я должен заметить?
– А галстук!
Тут я заметил, что на нем какой-то необыкновенный светло-зеленый галстук с узорами в виде инея. Олег упоенно дал мне его разглядеть и пояснил:
– Галстук редчайший. Называется «Заморозки в июне».
Мы пошли прогуляться по бульвару, но разговор не клеился. Олег был весь поглощен своим галстуком и жадно ловил взгляды встречных. Словно гоголевский Нос, представлявший собой прежде всего нос, Олег в эти минуты представлял собой главным образом галстук.
А как же закончилась наша война на парте? Олег первым же ударом занял мой важнейший оборонительный пункт в провинции Экстрема. Провинция эта была своего рода Эльзас-Лотарингией, основной спорной территорией. Далее я стал действовать более осмотрительно и не допускал продвижения Олегова войска в глубь своей страны. Война приобрела нудный позиционный характер и вскоре нам наскучила. Мы торжественно заключили мир, по которому Экстрема отходила Олегову государству. Но, поскольку провинция эта не на карте, а на парте была крайне необходима моему правому локтю, великодушный Олег согласился передать мне её безвозмездно в долгосрочную аренду – на сто маломирских года, то есть почти на два общечеловеческих, большемирских. Нормальные отношения между обоими государствами, остававшиеся – неслыханное дело! – вполне дружескими даже в ходе военных действий, были восстановлены.
Как-то Олег пригласил меня на дачу, которую семья снимала в Переделкине. В утлой дачной комнате царил такой же хаос, как и в московской квартире. Олегова отчима я и там не увидел. Нелька играла с кошкой, пытаясь повязать ей шею ленточкой, а увидев меня, сразу же надулась и начала свое осточертевшее «Рвать цветы легко и просто». Мать бегала взад-вперед без всякого видимого толка. Мы с Олегом погуляли, пропололи тощую грядку е огурцами. Говорить стало уже не о чем, к тому же страшно захотелось есть. Но обеда вроде бы и не предвиделось. Солнце стремительно спускалось к горизонту, Я пожевал на огороде перьевого лука, но без хлеба его много не съешь. Настал момент, когда я согласен был съесть что угодно, даже из ночного горшка. Нельку чем-то накормили, а нам с Олегом уже в седьмом часу мать подала жидкого чая с бутербродами. Теперь догадываюсь: скуповатая женщина надеялась на то, что я уеду до обеда. После чая Олег проводил меня на станцию. Он был необычно грустен и молчалив и, как мне кажется, не только от голода. Больше я на дачу к Большаковым не ездил, да меня и не звали.
Олег увлекался морским флотом, особенно военным. Прочитав кучу книг на эту тему, он мог по силуэту определить любое судно: крейсер, линкор, эсминец, тральщик и т. п., знал их скорости, вооружение» водоизмещение. Естественно, что по окончании школы он избрал кораблестроительный институт. Успешно сдав экзамены, Олег покинул неуютный материнский кров и переселился в Ленинград. Следующим летом он наведался в Москву. Кажется, студентам этого института форма не была положена, но голова Олега украсилась флотской фуражкой с крабом. Носил он её с той же гордостью, что и галстук «Заморозки в июне». Будущий корабел много рассказывал мне о своем лихом и вольном ленинградском житье-бытье, щеголял морскими словечками. Особенно много говорилось о танцевальных вечерах во дворцах культуры, которые Олег посещал чуть ли не ежедневно и где пользовался у девиц большим успехом. Завязывались и быстро прекращались легкие романы, в тоне Олега появились донжуанские нотки. Женщин он снисходительно именовал «женскополыми» – слово, от которого меня коробило.
Весной следующего года Олегова мать сообщила мне по телефону, что Олег заболел открытой формой туберкулеза легких и находится в Москве» в Мариинской больнице, хочет меня видеть. В воскресенье с мрачным чувством я отправился в эту больницу, известную тем, что в ней родился один знаменитый человек (Достоевский), зато умерли десятки тысяч незнаменитых. Я ожидал увидеть умирающего, но приятель мой лежал на своей койке хотя и бледный, но спокойный и даже веселый; рядом с койкой висела его капитанка. Дело как будто бы шло на поправку. Олег ни разу не кашлянул, зато не умолкая говорил. Незадолго до того фашистская Германия коротким ударом оккупировала Данию и Норвегию. Олег восхищался мощью немцев и уповал на то, что скоро они расправятся и с такими прогнившими странами, как Англия и Франция. В то время выражение таких симпатий у нас вовсе не считались крамолой, я слышал подобное не только от Олега. Ведь СССР заключил договор о ненападении, а затем и о дружбе с фашистской Германией, а западные державы в газетах неизменно именовались «плутократами». Не разделяя восторгов Олега, я не стал перечить больному, расстались мы сухо.
В больничном вестибюле я встретил мать Олега вместе с рослым, красивым мужчиной лет под пятьдесят, у него было четкое, энергичное лицо.
– Инженер Лёвшин, – представился он мне. Далее я стал свидетелем безобразной сцены. Не стесняясь ни меня, ни других присутствующих, супруги (или бывшие супруги) стали осыпать друг друга такими злобными оскорблениями и обвинениями, каких я в жизни от интеллигентов не слыхал. Я поспешил уйти, но подумал: так вот в какой обстановке довелось жить Олегу, сколько же таких стычек ему пришлось увидеть и услышать! И никому, никогда он об этом не говорил, никогда не жаловался на судьбу!
В этой связи я вспомнил: на этажерке в квартире Большаковых в небольшой резной рамке стоял портрет молодого офицера с погонами, кажется, прапорщика. Лицо было юным и нежным – точная, но несколько улучшенная копия Олега;
– Это мой отец, – сказал мне приятель не без грусти.
Много позднее я понял: Олег – 1920 года рождения, стало быть, зачат он был в 1919 году. Погоны в то время носили только белогвардейцы. По словам Олега, мать его служила в те годы сестрой милосердия где-то на Украине. Картина прояснилась: быстротечный роман и брак молодого деникинского офицера с сестрой милосердия «Добровольческой армии». Погиб ли отец Олега – еще вопрос. Быть может, он оказался в эмиграции.
Накануне Великой Отечественной войны мать Олега арестовали и выслали из Москвы. «Как польку», – объяснял Олег. Объяснение убедительное: поляки в те годы считались нацией неблагонадежной, и от них тщательно «очищали» крупные города. Вскоре Олег был отчислен из института – не из-за матери, а по состоянию здоровья. Его карьера как кораблестроителя так и не состоялась. Не состоялась и жизнь.
В первые годы войны, когда я был уже в армии, Олег несколько раз, на правах приятеля, бывал у моих родных. Его кормили чем Бог послал – парень был истощен, ел много и жадно. Сейчас соображаю: ходил явно, чтобы поесть. Военного адреса моего он, кажется, не просил, а если просил, то всё равно не написал ни строки. Не осуждаю его ничуть: не до меня ему было. Жилось Олегу в военной Москве туго – работал почтальоном, на руках оставалась подрастающая Нелька. Семья была разрушена вконец.
Не то в 1943, не то в 1944 году я получил известие: Олег умер в больнице от туберкулёза лёгких.
Среди сотен тысяч жестоких военных смертей тихий уход из жизни Олега в разгар войны прозвучал еле слышным капельным всплеском. И всё же весть больно кольнула меня. Ведь жить ему хотелось не меньше, чем его ровесникам, с пользой для общего дела погибавшим на фронте.
Стоило ли ему родиться и жить, мучаясь, уложив свое бытие в короткий промежуток между двумя войнами? Случайное дитя
Гражданской войны, он стал косвенной жертвой войны Отечественной. Он ничего не успел дать обществу, но немногое от него и взял. «Вкушая, вкусих мало меда…»
Спасался он тем, что искал в жизни только хорошие, приятные черты, от плохого просто отворачивался. Но плохое постепенно окружило его со всех сторон, поворачиваться было уже некуда.
До сих пор слышится в памяти его голос: «Прочь тоску, прочь печаль, я смотрю смело вдаль». А даль оказалась для него вовсе не дальней и отнюдь не радостной. И всё-таки родиться ему, наверное, стоило. Он жил надеждой, которую Пушкин назвал верной сестрой несчастья. А если надеялся до последнего, стало быть, совсем несчастным не был[44].
Неисповедимы судьбы людские. Под старость лет становишься фаталистом – представляешь себе человека чем-то вроде шарика на китайском бильярде. Пущенный чьей-то рукой, он стремительно летит, отскакивая от бортов и перегородок то влево, то вправо, взмывая то вверх, то вниз, делая бессмысленные и сложные круги, чтобы наконец – рано или поздно – попасть в уготованный загончик или лунку с большой или малой цифрой. Но, видимо, в этом беге, независимо от конечного результата, и заключается смысл жизни каждого из нас.
Примечания
1
Хитровка – местность между Яузским бул. и ул. Солянкой, в районе пересечения Подколокольного и Петропавловского переулков. Здесь в XIX – начале XX в. находился Хитров рынок окруженный многочисленными ночлежными домами, трактирами и чайными, в которых обитали представители московского «дна».
(обратно)2
речь пдет 0 сыне Никиты Сергеевича Хрущева (1894–1971) – видного государственного деятеля СССР. В 1935–1939 гг. Н. С. Хрущев был первым секретарем Московского комитета Коммунистической партии, а в 1953–1964 гг. возглавлял Коммунистическую партию СССР, занимая пост первого секретаря ее Центрального комитета. Уже после снятия Хрущева с этой должности первый секретарь ЦК КПСС стал именоваться генеральным секретарем или сокращенно генсеком.
(обратно)3
После восстановления в 1990 гг. старых московских названий Свиньинский, а с 1929 г. Астаховский пер. стал именоваться Певческим – так он назывался до XVIII в.
(обратно)4
В 1990 г. станция метро «Калининская» была вновь переименована. Теперь она называется «Александровский сад».
(обратно)5
С 1990 г. название этой станции «Чистые пруды».
(обратно)6
Имеется в виду здание, в котором до 1917 г. располагалась Городская дума (пл. Революции, дом 2). После Октябрьской революции в нем вначале размещался 2-й Дом Моссовета, позднее – Московский городской совет профсоюзов, а с 1936 до 1990-х годов – Центральный музей В.И. Ленина.
(обратно)7
Сухарева башня, сооруженная по инициативе Петра I в 1692–1695 гг. и снесенная в 1934 г., располагалась на пересечении Сретенки с Садовым кольцом.
(обратно)8
Храм Христа Спасителя, сооруженный в 1839–1883 гг. в память о победе России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г., в 1931 г. был взорван, а в 1995–2000 гг. вновь построен.
(обратно)9
Стоявшие у въезда на Красную площадь Воскресенские (Иверские) ворота (1680 г.) и находившаяся возле них часовня И вере кой Богоматери (1781 г.) в 1929–1931 гг. были снесены, а в 1995 г. вновь восстановлены.
(обратно)10
В настоящее время проспект, соединяющий Комсомольскую и Тургеневскую площади и именовавшийся в ходе строительства Новокировским, назван проспектом Академика Сахарова.
(обратно)11
С 1932 г. по 1992 г. улицей Горького называлась магистраль, состоящая из Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. В настоящее время восстановлены прежние названия этих улиц.
(обратно)12
Сооружение Дворца Советов велось в 1937–1941 гг. в районе нынешней станции метро «Кропоткинская» (по этой причине до 1957 г. она именовалась «Дворец Советов»), на месте снесенного в 1931 г. Храма Христа Спасителя. В 1958–1960 гг. вырытый еще до войны котлован был использован при строительстве открытого плавательного бассейна «Москва», который просуществовал до 1994 г. Затем на месте бассейна был вновь сооружен Храм Христа Спасителя. В 1957–1959 гг. предполагалось все же построить Дворец Советов, однако уже в другом месте – на Ленинских (в настоящее время – Воробьевых) горах.
(обратно)13
Впоследствии в этом здании помещался Госплан СССР, а с 1993 г. находится Государственная дума Российской Федерации
(обратно)14
Закладной камень на месте, где предполагалось соорудить памятник в честь 50-й годовщины Октябрьской революции, простоял более 20 лет, пережив, в частности, 70-ю годовщину этой даты. В 1992–1997 гг. Манежная площадь была полностью реконструирована: под ней был сооружен трехъярусный подземный торговый центр, а на поверхности площади – сквер.
(обратно)15
В 1996–1997 гг. на этом месте был сооружен памятник Петру I работы скульптора З.С. Церетели.
(обратно)16
До 1924 г. и с 1992 г. название улицы – Долгоруковская.
(обратно)17
Коба – партийный псевдоним, который в молодости носил И.В. Сталин.
(обратно)18
В.П. Ногин (1883–1924), Л. Б. Красин (1870–1926), М.В. Фрунзе (1885–1925) – видные партийные и государственные деятели Советского Союза, в честь которых в 1920—1930-е гг. были названы площадь и улицы в Москве. В начале 1990-х гг. пл. Ногина и ул. Фрунзе были возвращены их прежние названия: пл. Варварские Ворота и ул. Знаменка (часть прежней пл. Ногина ныне называется Славянской площадью), улица Красина свое название сохранила.
(обратно)19
В.Л. Дуров (1863–1934) – знаменитый клоун-дрессировщик, основатель известной цирковой династии; в 1912 г. основал в Москве Уголок Дурова (ныне – Театр зверей им. B.Л. Дурова).
(обратно)20
ВОКС (1925–1958) – Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.
(обратно)21
До 1922 г. и в настоящее время – Большой Трехсвятительский переулок.
(обратно)22
Современное название станции – «Чистые пруды».
(обратно)23
В 1960 г. просуществовавшие с 1798 г. Покровские казармы были закрыты, а в их здании стали размещаться различные гражданские учреждения.
(обратно)24
С 1992 г. ул. Герцена, названной так в 1920 г., возвращено ее прежнее название – Большая Никитская.
(обратно)25
Фребеличка – воспитательница детей дошкольного возраста по методу немецкого педагога Фребеля.
(обратно)26
До 1927 г. и в настоящее время – Мил юти некий переулок.
(обратно)27
До 1928 г. и в настоящее время – Большой Путинковский переулок.
(обратно)28
Теперь в здании бывшего Камерного театра (Тверской бульвар, 23) помещается Драматический театр им. A.C. Пушкина. Камерный театр был основан в 1914 г. выдающимся российским режиссером – реформатором сцены А.Я. Таировым, в нем играла известная актриса
А. Г. Коонен. В советское время театр неоднократно подвергался грубой критике со стороны властей и в 1950 г., в период «борьбы с низкопоклонством перед Западом», был закрыт.
(обратно)29
До 1920 г. и в настоящее время – Большая Никитская.
(обратно)30
Здание Арбатского рынка было построено в 1932 г. В 1941 г. оно было разрушено гитлеровской бомбой.
(обратно)31
В 1952 г. памятник Н.В. Гоголю работы скульптора H.A. Андреева был перенесен во двор дома № 7 по Никитскому бульвару, а на его месте на Гоголевском бульваре был установлен другой памятник – работы Н.В. Томского.
(обратно)32
«Дворец труда» размещался на Москворецкой набережной, в бывшем Воспитательном доме. Позднее в этом здании находилась Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского (1938–1997 гг.), а в настоящее время – Военная академия им. Петра Великого.
(обратно)33
«Синяя блуза» – существовавший в СССР в 1920–1930 гг. жанр агитационных театрально-эстрадных представлений.
(обратно)34
До 1932 г. и в настоящее время – Большой Златоустинский переулок.
(обратно)35
Церковь Успения на Покровке, стоявшая на углу Покровки и Потаповского переулка, выдающийся памятник московского барокко, сооружена в 1696–1699 гг., в 1935–1936 гг. снесена.
(обратно)36
М.М. Фокин (1880–1942) – известный русский артист балета и балетмейстер.
(обратно)37
С 1951 г. – Центральный театр Советской Армии, с 1993 г. – Центральный театр Российской Армии. Расположен по адресу: Суворовская пл., дом 2.
(обратно)38
В настоящее время, после восстановления старых московских названий, это киновидеоцентр «Дом Ханжонкова» на Триумфальной площади.
(обратно)39
Современное название пл. Свердлова – Театральная площадь. На месте кинотеатра «Стереокино» в настоящее время находится одна из секций гостиницы «Москва».
(обратно)40
С 1932 г. парк стал называться Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.
(обратно)41
Ленинские горы – до 1924 г. и с 1991 г. Воробьевы горы.
(обратно)42
Имеется в виду выставочный центр, который в 1939–1958 гг. именовался Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой (ВСХВ), в 1958–1989 гг. – Выставкой достижений народного хозяйства (ВДНХ), а с 1989 г. – Всесоюзным (позднее Всероссийским) выставочным центром (ВВЦ).
(обратно)43
В 1957 г. 1-я Мещанская улица и продолжающие ее улицы, включая часть Ярославского шоссе, образовали единую магистраль – проспект
Мира,
(обратно)44
Не могу не написать о том, как много лет спустя только что рассказанная история получила неожиданное для меня, сына автора этой книги, продолжение. Вскоре после кончины отца я был приглашен в один из московских вузов на временную должность председателя государственной экзаменационной комиссии по русскому языку и литературе. В состав комиссии, которая принимала экзамены у выпускников филфака, входила и незнакомая мне пожилая женщина Нелли Владимировна Т., доцент кафедры педагогики. В последний день нашей работы Нелли Владимировна неожиданно подошла ко мне и спросила, жив ли мой отец. «Если я не ошибаюсь, – сказала она, – я была с ним знакома. Точнее не я, а мой покойный брат, Олег Большаков. Он учился с Юрой Федосюком в одном классе». Я подтвердил, что мой отец и есть тот самый Юра Федосюк, который дружил с Олегом Большаковым, и что, как это ни странно, из рукописи воспоминаний отца я знаю кое-что не только об Олеге Большакове, но даже и о ней, Нелли Владимировне. А воспоминания эти я, конечно же, могу дать почитать. «Впрочем, – вовремя спохватился я, – не обижайтесь, если кое-что в них покажется вам не совсем справедливым, ведь это воспоминания о далеком прошлом, а вы тогда были совсем маленькой девочкой». Мы договорились, что в ближайшие дни я непременно сделаю ксерокопию главы «Три моих одноклассника» и сразу же дам об этом, знать. Однако когда через несколько дней я позвонил по телефону, моя новая знакомая сказала, что надолго уезжает на дачу, но что она непременно свяжется со мной, когда закончится время отпусков. Кончилось то давнее лето, наступил новый учебный год, но обещанного звонка я так и не дождался. И, признаться, вскоре забыл о нашем договоре, а потому тоже Нелли Владимировне не позвонил. Может быть, она потеряла мой номер телефона? Но ведь его легко можно узнать в деканате филфака. Очень похоже на то, что героиня этой главы просто побоялась возвращения в свое далекое прошлое…
(обратно)




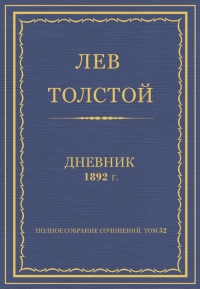
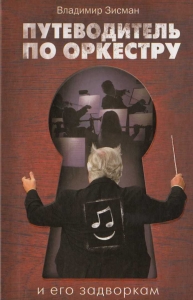

Комментарии к книге «Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов», Юрий Александрович Федосюк
Всего 0 комментариев