Г. Ф. Шолохов-Синявский Отец
Сыновьям и внукам посвящаю
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Садовник
Первое воспоминание мое об отце связано с картиной весеннего половодья в южной степи.
Солнечный, ослепительный день середины марта. Примостившийся над оврагом степной хутор точно вынырнул из снежных сугробов. Неопрятные глинобитные и каменные постройки греют на солнце свои промерзшие за суровую зиму, насквозь отсыревшие, почернелые стены. Теплый ветер разносит всюду крепкий, как спирт, запах сваленного в кучи навоза, мятный, чуть уловимый дух талого снега, полой воды и древесной коры из раскинувшегося по склонам балки сада. В балку с ревом и клокотанием сбегают ручьи, а сама она, пересыхающая в летнюю пору до илистого дна, разыгралась не на шутку — по ней мчится не ручей, а настоящая река влечет в своих бурых волнах скачущие обломки грязного льда и комья снега.
Отец несет меня на руках и говорит что-то о весне, о солнце, о прилетевших из дальних стран скворцах, о грачах, уже начавших вить гнезда на старых тополях и могучих столетних вербах.
Мощный хор звуков, значения которых я еще не понимаю, оглушает меня, то пугает, то наполняет неиспытанным восторгом и радостью новизны. Крепче прижимаюсь к широкой груди отца и замираю от восторга и страха, когда он вброд переходит широкий беснующийся ручей, минуя кувыркающиеся льдины.
— Не боись, сынок, не боись, — утешает он ласково.
Вдруг левая нога отца проваливается в яму, он теряет равновесие, и оба мы чуть не плюхаемся в холодные грязные волны. Я отчаянно вскрикиваю. Но в ту же секунду отец делает усилие и ловко выскакивает на вязкий берег ручья. Он забавно дрыгает ногой, выплескивая из голенища высокого сапога воду, ахает и смеется.
А солнце греет все теплее. От мокрой земли поднимается пар. Кудрявые облачка бегут по черной пахоте, точно отары белых барашков. Степь дрожит, переливается перламутром, искрится в серебряных лучах. И мне кажется: отец уже не рассказывает о весне, а поет о ней еще не слыханную веселую песню.
И вот мы в старом огромном саду. Это лишь малая часть обширного имения богатого армянина Адабашева. Здесь отец работает садовником, он обыкновенный батрак «на своих харчах». Таких батраков в экономии сотни, но я об этом ничего не знаю, все окружающее я воспринимаю как нечто принадлежащее только отцу и мне. Отец — владыка всему: неисхоженному саду с таинственными и бесконечными, как казалось мне, аллеями, подступающим со всех сторон необозримым полям, весеннему яркому небу, ручьям и грачиным стаям.
В саду еще мокро, кое-где в ложбинах лежит темный, ноздреватый снег. От него сквозит холодом. Деревья с набухшими почками еще голы, но в воздухе удивительно хорошо пахнет чем-то свежим и хмельным до головокружения.
Среди ошеломляющих меня впечатлений весны главное — отец, сильный, добрый, всезнающий повелитель мира. Это он привел откуда-то весну, о ней он говорит ладными древними стихами. Я хорошо помню эти стихи, потому что отец произносил их не раз:
Весна-красна, ты с чем пришла? С ярым солнышком, с цветами, С ручьями, грачами, скворцами. А у весны на боку лукошко С житом, просом, пирогами…И я словно вижу румяную красну девицу в панёве и алом сарафане. Она идет по земле и сыплет из лукошка крупные пшеничные зерна, разбрасывает по полям алые и белые тюльпаны…
Таково мое первое воспоминание об отце. И последующие картины детства и отрочества, то светлые, то печальные, в которых отец — главное действующее лицо, также связаны с ощущением природы: степи, стареющего сада, млеющих в зное далей, словно застывших в дреме курганов, извилистых балок, величественно-страшных степных гроз, тягучих осенних дождей, зимних стуж, метелей и вьюг…
Я помню несколько профессий отца, но, кажется, он умел делать все, что было нужно, — был, как говорится, мастер на все руки. У себя на родине, в далекой Орловщине, где он начинал трудовую жизнь юным батрачонком у помещика, он освоил главную свою специальность — садовника. Быть садовником в богатом имении значило не только уметь сажать и растить деревья, фруктовые и декоративные, подчас экзотические, очень прихотливые и нежные, но и разбивать цветники, украшать ковровые и узорчатые клумбы, ухаживать за диковинными орхидеями и пальмами в оранжерее, выращивать розы, отбирать и холить гладиолусы, амариллисы, лилии и тюльпаны — ответственное и трудное занятие, особенно когда барин и барыня привередливы и любят похвастать своими садовыми диковинками перед гостями.
От отца я узнавал немало горького из его прошлой батрачьей жизни. Старший садовник, из обруселых немцев, был учитель отличный, но и по-стародавнему жестокий — не раз пускал в дело садовые грабли или мотыгу, от чего руки молодого работника покрывались не только мозолями, но и синяками, и ссадинами.
Отец рассказывал, как однажды, когда он работал еще у орловского помещика Ханыкова, кем-то из помощников главного садовника были перепутаны семена ценных цветов и посеяны глубже, чем это полагалось. Мельчайшие семена, как видно, погибли под излишне толстым слоем земли и не взошли. Из страха быть наказанным помощник свалил вину на ни в чем не повинного отца.
— Гляжу, ранним утречком, солнышко только что взошло, — рассказывал отец, — бежит из дома барыня, как спала: в ночном белом капоте, босая, волосы распатланы — ведьма ведьмой. Прибежала, склонилась над грядкой и давай разрывать землю, как собака лапами. А пальцы у нее белые, длинные и все в брильянтах. А сама, поди, не убоялась в земле их запачкать, роет и приговаривает: «Ах, мои любимые лакфиоли! Ах, мои милые лакфиоли!» Вскочила, красная, как спелый стручковый перец, а на губах альни пена закипела от злости, и спрашивает: «Кто виноват?» — «А вот он, — показывает на меня младший садовник. — Он семена загубил: посеял да землей присыпал». А их-то, лакфиоли эти, покрывать толстым слоем нельзя — уж больно мелки, как пыль, ихние семена. Я стал говорить: не я, мол, виноват. Так куда там! Садовнику поверила да тут же схватила лопату да лопатой и отдубасила меня по спине. Вот какие были барыни!
Военная служба прервала работу у помещика Ханыкова на четыре года. Вернувшись с военной службы, отец застал дома, в крестьянской обнищалой семье, пущую бедность и разорение. И хотя отец и предки его принадлежали к так называемым государственным «свободным» крестьянам и никогда не были крепостными, жизнь их мало отличалась от крепостной.
Земли было — ступишь шаг — оглянешься, да и была она худая и отощалая. Недороды из года в год, прадедовская вспашка сохой да сев вручную из лубяного лукошка приводили к тому, что хлеба еле хватало до масляной. Взрослые ребята уходили, если удавалось, в работники, а то и в «кусочки», то есть, попросту говоря, становились побирушками. Отец оказался наиболее удачливым — у него были умелые руки. Но на этот раз помещик недолго держал его в работниках. Это были годы, когда дворянские гнезда распадались одно за другим. Распалось, развеялось прахом и имение помещика Ханыкова, проданное с молотка. Батрак оказался без работы, и тут настали для всей семьи потомственных «государственных» крестьян черные дни.
Нищала, голодала вся деревня, вся губерния. Мужики разбредались кто куда от безземелья и неурожаев, от безлошадности и прочих бед.
И замаячила перед орловскими мужиками новая заманчивая туманная звезда — переселение на вольные земли в Сибирь.
Сибирь засияла в воображении крестьян, как видение земли обетованной. Вербовщики переселенцев старались на все лады расписывать действительные и мнимые богатства сказочной страны Сибири: ее леса, земли и луга глазом не окинешь, реки — могутные, многоводные, рыбы — видимо-невидимо, а земли плодородной — сколько захватил, столько и паши.
Разгорелись думки у мужиков: живо снимайся, собирай какой ни есть скарб, сваливай на телегу — да и в путь. Но не всякий подумал: дорога-то дальняя — многие тысячи верст, через леса и болота, по трактам и плохо езженым проселкам, через бурливые реки — хватит ли сил, вывезет ли единственная отощавшая коняшка?
Да и кому могло прийти тогда в голову, что в сибирскую землю надо идти походом не с древней сохой, не с голыми руками, а с железным плугом да машиной, что не всякому под силу врубаться в тайгу, выкорчевывать столетние пни, расчищать для посева землю. Правда, находились и такие смельчаки-богатыри, и немало. Это они с одним топором да лопатой покоряли сибирские дебри, расчищали и засевали поля, ставили новые города и посады. Но еще больше было рассеяно по сибирской земле безвестных могил.
Никто из орловских мужиков не помышлял о трудностях и бедах, все казалось преодолимым.
Погрузил свои пожитки на телегу и старший брат отца Герасим; к нему примкнули все трудоспособные родичи: дядья, тетки, двоюродные братья и сестры. И тут раскололась семья: мой отец и двое братьев его — средний и младший — не захотели пускаться в сибирскую даль, а двинулись на юг, на Дон, на вольные заработки, туда, где и солнце грело жарче, и поля распахивались шире, и где, хоть и нельзя было получить земельный надел, пшеничного хлеба можно было есть вволю даже на копеечный заработок.
Так отец и двое моих дядей, Игнат и Иван, пришли на Приазовье. Странствовали они где пешим ходом по шпалам, а где ехали «зайцами» на тряских товарных поездах, изредка останавливаясь на станциях и перехватывая у дорожных мастеров какую ни есть работу, копая балласт или сбивая снеговые щиты.
На промежуточной станции между Ростовом и Таганрогом закончился их путь: нанялись они ремонтными рабочими в артель да тут и поселились надолго. Так стал отец железнодорожным рабочим, потом — стрелочником и наконец, — путевым сторожем. Средний брат, Иван, также устроился в путевой будке под Таганрогом; младший, Игнат, — под Ростовом.
Отец овладел путевым делом быстро. Самым большим для ремонтного рабочего искусством в те времена считалось — с одного-двух ударов вгонять в дубовую шпалу костыль. Работа костыльщика оплачивалась выше обыкновенной. Благодаря силе, ловкости и меткости глаза отец забивал костыли с одного взмаха — в этом ему не было равных на путевом околодке. Стальной скат путевой тележки, который снимали с рельсов по меньшей мере два дюжих рабочих, он ставил на рельсы и сбрасывал на бровку один.
Но отца вскоре вновь потянуло к земле, к садам.
Однажды весенним утром он попросил у дорожного мастера расчет и, не сдавшись на его уговоры, потихоньку, точно прячась от братьев, ушел в степной хутор, в экономию Марка Адабашева.
И вот отец вновь среди своих прежних друзей — яблонь и груш, «анисов», «любимиц Клаппа», «ренетов» и «розмаринов», среди теплиц, парников и грядок, розовых и жасминовых кустов. Будто никогда не махал он путевым молотком, не забивал костылей, не сдвигал клещами рельсов. Руки его сохранили прежнюю гибкость, столь необходимую в обращении с нежными чужеземными растениями, при окулировке фруктовых деревьев, посеве мельчайших цветочных семян, при пересадке прихотливых пальм, орхидей и кактусов.
Женитьба отца
Есть страницы в жизни каждого человека, которые навсегда остаются для его потомков неясными. Такой страницей в жизни отца была любовь, женитьба. Он никогда об этом не рассказывал, а если и заговаривал, то словно шутя, с усмешкой, утаивая главное. Мать была более словоохотливой, но всегда рассказывала о своем замужестве с обидой и затаенным недобрым чувством к отцу. Какая-то щемящая заноза засела, видимо, в ее душе с первых же дней супружества и, помнится, была частой причиной тяжелых семейных сцен. И это несмотря на мягкий и уступчивый характер отца.
А причиной, как потом выяснилось, было следующее. Мой дед, провожая троих сыновей в далекую сторону на заработки, строго-настрого наказал жениться на девушках из родной или соседней деревни, и только с его, отцовского, благословения.
«Ослушаетесь, поженитесь на чужбине — прокляну и пачпортов выправленных не стану присылать», — пригрозил он. В то время такая угроза могла иметь силу: пойти супротив воли отца не каждый решался. Но Иван и Игнат ослушались и через два года поженились на девушках из придонских казачьих станиц. Правда, этим братья навлекли на себя неистовый, хотя и бессильный старческий гнев, но паспортов все-таки не лишились: железнодорожное начальство само затребовало документы на своих служащих, а волостное правление выслало их, даже не испросив согласия старика.
Но что заставило моего отца, в отличие от более решительных братьев, быть столь покорным и точно исполнить родительскую волю, так и осталось загадкой. Ведь к тому времени и у отца в казачьем хуторе была своя зазнобушка. Судя по его отрывочным упоминаниям, они были крепко привязаны друг к другу и уже готовились пойти под венец.
Но тут произошло неожиданное: в студеный и снежный февраль 1896 года отец выпросил у управляющего имением отпуск и уехал домой, на родину. Там он пробыл недолго и спустя две недели вернулся в хутор Адабашево, но уже не один, а с маленькой, кареглазой, очень пугливой женщиной. Несколько узлов и обитый цветной жестью сундук — приданое молодой жены — лежали на подводе, привезшей молодоженов со станции.
Молодая женщина — ей в то время не было и двадцати — глядела на невиданно широкую степь и на незнакомых обитателей диковато, робко и печально. Она казалась выхваченной из теплого родительского гнезда маленькой девочкой. Она долго не могла привыкнуть к мужу, который был старше на двенадцать лет и все еще казался ей чужим и непонятным…
Эта маленькая робкая женщина была моя мать.
По хутору, населенному хохлами-тавричанами и армянам, разнесся слух: «Садовник привез с собой жену-кацапку». Все — говор, одежда, застенчивость и робость ее казались южанам необычными. Вид ее вызывал у одних насмешку, у других жалость и участие.
На другой же день после приезда ранним утром отец, ничего не сказав молодой жене, ушел в казачий хутор, за десять верст, и не появлялся в саду два дня. Возвратился он домой угрюмый и чем-то подавленный. На робкий вопрос матери, где он пропадал, тихо и сурово ответил: «По делу ходил… И не твоя это забота».
Мать только вздохнула и, пряча лицо в передник, боязливо заплакала. Это были первые ее слезы на чужой стороне, вдали от родительского гнезда. Не сразу, украдкой поведала она хуторским молодицам свою бабью печаль. Из ее жалоб те заключили, что вышла она за отца, как это часто случалось в те времена, не по любви и не по своей, а по родительской воле.
Приехал в село парень, вроде бы видный собой, взглянул на девушку, посватал и увез на чужбину, не спрашивая, хочет она того или не хочет. Родным жених понравился: явился он к ним этаким бравым молодцем, в городском костюме, в высоких шагреневых сапогах, вот и покорил этим материнскую родню.
А что сердце юной девушки еще не проснулось для любви и было глухо к жениху, несмотря на его обильно наваксенные егерские сапоги, об этом было родне невдомек. Главным чувством молодой жены к мужу были робость и страх. С этими чувствами она и прожила с ним первые годы, пока привыкла и, как говорили тогда, «слюбилась». Но слюбилась ли, стерпелась ли? Почему в детских моих воспоминаниях мать часто встает плачущей, со скорбным лицом? Не оттого ли, что каким бы хорошим ни оказался неволей обретенный суженый, без любви отданная ему девушка никогда не станет испытывать того, что испытывала бы к избранному по велению своего сердца?
А что же сталось с той, первой любовью отца? Так же связала судьбу свою с немилым и зачахла в невеселой крестьянской работе? Зачем уходил от молодой жены в казачий хутор мой отец, какой туго завязанный узелок развязывал он там и почему вернулся домой подавленный? Эта загадка разъяснилась для меня значительно позже…
Степные разбойнички
Управляющий адабашевским имением поселил молодоженов в саду, в глинобитной, без потолка, крытой камышом хибарке, служившей складом садового имущества. Хибарка была очень ветхой и уже начала разваливаться. Отец и мать непрестанно чинили ее и обмазывали глиной, но камышовые стены ее прогнили: глина не держалась, отваливалась.
Стены просвечивали во многих местах насквозь, старая камышовая кровля во время дождей протекала, как решето; под ней хлопотливые ласточки вили гнезда и, не обращая внимания на новых жильцов, залетали в дверь прямо из сада и, накормив пискливых птенцов, вновь улетали. В балагане с утра до вечера стоял такой писк и щебет, что отец и мать вынуждены были разговаривать громче обыкновенного.
Нельзя сказать, что в богатом и обширном имении не было других построек, куда можно было поселить садовника с его молодой женой. В имении были машинные и скотные сараи, пристройки всякие, конюшни для скаковых и рабочих лошадей со светлыми, отлично оборудованными и сухими денниками, птичники, свинарники. Были вместительные добротные амбары, огромные овчарни, рассчитанные на многотысячные отары, теплые хибары для чабанов, были кухня и сарай для двух паровых молотилок, жаток, сноповязалок и сенокосилок.
На хуторе жили сезонные и годовые рабочие: скотники, конюхи, птичники, даже жокеи, щеголявшие в малиновых курточках и канареечных картузиках — многоликая масса всякого работного люда, и жили они кое-как, в обветшалых хибарках и мазанках. Скоту, конечно, жилось куда вольготнее. За английскими скакунами и орловскими рысаками, за быками-симменталами, тонкорунными и курдючными овцами хозяин и управляющий ухаживали более заботливо, а с людьми не церемонились — их наплывало ежегодно из центральных губерний видимо-невидимо, им бы только харч да какой-нибудь угол.
Отец и мать оказались даже в более сносных условиях, чем другие, — у них была хоть дырявая, но отдельная хибарка. Для лета балаган был идеальным жилищем. Из сада все время волнами наплывали запахи цветов и трав, а с начала августа — солнечно-теплый аромат яблок, груш, слив.
От зари до зари гремел вокруг птичий хор. Налетал щедрый летний ливень, и сад шумел под ним, как морской прибой. Ручьи воды текли сквозь крышу и заливали земляной пол и убогий домашний скарб. После дождей в балагане становилось сыро и пахло плесенью, как в погребе. Единственное окошко выходило в глухую часть сада и едва пропускало сумрачный зеленоватый свет.
В моих воспоминаниях жизнь в саду встает из рассказов отца и матери. Я был тогда очень мал и не мог запечатлеть в памяти все мелочи этой жизни. Но балаган, уже после того, как мы переселились в другое место и я мог кое-что помнить, рисуется мне очень живо. Гуляя в саду, я часто забегал в нашу бывшую хижину, заваленную садовым инструментом, затянутую черной паутиной и пропитанную запахом ржавого железа и плесени. И до сих пор я вижу ее в воспоминаниях так ярко, будто только вчера жил в ней.
Легко себе представить, во что превращалось это обиталище ласточек и пауков в зимнюю пору. Пристроенная в углу маленькая печка с прямым дымоходом мало согревала его — тепло в ней не держалось. Мать рассказывала: под их кроватью наметало за ночь сугробы, а вода в кадушке замерзала так, что толстый лед приходилось рубить топором.
Первыми, кто почувствовал на себе неудобства «балаганной» жизни, были мой старший братишка Ёся и сестрица Мотенька. Они не выдержали испытаний — братишка умер, не прожив и полугода, а сестра кое-как дотянула лишь до двух с половиной лет. Тихая, не по возрасту смышленая, она угасла хмурой осенью, забитая коклюшем.
Очередь была моя. Но я родился третьим и, может быть, поэтому избежал участи брата и сестры: спустя месяц после моего появления на свет хозяин наконец смилостивился и переселил нашу семью на хутор, в более благоустроенную и сухую мазанку. В ней было целых три застекленных тусклым зеленоватым стеклом окошка, и хотя стены ее промерзали зимой насквозь и с них можно было соскребать иней лопатой, над головой все-таки нависал выбеленный сухой потолок, а в углу, как добрая мать, возвышалась пышущая теплом печь-лежанка.
О том, как потекла жизнь в новом жилье, расскажу после, а пока мне хочется вернуться к нескольким случаям из «балаганного» житья-бытья. Рассказы о нем странно переплетались в моем детском сознании с тем, о чем рассказывалось и читалось вслух матерью в русских сказках. Садовая хижина долго рисовалась мне в виде избушки на курьих ножках, а сад — дремучим лесом, в котором жили злые и добрые феи, звери, лешие и баба-яга.
Тем красочнее представала в моем воображении садовая избушка, занесенная до самой крыши сугробами, на версту удаленная от хутора, окруженная старым, запущенным садом и непробудной степной тишиной.
Мать рассказывала: как-то раз в летнее утро, проснувшись, она потянулась к подвешенной к стропилам балагана колыбели, чтобы покормить меня грудью, взяла подушку, на которой я лежал, и вдруг увидела рядом со мной уютно свернувшегося громадного полоза. Мать закричала диким голосом, уронила подушку вместе со мной, а полоз лениво шлепнулся с нее на земляной пол и словно нехотя уполз через дверь в сад.
Мать не лишилась чувств, видимо, только потому, что ее не меньше испугал мой отчаянный крик. Отец объяснил такое соседство очень просто: в решете, тут же рядом с люлькой, лежали завернутые в тряпье недавно вылупившиеся цыплята; почуяв их запах, желтобрюх рассчитал не совсем точно, ошибся адресом, забрался в колыбель и, пригревшись на подушке, решил переспать до утра, а потом поохотиться за цыплятами.
Не знаю, сколь приятно было бы такое соседство для меня теперь (хотя известно, что полозы не ядовиты), но в то время я и полоз, по-видимому, чувствовали себя вполне сносно, и закричал я не от испуга, а от падения.
Змеи заползали к нам в балаган довольно часто. В другой раз матери понадобилась веревка, чтобы развесить белье. Она вошла со двора в балаган, в котором даже в солнечные дни всегда стоял сумрак, протянула руку к чему-то темному, свисавшему с перекладины, очень похожему на веревку, и… схватила змею. К счастью, это был безобидный уж. После двух этих случаев мать долго болела. Хуторские бабки-знахарки определили болезнь как «испуг» и лечили ее отливанием свечного воска на «святой» воде.
В зимние долгие ночи вокруг балагана бегали зайцы и лисы, а однажды в лунную морозную ночь, когда сад залило голубоватым светом и все сверкало и искрилось, в единственном окошке хижины появилась волчья оскаленная морда с поднятыми острыми ушами.
Мать разбудила отца, но пока отец натягивал валенки и нащупывал на стене старинное шомпольное заряженное картечью ружье, волчья морда скрылась и больше не появлялась. Что это был волк, указывали следы, обнаруженные утром на снегу вперемежку со следами зайцев и лисиц.
Волки были частыми гостями хутора и степных овечьих кошар, и я, когда повзрослел, сам слышал по ночам их жуткий вой.
Но однажды отцу пришлось вскочить с постели и схватить ружье совсем по другому поводу. Как-то уже после полуночи из сада донесся призыв о помощи.
Ночь была вьюжная, темная, хоть глаза выколи…
Накинув полушубок, отец выбежал из балагана, а мать, сжавшись в комок, дрожала от страха и холода. В те времена в степи случались разные разбойные истории, и страх матери был не напрасен.
Не прошло и пяти минут, как в отдалении послышались выстрелы. Сестрица Мотенька проснулась и заплакала. Мать взяла ее на руки и сидела в томительном пугливом ожидании. Но вот за дверью послышались тяжелые шаги, натруженное дыхание и стоны.
— Варь, открой! — донесся снаружи глухой голос отца.
С трудом переступив засыпанный снегом порог, отец втащил в балаган еле державшегося на ногах человека.
— Скорей затапливай, мать, печку — будем отогревать прохожего, — тяжело дыша, распорядился отец. — А сперва хорошенько потрем его снежком.
— Мать засветила «жирник» с конопляным маслом — в те годы керосин, или, как его называли в степных селах, «фотожен», был дорог, да и доставка его из станицы в хутор была непостоянной.
Отец и мать принялись растирать снегом руки, ноги и лицо незнакомца. Был он, несмотря на двадцатиградусный мороз, без шапки — где-то потерял ее — и одет только в легкую новенькую бекешу и боксовые сапоги с калошами: наряд для открытой зимней степи в такой холод более чем недостаточный.
Пришлось потратить немало усилий, прежде чем незнакомец пришел в чувство и смог рассказать о приключившейся с ним беде.
На вид это был крепкий, дородный мужчина лет тридцати пяти, черноволосый, с темной окладистой бородкой, с упитанным лицом и начавшим полнеть брюшком. Всей своей внешностью он как бы говорил, что если сам еще не стал хозяином, то служил при доходном деле на денежной должности.
Заикаясь и дрожа всем телом, незнакомец рассказал: сам он из соседнего села Валуева, служит приказчиком у богатого владельца крупнейшей на всю округу паровой мельницы, приехал из города вечерним поездом, не захотел ждать утра, да и сани, запряженные отличной парой рысаков Провальского завода, были высланы на станцию. Вот и поехал, не глядя на метель и стужу и позднее время, думал: кони добрые, домчат быстро.
— Ан не тут-то было, — рассказывал перепуганный насмерть приказчик. — Еще на станции выследил нас конокрад Толстенков со своей шайкой. И только выбрались мы за станицу на шлях, глядим — погоня. Они верхами, а мы на санях, но кони у нас — змеи, не менее лютые. Сообразил кучер, своротил на другую дорогу, чтоб след запутлять и скрыться. Ну, несемся мы во весь дух, а метелица уже кое-где сугробы намела. Стали наши кони всхрапывать, выдыхаться. И все же, пока конокрады скакали по главной дороге, мы опередили их версты на три. Тут-то они догадались, пустились за нами и настигли уже под самым Адабашевым. Известное дело, сразу к лошадям — кони красавцы, питомцы главной панской конюшни. Вижу: конокрады режут постромки, а я выскочил в сугроб в чем был, даже богатейший меховой тулуп бросил и шапку обронил. Кура — зги не видно. Они, жулики-то, сначала даже не заметили, а потом кинулись за мной, да поздно. Начали из ружьев палить. Догнали бы, погубили наверняка — ведь при мне хозяйские деньги… ежели бы не ты, добрый человек, спугнул их своим ружьишком. Дай бог тебе здоровья! Кучера они в аккурат шкворнем пристукнули и лошадушек гонят теперь в город на продажу. А что Толстенков это — вне всякого сумления. Сам его видел на станции — в буфете водку с цыганами пил…
И валуевский приказчик стал трясти руку отца, рассыпаться в благодарностях.
За ночь отогрелся он у печки чаем, окончательно пришел в себя, а на рассвете, когда стал уходить в Адабашево просить у управляющего лошадей, чтобы добраться до Валуева, сунул в руку отца ни много ни мало — четвертной билет (двадцать пять рублей), но тут отец повел себя самым удивительным образом: он решительно и гневно отказался от вознаграждения. С гордым видом он сказал:
— Разве я за деньги тебя из беды выручил, рублевая твоя душа? Спрячь свою бумажку и прибереги для другого раза: может, найдется и такой спаситель, что за нее прибежит тебя спасать.
Приказчик обиделся, четвертную сунул обратно в карман. На том и разошлись. А мать долго упрекала отца за никому не нужное бескорыстие:
— Он, небось, тыщи для хозяина своего вез, а ты посовестился четвертной взять. Другой бы и сотню не постеснялся бы выпросить, опричи за такое дело.
Мать моя, уже наученная нуждой некоторому практицизму, относилась к обычным житейским вещам более трезво. Она не особенно глубоко вникала в вопросы высокой нравственности, но, думается мне, только на словах, на деле же за всю свою многотрудную жизнь, подобно отцу, вряд ли опускалась хотя бы один раз до низкой корысти.
О спасении приказчика и об отказе отца взять деньги она рассказывала потом всем с гордостью. Меня же этот рассказ поразил еще в детстве. Отец поднялся в моих глазах на еще более высокую ступень. И не бескорыстие, а бесстрашие его восхитило меня. Значение денег было тогда еще непонятно мне, а то, что отец ушел в ночь, в темноту, не боясь волков и разбойников, еще больше возвысило его в моих глазах.
Но — странное дело! — отец всегда оказывался не только защитником таких же обездоленных, как и сам, батраков, но не менее ревнивым блюстителем хозяйских интересов и охранителем хозяйского добра. И поступал он так из унаследованной от предков рабьей привычки — честно служить своему владельцу-помещику.
«Меня поставили, как солдата на часы, вот я и стою», — говаривал отец в тех случаях, когда его упрекали за излишнюю верность хозяевам.
Стоять неподкупно на страже всего, что доверено хозяином, а иногда с опасностью для жизни защищать его собственность — таково было правило отца, каким бы хозяин ни был — жестоким или добрым.
Приведу еще один случай из тех же разбойничьих былей, какими отличалась тогда дикая степная жизнь. Это случилось уже в то время, когда семья наша жила не в балагане, а в самом хуторе. Мне было года четыре, и я уже мог многое запечатлеть в своей памяти.
Это был год наибольшего процветания адабашевской экономии. В хуторе, в конюшнях, коровниках и свинарнях скопилось к зиме, помимо овец, до тысячи голов разного скота. В теплых, хотя и первобытных, кошарах отстаивалось до десяти тысяч овец. Это только в нашем хуторе! А таких хуторов у Адабашева было три. Существовали еще какие-то Дарьевка и Екатериновка, и по всем хуторам располагалось до двадцати овечьих отар по две тысячи голов каждая.
Наступала осень, и адабашевские гуртовщики гоняли на убой в Начихевань-на-Дону тысячи откормленных на мясо и сало курдючных овец. Называлось это у армян-скотоводов «гонять скот на „салаганы“». Что означало это слово — не знаю, но звучало оно так же, как слова «ярмарка», «торги» или что-то в таком роде. Оно так и витало в воздухе, как бы знаменуя собой немалые прибыли для хозяев.
К зиме хутор расползался вширь, разбухал, словно обрастал бараньим жиром, напитывался душным запахом овчины. И запах этот точно манил степных хищников — любителей урвать жирный кусок от хозяйского добра.
В те годы особую приманку для воров составлял откормленный скот — кони, быки, овцы. Это был ходкий товар, это были деньги, пожива. И по степи гуляло немало лихих молодцев, промышлявших кражей скота.
Очевидно, суровый старик Марк Ованесович Адабашев достойно оценивал отвагу молодцев и позаботился о том, чтобы крепко оградить хутор от лихих налетов. В хуторе было очень много всяких сторожей — молодых и старых, «сидячих», «ходячих», вооруженных старинными, стреляющими с пушечным грохотом ружьями, многозарядными пистолетами и просто дубинами.
Вооружены были все — чабаны, гуртоправы, приказчики, конюхи, управляющий, садовник. В сундуке моего отца лежал белый, из никелированной стали, длинноствольный револьвер с шестизарядным барабаном — не то кольт, не то «Смит и Вессон». Когда в хате никого не было, я доставал его и пробовал нажимать на собачку, но собачка нажималась туго, не по моим силам, и курок не взводился, может быть, к счастью для отца и матери.
Кроме револьвера, у отца было два ружья; одно из них, хозяйское, какого-то диковинного, очень крупного калибра, с расширенным к концу стволом, заряжалось картечью и служило специально для охраны и самозащиты.
Как-то ночью, незадолго до рождества, со стороны конюшни раздался истошный крик сторожа, деда Ёньки: «Ка-рау-ул! Разбой!» Ему откликнулся из хозяйского коровника, примыкавшего к нашей мазанке, такой же надрывный вопль. Забесновались у молдаван-чабанов овчарки-волкодавы, загремели в ночной тишине выстрелы.
Я проснулся и услышал шепот матери;
— Не ходи, Филя… Христом-богом прошу — не ходи… Убьют…
Отец молча и торопливо надел валенки и в одном белье, натянув на плечи овчинный кожух, схватив свою широкогорлую одностволку и сунув в карман «Смит и Вессон», ринулся из хаты в темноту. В ту же минуту, как мне показалось, выстрелы загремели у самой хаты, а одностволка рявкнула так, что в окошках задребезжали стекла.
Мы с матерью лежали, прижавшись друг к другу. Я дрожал, а мать шептала: «Да воскреснет бог и расточатся врази его…»
Стрельба продолжалась. Овчарки неистовствовали. Их хриплый горластый брех и завывание доносились с разных концов хутора. Отрывистые хлопки револьверных выстрелов докатывались со стороны стоявшего над самым оврагом жилья чабанов-молдаван.
Прошло не менее получаса, пока пальба и крики стали затихать. В то время я был далек от сравнений, но теперь могу сказать с уверенностью: все это походило на отражение всем хутором нашествия многочисленной дикой орды.
Наконец все стихло, умолкать стали за окном и людские голоса и собачий лай. Отец долго не возвращался, и все это время мать шептала молитвы, а я тревожно, со слезами в голосе, спрашивал:
— Мам, а мам, папку не убили? Где папка? Когда придет?
Но вот скрипнула дверь, и явился отец, молча повесил на гвоздь воняющую пороховым дымом одностволку, выложил на стол еще теплый от выстрелов револьвер.
Мать облегченно вздыхала. Я выпрыгнул из-под одеяла и в одной рубашонке кинулся к отцу. Но он спокойно и ласково уложил меня снова. От его одежды хорошо пахло морозной ночью и еще чем-то, родным и приятным — так пахнут сильные, здоровые мужчины. Это был запах отцовской силы, вселявший в меня уверенность и мужество.
Прошло минуты три, пока отец заговорил:
— Отбили. Пять лошадей уже стояли на выгоне за хутором. Замешкались они с коровами — это скотина неповоротливая, упрямая. Из коровника уже выгнали четырех коров, а нашу Чернуху не тронули. Стоит она, сердечная, прижатая яслями, и сенцо пережевывает как ни в чем не бывало. Потеха!
— А почему Чернуху не тронули? — спросил я.
— Бог ее знает. Видать, на хозяйскую не похожа, — усмехнулся отец в усы.
А мать сердито закричала:
— Ты-то куда кинулся, мучитель! Убьют тебя — куда я денусь с детишками? И хотя бы за свое, а то за чужое, хозяйское, жизнь хочешь положить.
Отец досадливо отмахнулся:
— Ну, понесла… Свое, хозяйское — какая разница?
И немного погодя устало добавил:
— Коней-то все-таки я отбил. Слышу: ржут поблизости. Я туда — а лошадки чуть маячат на снегу, а рядом с ними — двое цыган уже отгоняют их в балочку. — Конокрады-то хитрые, отвлекают молдаван, затеяли с ними перестрелку, а тем временем другие действуют. Ну, я сразу догадался и стал палить в них из револьвера. Тут-то они и побросали коней, а сами — наутек.
Но и подробный рассказ отца о мужественной защите хозяйского добра не вызвал у матери одобрения. Она слушала молча, насупясь, и только вздыхала.
Да и отец призадумался над чем-то после этой ночи.
Цукатное печенье
Едва начинало пригревать февральское солнце и днями звенела стекающая с оттаявших сосулек капель, отец уходил в сад и пропадал там до вечера. Вместе с рабочими он готовил парники, чистил теплицы, выращивал и холил в оранжерее ранние нежные цветы.
Рабочие возили навоз, стеклили парниковые рамы, сбивали новые цветочные плошки. Уже в марте, благодаря стараниям отца, в город на хозяйский стол доставлялись выращенные в теплице огурцы, а к маю — и первые парниковые.
Да разве мало было у отца хлопот по саду ранней весной? Очистка и опиловка старых деревьев, посадка и окулировка новых, побелка стволов. Отец весь пропитывался запахом теплой земли, затхлым дымом сожженной прошлогодней листвы, нежными ароматами подснежников и фиалок.
В солнечные теплые дни он брал меня с собой, и я бегал, как козленок, по подсыхающим аллеям старого адабашевского сада. Были там темные, пугающие чащи и веселые солнечные полянки.
Старый дуб, толщиной в три обхвата, как шатер, нависал над уютной прогалиной и ронял осенью втиснутые в корявые чашечки желуди, тяжелые, как свинцовые пули. Любил я набирать их в карманы штанишек и играть ими. А ручей, извилистый и синевато-темный, текущий под самым обрывом в саду, населенный зелеными лягушками и густо осыпанный ряской! Он манил меня своей прохладной и медленной водой, черными, как мазут, стоячими омутами; в них, по рассказам отца, жил древний усатый сом.
В саду стояло несколько беседок с круглыми, вкопанными в землю, грубо отесанными столами и скамейками. В центре возвышалась большая ковровая клумба с жарко зацветающим на солнце портулаком; вдоль аллеи тянулись бордюры из петуний, никоцианы, вербены, львиного зева, флоксов, гвоздики.
Тончайший аромат цветов по вечерам сгущался в саду и казался каким-то нездешним, притекшим из другого мира, несоответствующим грубой и дикой степной действительности, всему укладу армянской экономии, с хриплыми криками пастухов и погонычей, матерной бранью приказчиков и самого хозяина, свирепого на вид старика. В гневе Марк Ованесович был страшен; его боялись больше, чем чабанских овчарок, бродивших за отарами, как лохматые чудовища. Боялся его и я, избегая попадаться ему на глаза. Когда я был малышом и мать тихо грозила мне: «Тише, не балуй — хозяин идет!», я прятался под кровать и часами не выходил из нашей мазанки.
Старик Адабашев разъезжал по своим угодьям на узких одноконных дрожках, сидя на них верхом, как на велосипеде. Одевался он в обычный для армянских сельских хозяев того времени костюм: летом — в сатиновый черный жилет поверх ситцевой пестрой рубахи с выпущенным свободно, подолом, в такие же черные сатиновые шаровары, вобранные в длинные, до самых колен, белые, из грубой овечьей шерсти, чулки; на ногах — сыромятные, стянутые ремешками чувяки-постолы, очень легкие и удобные для хождения по степи; на голове — суконный картуз с мягким козырьком.
Зимой Адабашев носил меховую бекешу или полушубок и кудлатую баранью шапку. В своих частых разъездах по степи не расставался с длинным, аршина в три, арапником с набором из ременных кистей и медных колец. Его он пускал в действие и против собак и против людей — кто попадался под горячую, не по-стариковски сильную руку. Разовьется молниеносно со свистом над головой провинившегося длинный кнут и с оглушительным щелканьем, напоминающим пистолетный выстрел, опустится на спину, а то и на голову зазевавшегося батрака или пастуха, и сразу же взбухнет на коже багрово-синий, толщиной в палец, рубец, а если — с потягом, то, случалось, и лопалась, не устаивала против ремня человеческая кожа, и тогда горячей алой росой брызгала на землю кровь…
Старик не знал ни русской, ни армянской грамоты. Много лет, пока наживалось хозяйство, вся бухгалтерия и документация на «движимое и недвижимое» имущество хранилась в боковом кармане его засаленного жилета, и только когда капиталы выросли до сотен тысяч рублей, а имущество и всякая живность расплеснулись по всему Приазовью, как мутная полая вода, завел он контору и стал доверять все расчеты и денежные дела управляющему, хорошо грамотному армянину.
И вот этот закорявевший, как пень в лесу, пропахший овчиной и бараньим салом, неграмотный помещик, невесть как разбогатевший и все-таки не гнушавшийся сесть вместе с чабанами за котел с кашей, ночевать вместе с ними под открытым небом, вдруг распорядился разбить в саду и вокруг степного дома цветочные клумбы, посадить дорогие декоративные растения, построить оранжерею, а аллеи посыпать желтым, завезенным из дальнего карьера песком.
Он завел английских и арабских скаковых лошадей, орловских рысаков, ценой в десятки тысяч рублей каждый, нанял тренеров и жокеев, участвовавших во всех крупных дерби, и брал первые призы в состязании со знаменитыми на всю Россию конными заводами и коневладельцами.
Почему же взбрело такое в голову Марку Ованесовичу? Почему ему, неотесанному мужику, захотелось тягаться в роскоши с уже вымирающими владельцами дворянских гнезд?
Причина, как утверждают ученые люди, заключалась в том, что поветрие, охватившее крупных землевладельцев, взошедших, как опара, на месте разорявшихся дворянских поместий, распространилось и на юг, в дикие степи. На смену хиреющим дворянам шел хищник, напористый и грубый, с волчьей хваткой. Это он прибирал к рукам помещичью землю, утверждал на ней свою власть, набивал целковыми мошну. Это, ему хотелось «пустить пыль в глаза», покуражиться — «знай, дескать, наших» и «моя-де копеечка не щербата», блеснуть безвкусной роскошью.
Богатеи, вроде Адабашева, ставили в городах унылые особняки, заводили поместья, а в них — порядки, уродливо копирующие уклад изысканных, приходящих в упадок поместий родовитых дворян.
Но не только это заставило старика Адабашева пуститься в несоответствующее его нраву расточительство. Рассказывали, будто наивно-трогательная отцовская любовь к баловнице дочери и сыну, вращавшимся в кругу тогдашней «золотой» молодежи — отпрысков нахичеванских и ростовских финансовых воротил, попутала старика, и он, потворствуя капризам детей, завел в своем имении ненужные излишества.
Однако дочь и сын приезжали в хутор только изредка. Все потуги старого Адабашева на подражание шику ростовских миллионщиков — Парамоновых, Переселенковых и Асмоловых — казались грубой подделкой. Юные наследники фыркали, томились степной скукой и уезжали в город, чем приводили старика в недоумение и неистовую ярость. Этим неженкам и баловням судьбы не нравились ни орловские рысаки, ни угрюмый, сложенный из серого камня дом под железной крышей, в одной из комнат которого жил с семьей управляющий, ни любовно выхоленные садовником цветники — все казалось им не настоящим, не таким, как у тех молодых богачей, с которыми они водили дружбу.
Подражание и манерничанье были присущи всей семье Адабашевых, за исключением, пожалуй, старика: он один оставался самобытным со своими дрожками-бегунками, арапником, сатиновым жилетом и сыромятными постолами; он презирал всю блажь и бирюльки, которые вынужден был в угоду дочери и сыну завести в имении. И не кони, выезженные для верховой дамской езды, с сафьяново-бархатными седлами и поводьями, и не цветочные клумбы были ему нужны, а только овечьи отары, тонкорунная мериносовая шерсть, пшеница и другая сельскохозяйственная продукция, отправляемая каждую осень обозами в город.
Мне вспоминается один из наездов «барыни» и ее «барчуков» в Адабашево. Никто в хуторе не называл хозяйку барыней — так по давнему обычаю обращался к ней только мой отец. Ей, по-видимому, это весьма нравилось, и она изо всех сил старалась походить на самую настоящую богатую помещицу-аристократку.
В один из солнечных майских дней, когда в саду все цвело и благоухало, мы с отцом возвращались домой. Вечерело. Солнце играло на пышной зелени хлебов, на ветвях верб и серебристых тополей. Над петлявшей между огородами тропинкой клубились мошки и, освещенные солнечными лучами, походили на золотую пыль. В саду пели соловьи, свистели иволги, и отец, как всегда, рассказывал мне, какой птице принадлежит тот или иной голос.
Когда мы вышли на дорогу, ведущую в хутор, отец вдруг остановился, схватил меня за руку:
— Погоди, сынок! Посторонись. Кажется, барыня едет со станции.
Мы едва успели отойти в сторону, как мимо прокатал сверкающий черным лаком фаэтон, запряженный парой сытых, лоснящихся вороных лошадей. Спицы колес, мелькая, поблескивали на солнце. На козлах сидел статный кучер в синей ливрее, в высокой, с позументами, шляпе и туго натягивал вожжи.
— Сними картуз, — шепнул мне отец, и, когда я замешкался, сам сорвал с моей белой, как ковыль, головы фуражку одновременно со своей.
Сидевшая в экипаже с сыном и дочерью хозяйка, видимо, узнала садовника, велела кучеру остановиться. Она поманила отца затянутой в сиреневую митенку рукой.
Ее огромная, как сито, шляпа с пышным голубоватым пером удивила меня не меньше, чем фаэтон со сверкающими на солнце спицами. Не выпуская моей руки, отец подошел к экипажу. Лошади фыркали, мотая головами, позвякивая нарядной сбруей.
Я глядел на «барыню» снизу вверх исподлобья, а она, как мне казалось, восседала на сказочной колеснице, снисходительно взирала на нас и приветливо улыбалась. Да, она улыбалась, эта черноглазая толстая и бледная армянка, для поездки на хутор нарядившаяся, словно на бал.
По бокам ее сидели тонкая, такая же черноглазая и большеротая, некрасивая девушка и смуглый юнец с темными усиками и курчавой, как барашек, головой. Девушка и юнец тоже были одеты франтовато.
Хозяйка поднесла к глазам какую-то блестящую штуковину, вроде очков, но с длинной костяной ручкой, и, манерно изогнув голову, разглядывая меня и отца, произнесла медленно, с армянским акцентом:
— Ну, здравствуй, Филипп. Разве у тебя уже такой сын?
— Здравствуйте, барыня, — почтительно ответил отец. — Да, это мой сынок. Их у меня уже двое — этот и еще чуть поменьше.
— Какой большой! Как же тебя зовут, мальчик? — спросила барыня.
Я молчал, оттопырив губы, упрямо уставившись себе под ноги.
— Ну отвечай же, отвечай, — толкал меня в спину отец, а мне было обидно, что отец, такой большой, храбрый и сильный, стоял без картуза, необычно робко вытянувшись, и меня заставлял так же стоять и отвечать барыне. — Егорьем звать… Ёрой, — не дождавшись моего ответа, сказал он.
— Кеворк, по-нашему, — добродушно улыбнулась хозяйка и добавила: — Приходи ко мне, Ёра, я тебе гостинца дам. С братом приходи.
Степной дичок, я так ничего и не ответил хозяйке то ли от страха, то ли из упрямства. У меня словно присох язык.
А хозяйка, порасспросив отца о саде, о цветнике, велела трогать, и экипаж покатил дальше. И как только огромная, торчавшая из экипажа, как гриб, шляпа хозяйки скрылась из виду, отец тотчас же снова стал самим собой — таким же сильным и независимым. Эта перемена не ускользнула от моего детского внимания, и долго мне было не то жаль отца, не то стыдно за него.
В тот же вечер мы, я и мой младший братишка — трехлетний Тима, шустрый и в противоположность мне очень подвижный мальчик, взявшись за руки, пошли в дом к барыне. Мать надела на нас чистые ситцевые рубашонки и штанишки на помочах с прорешками позади. Но обувки у нас не было, и мы отправились босиком. Мать очень боялась, что хозяйка не пустит нас в дом в таком виде, но, поколебавшись, отпустила.
Хозяйка оказалась не такой важной, какой предстала моему взору вначале. В домашней обстановке, без ситообразной уродливой шляпы, без митенок и лорнета, в простом капоте она совсем не походила на барыню, хотя все еще, как только кто-нибудь из хуторских входил в дом, старалась ею казаться и смешно пыжилась.
Это была добродушная простая женщина; она очень оживленно тараторила с женой управляющего на своем языке. Мне и брату она подарила по коробке хорошего, тающего во рту печенья с цукатами, показавшегося нам каким-то необыкновенным лакомством.
С этими коробками я и Тима устремились домой, чтобы похвастаться подарками перед отцом и матерью. Печенье было съедено в тот же вечер, а пустые коробки с красиво раскрашенными крышками были спрятаны матерью в сундук и хранились там многие годы.
Но на другой день я, уже начавший увязывать все слышанное от отца с действительностью, услыхал, как отец говорил матери:
— Ну так вот, мать… Пошел я к хозяйке и говорю ей: «Нельзя ли прибавить отпускного (так назывался натурный отпуск продовольствия — муки, жиров, мяса, фруктов в добавление к годовому жалованью постоянным штатным работникам в экономии). А если не отпускного, то рубликов хотя бы десяток жалованья. Восемьдесят целковых в год — на своих харчах — ведь это, верьте совести, нищенское жалованье, разве нашего с детишками прокормишься? Я на железной дороге, бывалыча, двенадцать — пятнадцать рубликов в месяц отхватывал». А барыня мне: «А зачем же ты с железной дороги к нам пришел? И работал бы там». А я ей: «Привычка, барыня. Сад я люблю, без него, без чистого вольного воздуха жить не могу — потому природа!» Ну, стал я и так и сяк клянчить похлопотать перед Марком Иванычем (отец произносил все армянские имена на русский лад). «А почему сам не попросишь Марка Иваныча?» — спрашивает. «Не могу, отвечаю, пробовал — и слушать не хочет». Ну, барыня подумала и сказала: «Ладно. Попробую». Как ты думаешь, Варь, попробует? А? По всему видать: женщина она жалостливая, не то что хозяин — зверь.
Не знаю, чем увенчались хлопоты милостивой хозяйки, но помню: жалованье отца осталось прежним, а «отпускное» с годами, ввиду того что хозяйство в имении покатилось под гору, совсем было срезано.
Мне шел пятый год; мир вокруг меня замыкался на маленьком пространстве — он простирался в одну сторону до пустыря за нашей мазанкой, поросшего дикой коноплей, где я играл с меньшим братом, а в другую — до опушки адабашевского сада. Дальше был «край света», туманная даль. Она отодвигалась по мере того, как я рос и взгляд мой проникал все дальше, за молчаливые курганы, в блеклую степную синеву.
Вместе с хуторскими ребятишками, пасшими гусей и телят, я отбирал у степи с каждым днем новые пространства, как завоеватель, как путешественник, углубляющийся в неведомую страну.
Но я был еще очень мал, чтобы понимать и познавать мир. Из этой поры я помню немногое — какие-то смутные или очень яркие, как вспышки молнии, видения и мимолетные впечатления. О том, как жили отец и мать в это время, что происходило на хуторе или где-то за степной далью, я могу судить не столько по личным детским, хотя и разяще четким ранним впечатлениям, сколько по более поздним рассказам отца и матери. Детские впечатления так же, как и рассказы близких, мы осмысливаем и обобщаем в более зрелые годы, когда оглядываемся назад, в прошлое. Поэтому все, что я рассказываю об отце и матери, об обитателях хутора, о событиях и степных нравах, — плод не только раннего узнавания, но и более поздних наблюдений и обобщений.
Видимо, из последующих рассказов отца и матери, из врезавшихся в память, подобно моментальной фотографии, вспышек, составилась такая картина.
У маленького окна нашей мазанки на деревянной лавке сидит отец в измятом праздничном пиджаке и густо запыленных сапогах. Загорелое лицо его хмуро и озабочено. На русой округлой, всегда аккуратно подстриженной бороде и усах лежит такой же слой серой пыли. Отец пришел откуда-то издалека, он о чем-то взволнованно рассказывает.
Мать стоит у печки, скрестив на груди худые коричневые руки, и плачет. Я пугливо жмусь к ногам отца, тянусь руками к узелку, лежащему на лавке. От узелка хорошо пахнет спелыми яблоками.
— Не виноват я, Варь, вот, ей-богу, не виноват, — оправдывается отец каким-то незнакомо сиплым голосом. — Посвятил я яблоки в станице, иду. На Белой балке, у дороги, вижу: палатка. Охотники — господа из города. Зазвали, спрашивают, где тут много дичи. Я говорю: «Идемте покажу». А они: «Нет! Сначала выпей и закуси…» Сами-то охотники все уже крепко выпимши, веселые… Кругом бутылки с вином, закуски… Повар мясо на котлеты тут же на доске рубит… Затащили меня господа в палатку, поднесли вина. Такое вино сладкое: пьешь — губы слипаются. Выпил я другой стакан. Хочу встать — не могу, в ноги ударило. А они, господа-то, хохочут-заливаются. «Мне, говорю, домой надо, праздник ведь — спас, яблоки свяченые несу семье». А они еще пуще хохочут и еще вина подливают. Выпил я еще и уже не помню ничего. Проснулся под вечер… Еле узелок с яблоками отыскал да скорее от них, от господ-то, драла. А они меня держат: «Когда же места с дичью покажешь?» Еле вырвался.
— Бродяга ты! — всхлипывая, журит мать. — Тебе бы только с охотниками… Думала, убили тебя в степи или загулял в станице… А в город поедешь — так совсем горе. Ждешь-ждешь — душа вся истлеет. Того гляди, в полицию попадешь или в тюрьму засадят…
— Я не пьяница, не вор и не жулик. В тюрьму меня сажать не за что, — ворчит отец.
— А в позапрошлый год в городе, на Темернике, за что тебя городовые схватили?
Тут смешной и горестно-комический случай с освящением яблок и нечаянным участием отца в кутеже охотников оборачивается совсем иной, почти трагической стороной.
— Так то забастовка была, — оправдывается отец. — А я с Дубининым, машинистом, шел. Я в их забастовку не вмешивался. Так, в случай попал… Дубинин, знакомый мой еще с тех пор, когда я на железной дороге работал. Ну, заночевал я у него…
— Ох, гляди, Филя… Схватят тебя когда-нибудь, не водись ты с такими, христом-богом прошу.
Отец начинает сердиться:
— Да что ты пристала, мать! «Не водись, не водись…» Я тебе — об охотниках-гуляках, а ты — о забастовщиках.
— Боюсь я… Боюсь! Слышишь?! — уже кричит мать. — Угонют тебя в Сибирь — куда я денусь с детишками?
Так явился у матери болезненный страх перед городом. Неведомо когда пришло впервые в глухой степной хутор новое слово «забастовка». Судя по всему, залетело оно в степь, как отголосок ростовской стачки 1902 года, и с той поры будоражило хуторских работных людей, заставляло еще более звереть старого Адабашева.
В такие дни Марк Ованесович становился особенно непоседливым, метался на бегунках по своим владениям как оголтелый. Хриплая армянская ругань его далеко разносилась по экономии, ремённый арапник щелкал непрерывно и яростно.
Работники старались не попадаться Адабашеву на глаза.
— Страху нагоняет хозяин, — говорил в таких случаях отец. — А сам боится, как бы не пустил кто под овчарни да амбары красного петуха. Все они на одну колодку, эти помещики. Вот и Ханыков этак боялся. Шумит, бывало, кричит, стращает. И достращался до того, что в осеннюю лихую ночь занялись у него конюшни. Кто-то все-таки подпустил петушка. Жалко — много лошадей погибло… А барыня, что лакфиоли любила, в одной ночной рубашке выскочила из окна и убежала в лес. Там ее и поймали мужики и обратно в дом привели…
Не знаю, может быть, от этих рассказов о бунтах и пожарах, от слухов о забастовках в городе, а возможно, от частых разбойничьих случаев над хутором иногда сгущалась тревога. Мать всегда боялась каких-то таинственных приключений с отцом, и всякий раз, когда он собирался ехать по делам в город, спрашивала:
— А забастовки там нету?
Тревога ее передавалась и нам, детям. Но отец, когда узнавал о волнениях рабочих или пожарах в соседних имениях, всегда странно возбуждался и веселел, посмеивался над страхами матери. На нашем же хуторе и в самом деле, кроме частых разбоев, никаких особенных волнений пока не случалось.
И только когда стали появляться на хуторе всякие «хожалые люди», покой был нарушен., Но об этом будет рассказано в следующих очерках.
Горе
В страшную для нашей семьи зиму 1904–1905 года нас, братьев, было уже трое. Братцу Коле сравнялся год, и он начал ходить. То время я помню смутно, но жестокая снежная зима, рождественские святки и ужасная трагедия, обрушившаяся на нашу семью, встают в моей памяти отчетливо.
По-видимому, в память врезывается особенно глубоко только то, что потрясает душу, ложится на нее, как черное пятно на чистую поверхность зеркала. И облик моих младших братишек вырисовывается особенно ясно в связи с впечатлениями той лютой степной зимы: покрытых толстым слоем льда и снега окон, серебрящихся инеем, промерзших стен нашей бедной хибарки и клубов пара, врывающихся со двора в дверь из сеней.
Только с этой мрачной поры я начинаю остро, до щемящей тоски, помнить братьев и все, что происходило до этой зимы веселого и печального в нашей семье и на хуторе. Как будто тяжелая болезнь, из которой выкарабкался один я, и горе родителей сняли с моего детского сознания полог, сделали меня сразу намного старше.
Как я уже сказал, Тима был очень подвижным, на редкость смышленым и, не в пример мне, смелым мальчиком. Несмотря на то, что я был старше его года на полтора, я отставал от брата в остроте восприятия всего, что нас окружало. Кареглазый, худенький — таким я вижу его в своем воображении, он вился вокруг всего, как жадный к свету мотылек. Произносить слова он начал раньше года (я заговорил полутора лет), тараторил непрерывно, смеша «взрослыми» словечками отца и мать. А я рос букой, разговаривал мало и как бы с трудом. Мать, не то шутя, не то всерьез, говорила: «Нашему Ёрику бабка язык бритвой подрезала, да неудачно. Хватила, да чуть целиком и не отчекрыжила — так кровью, бедняжка, и захлебнулся. Вот он теперь и молчаливый».
И верно: существовал в те годы странный обычай — подрезывать детям языки, чтобы они не шепелявили, не картавили. Делали это повивальные бабки и всякие знахарки обыкновенными перочинными ножичками или опасными бритвами. Операция проходила не всегда чисто и нередко приводила к косноязычию, немоте и даже к смерти.
Жили мы с братом дружно, ходили всюду вместе, взявшись за руки, и стояли друг за друга во всяких опасностях крепко. Вот мы обороняемся от жирного придурковатого работника армянина Федура. Он питает к нам странную неприязнь, грозит суковатой палкой, пугает страшно выпученными бараньими глазами и делает вид, что ищет в карманах ножик.
— Я вам ухи буду резит! Чик-чик ухи! — грозит он, а мы с Тимой храбро швыряем в него камешками и только, когда Федур, не на шутку разъяренный, неуклюже ковыляя на коротких ногах и пыхтя, как паровоз, пускается за нами в погоню, улепетываем со всех ног, не чуя под собой земли.
Федур был для нас воплощением всяких зол на земле — он-де и маленьких котят в колодце топит, и птичьи гнезда разоряет, и яйца у кур-несушек ворует да тут же прокусывает скорлупу и высасывает сырьем, и за детьми гоняется, чтобы им носы и уши резать, и за все это наши сердца пылали к нему гневом и жаждой мести. Никто иной как изобретательный Тима придумал для Федура ужасную казнь, которой никогда не суждено было осуществиться, — накормить Федура сырыми кабаками (тыквами) так, чтобы он, как хвастливый пузырь в сказке, раздулся и лопнул.
Борис Гаспарович, управляющий имением, вежливый старичок армянин, был на нашей стороне. Он часто запросто заходил к нам в мазанку и, хохоча от всей души, придумывал вместе с нами для несчастного Федура не менее жестокие и причудливые казни: то грозился поставить его пугалом на огороде, чтобы его клевали вороны, то протянуть через печную трубу, что для толстого Федура было явно непосильным испытанием.
Вот жена управляющего, тощая и черная, как кочерга, вечно суетящаяся старуха, по старому армянскому обычаю ходившая в длинных, спадающих из-под юбки до темных пяток пестрых шароварах, стоит на крыльце хозяйского дома и на ломаном русском языке с большим прибавлением армянских слов кричит моей матери:
— Мачка-а! Гони дити — кавун давал!
Взявшись за руки, я и Тима бежим в хозяйский дом. Там каждому из нас вручают по большому арбузу. Мы обхватываем их ручонками и, прижимая к себе, отправляемся домой. От дома до мазанки сажен двадцать пять, не более, но нам кажется — целая верста. Ноша для нас непосильная, и первым начинаю сдавать я. Арбуз тянет меня к земле и готов выкатиться из моих рук.
Я реву во весь голос. Тима держится более спокойно, но и он не выдерживает. Мы останавливаемся и плачем дуэтом, но арбузов не выпускаем. Навстречу нам бежит мать. Она не добегает нескольких шагов, когда арбуз предательски выскальзывает из моих рук и катится под горку, как большой зеленый мяч. Но Тима и тут оказывается более догадливым: в самый последний момент он перестает плакать и садится на траву. Ему сразу становится легче — арбуз спокойненько лежит у него на коленях…
Мать хвалит брата, а меня называет рохлей, плаксивой девчонкой. В тот же вечер Борис Гаспарович, завидев меня и хитро подмигивая, спрашивает:
— А кто это кричал нынче так, что за версту в степи слышно было?
Я храбро отвечаю:
— Федур кричал.
Так стали мы сваливать на бедного Федура все плохое, чего не хотели признать за собой.
Где-то на краю света полыхала кровопролитная и бессмысленная война с японцами. Стены нашей мазанки покрылись грубо раскрашенными лубочными картинами сражений и портретами генералов Линевича, Стесселя, Куропаткина, Скрыдлова, Кондратенко. Вот мы стоим с Тимой перед картинами и портретами и нараспев, выговариваем имена полководцев, переделывая их на свой лад: «Лилевич, Сесель, Купатник, Крыдало…»
Японцы на картинах изображены преувеличенно желтолицыми и косоглазыми, с оскаленными лошадиными зубами, а наши солдаты — румяными и лихими богатырями. Они храбро нанизывают японцев на длинные штыки, рубят им головы, палят из винтовок и орудий. Впереди шагает попик и благословляет героев высоко поднятым крестом. А в тыл «желтолицым макакам» уже скачет казачья конница; японцам, видно, скоро конец, и, может быть, поэтому внизу, в самом углу картины, в огромную медную трубу во всю мочь дует трубач. Багровые щеки его надуты, как мячи, глаза грозно выпучены. Мне почему-то особенно запомнился этот трубач. Казалось, я слышу рев его трубы, бесконечный, неутихающий, то жалобный, то тупо победный…
Отец заинтересованно остро воспринимал войну. И это понятно — ему в то время было сорок лет, и только вследствие быстрого разгрома русских армий и скорого конца войны запасные второй очереди избежали мобилизации. Но я помню тревогу матери, хотя и не придавал ей значения, не понимал ее. У отца были в этой войне свои друзья-герои и свои недруги. В народе ходили разные слухи, народ оценивал войну по-своему, он знал многое. И отец вслед за другим называл Куропаткина генералом-от-«плохантерии», Линевича — старой бабой, Стесселя — предателем, а о Кондратенко и адмирале Макарове отзывался восторженно.
Но война вскоре отступила на задний план: ее заслонило большое семейное горе.
Особенно запомнился казавшийся мне потом зловещим морозный глухой вечер под рождество. Тогда этот праздник был своего рода отдушиной в мир маленьких радостей, чем-то скрашивающих нужду.
Ни отец, ни мать не были религиозными и нас, детей, не особенно приневоливали к вере и молитве. Отец никогда не говел, не ходил в обычные праздники в церковь, благо до ближайшей церкви в Синявке было десять верст. О попах и монахах, церковных обрядах — венчаниях в церкви, крестинах и погребениях отзывался насмешливо и пренебрежительно. Несмотря на это, рождество и пасху родители соблюдали всегда пунктуально и не столько религиозную их сторону, сколько чисто внешнюю, обрядную.
В те времена семья наша в обычные дни кормилась чем попало; мясо, сдобные пироги, колбаса считались роскошью, поэтому долгие недели постов отбывались без всяких сожалений. «Для бедного человека всегда пост», — говорили тогда. Но наступало рождество, и мать старалась изо всех сил, «в нитку тянулась», чтобы на праздничном столе были и свинина, как у всех добрых людей, и домашняя колбаса, и сдобные пироги с мясом и курагой, и взвар из сухих фруктов, и клюквенный кисель.
Не менее важным рождественским кушаньем была кутья — обыкновенная разваренная пшеница с орехами и изюмом. Но в сочельник готовилась так называемая «голодная» кутья — без изюма, чуть подслащенная сладкой водичкой.
Мы уже готовились сесть за стол, чтобы съесть «голодную» кутью, когда к нам постучали.
Дверь отворилась, и, впустив за собой облако белого морозного пара, в хату вошла закутанная шалью женщина, в полушубке и валенках. Она поставила на стол обвязанную ручником большую глиняную миску и сказала:
— Принимайте вечерю, тетка Варвара. Да помяните моих диточек… — И горько заплакала.
Носить друг другу под рождество «вечерю», то есть «голодную» кутью и взвар, было старинным обычаем живших на хуторе украинцев-тавричан. Мать стала утешать соседку, но та, закрыв глаза шалью, сказала: «Прощевайте» — и вышла. Мать проводила ее за порог, вернулась встревоженная. Мы, сидя за столом, невольно притихли. Отец хмурился.
— Детей по хутору душит глотошная, а они ходят друг к другу — «вечерю» носят, распространяют заразу, — сердито сказал он. — Это же кого у нее задавило?
Мать вздохнула:
— Двоих: парнишку Саньку, что еще с нашими бегал, и девчонку, нашему Коле ровесницу. Два дня назад как похоронила их тетка Приська.
— Вот и к нам, гляди, занесла болезнь, — проворчал отец.
— Бог милует, — ответила мать. — Как бы я ее не пустила? По-ихнему грешно «вечерю» не принимать.
Я и Тима с большим аппетитом ели взвар и кутью тетки Приськи; мы еще не понимали, как могли похоронить нашего однолетка белоголового Саньку, с которым мы совсем недавно играли. И что такое «хоронить»? Острый на слово Тима первым задал матери такой вопрос. Мать печально ответила:
— Закопали Саньку и Евдошку в землю — вот и похоронили.
Мы приуныли: быть закопанным в землю — кому бы не показалось страшным? И только самый младший братишка, Коля, совсем не печалился. Он тянулся к миске с кутьей пухлыми ручонками и забавно лепетал:
— Ням, ням… Хотю катю.
Коля был веселый, резвый ребенок, полненький, кареглазый, смешливый. Накануне к празднику мать сшила ему длинную, почти до пяток, красную рубашонку; отец надел на его белую шейку шнурок с нанизанными на него бубенчиками. Коля бегал по хате, позванивая бубенчиками, и заливался беспечным смехом.
Придя с работы, отец подхватывал его на руки и, любуясь им, ласкал чаще, чем нас. Но мы с Тимой не обижались — мы очень любили Колю и целыми днями возились с ним, затевали всякие игры, катали его по хате в сделанной отцом тележке на скрипучих деревянных колесиках.
Закончив предпраздничную «вечерю», мы легли спать, а ночью Коля вдруг закашлялся, заплакал, и его стошнило. И до самого утра он часто просыпался и плакал. Отец и мать встревожились и долго шептались. Были слышны отдельные пугающие слова: «Не дай бог… Что мы будем тогда делать?» — «Ничего, мать, все обойдется», — успокаивал тихо отец.
Помнится, и мы с Тимой спали беспокойно — мне снились страшные сны, и все время во рту чувствовался кисловато-горький вкус клюквенного киселя и «голодной» кутьи.
Но пришло утро, страхи развеялись. К нам явились из тавричанских дворов «христославы» — взрослые парни со звездой, склеенной из цветной бумаги и стекла, приделанной к палке, складно пропели: «Рождество твое, христе-боже наш…» Мать дала им леденцов и по куску пирога, и славильщики ушли. За ними повалили другие; они ходили по дворам ватагами, иногда изрядно подвыпившие, и отец не пустил их.
С восхода солнца Коля принялся бегать по хате и звенеть бубенчиками. Мы возили вокруг стола игрушечные колясочки, воображая, что едем в город. Но к полудню Коля вновь расплакался и закашлялся, его опять стошнило. Как-то сразу оборвался его смех, перестали звенеть бубенчики. Мать взяла его на руки, сжала ладонями голову и обнаружила жар.
Так первым заболел скарлатиной наш общий любимец веселый Коля. До вечера он уже не вставал, а ночью метался, кашлял, хрипло дышал и все время бредил и плакал. Я тоже чувствовал вялость и головную боль. Наутро не встал с постели Тима, а за ним слег и я.
Никогда не забуду я тех смутных дней, покрытых инеем, словно белым мохом, маленьких окон и стен нашей мазанки, тяжелого зимнего сумрака, долгих глухих ночей с мерцающей в углу лампадкой, хрипения и бреда Коли, не забуду противных ощущений в первые дни заболевания — острой рези в горле при глотании, точно в него попало толченое стекло, противного уксусного компресса, ужасной головной боли и жара.
Жар все усиливался, пока я не почувствовал, что меня как будто погружают в кипяток, а стиснувшее горло раскаленное кольцо сжимается все туже. Я стал задыхаться, и только что начавший открываться передо мной светлый мир детства погрузился во мрак…
Пришел я в себя не скоро. Я лежал на высоком сундуке, орловском приданом матери, и первое, что увидел, был теплый луч солнца на стене. Видимо, зима уже подходила к концу, стекла в окошках оттаяли и были удивительно прозрачны; в них виднелся кусочек двора с еще блестевшим кое-где на солнце снегом и лужами.
Было слышно, как, звеня, стекала с крыши вода и в саду гортанно кричали грачи. Наступала весна.
Первый мой вопрос к матери был:
— Где Тима и Коля?
Голос мой был слаб, он не звучал, а шелестел, точно сухой лист на ветру.
Мать ответила:
— Тимочки и Коли нету — они уехали в Синявку.
— А зачем?
— Знакомый дядя взял их к себе… погостить.
За время болезни детей мать, очевидно, научилась самообладанию и ответила так твердо, что я поверил.
И до самых теплых дней, пока я окончательно не выздоровел, не встал самостоятельно на ноги и не начал ходить, я каждое утро спрашивал то у отца, то у матери:
— А Тима и Коля еще не приехали?
— А вот совсем потеплеет, дорожки подсохнут, и они приедут, сыночек, — отвечали мать или отец, и при этом как-то странно глядели на меня и отворачивали лица.
А однажды после моего вопроса отец глухо и сдавленно закашлялся и выбежал из хаты.
Но слишком захватывающим было ощущение возвращения к жизни, и я не обратил внимания на поведение отца.
Прошло не менее месяца, пока я вновь научился твердо ступать по земле, а голова моя перестала болтаться на тонкой исхудалой шее, как сломанная шляпка подсолнуха.
Весна шла. Все жарче припекало за окном солнце, громче кричали грачи, в хате становилось с каждым днем все светлее и теплее. Я глядел в окошко и видел, как сошел снег, как сбежали ручьи, высохла земля и стала пробиваться на буграх первая трава.
Я все реже спрашивал о Тиме и Коле, больше молчал, словно чуя сердцем истинную причину их исчезновения. Ночью я просыпался, слышал всхлипывания матери и строгий шепот отца: «Перестань же, Варь. Как говорят: бог дал, бог и взял».
Но тут же сам он начинал громко сморкаться.
Наконец меня выпустили во двор, и я вновь увидел сияющий мир, который чуть не исчез для меня навсегда.
Я был один в этом огромном, голубом, зеленом и сверкающем мире, среди неоглядной степи, пологих балок и молчаливых курганов. Я впервые почувствовал жгучее нестерпимое одиночество. Надо мной сияло солнце, вокруг зеленела трава, цвели подснежники и желтые маргаритки, пели птицы, вдали дрожала канва весеннего марева и темнели куда-то зовущие дороги, а я был одинок: возле меня не было ни Тимы, ни Коли, не было белоголового Саньки и многих наших звонкоголосых сверстников.
И я вдруг остро всем своим существом ощутил печальную правду. Спазмы сжали мое горло, я заплакал и побежал к матери.
— Мама! Мамочка! Тима и Коля не приедут. Мне скучно! — крикнул я с порога и упал ей на руки.
Подхватив меня, прижав к груди так, что я чуть не задохнулся, мать заплакала вместе со мной…
Перемены на хуторе
…В теплый и солнечный день пасхи отец, в последнее время грустный и молчаливый, взял меня за руку и сказал:
— Идем. Я покажу тебе кое-что.
В руке я сжимал крашеное пунцовое яичко — совсем не религиозный, а скорее языческий символ весны — единственное утешение многих обездоленных людей былой замордованной нуждой Руси. Взять красное яичко и покатать его с зеленой горки — в этом удовольствии бедняк, пожалуй, стоял на одной равной тропке с богачом. А то еще выбирали биток покрепче, варили его в крутой известковой воде, красили в отваре луковой шелухи и выходили «на бой» с сытыми лоботрясами из купеческих семей. У тех карманы переполнены малиновыми и розовыми пасхальными писанками. Выходил супротив всех этакий вихрастый паренек и своим невзрачным «луковым» биточком переколачивал все до единой нарядные купеческие крашенки — чем не радость и не удовольствие!
Отец сунул в карман еще четыре крашеных яйца, и мы пошли.
Мать с грустью посмотрела нам вслед. И вот мы на опушке адабашевского сада. С высоты ликующе сияет, словно улыбается всей земле, солнце. Теплые пригорки осыпаны желтыми влажными лютиками, лепестки их липнут к пальцам, словно смазанные медом. Первозданный аромат их, аромат цветочной пыльцы, действительно напоминает запах меда. Жаворонок взвился так высоко, что его не видно, и только слышится бесконечное журчание.
Мы поднимаемся на пригорок. На нем — рядом с двумя старыми, зелеными, обложенными белыми камешками — два свежих, еще не поросших травой холмика. Деревянные, окрашенные зеленой краской кресты венчают их.
С минуту я и отец стоим у скромных маленьких могил молча. Отец незаметно снял картуз и смущенно мнет его в руках. Усы его вяло обвисли, но добрые, не то виноватые, не то растерянные, глаза остаются сухими.
— Вот тут, рядом с Мотей и Ёсей, лежат наши Тима и Коля, — чуть слышно говорит он.
Четыре безвременные могилы, четыре оборванные жизни…
Отец кладет на каждую могилу по яйцу, поправляет камешки, выпрямляет осевший, похилившийся крест на могиле Ёси. Алые яйца, как четыре цветка, ярко рдеют на солнце… Звенит жаворонок, жужжит, прилипнув к желтой чашечке цветка, пчела.
Жизнь вечно молодая, ежегодно обновляющаяся, справляет свой весенний праздник, а трое моих братьев и сестренка уже не будут жить. Не будут! Они погибли, как нежные ростки на морозе, убитые страшной болезнью. Они были беззащитны. На сорок верст в окружности не было тогда ни одного врача, ни единой больницы, хотя бы маленькой амбулатории. За врачом надо было ехать в Ростов или Таганрог, но разве мог сделать это отец? Даже на оплату врачу у него едва ли хватило бы месячного жалованья.
В лютую декабрьскую стужу и метель, выпросив у управляющего подводу, кинулся он в ночь в станицу, чуть было не заблудился в дороге и не замерз. Только к полдню привез он в хутор фельдшера из войсковых казачьих лекарей, грубого, ворчливого старика. Набор медикаментов его был весьма несложный: касторка, йод, бром, валерьянка; а инструментарий и того проще: панацея от всех болезней — банки, клистирная трубка, пиявки, обыкновенная чайная ложка.
Взглянул он на хрипевших и уже посиневших Тиму и Колю, грубо, по-солдатски, обругал отца за то, что тот так поздно к нему обратился. Попросил чайную ложку, засунул Коле, потом Тиме в рот, раздавил гнойные нарывы, и оба брата стали задыхаться…
Они умерли на руках отца. Он слышал, как все слабее и медленнее, точно потухающее пламя, бились их маленькие сердца. Потом он взял на руки меня, но тут же, почувствовав, что не в силах будет перенести третью смерть за одну ночь, передал меня матери и убежал в степь. Там он, по словам хуторян, бегал как безумный и, не смахивая с глаз замерзающих на морозном ветру слез, всем встречным хуторянам повторял, что вот у него еще вчера было трое детей, а сегодня не осталось ни одного…
Обо всем этом рассказал мне отец, сидя у детских могил, рассказал, как будто самому себе, для успокоения, словно думал вслух.
Я слушал плохо, я уже свыкся с утратой, хотя и скучал по временам. Меня отвлекали то поющий в небе жаворонок, то сидящая на цветке пчела.
В то радостное утро трагизм рассказа не дошел до моего сознания. Я бегал вокруг могил и резвился вовсю.
И отец, глядя на меня, вдруг улыбнулся и сказал:
— Ну, расти, расти, сынок. Теперь ты у нас остался один.
И эти слова запомнились мне. Теперь я был у отца единственным сыном…
С той печальной зимы что-то изменилось в жизни хутора: он стал как будто пустыннее. В нем меньше стало детей. Точно черная метла смахнула в могилы более половины детского населения хутора. А где мало детей — там и радости меньше.
Но не только это меняло облик адабашевской экономии. Видимо, ко всему живому, ко всему шумевшему на всю округу хозяйству подкрадывалась какая-то невидимая хворь.
И не то чтобы все вымирало, нет! Но всё — люди, всякая живность, стада скота, породистые быки, кони, овечьи отары — стало постепенно редеть, расползаться, таять, как снег на весеннем солнце.
Экономия Марка Ованесовича Адабашева еще жила — так же бурлила начиная с весны работа в степи, слышались крики погонычей, прокладывали борозды плуги и высевали зерно новейшие сеялки фирмы «Гельферих Саде», так же вызревала отборная пшеница, жужжали лобогрейки, стрекотали, сбрасывая туго связанные снопы, сноповязалки, заунывно гудели на токах паровые молотилки, ходили по неоглядным толокам отары и разный скот, но все это словно сжалось в объеме, стало малочисленнее и тише..
Первыми исчезли английские скаковые лошади и жокеи. Опустели светлые денники громадной конюшни. В них теперь стояли только выездные и рабочие лошади. Потом уехали неизвестно куда смуглые вислоусые чабаны-молдаване со своими воняющими на весь хутор трубками и длинными герлыгами. Опустела низкая закоптелая каменная изба, в которой жили они зимой, куда-то подевались и своры свирепых, как тигры, лохматых овчарок, кидавшихся на людей без разбора. Однажды темной осенней ночью они до полусмерти искусали прохожего.
Из всей дикой псарни остались только прижившиеся у нас два ветерана: Серко, громадный, волчьей масти пес, с белыми звездами поверх красноватых звериных глаз да желтый, немощный, длинноногий Золин. Оба были уже дряхлы и доживали у нас свой век.
Но самое грустное, что затронуло и мое детское воображение, было то, что отец весной уже не разбивал в саду и вокруг хозяйского дома цветочных клумб, не высаживал роз, гладиолусов и лилий. В теплице стекольные рамы были разбиты, так и остались не отремонтированными; в ней накапливался мусор и гулял ветер.
Совсем перестала наезжать в Адабашево хозяйка с дочерью. Зато частым летним гостем в хуторе стал молодой хозяин Иван Маркович. Роль его в хозяйстве была не совсем обычной и вызывала у старожилов хутора кривые улыбки. Он проводил время то в саду, то на токах, докучая смазливым работницам-хохлушкам назойливыми приставаниями. По вечерам он распевал с ними песни, а иногда заваливался тут же на токах с наиболее уступчивыми на ночевку.
Кончилась деловая миссия молодого хозяина тем, что его избили хуторские парубки так, что он еле утащил ноги и на другой же день укатил в город. И начали поговаривать, будто молодой хозяин после этого случая свихнулся с правильного пути и стал топить бездельную скуку в ночных кутежах и всякого рода вольных забавах.
Ходили также слухи, будто старик Адабашев, желая угодить любимой дочери, построил для нее где-то на окраине Нахичевани, в добавление к приданому, громадный особняк, обставил его, как княжеский дворец, украсил бухарскими коврами, заморским хрусталем, вазами и статуэтками. Но когда сыграли пышную свадьбу и молодые приехали в новое жилье, то дом будто бы невесте не понравился. Она фыркнула и заявила, что жить в нем не будет, потому что построен он не на главной нахичеванской улице.
Гневливый до беспамятства Марк Ованесович тут же, при молодых, исколошматил всю дорогую мебель, вазы-баккара, статуэтки, расколотил окна и зеркала и уехал в хутор, к своим отарам и чабанам. Старик захандрил, помрачнел. А из города доходили неприятные слухи: единственный сын едва дотянул до выпуска в коммерческом училище, сначала потихоньку, а потом явно стал прокучивать отцовские капиталы — все чаще Марку Ованесовичу присылали из ресторанов неоплаченные счета, а от неизвестных лиц — крупные долговые обязательства. Пришлось пустить под заклад одну экономию, а потом и продать. Загоревал старик Адабашев, стал прихварывать.
И вот в один из знойных июльских дней Марка Ованесовича прямо в степи, на новой сноповязалке, которой он сам сел управлять, хватил удар. Он свалился с высокого сиденья уборочной машины прямо на пахучий пшеничный сноп. Все еще крепкое, поджарое тело его в сатиновом жилете, запыленных шароварах и шерстяных, до колен, белых чулках чуть не попало под косогоны. Его вовремя подхватили и оттащили в сторону те самые работники, которых он за час до своей смерти отхлестал арапником. Они же, не помня хозяйского зла, уложили его на узкие дрожки-бегунки и отвезли в хутор.
Так оборвалась жизнь степного воротилы, а с нею стала клониться к закату и хозяйственная мощь его владений.
Над самой балкой по широкому выгону стали селиться крепкие зажиточные украинцы-тавричане, вышедшие по столыпинской реформе из смежных сел «на отруба». Их цепкие руки стали тянуться к адабашевской земле: сначала арендовать ее, а потом и отщипывать по кускам. Нарождался, набирал силу новый, не менее жадный хищник.
Все заметнее стало редеть армянское население хутора, и постепенно заглохла армянская речь, а вместо нее зазвучала плавная украинская. Полетели над степью широкие «хохлацкие» песни, то задумчивые и печальные, то веселые и буйные.
Ими, словно запахом степи, напиталось мое детство. Дыханием зреющей пшеницы, цветущего подсолнуха, дынь и арбузов, едкой горечью полыни овеяны мои далекие годы. И я, выросший, как подсолнух у пыльной дороги, не стоял в стороне от всей хуторской самобытно яркой, сухо пахнущей степными травами и цветами среды, отдельно от всех этих Охримов, Юхимов, Присек, Санек и Ёсек, чабанов и пастушат.
Факультет природы
С той поры, как я стал помнить себя, пробуждение моего разума шло через познание природы. Главным учителем моим здесь был отец. Он открывал одну завесу за другой, показывая и объясняя на свой далеко не ученый, но глубоко поэтический лад все явления, все краски, звуки и запахи степного мира.
День за днем отец раскрывал передо мной тайны степной природы. Он дал названия многим явлениям, которые позднее стали для меня как бы подтверждением книжных научных истин. Из его уст я узнал наименования трав и цветов, их известные только народу свойства. И теперь, бывая в летней степи, вдыхая ее запахи, я читаю ее, как знакомую с детства книгу.
В восемь лет я знал, как цветут жесткий зверобой и мята, мягкий, словно плюшевый, коровяк, когда съедобны горьковатые, имеющие вкус редиса, стебли сергибуса, сладковатое медвежье ухо, какую целебную силу таит в себе чистяк, какой ароматный и светлый мед собирают с него и невзрачного на вид колючего синяка пчелы, что будяк (татарник), хотя и обжигает своими колючками, всегда гостеприимен для труженицы-пчелы, а будяковый мед бел, густ, ароматен и особенно целебен.
И во многое другое посвятил меня отец. Так, на всю жизнь запомнилось мне первое знакомство с тюльпанами — дивными предвестниками мая в степи. Их внезапное появление всегда казалось мне чуть ли не чудом.
Где-то в глубине земли сидит, притаясь, маленькая невзрачная луковица. Словно втихомолку, неприметно для людских глаз, выгоняет она на поверхность невидный сизо-зеленый листок, который трудно на первых порах различить среди прочей весенней травы. Приземистые острые листки удваиваются, и за одну ночь из них вытягивается тонкий стебель с бутончиком. И вот, как только взойдет солнце, бутоны раскрываются (чаще всего это бывает в погожее апрельское утро), и степь становится неузнаваемой — она словно вспыхивает и горит, переливаясь под утренними лучами алыми, желтыми, розовыми и белыми огоньками.
Изумительно-прекрасна ранним солнечным утром тюльпанная степь! Как-то в конце апреля отец и я ехали в казачий хутор. Оранжевый краешек солнца, как прищуренный огненный глаз сказочного великана, только что высунулся из-за дымчато-сиреневой кромки степи. Где-то в поднебесной выси, встречая солнце, неистово звенели жаворонки. Чистейший воздух, казалось, не помещался в моей груди — так много его было в степи и так был он густ и полон могучих запахов.
Дорога вильнула под изволок неглубокой балки, и отец, вдруг придержав коня, показал кнутовищем куда-то в сторону и сказал:
— Тюльпаны!
Я взглянул туда, куда показывал отец, и разинул рот от изумления: вся степь была огненно-красной. Лучи молодого, словно умытого солнца осветили ее, крупная роса сверкала на стебельках травы, как мельчайшие камни-самоцветы, и среди этого великолепия, блистающей росы и солнечного света пунцовыми и рубиновыми точечками на зеленом фоне горели и звали к себе удивительные, казавшиеся мне в то время сказочными, цветы.
Детский восторг охватил меня. Отец тоже забыл, что едет в хутор по очень важным и неотложным делам, съехал с дороги и остановил линейку среди неоглядного тюльпанного разлива. И вот мы — сорокалетний бородатый мужчина и семилетний мальчуган — самозабвенно бегаем по полю и рвем тюльпаны. Я то и дело вскрикиваю от восхищения и все бегу и бегу за новыми алеющими впереди цветами. У меня их уже целая охапка, она не умещается в детских руках, но каждый новый тюльпан кажется мне намного краше сорванных, диковиннее, невиданее по расцветке. Это были действительно очень крупные, дородные цветы. Потом отец сказал мне, что тюльпаны расцвели не более получаса назад, едва забрезжила ранняя зорька, и еще ни один человек не успел побывать здесь; мы захватили их первыми, как только они распустились.
Отец так и сказал: «Тюльпаны только что проснулись, начали умываться росой — тут-то мы их и захватили свеженькими».
Его слова показались мне словами из живой народной сказки. Помнится, я забежал очень далеко, так что отцу пришлось возвращать меня окликом. Солнце уже поднялось и стало пригревать, а я все бежал и бежал, и тюльпанному морю не было конца….
Возбужденные, вспотевшие от беготни, вернулись мы наконец к линейке, к смирному мерину, пощипывающему молодую траву. У меня горело лицо, грудь распирало от какого-то небывалого чувства. Руки сжимали целый сноп тюльпанов, да и у отца было их не меньше. От тюльпанов струился тончайший, свойственный только ранним весенним цветам аромат.
Отец и я молчали. Я не отрывал глаз от тюльпанного поля, да и отец, поправляя на коне шлею, нет-нет да и оборачивался назад, восхищенно поглядывая на поле.
С сожалением покинули мы тюльпанное раздолье, и выехали на главную проселочную дорогу. Я все еще был взволнован, как-то по-детски хмелен и все время оглядывался. Вздыхал глубоко и отец. Глаза его необычно блестели.
Никаких глубоких мыслей у меня тогда, конечно, не могло быть, но теперь я могу смело сказать: в то утро я особенно остро почувствовал, что в жизни есть прекрасные вещи, которые существуют независимо от того, в счастье или в горе живет человек.
Не только в беготне по степи проводил я летучее детское время. С уверенностью могу сказать: отец создал для меня своеобразный факультет природы. Я обретал знания в нем не только пассивным созерцанием, но и посредством труда и дела, которые отец всегда находил для меня.
Правда, это не совсем мне нравилось. Во всяком деле есть однообразно-скучная сторона. Мне куда веселей казалось бегать вместе с пастушатами и детьми батраков по пустынным балкам и буеракам, по колкому жнивью вслед за стрекочущими под знойным южным солнцем лобогрейками, кувыркаться в душистом сене на необозримых сенокосах или путаться под ногами рабочих на токах, где так хорошо пахнет теплым машинным маслом от ритмично работающего паровика и мелодично, то ниспадая до басовой ноты, то возвышаясь до звенящего жужжания, поминутно захлебываясь от сбрасываемых в него зубарями пшеничных снопов, гудит барабан молотилки.
Неплохо также было забраться вместе с ребятишками на гороховое поле и, прячась в густой поросли, набивать пазухи приятно поскрипывающими стручками, а потом, будучи застигнутым сторожем, бежать что есть духу, опасливо озираясь — не пустит ли вооруженный дробовиком дед в спину или пониже ее добрый заряд крупной бахмутской соли.
Но такие шалости случались не очень часто. Я больше вижу себя возле отца, то в саду, на пасеке, то на огороде, то на охоте в сухие августовские и сентябрьские дни. Я прилежно проходил отцовские факультеты.
Таков факультет номер первый. На подоконниках нашей мазанки стоят деревянные плошки, наполненные мягкой садовой землей. На дворе начало марта, сырое, холодное, хмурое — то польет дождь, то завьюжит мокрая метель. В саду еще лежат сплюснутые и гулкие, как мосты, сугробы. А в хате уже весна — отец превратил комнату в теплицу.
Я знаю, у него на лежанке в тряпичных узелках греются и прорастают, «проключиваются» семена огурцов, помидоров, баклажанов и других овощей. Как-то утром он берет узелки, разворачивает мокрые тряпицы и с видом волшебника, открывающего тайны своего волшебства, показывает их мне, и — о чудо! — обыкновенные огуречные семечки пустили белые волокнистые росточки — «ключки». Они сплелись ими, как белые козявки усиками, и от них исходит тончайший запах весеннего, оттаявшего болотца.
Отец бережно берет семечко, пальцем выдавливает в земле неглубокую ямку и опускает в нее семечко. Потом велит мне проделать то же самое, строго предупреждая не повредить «ключки». Затаив дыхание, я сажаю огуречные семена. Не обходится на первых порах и без ошибки — несколько, нежных «ключек» сломаны моими непривычными пальцами, отец ворчит: «Сломал — не взойдут. Эх, ты!» Но потом все налаживается, пальцы приобретают гибкость и осторожность, семена ложатся правильно, «ключками» вниз, заравниваются землей.
Посев окончен, начинается пора нетерпеливого ожидания. И вот на третий-четвертый день, проснувшись рано утром, я подбегаю к плошкам и вижу, как, пробив земляной покров, высунулись первые бледно-зеленые лепестки: некоторые из них еще несут на себе теперь уже ненужную кожуру семечка. Со временем я научился пальцами ловко освобождать от нее еще не окрепший росток. Новое чудо свершилось — растение взошло и быстро тянется к свету. За первой парой лепестков — вторая, за нею третья; растение крепнет, набирает силу, его скоро надо будет высаживать в парник.
Я особенно любил следить за ростками в первые дни после всходов. Каждое утро вскакивал с постели и подбегал к плошкам и всякий раз находил что-нибудь новое: то за одну ночь появлялась вторая пара листиков, то всходил запоздалый росток, долго хранивший в семечке таинственную силу жизни. Отец говорил о нем как о живом существе и всегда поведывал какую-нибудь диковинную историю, вроде рассказа о больном семечке. Семечко долго не могло раздвинуть слой земли — ведь это я по неразумению посадил его слишком глубоко. Но оно упорно боролось за свою жизнь, и росток наконец выбрался к свету.
В то время у меня уже появились первые книжки с крупным шрифтом и ярко раскрашенными цветными картинками. Отец, сам читавший по складам, покупал их мне, бывая в городе, и обнаруживал удивительно верный вкус при их выборе.
Их читали мне вслух отец и более бойкая в грамоте мать. Я слово в слово запоминал многое из читанного. А потом раскрылась передо мной чудесная тайма букв, и я стал незаметно читать сам.
И вот в соединении с первыми практическими уроками по растениеводству запомнилась мне одна веселая сказка о том, как на огороде, на самом солнцепеке между овощами разгорелся спор — кто полезнее и всех дружнее человеку. Редька старалась доказать своим соседям по грядке, что она самая родовитая, полезная и нужная.
Долго длился спор, каждый рассказывал о своих заслугах перед человеком. Болтливая редька, хваставшая своей родословной, была посрамлена: пришел огородник, вырвал ее из земли и, так как она оказалась в середине пустой, выкинул с огорода за изгородь.
Выращивая в плошках огуречную, томатную и прочую рассаду, пересаживая растения в парники, я обращался с ними, как с живыми героями этой сказки, отдавая предпочтение то одному, то другому, но только не «болтливой» редьке.
Не обошлось и без огорчений на первом отцовском факультете по растениеводству. Однажды утром я подошел к плошкам, и сердце мое похолодело: в одной из них, где только вчера взошли какие-то диковинные корнишоны, земля была перекопана, всходы исковерканы, перемешаны с землей.
В первую минуту я не мог понять, что произошло. Мной овладели ужас и жалость.
Давно, со дня смерти братьев, я не плакал так горько. Отец и мать утешали меня и переглядывались. Я готов был заподозрить их в каком-то тайном преступном сговоре, как вдруг взгляд мой упал на лениво растянувшегося на припечке кота Тишку. Мою догадку подтвердил едкий запах, идущий от изрытой земли. Отец и мать поняли все, конечно, раньше, но молчали.
Невежество и коварство этого гнусного зверя, которого я любил не меньше, сразило меня. Я заревел, но уже не от жалости к погибшим росткам, а от ярости. Мне захотелось схватить подлого кота за хвост и трахнуть головой об угол печки, как это делал отец со шкодливыми хорьками и крысами, но слезы точно обессилили меня: я стоял, беспомощно опустив руки.
А Тишка, почуяв недоброе, подозрительно открыл сладко прижмуренные глаза, хотел было потянуться, но тут руки матери схватили его за уши и под жалобное мяуканье и злобное шипение стали тыкать носом в плошку.
— Знай, куда пакостить, знай, паршивец, — приговаривала мать.
Тишка выпустил когти и, не менее взбешенный таким обращением, выгнул напружиненную спину, зашипел, как гадюка, вырвался и кинулся вон из хаты.
В конце концов я выжил его из дому.
Летучие беглецы
У Марка Ованесовича Адабашева, как у всякого крепкого хозяина-степняка, с давней поры в саду стояло десятка четыре ульев-дупляпок. За ними ухаживал дряхлый дед. Старый пчеловод вскоре после поступления моего отца на должность садовника умер, хозяин нанимать нового пчеловода не захотел и уход за пасекой возложил на отца.
Всякое новое дело захватывало отца целиком; он стремился постигнуть все его секреты и не только овладеть им, но и развить, открыть новое.
Ветхие первобытные дупленки, выдолбленные из крупных древесных кряжей или грубо сколоченные из толстых дубовых досок, уже отходили в прошлое. Держались они в народе неизменными многие столетия, по-видимому, еще, с седых времен бортничества.
Но и в начале нашего, двадцатого, века можно было встретить повсюду на Руси древние дуплянки (колоды, сапетки, старчаки) со всеми присущими им деталями не очень мудреного в старину пчеловодческого дела. Еще не изгладились в памяти моей высокие, как печные трубы, колодки, стоявшие на солнцепеке одной из полянок адабашевского сада.
Вид такой пасеки, с мирно роящимися пчелами и благообразным, патриаршего облика, седовласым старичком-пасечником, навевал не на одного поэта идиллические образы и думы. Но отец, кроме приятного вида, усматривал в пчеловодстве еще и обязательную пользу. Он знал: там, где живут и медоносят пчелы, там и сады, и огороды, и бахчи плодоносят лучше, обильнее.
Он уже кое-что слыхал о рамочных ульях, может быть, и сам видел их у орловских помещиков, и решил переоборудовать адабашевскую пасеку. Не шибко грамотный, научившийся читать на царской военной службе, он отыскал где-то затрепанную книжонку по пчеловодству, выбрал наиболее подходящую в южных условиях систему рамочного улья и приступил к делу.
Сам плотник и столяр, он смастерил несколько таких ульев и переселил в них из дуплянок пчелиные семьи. Пчелы стали быстро размножаться, беспорядочное роение и дробление семей прекратились, а тут подоспел урожайный взяточный год, и мед ручьями полился в золотистые соты новых пчелиных домиков.
Но старик Адабашев признавал пользу лишь широко прибыльного, солидного дела. Пасеку, рамочные ульи, какой бы ароматный мед и в каком бы количестве они ни давали, он считал пустяком, забавой, чем-то вроде цветочных клумб или необязательных сладостей за обеденным столом.
Он кушал мед, хвалил нового пчеловода, но на оборудование пасеки не давал ни копейки, и отец на свой страх и риск, из любви к захватившему его делу, стал выделять из своего трудового заработка гроши, отдавать пасека немало сил и досуга.
Без ведома хозяина он ездил за много верст к опытным пчеловодам, знакомился с пчеловодным делом, читал статьи в журналах о жизни и повадках пчел.
Так отец освоил и полюбил еще одну профессию. Она открыла перед ним новую тайну глубоко любимой им природы.
«Маленькая летучая скотинка», как ласково называл он пчел, полонила его сердце, заняла в его жизни чуть ли не главное место. Сад и пчелы — на этих двух основаниях зиждилась его работа, все его интересы. Но пчелы постепенно стали оттеснять на второе место даже сад.
Со смертью Марка Ованесовича хозяйничать в саду стали невежественные в садоводстве, жадные до денег арендаторы, озабоченные лишь тем, как бы побольше собрать каких ни есть фруктов, не обращая внимания на их сорта и тщательно окультивированную породу деревьев.
Страдая от вида гибнущего сада, отец находил теперь утешение на пасеке. Многие детские впечатления мои неотделимы от нее.
…Знойный июньский полдень. В саду рябые тени от неподвижной листвы. Воздух горяч и влажен, в нем, как в подсиненной воде, стоят деревья, не давая прохлады… Запахи полыни, дикого алого горошка, чабреца, «бабки» текут легкой струей со степи, смешиваются с тяжелыми запахами разомлевшего от жары сада. Из влажной низины тянет резким дурманящим духом болиголова и дикой конопли — от него голова становится свинцовой и клонит ко сну.
Сад наполнен ровным дремотным гудением. Над полянкой, где стоит пасека, словно висит темная сетка из пересекающихся линий полета пчел. Иногда сетка густеет, уплотняется, превращается в клубящееся облако, и тогда басовитый звук пчелиных крыльев повышается до напряженной звенящей ноты. Это значит — из какого-то улья вылетает рой. Июнь — главный месяц роения, самое хлопотливое время для пчеловода, особенно когда пасека наполовину состоит из дуплянок и нет возможности срезывать ненужные маточники, избавлять пчелиные семьи от лишних претендентов на пчелиный престол, на новую семью. В дуплянку с беспорядочно налепленными сотами не полезешь с резцом, чтобы убрать длинные восковые отсоски с личинками будущих маток или трутневую детву будущих прожорливых тунеядцев. Юные матки вылупливаются быстро, и, когда их скапливается в улье по десяти штук, начинается в пчелиной семье разлад и стремление к дележу.
Тут подошло время медоноса: хлопотливые труженицы так и рвутся в поле, к цветам, а дома — беспорядки, семейные неурядицы, борьба маток и их приближенных за свое место в новой семье. И разрывается семья на части, каждая молодая способная к деторождению матка (бесплодных пчелы сами убивают) начинает собирать вокруг себя новую семью из рабочих пчел, число их растет с каждым часом, и вот новый рой готов к вылету. И бывает так: если семья сильна — сколько маток, столько и роев вылетает из улья, семья дробится, слабеет и уже не способна к нормальному медосбору.
Случалось, из одного и того же улья в день вылетало по два, по три роя. Но это бывало редко. Не каждый рой удавалось взять в роевню — специальную, обитую холстиной, похожую на решето ловушку; иногда рои улетали с пасеки в степь, их так и не удавалось догнать, сбить на посадку; некоторых обнаруживали за десять-пятнадцать верст от хутора, а были и такие, что исчезали бесследно — это так называемые рои-беглецы, рои-путешественники.
Мне запомнилась не одна страдная пора таких массовых роений, когда целые дни уходили на снятие с деревьев роев, на погоню за ними. Отец рассказывал, что тут все зависело от характера и резвости матки. Рой летит туда, куда летит матка. Смирная, солидная матка, расположенная к домоседству, плодовитости и трудовому укладу в семье, вылетев вместе с роем, покружившись минут пять над пасекой, тотчас же садится в укромное местечко на дереве или искусственной ветле, а за нею опускается и рой — все сорок или пятьдесят тысяч пчел. Они облепляют свою царицу плотным комом в виде свисающего мешка, весом иногда до десяти фунтов, и тут пчел легко стряхнуть в роевню или прямо в улей.
Но беда, если матка — ветреница и склонна к бродяжничеству: она летит куда глаза глядят, а за нею мчится и весь рой, иногда так быстро, что не угнаться и лошади. Известно: скорость полета пчелы (без груза) около семидесяти километров в час.
Мне было уже семь лет, и я мог хорошо запомнить несколько рассказов отца о матках-бродяжках и странствующих роях. Вот один из этих рассказов.
В знойный летний день по степи шла женщина. Свои башмаки она сняла — босиком шагать по дороге в жару легче — и, повесив их на палку, несла на плече за спиной. Вдруг послышался необычный гул, и над головой женщины закружился рой-беглец. Женщина испугалась и побежала, отмахиваясь. Но рой не отставал. Он начал садиться на башмаки.
По-видимому, матке-беглянке захотелось сделать привал — внутренность башмака ее вполне устраивала, может быть, напомнив дупло дерева или отверстие-леток старинной борти.
Если бы женщина продолжала спокойно идти и осторожно нести башмаки, то никакой беды не случилось бы; она благополучно донесла бы мирно привившийся к башмакам рой до села и там сдала бы его какому-нибудь пасечнику да еще получила бы за него кувшин меду.
Но, на беду, женщиной руководил только страх. Увидев, что пчелы облепляют ее башмаки, она бросила их на дорогу и стала колотить по ним палкой. Это было ошибкой. Нет никого злее пчел, когда с ними начинают обращаться неосторожно, бередить их гнездо, а особенно когда они чуют опасность для своей повелительницы — матки. Они защищают ее, не жалея собственной жизни, ибо каждый укус пчелы — это ее смерть: вместе с жалом она оставляет и свои внутренности. Запах собственного яда приводит пчел в неистовую ярость. На несчастную жертву набрасываются всей многотысячной семьей, и случалось, когда под их укусами погибали лошади.
Пчелы накинулись на женщину всем роем. Она не смогла от них отбиться. Нашли ее односельчане у дороги без чувств. По ней ползали полумертвые пчелы, тело было усеяно тысячами жал, распухло и посинело. Женщину привезли в село, где она, так и не придя в сознание, скончалась. Что случилось с уцелевшими пчелами — пустились ли они в дальнейшее странствие или, потеряв матку, разлетелись по степи, осталось неизвестным.
Но пчелы удивительно мирны, когда с ними обращаются осторожно. Отца пчелы кусали очень редко и только за пальцы, когда он, вынимая из улья рамки, нечаянно прижимал какую-нибудь зазевавшуюся пчелу. Но при укусе он никогда не делал резких движений, не отмахивался, а только укоризненно ласково говорил: «Эх, глупая, не заметил я тебя, а ты уже и кусаться. Вот и погибла зря».
Отец соорудил мягкие щетки из гусиных перьев и, готовя полные медом рамки для «качки», не прибегая к дыму, осторожно сметал пчел такими щетками. Он всегда работал на пасеке в одной и той же одежде, от которой хорошо пахло воском, медом и донником. Сухие цветки донника отец клал и в махорку, и пчелы привыкли даже к запаху отцовского табачного дыма и не раздражались им.
Но стоило открыть улей другому человеку, с незнакомым запахом, а особенно с душком спиртного, как «летучая скотинка» приходила в крайнее возбуждение и набрасывалась на «чужака».
Мне всегда казалось, что даже спокойный вид отца в соломенной шляпе с подвернутой под тулью сеткой, его мягкая и легкая походка, доброе, задумчивое лицо действовали на пчел успокаивающе.
Я, как сейчас, вижу его возвышающуюся среди пасеки сухощавую, чуть сутулую фигуру в серой, вобранной в шаровары рубахе и выражение красивой и спокойной сосредоточенности на лице. Он часто застывал в такой позе, прислушиваясь к мирному жужжанию пчел и следя за их полетом — откуда, с какой стороны несут они в свои разноцветные домики сладкую ношу.
В одном пчеловодном журнале я увидел фотографию человека со странной, словно составленной из пчелиных крылышек длинной бородой. Под снимком было напечатано, что борода и в самом деле необычная: некий пчеловод стоял однажды среди своей пасеки и вылетевший рой сразу облюбовал для посадки его пышную бороду и тут же привился к ней.
Бородач вел себя намного рассудительнее несчастной крестьянки. Он старался не двигаться, дав возможность сесть всему рою. Случившийся поблизости фотограф запечатлел его в тот момент, когда кто-то из домочадцев пчеловода подносил к его бороде роевню, чтобы осторожно стряхнуть в нее новую пчелиную семью.
Часто разглядывая эту фотографию, я испытывал детскую уверенность, что и отец, если бы его борода была такой же длинной и пышной, мог бы с неменьшим успехом превращать ее в удобное пристанище для роев. Однажды я посоветовал отцу отрастить такую бороду, на что он только усмехнулся и, приняв мои слова за ребячью шутку, сказал:
— Нет, сынок, не все матки такие умные, и не всякая борода им нравится.
В первое же лето пора роения принесла отцу и мне немало огорчений, а однажды даже и большую беду, чуть не закончившуюся трагически.
Как-то раз уже под вечер июньского жаркого дня отец подвел меня к очень старой колоде, откуда собирался переселить рой в новый рамочный улей, и сказал:
— Ну-ка, Ёрик, приложи ухо к стенке и послушай, о чем там матки поют. Не боясь, прижми ухо покрепче.
Я прижал ухо к толстой боковине колоды с таким усердием, что кровь зашумела в голове, и не сразу услыхал в гудении пчелиных крыльев разноголосый писк. Размеренное «пи-пи-пи!» — то жалобное и тонкое, как комариное жужжание, то более низкое и сердитое, доносились из колоды.
— Ну, что? — загадочно улыбаясь, спросил отец.
Я уже привык к тому, что он открывал мне одну тайну пчелиной жизни за другой, и смотрел на него, затаив дыхание, недоуменно раскрыв глаза.
— Кто-то пищит, — ответил я.
— И много? Много тех, кто пищит? — все так же улыбаясь, спросил отец.
Я кивнул:
— Много. И все по-разному. А вот громко, как плачет все равно. Кто это, папа?
— А это матки квохчут, сынок. На отдел просятся.
Он тоже присел на корточки, прижался ухом к колоде.
— Вишь, как заливаются. Штук шесть их, не менее. А одна, видать, сердитая, сварливая, так и вопит: «Я тут одна хозяйка и царица! А вы все выкидывайтесь вон!» Ну, сынок, будет нам завтра с тобой потеха. Это они перед роением.
Отец поднялся с коленей, свернул цигарку, вставил ее в длинный камышовый мундштук, закурил, сладко пыхнув пряно-горьковатым дымом махорки и донника.
— Был бы это Дадан-Блатт, — продолжал он с сожалением, — я бы вынул гнездовые рамки и сразу бы этих пискух выловил, окромя одной, да и рассадил по клеточкам (у отца были такие раздвижные коробочки из проволочной сетки, куда он рассаживал запасных маток), а тут в этой трубе разве до них доберешься? Вот и жди, когда они устроют нам карусель.
Эти слова отца меня ничуть не утешили: признаться, мне уже наскучило торчать все дни на пасеке и помогать ему, подавая то дымарь, то роевню, ощущать на лице и руках ожоги пчелиных укусов. Пчелы не щадили меня, как отца, и кусали напропалую и всегда почему-то в нос и глаза. Летом я все время ходил с заплывшими, опухшими веками, точно после драки. Меня особенно огорчало, если кто подозревал меня в этом, потому что по натуре я был отнюдь не драчливым и часто отступал перед напористым противником.
Наутро мы уговорились с пастухом Дёмкой гнать телят верст за пять, до Водяной балки. Там, по его рассказам, была нора, в которой жил громадный желтобрюх; его стоило выследить, чтобы убить — ведь это он «делал порчу» коровам, подползал к ним и высасывал из вымени молоко, после чего вымя усыхало, коровы хирели и в конце концов околевали. Рыжий, конопатый, с облезлым носом, двенадцатилетний Дёмка рассказывал об этом таинственным шепотом, пугающе округляя глаза. Про ужасного полоза, сосущего коровье молоко, он, видимо, выдумал и сам испугался своей выдумки. Но я поверил, и мы, заранее трепеща, решили вооружиться утолщенными на конце палками — «кийками», обязательно подкараулить желтобрюха и беспощадно расправиться с ним.
И вдруг эти стонущие в улье матки и предупреждение отца! Я знал, что оно означало. Но делать было нечего — отца я не мог ослушаться, а это значило: я должен был не выполнить данного Дёмке обещания и прослыть трусом. Конечно же, он подумает, что я испугался желтобрюха и потому не погнал с ним телят на Водяную балку.
В девять часов утра мы с отцом уже были на пасеке. Обычно рои начинали вылетать не ранее девяти-десяти часов. Старая колода внешне вела себя спокойно. Пчелы вылетали из летка и прилетали со взятком неторопливо. Неужели матки успокоились и отложили раздел? Но отец, стоя посреди пасеки и дымя своим длинным мундштуком, не спускал с летка колоды глаз. Роевни и дымари были наготове. Словно в ожидании стояли у ближайшей старой жерделы и лестница и ведро с водой и метелкой-кропилом на случай, если придется сбивать рой водой.
До десяти часов на пасеке все было спокойно, и вдруг из летка дуплянки — я тоже заметил это — стали горстями вылетать пчелы, словно кто-то с силой вышвыривал их оттуда.
— Ну, сынок, теперь гляди в оба, — сказал отец.
Не прошло и пяти минут, как пасека наполнилась возбужденным и сильным гудением. У меня в памяти настолько глубоко остался этот необыкновенный звенящий звук, что я и теперь сразу могу определить, мирно ли летят за взятком пчелы или выходит рой.
Над пасекой повисла уже знакомая густая, мельтешащая в глазах сетка. Пчелы носились, как маленькие черные молнии. Словно все туже натягиваемая струна звенела с каждой секундой напряженнее и громче.
Отец зорко следил, куда начинал склоняться рой. Матка, видимо, была беременна, ей не терпелось поскорее сажать в ячейки новой вощины детву. Она быстро устала, и потянула рой к стоявшей неподалеку искусственной «ветле» — воткнутой в землю палке с пучком травы на конце.
С этим роем мы управились быстро. Он привился на ветле, и отец без труда стряхнул его в роевню. Внутри роевни был прилеплен кусочек сотового меда. И пчелы сразу облепили его, стали кормить свою царицу. Обычно рой отсиживался в роевне до вечера. Отец пересаживал его в улей на ночь — когда усталые пчелы ведут себя более спокойно. Да и матка, если ей не понравится новое жилище и вздумается пуститься на поиски другого, к ночи никогда не посмеет вылететь из улья.
Но не успел отец загнать весь рой в роевню, как жаркий воздух вновь пугающе зазвенел — из колоды вылетал второй рой. Оказывается, матки «квохтали» не напрасно, и раздел семьи еще не кончился.
Этот новый рой был не менее многочисленным и сильным. Меня уже укусили две пчелы: одна — в веко, другая — в верхнюю губу. Глаз мой заплыл, но я вел себя стоически, держал наготове вторую роевню, а отец — дымарь и метелку.
Но с самого начала поведение нового роя стало внушать тревогу — он склонился к старой груше, к ее верхушке, и как будто начал садиться. Отец уже приставил лестницу, чтобы лезть на дерево, но рой вдруг перестал кружиться над грушей и, снижаясь, потянул в сторону от пасеки.
Отец и я кинулись ему наперерез. Рой ускорил свой лет. Отец схватил ведро и, забежав навстречу пчелам, окуная метелку в ведро, принялся брызгать на них водой. Он делал это очень рьяно: махал метелкой, как поп кропильницей. Я бежал рядом, не выпуская из рук роевни.
Рой поднимался все выше. Обойдя нас, он устремился из сада в степь. Уж не та ли матка, чье сварливое попискивание я слыхал вчера сквозь стенку колоды, предводительствовала им.
Мы бежали за роем, стараясь обогнать его. Вот кончился сад, а рой не обнаруживал и признаков усталости; матка и не думала садиться и, как будто заранее определив свой маршрут, твердо взяла курс на открытую степь.
Отец не сдавался и продолжал махать своей кропильницей. Когда вода кончилась, он кинул ведро и метелку, принялся забрасывать рой землей. Я старался помогать изо всех сил, швырял комья земли в пчелиное, злобно жужжащее облако.
Солнце палило нестерпимо. Мы задыхались от быстрого бега, а рой уходил все дальше и дальше. Стало окончательно ясно — мы имели дело с роем-беглецом, и вела его неведомо куда очень своенравная и смелая повелительница. Она точно решила навсегда избавиться от миролюбивой опеки отца, от жизни в старой, неуютной, пропахшей пергой[1] колоде.
Если бы она знала, что ее вместе с новой семьей отец намеревался поместить в великолепный рамочный улей с узким и длинным летком и специальным отдушником для проветривания, с янтарно-светлой вощиной в рамках, она, пожалуй, и раздумала бы бежать, вернулась на пасеку. Так казалось мне во время погони за роем. Я готов был кричать об этом, но все это были только детские пустые мечтания. Матку увлекал вперед неведомый инстинкт, и загадочен, неисповедим был ее стремительный полет.
Глаз мой совсем закрылся, губа распухла, мне хотелось плакать от злости, от усталости, от горделивого своевластия пчелиной царицы. Выбившись из сил, я остановился и сел на жесткую траву бескрайней, поросшей будяками толоки. Голову палило солнце, пот заливал глаза. Вдали в раскаленном мареве дрожали курганы. Степь впервые показалась мне тягостно-бесконечной и пустынной: в ней не только пчелам, но и человеку нетрудно было затеряться без следа.
Я готов был разрыдаться. Вдали все еще маячила фигура отца, размахивающего руками, и было похоже на то, что он борется с вихрем или пытается остановить призрак.
Он пробежал за роем еще с четверть версты и вернулся. Лицо его было мрачно и черно от пыли, рубаха на спине промокла насквозь от пота. Он безнадежно взглянул на меня и, махнув рукой, сердито выругался:
— Улетела, стерва! Приблудница! Ну, туда ей и дорога, бездомнице.
Возвращались мы на пасеку в подавленном настроении. В тот же день, сев на коня, отец объехал степь верст на двадцать в окружности, но следов роя нигде не обнаружил: рой исчез бесследно, словно испарился.
Брачный полет
Наутро матки в старой колоде как будто угомонились, рои не вылетали, и я потихоньку улизнул с пасеки. Дёмка с утра, как всегда, пас хозяйских годовалых телят недалеко от сада. Бычки и молоденькие телушки, с уже заметно отросшими рожками, мирно пощипывали у опушки траву.
Сам Дёмка, с перекинутым через плечо ременным кнутом, сидел на бугорке и, по обыкновению, вырезывал из куска вербы какую-то пока непонятную мне штуковину, У Дёмки был замечательный складной ножик, чему я по-детски остро завидовал.
Дёмка презрительно взглянул на меня: ну, конечно, он считал меня отъявленным изменником и трусом, с которым не следовало и разговаривать. Не совсем уверенно я рассказал о бегстве роя.
Дёмка фыркнул:
— Хм… рой! Вчера я опять видал желтобрюха. Вот это да-а! Он шел колесом, а потом так и шмыгнул в нору.
— Отчего же ты не убил его? — наивно спросил я.
— Да-а, убьешь! Мы же уговорились вместе. Одному не с руки. Одному надо гнать его, а другому стоять у норы с кийком.
Теперь уже я мог усомниться в мужестве товарища, но промолчал.
Дёмка все еще недоверчиво смотрел на меня своими зеленовато-желтыми глазами. На его тощем, темном от загара, как закоптелый чугунок, лице конопины слились в одну сплошную грязновато-серую массу. Босые ноги были также черны от пыли и покрыты рубцами и ссадинами. Я уже знал: Дёмка был сирота и служил у богатого тавричанина пастушонком за кусок хлеба и худую одежонку. Дёмка почему-то считал меня чуть ли не барчуком и белоручкой. Сын панского садовника и пчеловода — это, по мнению батрацкой мелкоты, была куда более значительная социальная ступень.
Я вспомнил, что отец строго наказал мне утром не отлучаться с пасеки, и, заверив Дёмку, что обязательно приду к нему после обеда, как раз в то время когда полоз после дневной охоты возвращается в свою нору, бегом пустился в сад.
Я выбежал на главную аллею и услыхал сдавленный протяжный стон. Почему-то в этом, похожем на громкое мычание коровы, стоне я сразу узнал голос отца. Стон доносился со стороны пасеки, и я кинулся во всю прыть к нашей пчелиной поляне. Сердце мое, чуя беду, бешено колотилось. Я и теперь удивляюсь, как я, маленький мальчишка, мог, не зная еще, что случилось, так остро почувствовать несчастье.
Помню, я, еще не видя отца и того, что стряслось с ним, бежал и плакал, крича:
— Папка! Папочка!
Я увидел его под старой жерделой с наполовину усохшими черными коленчатыми гильями. Он лежал, странно вытянувшись, и не стонал, а ревел, словно стараясь втянуть в себя воздух всего сада. Рядом с ним валялись сломанная гилка, опрокинутый старчаковый улей с отбитой крышкой и роевня, вокруг которой с тревожным жужжанием кружились пчелы.
Не помня себя от ужаса и жалости, я подбежал к отцу. Лицо его было серым, как старая холстина лежавшей рядом роевни. Он зевал, грудь его странно высоко поднималась, а из-под задравшейся кверху рубахи виднелся впалый, покрытый испариной живот. Глаза отца, выпученные, просящие и, как мне показалось, полные жалости ко мне, неподвижно уставились на меня.
Он все еще хотел сказать что-то и не мог, а только стонал. Наконец я уловил слова:
— Мать позови… мать…
Я заплакал и побежал к хутору. До нашей мазанки было не менее версты, но я, словно на крыльях, пролетел это расстояние. Узнав из моих прерываемых плачем слов, что отец убился, упав с дерева, мать побежала со мной в сад. Волосы ее развевались на ветру, платок она где-то потеряла.
— Боже мой… Матерь-владычица… С кем же я теперь останусь, головушка моя грешная, — слышал я за собой бессвязное бормотание.
Эти слова, полные всегдашнего страха за свою судьбу и судьбу детей, я не раз слышал из уст матери — в них отражалась беззащитность, беспомощность перед пугающим призраком вдовства и сиротства детей. В самом деле, после внезапной кончины отца, куда пошла бы мать, слабая женщина, чужая среди такого же подневольного люда? В лучшем случае она могла стать поденщицей у богатых украинцев-отрубщиков, в худшем — нищенкой с маленьким сиротой на руках.
Я впервые незрелым своим умишком остро почуял эту опасность и понял, что отец, здоровый, мужественный человек, наша единственная опора, не всесилен и не бессмертен, как сказочный богатырь, а такой же беззащитный, как и все, — он может умереть от всякой случайности, и никакая живая вода не спасет его.
Надо беречь отца, хранить от всех зол и напастей — эта новая мысль родилась во мне в ту минуту, когда я увидел отца беспомощно лежащим под старой жерделой. Почти животное чувство страха за его жизнь стало зреть во мне.
Когда мы прибежали на пасеку, отец, все еще бледный, как лист выцветшей на солнце вощины, сидел на садовой скамейке, согнувшись и держась обеими руками за левый бок. Мать со слезами и упреками кинулась к нему, но отец как будто не обратил на ее слезы внимания, обнял меня и крепко прижал к своей груди, пахнущей донником и воском. Голос его звучал очень слабо:
— Испугался, сынок? Ничего. Все обошлось. И плакать было не нужно. — Переведя дыхание, пояснил: — Рой-то опять из той колоды вышел. Это уже третий — разбить ее мало. Ну и примостился он на самой верхушке на сухой гилке. Полез я за ним, уже вобрал почти весь в роевню, а гилка и подломилась. Шарахнулся я с высоты чуть ли не семи сажен да боком и угодил на дуплянку. Видишь, вон? Ахнулся так, что вершковая крышка отскочила вместе с гвоздями. Ты уж, сынок, собери рой и посади вечером в улей…
Отец закрыл глаза, покачнулся: ему снова стало худо.
Мы с матерью уложили его тут же на скамейке, подмостив под бок свежей мягкой травы. Потом я взял роевню — матка была там, и рой уже собрался вокруг нее. А вечером без чьей бы то ни было помощи я храбро пересадил рой в улей, загоняя дымком из дымаря особенно непокорных пчел. И, удивительно, ни одна не укусила меня, точно каждая чуяла, что имеет дело не с беспомощным мальчишкой, пугающимся одного пчелиного жужжания, а с серьезным учеником многоопытного учителя.
Отец пролежал в постели месяц, потом поехал в город к врачу. Врач обнаружил перелом трех ребер, распухшие почки и селезенку. Почти год отец ходил кособочась, опираясь на палку и жалуясь на грызущую боль в левом боку и пояснице, пил лекарства, отвар каких-то степных трав. Он похудел, пожелтел, согнулся и часто по ночам меня будили его стоны и кашель. Мать скорбно шепталась с соседками, и до моего слуха донеслось однажды незнакомое пугающее слово «чахотка».
Но вот наступила весна, засияло солнце, и, я не помню, в какой день, отец выпрямился, расправил плечи и с песней ушел в сад. Щеки его вновь покрылись здоровым румяным загаром, он перестал стонать по ночам. Видимо, нашлась и для отца «живая вода», срастила ребра, заживила легкие, и он снова, как прежде, в веселый майский день стоял посреди пасеки в соломенной шляпе с подвернутой сеткой и курил попахивающую донником длинную самокрутку. Вокруг него стояли теперь рамочные ульи — все до единого. Мрачных дуплянок и неуклюжих, выдолбленных из прелого ствола колодок не было ни одной. Лишь несколько пустых обветшалых ютились, как музейные экспонаты, в углу сада, но потом и их отец порубил на дрова. Без сожаления расправился со старьем отец. Новые пчелиные домики, окрашенные в зеленую, синюю, розовую краску, выстроились шахматными рядами на полянке.
Теперь вся жизнь пчелиных семей была у отца как на ладони. В любую минуту мог он открыть крышку первого, вызывающего какие-либо подозрения улья, вынуть по очереди все рамки и просмотреть их, взяв во внимание все, что нужно знать пчеловоду: жива ли и хорошо ли плодоносит матка, не кладет ли она только трутневую детву — в этом случае ее можно заменить более породистой, кладущей преимущественно личинки рабочих пчел. Ну а если обнаружатся лишние маточники, то и их можно удалить, чтобы предупредить изнуряющее пчелиные семьи бессмысленное роение.
Отец упорно выращивал, отбирал и укреплял особую, выносливую и способную летать за взятком на дальнее расстояние южную породу степных пчел. Он говорил:
— Лесная пчела не годится для донской степи: она привыкла летать близко — цветы у нее всегда под боком и хоботок у нее короче. Лесная пчела избалованная. Какое бы засушливое лето ни было, в лесу всегда найдутся влага и цвет сочный. Не то — наша степь. Тут надо летать далеко — иногда за пять-шесть верст, чтоб нужный цвет найти. И наша степная пчелка летает. Ей часом приходится и с полынка, и с кочки, и с осота медок брать. Цветов тут в степи много таких, каких в лесу или на севере не сыщешь. У нашей пчелы хоботок длиннее, она сумеет и в сухую погоду и в ветер нектар взять. Или, допустим, пчела кавказская, она пчела маленькая, нежная. До нашей степнячки ей далеко.
Много отец занимался и дикими травами-медоносами. Он считал, что нет ценнее, целебнее и ароматнее меда, чем мед со степного разноцветья. Синяк, чистяк, будяк, коровяк, «бабка» (особый вид синих васильков на тонком стебле), донник стояли у него в первом ряду. И он сожалел, что эти медоносные целебные травы постепенно исчезают: их вытесняют так называемые культурные травы-медоносы — эспарцет, клевер, фацелия, змееголовник.
— Не тот мед, что только сладок. Этак возьми сахарцу или патоки, разбавь водицей — вот и мед готов, — любил полушутя говорить отец. — Каждый мед должен свой вкус и аромат иметь. И с каждого цветка надо пчеле свой мед взять. Чтобы мед был пользительный для здоровья, надобно знать, какие цветы какой мед дают.
Отец умел находить в степи нужные медоносные злаки и, чтобы брать с них мед, перевозил иногда пасеку за много верст. Один раз он умудрился во второй половине августа, когда все медоносные цветы в степи высохли, взять мед с расцветшей после обильных дождей полыни. Правда, мед оказался горьким, как сама полынь, но прославился как целебный. За ним к отцу приезжали даже из дальних городов и станиц.
Всякому делу отец, сам не зная того, придавал поэтическую окраску. Пчеловодный «факультет» его оставил в моей памяти несколько таких незабываемых поэтических бесед-«лекций». Так, когда я уже был постарше, отец рассказал мне изумительную поэму в прозе о свадебном полете матки. Не знаю, откуда он позаимствовал этот рассказ — то ли вычитал в одной из книжек, то ли услышал от других подобных себе энтузиастов-пчеловодов. Но мне думается, история оплодотворения пчелиных маток, хотя и родилась из книжных источников, все же главное в ней — фантазия, в которой научная достоверность переплелась с поэтической вольностью. Конечно, ни я в то время, когда впервые услыхал эту историю, ни сам рассказчик даже не подозревали, что есть на свете такая серьезная штука — поэзия. Ни один сказитель прекрасных легенд и сказок не задумывается над вопросом, поэтично ли, прекрасно ли то, о чем он поет или рассказывает. Душа поет, душа рассказывает, и что спетое и рассказанное прекрасно и поэтично — это как будто не интересует самого певца и рассказчика, главное, чтоб складно пелось и рассказывалось.
Вот так, совсем не помышляя о поэзии, своими, почти песенными словами отец передавал поэму о брачном полете пчелиной матки.
Мне очень трудно восстановить рассказ словами отца, я попытаюсь только вкратце изложить его содержание.
…Тепло, светит ясное апрельское солнце, а небо, как голубой свод в храме, такое высокое, что никакой горы не хватит, чтоб достать до него. В такой день матка-царица готовится к своему первому свадебному вылету. Вокруг нее так и вьются «фрелины» (фрейлины), ублажают ее, прихорашивают. А она, сердечная, важничает, красуется и вся так и дрожит крылышками и блестит, как золотая. Все ближе и ближе подбирается она к летку, а за нею целая свита трутней-ухажеров — штук с полсотни, а то и более, увивается.
Друг перед другом они силой похваляются, за царицей, как женихи, бегают. И вот вылетела царица, а за нею «фрелины» и кавалеры трутни при всех нарядах своих. И все они толстые да жирные, один к одному — красавцы, как «лыцари придворные».
Вылетает царица из улья и летит все выше в чистое небо, а кавалеры-женихи — за ней. Она — на три сажени в высоту и они — на три, она — на десять и они — на десять. Кружатся они возле нее, и каждый норовит отбить ее подальше от других, чтобы мужем ее стать. Да не так-то легко этого добиться! Царица все выше в небеса забирается, уже и пасеку внизу чуть видно, а она, голубушка-матка, все летит да летит. Уже есть такие трутнишки-кавалерчики никудышные, женишки плюгавые, пустяковые, что и поотстали, далеко внизу жалобно жужжат. Все больше их таких, жирных да никчемных, тяжелых на лет, остается с носом. А матка-то все летит и летит на такую высоту, что только соколу впору подняться. И остаются возле матки три самых сильных трутня-жениха, три самых храбрых кавалера. Да не тут-то было — и среди них находится самый храбрый, самый пригожий и самый сильный. Только он догоняет матку, и тут, на такой высотище, что и земли уже не видать, она-то ему и достается, любовь ихняя и совершается, да для трутня она самая несчастная — первая и последняя. А, может, и вправду самая счастливая.
(В этом месте рассказа глаза отца всегда печально усмехались). Ведь он, самый сильный, самый храбрый, достиг своей любушки. И что ему теперь, если падает он после этого на землю замертво! А отчего? Да оттого, что погибает он так же, как самая обыкновенная пчела, которая укусит и вместе с жалом оставляет и свои внутренности. Вот так примерно погибает и трутень…
Дни, горячие, торопливые, загораются с румяной ранней зорькой и гаснут перед самой полуночью — июньские и июльские ночи коротки, как дальние грозовые сполохи. На пасеке с утра и до вечера хорошая, здоровая трудовая горячка. Роение окончилось, началась страда обильного медосбора. У отца уже шестьдесят ульев: тридцать хозяйских и тридцать собственных — он развел их из двух купленных у молодого хозяина семей в счет годового жалованья.
Лето необычайно знойное и взяточное. Все время в деревянном шалаше гудит медогонка. Целыми днями я верчу ее тугую железную ручку — на моих ладонях самые настоящие кровавые мозоли, а отец все носит износит тяжелые, полные меда рамки и, срезав тонким специальным ножом со светлых сот «печатку», закладывает рамки в проволочные гнезда медогонки, и я верчу, верчу…
Мед, теплый, липкий, струей брызжет на стены цинкового бака, все вокруг пропитано пахучей сладостью, руки, одежда, волосы — все сладкое, все липнет.
А мне уже невмоготу. Не успеет отец выкачать мед из магазинов последнего улья, как первый, выкачанный три-пять дней назад, опять полон меда — рамки прогибаются под его тяжестью. И вот вновь начинай сначала, становись за медогонку и крути, крути без конца.
Дёмка уже окончательно разуверился в моей храбрости и поставил на мне крест. Страшный желтобрюх все так же гуляет на свободе и глотает в степи живых мышей, а я стою у медогонки, как прикованный, и не могу отлучиться хотя бы на часок, побегать за телячьим стадом, половить в норах глинища крикливых стрижей и нечистоплотных удодов.
Отец явно переменился ко мне. С того времени, как стала забываться смерть моих братьев, он стал ко мне более требовательным и суровым.
Однажды я ослушался его и убежал с пастухами в балку. Он нашел меня и хворостиной, как отбившегося от стада гусенка, пригнал домой. Хлестал он меня, правда, не очень больно, но мне было очень стыдно и обидно. В другой раз за какую-то новую провинность он наказал меня еще более строго.
Я стал понимать: первая, самая весенняя пора детства, когда все только и знают, что ласкают тебя, кончилась.
Вольнолюбивый перепел
У отца были предметы, вызывавшие во мне чувство, какое, вероятно, пробуждают у суеверных людей непонятные инструменты колдуна.
Вещи эти отпечатались в моем сознании очень рано, когда смысл и назначение их сливались для меня с восприятием то грозного, то доброго и всегда прекрасного мира, навеянного русскими народными сказками и рассказами матери о нашем житье в балагане, о злых и добрых феях, об огненноперых жар-птицах и прочих загадочных существах, будто бы населявших дремучий адабашевский сад.
Непонятные предметы, с которыми отец уходил куда-то в свободное от работы время и возвращался с живой или убитой дичью, с увлекательными и подчас фантастическими рассказами о поведении зверей и птиц, все больше разжигали мое воображение, манили в хранилища еще не открытых тайн.
Такими чудодейственными предметами были, во-первых, три обыкновенные перепелиные манки, или, как их называл отец, «байки», сделанные из сжатой рубчатой, в виде меха игрушечной гармоники, коричневой и черной кожи, со вставленными в них свистульками из полой косточки дикого гуся. С таинственным видом отец уверял, что байка из такой пустотелой кости обладает особенно музыкальными свойствами и способна издавать звук, наиболее точно воспроизводящий мелодично-нежное трюканье перепелки.
Вторым, возбудившим мою фантазию предметом была большая квадратная из тончайшей голубоватой нити сеть. Ее, как я потом узнал, отец расстилал по зеленому хлебу или высокой майской траве и, лежа под сетью или у ее края, насвистывал в байку. Байки отличались друг от друга тональностью и силой звука. Если перепел кричал далеко, отец манил его в звонкую, коричневого цвета, байку. Перепел подлетал на призывный голос мнимой перепелки ближе, тогда пускалась в дело другая байка — тоном пониже и помягче и, наконец, когда «бой» самца звучал рядом с сеткой — совсем тихо и томно, словно перепел изнывал от любовной неги, трюкала третья, черная, байка.
Отец умел так тонко варьировать голоса их от громкого, призывного до чуть слышного и нежного, как голос затихающей свирели, что опытные перепелятники говорили, будто иная перепелка зовет перепела с меньшей пылкостью, чем байка отца.
Я никогда не забуду вечера, когда отец впервые взял меня на ловлю перепелов. Мне было шесть лет, и я уже не мог быть обузой на охоте, а при случае даже оказывал отцу посильную помощь. Могу сказать с уверенностью: первые, ошеломившие впечатления вечерней и ночной степи явились мне на перепелиной ловле.
Мы вышли из дому, когда солнце опускалось к рдеющей и золотящейся от вечерней пыли кромке степи. Отец в такие часы выхода на охоту всегда бывал сосредоточенно молчалив и особенно добр ко мне.
Как сейчас, вижу его в высоких сапогах, в хлопчатом, пропахшем табаком и воском жилете поверх вобранной в штаны рубахи, с холстинной сумкой, подвешенной через плечо, а в сумке — сеть и колдовские дудки.
Мы идем сначала по дороге, и тени наши — одна длинная, тянущаяся чуть ли не на полверсты, другая короткая и тоненькая, шагают вместе с нами по зеленым хлебам. В степи пустынно и тихо, ни малейшего ветерка. Только жучки и мошки, чуть слышно звеня, кружатся в теплом воздухе и золотятся на солнце. Хлебным запахом дышит только что начавшая выкидывать колос пшеница, дурманно пахнут донник и душистый, малиновый, цветущий по обочинам дороги горошек. Изредка вскинется к чистому предзакатному небу жаворонок и, оборвав свою утомленную за день песню, камнем упадет в хлеба: скоро сумерки, а впереди майская короткая ночь, и надо укрыться где-нибудь в траве на отдых, чтобы чуть свет, на утренней зорьке, вновь взмыть в небо с беззаботной песней.
Мы с отцом спускаемся в широкую неглубокую балку. Приятно веет холодком от степной криницы. В низине кричит чибис. Он долго вьется впереди нас с тоскливым «ки-и-вить», словно стараясь увести нас за собой и напрасно думая, что мы станем искать его гнездо, чтобы разорить и забрать таких же пискливых птенцов. Какая-то незаметная птичка явственно свиристит: «Низ-низ-тпру!» Забавная, она всякий раз появляется при спуске в низину и встречает путников своим всегда одинаковым предупреждением — сходите или съезжайте в балку осторожнее.
Все эти диковинные звуки — язык степных голосов — объясняет мне отец. Я слушаю его почти с благоговейным вниманием.
Наконец мы взбираемся на пологий скат балки. Солнце уже коснулось четкого синего горизонта. Вокруг ровной неподвижной стеной стоят хлеба. Хутор остался далеко позади, его не видно. Мы с отцом в степи совсем одни. Надвигаются сумерки, и на душе становится немного жутко: ведь степь такая необозримая и полна неизведанных тайн.
Мы сходим с дороги и останавливаемся у межи. Отец прислушивается. Я тоже слышу знакомое, несущееся со всех сторон перепелиное «пить-пильвить!»
Отец озирается, ища наиболее удобное место, чтобы разостлать сеть, и быстро находит такое место. Он достает из мешка свернутую жгутом сеть, подвешивает к шее все три висящие на шнурке байки и, сунув мне в руки конец сети, командует вполголоса: «Бери! Держи!»
Еще не окрепшими детскими руками я держу сеть, отец тянет ее по хлебу, потом машет мне рукой: «Тяни вправо!» Я оказываюсь понятливым помощником и тащу другой конец сети в ту сторону, в какую машет мне отец. Пшеница закрывает меня чуть ли не с головой, щекочет лицо зелеными усиками, бьет по глазам. А солнце уже скрылось, и по полю стелются синие сумерки. Перепела кричат все громче и чаще. Но вот сеть расстелена, отец и я лежим под нею в хлебу, на теплой сухой земле. Над головой розово светится вечернее небо, внизу — таинственный сумрак, а мне и весело, и жутко, и любопытно.
«Трюк-трюк! Трюк-трюк!» — зовет в байку отец. Ему хором откликаются перепела: «Пить-пильвить. Ва-вва! Ва-вва!» Крики все ближе и громче. Одни — четкие, сильные, другие — послабее, посуетливее, почаще. Потом отец научил меня отличать хороших перепелов от плохих. Хороший, голосистый перепел кричит звонко и четко, словно отбивает удары, и так, что в ушах звенит и эхо разносится по степи: «Боть-боть-боть! Ва-а-вва! Боть-боть-боть!» Безголосый, слабый — частит, заикается: «Пить-пить-пить!» Он и доверчивее и глупее — в любовном экстазе не медлит и сразу, перелетев некоторое расстояние, камнем валится в сетку. Сильный же, певун-красавец, более чуток и осторожен: он долго ходит вокруг сетки, не всегда отзывается на трюканье байки, прислушиваясь к ней, точно подозревает подвох, и часто, видимо, почуяв запах человека и фальшивую ноту в призыве мнимой перепелки, уходит и уж больше не откликается на зов.
Таких перепелов брать трудно. Они очень дорого ценились. За ними отец охотился подолгу, иногда, прослышав о таком боевитом перепеле, уходил верст за двадцать в степь, а поймав, сажал в клетку. Но никогда он не торговал перепелами-певунами, считал это недостойным истинного любителя. Подержав певца до сентября, насладившись его утренним и вечерним заревым боем, выпускал на волю.
…Отец попеременно трюкает своими колдовскими байками, перепела падают в сетку и, трепыхаясь, запутываются. Он осторожно распутывает их, тут же откручивает им головы, чтобы не отпугивать трепыханием остальных (долго отвращавшая меня жестокость!), складывает в сумку, а если попался голосистый — сажает отдельно, в другой мешок с маленькими, для воздуха, отверстиями. Со временем и я научусь вынимать перепелов из сетки, а пока смирненько лежу рядом с отцом, затаив дыхание, весь в жарком поту, с гулко бьющимся сердцем.
Вот совсем рядом четко, с оглушающей силой «бьет» перепел. Его «ва-а-вва!» звучит устрашающе. Мне мерещится: это не маленькая, величиной с мужской кулак птица, а сам степной дьявол. Он явился сюда на зов отца, и вот-вот покажется среди пшеницы его лохматая рогатая голова с разинутой пастью и горящими, как яхонты, глазами.
Меня начинает бить нервная дрожь. Вокруг темно, только над головой мерцают первые звезды да маячат тонкие, как паутина, нитяные ячеи сети. Отец продолжает на все лады манить бойкого крикуна. Байка звучит тихо и вкрадчиво, с нежными переливами, как голос настоящей перепелки. А голос перепела все ближе, все громче, по всему видно — перепел бежит, горя от нетерпения, боится, чтобы другие не прибежали к самке раньше его.
Вдруг отец толкает меня легонько в бок и показывает одним движением бровей на что-то перед самым моим носом. И я вижу при свете зари, на расстоянии протянутой руки, маленькую, совсем невзрачную, рыжевато-серую пичужку, круглую, как колобок, на тонких, точно проволочных, ножках. Маленький клювик ее раскрыт, она дышит тяжело и часто, и видно, как ритмично пульсирует кровь под горлом.
Я удивлен, разочарован. Я гляжу на птицу так же, как глядел не раз на неказистого удода. Отец притаился и уже не манит смельчака. А тот, наверное, удивленный молчанием «перепелки», вдруг так грозно выводит свое «ва-а-вва!», что я невольно вздрагиваю, оглушенный.
Отец бьет рукой по земле у самого перепелиного клюва, перепел с резким характерным «фррр» взлетает, попадает головой прямо в сетную ячею и запутывается.
Ласково бормоча, отец распутывает его, разрешает мне подержать пленника в руке. Я чувствую, как, словно маленький молоточек, бьется перепелиное сердце. Острая, непрошенная жалость подкатывает к сердцу. Мне хочется выпустить перепела тотчас же, но отец уже берет его в свои большие безжалостные руки и опускает в мешок.
— Эх, славный перепелок нам достался. Бьет здорово. Вот и посадим его в клетку, а остальных — матери на суп.
Возвращаемся мы домой, когда становится совсем темно. Перепела «отбили» вечернюю зорю и молчат. В степи глухая тишина, только бесшумно скользнет в воздухе летучая мышь да низко, над самой землей, пролетит сова, махая темными крыльями, выслеживая своими остро зрячими в темноте глазами мышь-полевку, жаворонка или уснувшую перепелку. По обеим сторонам дороги неподвижно стоят хлеба. Мы идем, как по глубокой траншее. Шаги отца на укатанной твердой дороге гулко отдаются в тишине. Я быстро семеню рядом с отцом, держась за его рукав. На моем плече сумка с обезглавленными перепелами, но мне чудится, что они шевелятся, дышат, и мне немного страшновато.
Отец радует мать хорошей добычей — дюжину перепелов выкладывает дома на стол (завтра на обед будет вкусный перепелиный суп), а певуна бережно впускает в заранее приготовленную клетку.
Перепел бьется в клетке всю ночь, бьется день-другой, неделю, но не кричит. Насыпая в клетку просо и муравьиные яйца, отец журит его:
— Что же ты, голубчик, молчишь? Аль корм не такой, клетка не нравится, аль обиделся, что я тебя так ловко обманул?
Нахохлившись и забившись в угол клетки, перепел не издает ни звука. Напрасно я ласково уговариваю его, подсыпаю хлебных крошек, ловлю для него мелких жучков и мошек. Перепел поклюет украдкой, когда я отойду, и снова нахохлится или начинает неистово биться головой о полотняный потолок клетки.
— Ведь вот, скажи на милость, какая обидчивая птица! — Огорченно ворчит отец. — Этак и лето пройдет, и мы не услышим его «боя».
Перепел бился в клетке все яростнее, как будто намеревался разломать ее. Прошел месяц, и отец обнаружил: вся серая, с темной полоской посредине, головка непокорной вольнолюбивой птицы покрылась запекшейся кровью — в исступленной жажде свободы перепел не чувствовал боли и разбил себе голову. Тут не стерпел я, взмолился:
— Папа, давай его выпустим. Ведь он так забьет себя до смерти.
Отец подумал, потом, вздохнув, согласился:
— Ну, что ж, давай. Экое упрямое творение! Впервые такого перепела ловлю.
Мы сняли клетку, висевшую у нас под застрехой, отец открыл дверку. Перепел, по-видимому, сначала не понял нашего намерения или заподозрил новое коварство, сидел в углу, растопырив перышки. Пришлось тряхнуть клетку. Перепел вывалился из нее и, фырча крыльями, словно запущенным сразу на всю силу мотором, рванулся в степь, в уже побелевшие зреющие хлеба, подступавшие к самой адабашевской кузне. Только мы его и видели.
Отец был грустен весь день, а вечером взял байку и, стоя тут же, у мазанки, начал манить. Это он проделывал не раз из озорства, испытывая свое умение обманывать легковерных птиц. На этот раз степь отозвалась ему безмолвием. И вдруг, когда он более настойчиво повторил зов, со стороны пшеничного поля, из-за кузни, донесся отчетливый, красивый бой: «Боть! Боть! Боть!»
Отец даже побледнел от неожиданности и прошептал:
— Это он… Наш непокорный… Я чую…
Я был склонен верить каждому слову отца, самому большому и небывалому чуду, о каком он сумел бы рассказать.
Отец поманил еще, и перепел вновь откликнулся.
— Ах, паршивец! Он, он, он! Его голос! — Глаза отца радостно засияли. — Запел-таки. Сказано — на воле. Ну и перепел, ну и птица!
Был ли это в самом деле недавний наш пленник или другой такой же голосистый его собрат — так мы и не узнали, но отец так же, как и я, верил, что это был наш певун.
Отец с большим воодушевлением рассказывал потом всем знакомым птицеловам о необыкновенном перепеле, всякий раз приукрашивая рассказ новыми подробностями и возводя упрямца чуть ли не в ранг сказочной жар-птицы. — Не захотел петь в клетке, хоть бы что… Голову даже расшиб в кровь… А на воле запел — да как! Вот так, бывает и человек! — восторженно и мечтательно говорил отец.
Ночь в засаде
Рассказ о «факультетах природы» был бы неполным, если бы я не поведал читателю о ружейной охоте, которая занимала в жизни отца не менее значительное место.
У отца было отличное ружье центрального боя, шестнадцатого калибра, легкое, изящное, бьющее очень метко и кучно — какой-то не то французской, не то бельгийской фирмы, подаренное ему еще в дни молодости заезжим богатым господином в знак благодарности за услуги на охоте. Он же подарил отцу и лягавую, очень ценной породы, собаку, которую я не помню. Была она, по словам отца, большая умница, отлично натасканная и послушная. С этой собакой приключилось потом несчастье: ее разорвали свирепые адабашевские овчарки.
Были годы, когда увлечение отца охотой то усиливалось, то ослабевало. Повышение интереса к охоте совпадало, как мне представляется теперь, с годами относительного семейного благополучия. Домашние затруднения, потеря одного за другим четверых детей выбили отца из нормальной колеи, и ружье было надолго запрятано в чехол. Увлечение пчелами также ослабило охотничью страсть.
Много эпизодов поведывал мне отец по возвращении с охоты. В них было все обычное для охотничьих выдуманных и невыдуманных рассказов: и диковинно крупная дичь, которую так и не удавалось убить, и стрельба без единого промаха, и хитрая лиса, которую нелегко было перехитрить, и многое-многое другое.
Не обходилось и тут без чертовщины, о чем рассказывалось приглушенным шепотом. То была, история о зайце с «человечьими глазами», который будто бы путал охотника с утра до ночи и которого не брала самая крупная дробь. Он чуть не извел охотника до смерти, а потом вдруг нечеловечески, по-козлиному, заблеял-захохотал и развеялся, «аки дым». И все потому, что охотник заряжал ружье в полночь под рождество и на рождество же, не помолившись богу, ушел на охоту.
Или возникал из ярких слов отца страшный рассказ о волке-людоеде, за которым вот уже какую зиму гоняются по степи охотники, а волк все живет, прячется где-то в тернах пустынной Бирючьей балки и оттуда совершает свои кровавые набеги. Совсем недавно будто бы пошла баба Мотря из соседнего села в другое село в гости, да и не вернулась, нашли в балке только ее ноги в валенках — волк будто бы съел всю бабу, а голени из валенок вытащить не смог, так и оставил…
Слушая эти побасенки, сидя на печке, я чувствовал, как замирает сердце и волосы на голове начинают вставать дыбом.
Со временем страшные рассказы перестали волновать меня, да и диковинное, сверхъестественное, стало как будто случаться в степи реже. На смену ему пришла сама реальность, а реальность иногда бывает или пострашнее самой изощренной выдумки, или светла, как ясный день. Она сияет всеми живыми, то радостными, то суровыми красками.
Потом я стал сам участником охотничьих былей; в них не было ничего сверхъестественного, а была красота, насыщавшая душу мою великим познанием вечно прекрасного живого мира.
Зимой отец часто уходил в ночные засады или, как их называли, да и теперь называют на юге, «заседы», откуда и велся отстрел зайцев и лисиц. Еще днем отец сооружал в саду под деревом укрытие, обставленное сухими ветвями, камышом и коноплей, мягко устланное соломой. Укрытие делалось с навесом — на случай метели — и всегда в таком месте, откуда хорошо видны садовая полянка и примыкающие к ней аллеи. Полянку забрасывали молодыми вишневыми побегами и капустными кочанами.
В десятом часу вечера отец надевал ватные штаны, куртку, валенки, а сверху натягивал еще громадный овчинный тулуп, брал рукавицы, ружье, патронташ и уходил в сад. Возвращался он перед самой зарей, обвешанный добычей. Однажды он принес восемь зайцев, и мать целую неделю готовила жаркое, казавшееся мне в то время необычайно вкусным.
Ударили морозы, когда отец, сдавшись на мою просьбу, согласился взять меня с собой на ночную охоту. Мать долго не соглашалась, а потом сдалась. Меня одели очень тепло, закутали в шубу, и с отцом на санках мы поехали в сад.
Конечно, многие охотники и даже малые ребята знают теперь, что такое охота в садах и лесах ночью на зайцев. Такая охота, наверное, кое-где ведется и теперь и не представляет собой ничего необыкновенного. Пожалуй, и не стоило бы подробно останавливаться на этой первой моей охотничьей ночи, но то, что я пережил тогда, о чем поведал мне в своих коротких, произнесенных шепотом словах отец, ничуть не устарело, кажется мне далеко не обыкновенным, имеющим не только личный интерес.
Ночь была морозная, тихая, лунная. «Хоть иголки собирай. Заячья ночь», — сказал отец. Молодой, недавно выпавший снег громко и как-то особенно весело поскрипывал под ногами и полозьями санок. В носу от мороза приятно пощипывало. Вокруг рта отца вилось, оседая на воротник тулупа, бороду и усы мохнатым инеем, легкое белое облачко.
В саду стояла глубокая, никогда еще не слыханная мной тишина. Полная луна висела над черным, видным насквозь садом, как серебряный ярко начищенный таз. Где-то на хуторе взлаивали собаки. Зайцы еще не появлялись. «У них свой, особый и всегда один и тот же час, — сказал отец. — Животная пугливая».
Отец не торопясь размял в укрытии, под толстой дуплистой грушей, солому, посадил меня, закутал тулупом ноги, уселся сам, положил на колени двустволку. В закуте, огороженной со всех сторон ветвями и камышом, было тепло. Перед глазами открывался вид на просторную, ярко освещенную луной полянку, на уходящие вдаль аллеи. Я не говорил ни слова, ни о чем не спрашивал, а только вбирал в себя каждый звук, каждую искринку на снегу.
Какая ясная, строгая и прекрасная была ночь! Я никогда еще не видел такой. Весь мир стал похож на непостижимо огромный сказочный дворец. Небо высокое, темно-фиолетовое, все в крупных, сияющих, как льдинки на солнце, трепетных звездах. Луна среди них, как царица, распустившая вокруг себя пышную, всю в серебряных, алмазных блестках, одежду.
Деревья, обнаженные и темные, словно воздевают к ней свои ветки. Одетая в снег, земля блестит, переливается мельчайшими синими огоньками. Черные тени от деревьев четко легли на снег, и иногда мне чудится — это не тени, а какие-то живые загадочные существа оплели землю.
Нет, никогда еще не видел я такой ночи!
Но когда же, когда прибегут зайцы и лисы? Я замирал от нетерпения, поеживался. Мороз стал проникать за мой овчинный воротник и покусывал нос, щеки. Отец иногда наклонялся ко мне, шепотом спрашивал: «Не замерз? Не холодно? — и тут же предупреждал: — Сиди смирно. Не шевелись. Теперь скоро».
Я сидел и старался не шевелиться. Но возраст и ночь взяли свое, и я не заметил, как сладко задремал. И вдруг меня разбудил протяжный и странный пронзительный звук, похожий на непрерывную трель свистка с дробинкой или горошинкой внутри, только более высокий и резкий. Я никогда не слыхал потом подобного звука. Отец сравнивал его с трелью кроншнепа, но никаких кроншнепов в зимнюю пору в саду не могло быть, и звук этот так и остался для нас неразгаданным.
Мое детское воображение сразу разыгралось. Таинственный звук словно подстегнул его. Отец осторожно достал часы, взглянул. Одиннадцать! Сейчас прибегут зайцы! Однако откуда этот звук? Он не был похож ни на крик совы, ни какой-либо другой степной птицы. Но звук, по словам отца, всегда предшествовал выходу зайцев на корм.
Ружье уже было в руках отца, курки взведены. Луна поднялась высоко, как сверкающий щит. Ночь сияла каким-то неистово синим, неземным пламенем. Было слышно, как от мороза потрескивали сучья, малейший шорох отдавался на большое расстояние…
И вдруг в просвете аллеи на снегу замелькали тени и донеслось мягкое, чуть слышное: «Трух-трух, трух-трух».
Зайцы бежали, то и дело останавливаясь, садясь на задние лапы и забавно поводя длинными ушами. Вот два-три из них выбежали после нескольких осторожных стоек и прыжков на полянку. Послышалось мирное похрустывание. Зайцы начинали свой поздний ужин. Я смотрел на полянку, до которой было не более двадцати пяти шагов, и не верил своим глазам. Иногда мне казалось, будто я вижу зайцев во сне, что все это продолжение слышанной накануне сказки. Мне чудилось, что я вижу забавные косоглазые зайчиные мордочки, их сверкающие при лунном свете миндалевидные глаза. У меня появилось желание крикнуть, вспугнуть их, спасти от неминуемой близкой гибели. А зайцы и не подозревали о смертельной опасности.
Я уже видел, как отец медленно, бесшумно поднимает ружье. Вот он целится, целится, мучительно долго и словно раздумывает: стрелять или подождать. А зайчишки прыгают, резвятся, похрустывают сухими ветками. На полянке их уже не менее шести штук. А там, по аллее, бегут другие:, «трух-трух, трух-трух».
«Я крикну — не могу больше! Зайчишки, убегайте!» — проносится в моей голове. И в это мгновение прямо передо мной вспыхивает молния, за ней другая, уши закладывает от оглушительного грома. Отец выпалил из двух стволов кряду с промежутком в полсекунды. Я дрожу, зажмурил глаза и, когда открываю их, вижу — полянка пуста, только на снегу — два неподвижных пятна.
Отец торопливо перезаряжает ружье. Стреляные гильзы падают мне на колени, издают запах, похожий на запах тухлых яиц.
— Двух подвалили, сынок, — радостно шепчет отец.
Он говорит «подвалили», как будто и я стрелял, и я убивал. Меня треплет нервная лихорадка. Странное чувство овладевает мной — там, на полянке, лежат убитые зайцы, а отец потирает руки, шепчет ласково:
— Не замерз?
— Бу-бу-бу… Н-нет, — отвечаю, стуча зубами, еле разнимая губы.
— Ну потерпи. Подождем. Сейчас еще прибегут. Не те, конечно, а другие.
Но ночь почему-то утратила для меня прежнюю волшебную красоту и очарование. В руках отца заячья смерть, она уже заговорила, разохотилась. Не знаю, сколько длилась в саду мирная тишина. Нос мой совсем онемел от мороза, ноги тоже начали коченеть — при неподвижности не спасает даже теплая овчина. Но я молчу, не жалуюсь.
Как сквозь дрему, я вижу выбегающих на полянку зайчишек: какие же они глупые, доверчивые! Тишина обманула их. Вот один подбежал к засаде совсем близко, не более чем на пять шагов, и, сидя на задних лапах, смешно водит ушами. И снова поднимается ружье в руках отца, снова огонь и гром.
Но что это? Заяц перекувыркивается, кружится и верещит совсем по-детски, страшно, жалобно. В его верещании — ужас, нет, не ужас, а что-то непередаваемое — звериное и вместе с тем человечье. Так, наверное, кричал бы ребенок, если бы его ранили.
Я вижу, как вскакивает отец, оставляя тулуп на сиденье, подбегает к зайцу и в охотничьем азарте бьет его носком обшитого кожей валенка, потом прикладом по голове. Я еще не знал тогда, что на охоте человек забывается и часто бывает жестоким. Я не узнаю отца, доброго, рассудительного, великодушного.
В тяжелом молчании отец подбирает четырех зайцев. Он вешает их через плечо на грудь и за спину, а меня усаживает в санки и везет, совсем закоченевшего и сонного, домой.
Наутро мать зовет меня к столу. На сковородке дымится жареная зайчатина.
Вид у меня вялый и хмурый.
— Так я и знала, — негодует мать. — Говорила же: не смей брать его с собой. Вот и застудил ребенка.
Отец виновато молчит, хмурит брови. Он явно недоволен охотой и смущенно смотрит на меня. Он уже не такой добрый и справедливый, в моих глазах, как прежде. Детский крик раненого зайца, удары ногой по голове бедного животного — все это собирается во мне в гнетущий комок.
Я кладу вилку и, не притронувшись к жаркому, говорю:
— Мне не хочется есть.
Мать укоризненно смотрит на отца, прикладывает к моему лбу ладонь. Но голова моя ничуть не горяча: я здоров. Ночь, проведенная на крепком морозе, зажгла на щеках моих цветущий румянец, и только гнетет душу какое-то новое чувство. Мир кажется мне не таким безмятежным, как прежде.
Начало охладевать с той поры мое увлечение охотой, перестал я проситься на ночные засады, и теперь, как только вспомню о той величавой ночи, так и встает в памяти взбесившийся от боли, кружащийся, как юла, заяц, его крик, похожий на крик раненого ребенка.
Странная охота
И все же мне хочется рассказать еще об одной охоте, оставившей в памяти неизгладимый след.
С июня и до первых заморозков отец охотился на степных и тех лесных, водоплавающих и болотных птиц, которые во время перелетов залетали в адабашевский сад. Из степной дичи это были дрофы, стрепета, куропатки, горлинки и перепела, из водоплавающей, болотной и лесной — казарки, дикие утки, вальдшнепы, кулики, рябчики и другие.
На всякую птицу у отца находились свои охотничьи приемы, так, например, на стрепетов и дроф — щиты из хвороста и травы или «подкаты», на диких гусей (казарок), прилетавших из низовьев Дона на кормежку в степь, — окопы и ямы, устраиваемые на пути их лёта.
Отец никогда не начинал охоты без предварительной разведки, без изучения путей и времени птичьих кочевий не любил он тратить заряды впустую. Так он выследил места на жнивье и изучил с точностью до одной минуты время прилета на пастбище многочисленных косяков казарок.
Гусиные трассы, говоря языком современных летчиков, засекались им, конечно, не на карте, а в памяти с тщанием и хитростью опытного военного разведчика-топографа. Видимо, для этой цели он, прихватив ружье, уходил часто под вечер в степь, но не стрелял и возвращался оттуда без дичи.
Никогда не забуду сухих, ясных, погожих дней сентября и особенно грустную в эту пору бесцветную степь. Хлеб уже убрали, лишь кое-где гудели на токах тавричан паровые молотилки, домолачивавшие хлеб. В воздухе носился запах зерна и сухой соломы.
Тихо было и на пасеке: медосбор закончился и пчелы летали с чуть слышным сонным жужжанием.
В обычный день после обеда отец опоясался патронташем, взял ружье и зачем-то лопату, сказал мне: «Идем!»
Мы шли долго. На этот раз отец всю дорогу молчал, о чем-то сосредоточенно думая. Хутор давно скрылся из виду. Дороги были безлюдны. Вокруг простиралась щетинистая серая стерня, кое-где поросшая жестким мышеем и осотом. В те годы хуторяне после уборки в степи соломы не оставляли: ее свозили ко дворам, и скирды стояли рядами у ближних токов, точно крепостные валы.
Я уже начал уставать. Солнце склонялось к западу, когда мы пришли на пустынное скошенное поле, отлого спадавшее в балку. Кругом не было ни души, и было странно тихо и уныло.
Отец подвел меня к вырытой по всем признакам недавно неглубокой яме посреди поля. Она аккуратно обложена сухой травой и надерганной из земли стерней.
— Папа, кто это выкопал? — полюбопытствовал я.
— Я выкопал, — отрывисто ответил отец.
Он взглянул на старинные карманные часы, заводившиеся ключиком и висевшие на тонкой медной цепочке, — приз за отличную стрельбу на военной службе.
— Папа, а зачем нам тут сидеть? — допытывался я.
— Экой ты недогадливый, — с досадой отмахнулся отец. — Не скажу. Скоро сам узнаешь. Садись-ка.
Не рассуждая, я опустился вслед за отцом в яму и в ту же минуту услышал отдаленный мелодичный переклик диких гусей.
— Ну? Догадался? — скуповато усмехнулся отец, поглядывая на небо и взводя курок, по обыкновению сначала правый.
Крик диких гусей становился все слышнее, и вскоре я увидел в прозрачном сентябрьском небе первую, вытянутую острым клином стаю. Гуси опускались все ниже, держа курс прямо на наш окоп. Вот они снизились чуть ли не на десять саженей — их крик оглушал. Я видел их серооперенные брюшки, вытянутые назад краснолапые ноги.
— Этих пропустим, — хладнокровно сказал отец. — Пускай садятся и пасутся на здоровье, приманивают других.
Это была чисто охотничья коварная хитрость, но какая охота обходится без нее?
Гуси опустились саженях в ста от нашего окопа и принялись кормиться оставшимися на стерне колосьями. Одна за другой потянулись новые стаи. И, только пропустив третью, отец открыл стрельбу. Наш окоп находился как раз на оси главного гусиного пути. Все косяки летели через наши головы и очень низко. Они, что называется, цеплялись за стволы, и отец едва успевал перезаряжать ружье. Оно нагрелось от частых выстрелов. Гуси падали камнями, две сытые птицы свалились прямо в нашу яму.
Боюсь, что рассказ мой вызовет улыбку скептиков, знающих, как любят иные охотники прихвастнуть, насочинять с три короба. Но я-то охотником никогда не был, поэтому не стану описывать всех подробностей этой удивительно добычливой охоты.
Затихший на время спортивный азарт опять забурлил в душе отца. Возможно, это была последняя вспышка, последний выход на охотничью арену, жестокое и злое прощание со степью, так и не давшей моим родителям удачи. В то время я еще не знал, с какой тревогой доживал отец в адабашевской экономии последние годы. Но я замечал: отец становился все задумчивее и мрачнее. И после этого дня я уже ни разу не видел его на большой охоте с такими лихими огоньками в глазах.
Мы не заметили, как солнце присело на дальний туманный курган, как разлились вокруг хмурые сумерки. Многие гусиные косяки уже снялись с пастбища и улетели на юг, к низовью Дона.
Отец перестал считать убитых гусей, он только примечал опытным взглядом те места, на которые они падали, чтобы потом собрать добычу.
Наконец он встал с корточек, еще раз разломил ружье, продул горячие стволы, сказал:
— Ну, кажется, все: больше лёта не будет.
Крик гусиного косяка затихал вдали. Мы вылезли из ямы. Штук пять таких тяжелых, откормившихся на пшеничном зерне птиц уже висело на обоих моих плечах. Я гнулся под ними, но не сдавался: держался крепко, неся обильную добычу. Я воображал себя опытным охотником и, испытывая мальчишечью наивную гордость, желал, чтобы с таким необыкновенным грузом меня увидели все мои хуторские дружки, а особенно пастушок Дёмка, так и не уверившийся в моей храбрости.
Смеркалось очень быстро, и мы с отцом, удалившись от нашей засады, собрав всех гусей, уже хотели выходить на дорогу, когда пустынную хмарную степь огласил громкий, душу надрывающий гусиный крик.
Мы остановились и словно приросли ногами к земле от неожиданности. Крик раздался впереди нас и так близко, что, как мне показалось, оглушил меня. Это был пронзительный, отчаянный призыв о помощи, клич вслед улетавшим товарищам.
В унылом свете меркнувшего осеннего дня мы увидели впереди отставшего от стаи раненого гуся. Он сидел среди-блеклых остьев стерни и, вытянув длинную сизую шею, поводя головой, озирался по сторонам.
Отец тотчас же бросился к нему, на бегу заряжая ружье, но гусь побежал, взмахивая крыльями и оглушая степь резким, более громким, чем гоготанье домашних гусей, «ки-ги! ки-и-ги!» Пробежав саженей десять, он, видимо, напряг последние силы, взлетел и медленно потянул в сторону балки. Отец приложился, выстрелил и — удивительно! — несмотря на то, что всегда попадал с большего расстояния и в менее крупную дичь — промахнулся. Гусь летел очень низко, как видно, сил, чтобы подняться высоко, у него уже недоставало. Он тянул все дальше и дальше в балку, все ниже и ниже, исчезая в густеющих фиолетовых сумерках.
Отец разрядил другой ствол и так же безрезультатно:; гусь скрылся в вечерней мгле. Я стоял, потрясенный случившимся. Мне казалось: в болезненном обреченном крике раненой птицы слышались человеческая боль, мольба, гневный укор.
— Вот дела, — сокрушенно покачал головой, подходя ко мне, отец. — И надо же такой беде случиться. Впопыхах вместо патронов с гусиной дробью вложил в ствол с бекасинником. А бекасиная не взяла. Гусь-то все равно сильно раненный и окачурится где-нибудь в балке, да разве теперь впотьмах его найдешь.
— Папа, да ведь у нас и так много гусей, — попробовал утешить я отца.
— Много-то, много, да жалко — уж больно хорош гусь. Не нам, а совам да коршунам достанется.
Отец вздохнул; раненый улетевший гусь, очевидно, испортил не только мое, но и его настроение, в один миг сбавил мою ребячью гордость… Мы шагали по пустынной черной дороге, а в ушах моих все время звучал резкий и жалобный гусиный крик.
Отец вздыхал, кряхтел, иногда бормоча упреки самому себе за оплошность. Он точно забыл об удачной охоте, о том, что возвращались мы с большой добычей, как будто один улетевший гусь стоил всех четырнадцати, которых мы еле тащили на своих плечах.
И вдруг я услышал, как отец, быстро шагая впереди меня по гулкой затвердевшей осенней дороге, громко произнес:
— Эх, не к добру этот гусь! Кто его знает, кончится ли он. Хорошо бы, если бы выжил и улетел, а то подохнет где-нибудь в траве без толку.
Уже перед самым хутором на нашей дороге встала неясная тень. Отец снял ружье с плеча, а я почувствовал, как по спине побежали мурашки.
— Эй, кто это? — негромко окликнул отец.
В один миг мне представились разбойники и разные степные оборотни. Ведь гусь-то улетел, да и кто знает — гусь ли это был, а может, какой волшебник, обернувшийся гусем, а теперь — человеком, чтобы отомстить за смертельную рану и за то, что мы наколотили столько ихнего, гусиного, брата…
Но тень уже выросла перед нами во весь рост. В свете поздней вечерней зари можно было разглядеть тонкую фигуру человека в охотничьем костюме и высоких сапогах с отворотами. На боку незнакомца висел новенький ягдташ. На голове торчала смешная суконная шляпа с пером и мягкими ушными отворотами, за спиной висело ружье, по всем признакам очень дорогое — бескурковое.
— Вот и отлично, ты тоже охотник? — сразу с места в карьер затараторил на явно городском наречии незнакомец. — Великолепно! Удачно! А я, представь себе, голубчик, заблудился. Ты кто же будешь? А-а… Здешний садовник? Прекрасно! Чудесно! Так ты, милейший, уж доведи меня до ночлега… А? Я вознагражу, великолепно вознагражу.
Незнакомец говорил с отцом снисходительно, по-барски, на «ты» и так, словно тот давным-давно обретался в его подчинении и был обязан во всем беспрекословно ему повиноваться.
— И это ты все настрелял, любезный? Не может быть! Не может быть! Сколько же тут? Четырнадцать! Ах, чертовски великолепно, ах, чудесно! — восторгался незнакомец. — Ты прекрасный стрелок, голубчик. А я, представь себе, отбился, черт возьми, от своей компании, верчусь по степи весь день и не убил даже воробья. А тут еще сбился с дороги, черт бы ее побрал, эту вашу степь, и вот хоть ночуй на дороге. Ты уже позволь, милейший, у тебя заночевать…
Отец ответил с полным радушием:
— Так что ж… За ночеванием у нас дело не станет. Милости просим. Только у нас уж просто… не того… не по-городскому.
— Ну кровать-то у тебя найдется? — развязно спросил охотник. — А еще лучше, знаешь ли, я заночую у тебя на сеновале. Это же превосходно! Есть у тебя сеновал, мужичок?
— Сеновала нет, а так, ясельки, где стоит коровенка. Пожалуй, не подойдет для вас — жестковато, да и холодновато будет. Ночи-то уже холодные…
Охотник возмутился:
— Да какой же ты мужик, если у тебя сеновала нет… Ах, да, ведь ты садовник.
Так, слушая болтовню заезжего из города незадачливого охотника, мы добрались до дому, в свою хибарку. К удивлению отца и матери, гость, поморщив тонкий нос, смирился с неудобствами и стал располагаться на ночлег. Он снимал свои, видимо, совсем недавно купленные в первоклассном охотничьем магазине новенькие охотничьи доспехи, небрежно бросал их на лавку, а сам не сводил плотоядного взгляда с четырнадцати наших гусей. Выпуклые глаза его сияли жадностью. Он явно завидовал такой большой добыче.
Мать вскипятила чай, потом разложила тюфяк и ситцевые плоские подушки на нашей единственной койке, а охотник-щеголь, брезгливо морщась и нюхая застарелый, пропахший нуждой воздух нашей глинобитной, с земляным полом, хибары, расспрашивал отца о степных наиболее удобных для охоты местах.
Забившись в угол, за печку, я с любопытством разглядывал оттуда городского «барина», каждую мелочь его великолепного снаряжения. А снаряжение это было действительно диковинным, невиданным! Чего только на охотнике-франте не было! И сумки из желтой мягкой кожи, и ягдташ с зеленой сеткой, с махрами и медными кольцами, с крючками для дичи и застежками, и цейсовский бинокль, и пристегнутый к поясу нож в чехле, какой-то особенный патронташ с выглядывающими из него блестящими головками золотистых гильз, а главное — шляпа с желтым перышком, какую можно было увидеть только на картинке.
Я так загляделся на удивительные принадлежности охотника, на его новенький барский костюм, на белые руки с толстым перстнем на среднем пальце, на золотые часы на массивной цепочке с разными висюльками, что вскоре тонкий нос и темные усики на холеном лице гостя стали двоиться в моих глазах, и я, утомленный охотой и длинной дорогой, не заметил, как уснул.
А утром, проснувшись, я не увидел ни охотника, ни его снаряжения. Он уехал на конной подводе на станцию. На лавке я не увидел десяти гусей — львиной доли нашей вчерашней добычи. Мать хмурилась и вздыхала, а отец неохотно пояснил:
— Городовик этот с собой забрал. Дескать, стыдно домой с охоты ни с чем ворочаться. Просто наянливо вымолил. Наобещал многое. Что и ружье мне какое-то из магазина Декамилли подарит самое лучшее, и припасу охотничьего пришлет, и тебя, Ерик, в гимназию учиться пристроит. Привози, мол, сына, у меня будет жить, черной работой не будет заниматься, а только с записками до знакомых артисток бегать. А в гимназии, дескать, всяким, наукам обучат. Образованным сынок будет. Эх, кабы обещание исполнил — вот бы и был ты, сынок, у нас большеграмотным…
— А ты и поверил, — усмехнулась мать. — Он не на Ёру, а на гусей смотрел, как кот на сало. Рубль тебе сунул, гусей забрал и был таков. Жди — все будет, как бы не так…
Мать оказалась права: ни ружья, ни охотничьих припасов, ни гимназии, ни даже слуху никакого от тонконосого охотника-франта мы не дождались.
— Щелкопер. Свистун! — пренебрежительно охарактеризовал ночного гостя отец. И не любил, когда мать напоминала о нем.
Хожалые люди
Мимо нашей семьи, а иногда бок о бок с нею, прошло немало разных, плохих и хороших, людей. Это главным образом относится к поре наибольшего процветания адабашевской экономии, когда в ней скапливался всякий бродячий люд.
Многие из них почему-то льнули к нашей семье. Отец, по-видимому, радушием привлекал их, и часто они изливали ему свои думы, делились своим горемычным прошлым и еще более грустным настоящим.
Чаще всего это были отпетые неудачники, потерпевшие в жизни непоправимое крушение, вышвырнутые из так называемого порядочного общества то ли из-за собственных пороков, преимущественно приверженности к «зеленому змию», разгулу и неприспособленности житейской, то ли по причине общественной неустроенности, стихийного неприятия зол тогдашней российской действительности или открытого участия в «политике».
Удивительно много людей бродило тогда по белу свету, не находя себе пристанища, оседая на короткое время в глухих степных местах, чтобы перехватить какой-нибудь заработок и снова брести дальше. Ходили группами и в одиночку, оборванные, полуголодные, высматривающие какую ни есть, хотя бы мелкую, какая подвернется, поживу. Ходили смиренные и кроткие, протягивая руку за подаянием, тоскливо и ханжески канюча под окнами: «Подайте Христа ради!» Захаживали мрачные, гордые, сосредоточенные на какой-то затаенной, им одним известной, влекущей неведомо куда мысли, пренебрежительно поглядывая на адабашевскую собственность и благополучие. Мыкались по «волчьему билету» «образованные», с интеллигентной внешностью и правильной речью, в поношенной, но опрятной студенческой или чиновничьей одежде — всякие исключенные, разжалованные, высланные из Петербурга, Москвы и других крупных промышленных городов за слово правды, за печаль об угнетенном народе…
Немало попадалось среди «страждущих», «странствующих и путешествующих» никчемного люда — всяких плутов, воров и шарлатанов, балагуров и краснобаев, дурачивших простой народ бойким, цветистым словом, разными выдумками и фокусами. И все это затем, чтобы как-нибудь просуществовать: составить добавочный миллион, а то и два православного, числящегося благополучным населения России.
Кого только не перебывало на хуторе из этой категории — заходили монахи и расстриженные попы с пропитыми басами-профундо, кроткие, чистенькие, миловидные монашки, ходившие с кружками и собиравшие посильную лепту на монастырь, на божий храм или на чудотворную икону. Забредали изможденные, в рваном рубище, истязатели собственной плоти, лохматые, босые и страшные, с кровавыми язвами на руках, обвешанные веригами, железными крестами и кольцами. Изрекали огненное слово осуждения кочующие доморощенные философы и взыскующие «вышнего града» пророки.
Дешевую радость приносили в хутор веселые бойкоречивые коробейники, или, как их называли у нас, «венгерцы», гнувшиеся под тяжестью громадных тюков или коробов. «Венгерцы» разговаривали на чистейшем русском или украинском языке и тут же на дворе развязывали свои тюки, раскладывали перед горящими взглядами женщин «красный» товар: яркие, цветистые ситцы, кумачи, китайку, пестрые ленты, дешевые кружева, платки, гребешки, мыло «Брокар», дешевые духи и пуговицы.
От товара исходил возбуждающий запах города, мануфактурных и галантерейных лавок, праздничной ярмарки. Тут же на траве перед взором ослепленных покупателей раскладывались аляповато раскрашенные лубочные книжки, календари и олеографические картины с изображением охоты на львов и тигров, битв с японцами и турками, портреты царя и царицы и их августейшего семейства.
Здесь можно было за гривенник купить и румянощекого курносого царя вместе с супругой, и «Францыля-венециана», и «Яшку-красную рубашку», и «Разбойника Чуркина», и «Бову-королевича», и «Сказ про то, как солдат Петра Великого спас», и многое другое.
Разносчики «красного» товара и книгоноши были довольно частыми гостями на хуторе.
Отец был особенно к ним любопытен. Весь этот кочующий, остроречивый люд являлся источником всяких новостей и слухов, живой газетой, своеобразным «народным университетом», откуда отец черпал немалое количество сомнительных и несомнительных знаний.
Нет возможности обрисовать всех, кто забредал на наш хутор и оставил о себе в нашей семье добрую или дурную память. Расскажу только о тех, кто прочертил в моем детском сознании наиболее заметный штрих и о ком отец вспоминал чаще всего.
Каждый человек являет собой добрый или дурной пример. Он привлекает или отталкивает, возбуждает симпатию или отвращение. На таких светлых, благородных в подлинном смысле этого слова и дурных, отталкивающих людей делил отец весь род людской.
Думаю, что отец носил в себе какой-то вечный народный идеал добра и, хотя не всегда умел следовать ему в практической жизни, тем не менее верил в него и старался по-своему, подчас наивными словами передать эту веру мне.
Отец мог с симпатией отзываться о человеке, оказавшем ему даже незначительную услугу, обронившем хотя бы одно доброе слово. Он запоминал человека навсегда и потом с наивной радостью, с сиянием в глазах рассказывал о нем. Даже самая малая крупица добра в людях радовала его.
С такой радостью и гордостью, с благоговейным почтением отец отзывался о некоем Африкане Денисовиче Коршунове, машинисте-механике, работавшем у Адабашева на паровых молотилках. Какими действительными достоинствами обладал этот человек, за какие нравственные качества и поступки отец так превознес его, не берусь судить. Я был тогда еще мал и помню его смутно. В моей памяти Коршунов встает больше по описанию отца и матери.
Африкан Денисович Коршунов родился в богатой дворянской семье, учился в Москве в Высшем техническом училище. Перед ним открывалась дорога талантливого инженера. Но за участие в студенческом движении он был арестован, исключен с последнего курса училища и выслан на юг без права жить в больших городах. Тут, живя в станице, он и «перебивался», как говорили тогда, случайным заработком — работал то на паровых мельницах машинистом, то на ремонте локомобилей и молотилок у окрестных помещиков. У Марка Ованесовича Адабашева он прослужил четыре молотильных сезона: чинил и ладил паровики, молотилки и прочие сельскохозяйственные машины.
Жил Коршунов в вагоне, передвигавшемся на колесах вслед за локомобилем и молотилкой с одного тока на другой. Рядом с маленьким слесарным верстаком и ящиками с инструментом располагалась его койка, а над нею, у изголовья, полочка с техническими и другими книгами.
Я помню очень явственно и этот вагончик, и верстак с тисками и сверлильным станком, и деревянный шкаф с набором слесарных инструментов, и запах машинного масла, смешанный с теплым запахом нагретого металла. Все это и именно этот вагон я видел уже в более позднем возрасте, когда в вагоне жили другие машинисты, но задумчивый и умный облик самого Коршунова, его голос, жесты, слова, полочка с книгами возникают в моем представлении как из моих непосредственных впечатлений, так и из рассказов отца.
И это воображаемое, услышанное от отца ярче и привлекательнее того, что запомнилось мне самому.
Вот я сижу на коленях большого ласкового человека с русой пушистой бородой и вьющимися усами, сосу кисло-сладкие леденцы и болтаю ногами. Мягкая, бережная рука Коршунова легонько сжимает мои колени. Глубокий, словно льющийся из широкой груди бас звучит задушевно, внушительно, а слова точно выкатываются изо рта, как мягкие цветные шарики — такие ладные, округлые, как будто зримые, осязаемые:
— Эх ты, воробушек, степная пташка… Тебе бы только гостинчики да леденцы. Не болтай ногами — нехорошо Вот подрастешь, возьму тебя в город — кстати, мой срок тогда кончится. Знаешь, какой срок? Потом, когда повзрослеешь, узнаешь. Заберу тебя у отца, и вместе поступим на большущий-пребольшущий завод, где вот такие машины делают, и выучу тебя на механика. Будешь паровиком управлять, рычаги открывать, гудки давать. Хочешь?
Я лепечу, не вникая в смысл слов доброго дяди:
— Хочу. Гудки давать.
— Хочешь? Ах ты, снегирь! Ну-ка, пойдем.
Коршунов встает, прижимает меня к груди. От него пахнет хорошим турецким табаком и теплым дыханием машины — всем тем, чем напитался вагончик и работающие здесь люди.
Я слышу, как гудит, подвывает за маленьким окошком барабан молотилки, как, захлебываясь, глотает снопы пшеницы.
Держа меня на руках, Коршунов подходит к работающему, жарко дышащему, словно потному, паровику. Мне боязно и любопытно. Кочегар Давыдка, в широком соломенном бриле и в расстегнутой до пояса рубахе с засученными рукавами, непрерывно сует в топку солому, открыв щербатый большой рот, подмигивает мне большим озорным глазом.
— А-а, Ёрка! Давай тебя — в топку!
Я начинаю дрожать. Молотилка гудит, наверху, на полках, рьяно работают зубари, подхватывая с арб навильни пшеницы, бросают в барабан. То и дело слышится сверху крик: «Подавай! Подавай!» Плещется длинный, тяжело провисающий ремень, протянутый от махового колеса паровика до шкива молотилки, всхрапывает в кадушке насос, подающий воду в котел, мелькают на солнце медные кулаки регулятора. А из высокой железной трубы тянется в сторону от тока темный шлейф дыма…
Поднеся меня совсем близко к пыхтящему, пышущему зноем паровику, Коршунов спрашивает:
— Ну? Хочешь гудок давать? Берись-ка вот за это колечко. Держи, держи покрепче. Не бойся, коли хочешь стать машинистом.
Я сжимаю маслянистое колечко и трепещу от страха.
— А теперь потяни к себе. Ну тяни, тяни. Сильнее.
Тяну изо всех сил, и вдруг пронзительный рев вырывается из медной трубки, закладывает ушные перепонки. Меня обдает теплым паром, как из бани.
Я оцепенел от ужаса, и неожиданности. Вижу широко оскаленный рот Давыдки, такие же распяленные рты и перекошенные в смехе лица рабочих, но хохота не слышу и продолжаю крепко тянуть за колечко. А гудок все ревет и ревет, пока Африкан Денисович не разжимает моего, в судороге сжатого, кулачка.
Страшилище сразу умолкает, а я, бледный, близкий к обмороку, наконец опамятываюсь и начинаю вопить не менее громко, чем гудок паровика.
— Эх ты, машинист! — смеясь, журит меня Коршунов и сует мне в руку горсть леденцов.
Но страх уже преодолен, и я вскоре сам начинаю просить:
— Пойдем. Я хочу дать гудок.
И Коршунов, когда требовалось дать зубарям сигнал о начале работы или поторопить арбы с хлебом, никогда не отказывал мне в этом удовольствии.
Африкан Денисович, как рассказывали отец и мать, тесно сдружился с нашей семьей и часто помогал отцу в нужде, особенно тяжкой в первые годы жизни на адабашевской усадьбе. Отец был горд и не брал денег у чужих людей даже взаймы, но у Коршунова, судя по свидетельству матери, брал. Правда, это была очень скромная помощь, выражавшаяся всего в нескольких рублях, но в те трудные годы и копейка могла спасти человека не только от нужды, но и от верной гибели.
Кажется, некоторые из этих ссуд так и остались невыплаченными, не потому, что отец брал их безвозмездно, а в силу непредвиденных обстоятельств, вскоре оторвавших Коршунова от нашей семьи навсегда.
Многие годы спустя отец растроганно рассказывал о том хорошем, что принес Коршунов в нашу семью. С его помощью молодая, неопытная мать повезла тяжелобольную сестрицу Мотю к лучшему ростовскому врачу. Все хлопоты, проезд и оплату за визит к доктору Коршунов взял на себя. К сожалению, запоздалое обращение к медицине не помогло, о чем горячо вместе с отцом и матерью горевал Африкан Денисович. Он сам нес гробик с моей сестричкой на опушку сада и опустил его в могилку.
И переселение наше из дырявого балагана в более пригодную для жилья мазанку не обошлось без участия Коршунова. Он пошел к старому Адабашеву, к которому никто не рисковал ходить, не будучи уверенным, что его не обругают черным словом или не вытурят в шею.
Коршунов долго разговаривал с хозяином, а когда Марк Ованесович попробовал прикрикнуть на него, то сказал ему какое-то одно слово, от которого разъяренный старик сразу помягчел и пообещал все устроить через управляющего.
Какое слово сказал в беседе с хозяином Коршунов, так отец и не узнал, но, по уверению его, была названа фамилия какого-то министра, будто бы ближайшего родственника бывшего опального студента. Так ли это было на самом деле, не могу утверждать, но отец твердо стоял на своем и всегда рассказывал об этом, многозначительно приглушая голос.
Отец любил рассказывать, какой был умный, образованный и справедливый человек Коршунов. Он будто бы никого не боялся — ни генералов, ни наказного, ни станичного атамана, ни заседателя, ни урядника, а тем более неграмотного грубияна и степного дикаря хозяина. Он будто бы резал ему правду-матку в глаза, делал все по-своему и откровенно высмеивал его. И Марк Ованесович ничем не мог досадить смелому человеку, ибо не было в округе лучшего механика, чем Коршунов, ни у кого так ладно, без поломок и остановок, не работали паровые молотилки.
«А изобретатель Африкан Денисович был какой! Вряд ли теперь такого сыщешь!» — уверял отец. Он будто бы и молотилку так перестроил, что она больше обмолачивала в день хлеба, и на паровике какой-то новый предохранительный клапан поставил, который совсем устранял опасность взрыва котла, за что Коршунов и был отмечен выставочной медалью. Да только не выдали ему этой награды: числился Африкан Денисович в каких-то особых, неугодных царю списках.
Вернувшись однажды из станицы, отец с восторгом рассказывал об увиденной на квартире машиниста модели парового двигателя. Это был маленький, изящный локомобиль, нагреваемый древесным углем, как самовар. В нем все было, как в самом настоящем большом двигателе — и котел, и топка, и цилиндры, и регулятор, и даже свисток, да, и свисток, который свистел, как настоящий гудок на машине! Паровичок посредством ремня вращал швейную машину и небольшой токарный станок.
Желая, очевидно, изготовить такую же модель, отец приступил к делу, но у него не хватило на это ни технических знаний, ни материалов, ни денег. Работающей модели не получилось, но отец все же сделал игрушку — паровик и молотилку, в которой все было, как у настоящей: барабан, соломотрясы, ветрогон, сита. Я вращал ручку маховика, а ремень приводил в движение молотилку. Она даже разбивала хлебные колосья.
Как-то раз из станицы на тачанке приехал в хутор пристав с полицейскими. Не задерживаясь долго в доме хозяина, они поехали на ток и тут же, у работающего паровика, взяли Африкана Денисовича под стражу, усадили на тачанку и увезли. Это случилось так неожиданно, что хутор на несколько дней точно оцепенел.
С тех пор наш друг, благодетель и, я уверен, один из самых добрых наставников отца исчез бесследно, как в воду канул.
Отец и мать долго грустили о хорошем человеке, мать даже плакала, вспоминая его, а в моем сознании образ Коршунова навсегда слился с теми героями, о которых так хорошо и светло рассказывалось в прочитанных мной позже книгах.
Мне казалось: отец и мать, вспоминая о Коршунове, чего-то недоговаривали, утаивали и часто подолгу шептались, оставаясь наедине.
И вот однажды я забежал днем в нашу мазанку и остановился в темных и всегда сырых, отдающих погребом, сенях, словно прикованный к месту неясным предчувствием.
Из единственной нашей комнаты доносились приглушенные голоса отца и матери. Словно по какому-то наитию, я затаил дыхание, прислушался и услышал знакомое имя: отец и мать говорили о Коршунове.
Прошло немало времени после того как полицейские увезли его из хутора, а дух его все еще витал в нашей хате, и мое сердце по-детски тотчас же отзывалось при одном имени машиниста.
— Куда же денем это, мать? — тихо спросил отец, шелестя какой-то бумагой. Не сразу дошло до моего сознания, что это был шелест перелистываемых страниц какой-то книги. — Спрятать бы ее надо.
— Давай в печку. Сожгу, — посоветовала мать.
Отец вздохнул:
— Жалко. Уж больно занятная, справедливая книга «Пауки и мухи». Вот ловко! А?
Молчание.
— А зачем она тебе? Африкана Денисовича, может, и в живых давно нету, а ты ее все бережешь. Ты же знаешь — он из тех, что царя убили. Найдут книжку — и загонют тебя, куда Макар телят не гонял. А я с дитем куда денусь, что буду делать?
Опять в голосе матери прозвучал тот же страх перед вдовством.
Отец возразил:
— Африкан Денисович никакого царя не убивал. Эва, когда царя убили — двадцать семь лет прошло.
— Не он, а такие, как он, — убежденно зашептала мать. — А разве Коршунов не говорил, что царя не нужно и будто можно без царя жить… Его за эти слова и выслали из Москвы и в Сибирь сослали.
— Эх, хороший человек, а вот… поди же… — глубоко вздохнул отец. — Как это — без царя… Разве можно? А как же наша держава-то? Как улей без матки? Так, что ли?
— И я про то же, — согласилась мать. — Не услыхал бы Ёрик. Боже сохрани такое дитю слушать.
Я чуть не закричал при этих словах: «Я тут, я слушаю!»
— Так куда же ее, книжку-то? Ведь она про правду, — заколебался отец, и в голосе его прозвучала тоска давно одолевавших сомнений. — А что ежели ее в бутылку из-под бальзама, что управляющий Борис Гаспарович нам дал… Да закопаю… в саду. Как думаешь, мать? Жалко ведь жечь такую книжку. Сжег — и нету ее, а так она будет целая.
— Зачем? Для кого? — сердито спросила мать.
Я знал, о какой бутылке шла речь: большая, широкогорлая, глиняная, покрытая зеленоватой эмалью, с ручкой — не бутылка, а целый старинный кувшин с оттиснутой и заполированной непонятной надписью «Киндер бальзам». И в эту посудину, в которой мать, идя на бахчу или огород, брала с собой воду, собирались запрятать тоненькую таинственную книжку и закопать в землю. Зачем? Что это была за книжка? Про каких пауков и мух в ней рассказывалось?
Я стоял в недоумении. Ноги мои словно приросли к полу, язык присох к нёбу, а передо мной во весь рост вставал светлоглазый человек с русой бородой доброго волшебника и сильными, такими же ловкими, всемогущими, как у отца, руками.
Тихий говор в хате прекратился, послышались шаги отца. Я испугался, что отец накажет меня за подслушивание, и выбежал из хаты.
До самого вечера я пробродил по запустевшему адабашевскому саду, прячась за деревьями, приседая за кустами и прислушиваясь, не идет ли отец закапывать бутылку с книжкой. Но ни в тот день, ни в последующие так и не удалось мне выследить и узнать тайну этого клада.
Потом за играми, за работой на пасеке и в саду, за ребячьими заботами и забавами я забыл о книжке и бутылке и вспоминал о них, лишь когда отец и мать заговаривали о Коршунове.
И только будучи взрослым, уже после Октябрьской революции, я как-то спросил отца о его «кладе», но он даже не сразу понял меня, а, вспомнив, сокрушенно махнув рукой, ответил:
— Так и не закопал я ее тогда. Мать не дала: спалила в печке. Она ведь всегда боялась, что меня заберут, как Коршунова. Знался ведь я с ним… И книжку эту он мне дал. Очень преинтересная была книжица, хоть и малюточная — всего в несколько листочков. Да что теперь говорить, когда все по ней и вышло: паутину порвали и главного паука уничтожили с корнем…
Кирик Шурша
Совсем иное впечатление произвел на нашу семью другой адабашевский машинист, занявший место Африкана Денисовича Коршунова. Имя и фамилия этого нового «хожалого» человека казались такими же необычными и колючими, как и он сам, — Кирик Шурша.
Он тоже почти каждый день бывал у нас и, надоедая своей шумливостью, странными выходками и речами, по-своему привязался к отцу и матери. Я боялся его и старался не попадаться ему на глаза. А он, чуя, что я не жалую его, еще пуще пугал и дразнил меня.
Помню, как впервые он пришел к нам и резким, крикливым голосом пригрозил:
— Что это за машинист у вас тут был! На паровике поставил маленький пискучий свисточек, какого и за сто шагов не услышишь. Вот я поставлю такой гудок, что за десять верст в окружности всех будет будить. Вот услышите.
И мы услышали… Однажды на рассвете все в хуторе проснулись от страшного рева. До молотильного тока было не менее версты, а в нашей мазанке пугливо звенели стекла. Это гудел, сзывая на работу, новый гудок машиниста Кирика Шурши.
Мать пугливо крестилась и говорила отцу:
— Свят, свят, свят! Я уже думала — труба архангела зовет на страшный суд.
— Да-а… Вот это гудочек, — качая головой, усмехнулся отец. — Этот гаркнет так — и глухой не проспит, вскочит.
В тот же день Шурша прибежал к нам и, торжествующе подмигивая, спросил:
— Ну как? Слыхали? Я еще не такой могу поставить. Хочу склепать гудок, чтобы за сто верст было слышно. Вот у нас, в Юзовке, на рельсовом был гудок так гудок: дунет — стекла в окнах выпадали…
— А где эта Юзовка? — наивно спросила мать.
— А ты и не слыхала, хозяйка! Эх ты, тетеря-етеря несмышленая, — дерзко укорил Шурша. — Живешь в степи — дальше своей хибарки ничего не видишь, курганам молишься… Ад кромешный, небось, знаешь? Так вот это и есть Юзовка.
Тут мы все присмотрелись к Шурше повнимательней. Едкие речи, злой голос его были необычными. Росту он был маленького, тощий, юркий, худющий; как скелет, обтянутый кожей, и весь какой-то изломанный, измятый, перекошенный в плечах — правое плечо торчало намного ниже левого. Он часто передергивался весь, словно его потягивали за невидимую нитку, вздрагивал, изгибался, как ящерица. Волосы у него на голове были желтоватые, на подбородке всегда торчала щетинка, нос острый, кривоватый, глаза зеленые, недобрые…
— Чего вылупились на меня? — сердито спросил Шурша, заметив наше любопытство. — Аль некрасив? Поломали бы ваши ребра жандармы так, как мои, да протащили бы через водосточную трубу разок, так вы похуже были бы. Мне всего тридцать шесть, а дают шестьдесят. Эх, вы-и-и, необразованщина орловская. Лапотники. А ты, шкет, чего глаза вытаращил? — неожиданно уставился на меня Шурша и больно щелкнул по носу. Я сразу сник, чуть не заревел, спрятался за спину матери.
Так началось мое знакомство с Кириком Шуршой.
Отец и мать были изумлены повадками гостя, встречали его с боязливой вежливостью: бог знает, что было на уме у этого вертлявого неказистого человека, гляди, скажешь ему неугодное слово — ударит чего доброго. Уж больно зол и дерзок. И загадочная Юзовка, породившая на свет такого человека, стала рисоваться мне действительно кромешным адом, преисподней, где вечно пылают огромные, дышащие красным полымем печи, изрыгают черный дым высокие, до самого неба, закоптелые трубы. Из слов Шурши я узнал: там варят железо и делают рельсы, а чтобы народ работал и не бежал оттуда, всюду расставлены жандармы и казаки с саблями и пиками. Чуть кто не захочет работать — его сразу же на пику или в темную казематку…
В обеденный час мать выглядывала в окно, пугливо говорила:
— Вон уже Шурша бежит.
Новый машинист действительно не ходил, а бегал, нагнув вперед перекошенное туловище, заложив руки в карманы замасленных штанов и всегда мурлыча что-то под нос себе.
Однажды отец, завидев Шуршу, вздохнул:
— Не человек, а блоха, ей-богу. Эх, где наш Африкан Денисович? Вот человек был… Душой и обличьем ясный…
Я сделал вывод, что Шурша не нравился не только мне, но и отцу и матери. Мы часто слышали на току его скрипучие, пронзительные выкрики. Локомобиль нередко останавливался, молотилка не гудела.
— Нынче опять зубари в барабан вилы бросили, — пожимая плечами, говорил отец. — Такого давно не бывало. Хозяину зубари вредят. Молотьбу на день оставили. Управляющий мечется, Шуршу во всем винит. А тот бегает вокруг паровика, посмеивается…
Я почему-то избегал смотреть в лицо Шурши, но однажды нечаянно взглянул и навсегда запомнил его глаза — как осколки стекла прозрачно-зеленые, острые, таящие недобрую усмешку.
Шурша не называл меня иначе, как «шкет», «пистолет», «шельмец», «баловень», «маменькин угодник» и давал другие клички и прозвища. Мать даже обижалась за меня, но молчала, стеснялась: для нее Шурша как-никак был из образованных, из городских, и высказать ему осуждение она никак бы не осмелилась.
А Кирик Шурша, приходя с работы, первым делом дергал меня за ухо, награждал легким щелчком по лбу и говорил: «Ну, баловень, как дела? Опять нашкодил?»
Я съеживался и, боясь что-нибудь сказать в свою защиту, быстро прятался или убегал… Но однажды, когда щипок за ухо оказался слишком болезненным, а прозвище «клоп» нестерпимо обидным, я, не помня себя, ощетинился, крикнул слезным голосом:
— Сами вы — клоп! Ящерица! — и опрометью выметнулся из хаты.
— А? Каков? — озадаченно покачал головой Шурша. — Оказывается и в мальчишке злость есть…
Моя ответная выходка даже как будто обрадовала Кирика. Удовлетворенно усмехнувшись, он добавил:
— Люблю злых… Терпеть не могу добрых… слюнтяев.
Мать строго пожурила меня за невежливость и передала мне странные слова Шурши. Но после этого случая я еще больше стал сторониться нового машиниста.
Шурша кормился у нас за плату — два с полтиной в месяц. Он не мог есть общую пищу из одного котла с рабочими, объясняя это болезнью желудка и печени, и часто просил мать готовить особо для него — молочную кашу, куриный бульон, кисель или что-нибудь в этом роде. И мать, ограничивая нас в еде, прилежно готовила требуемые блюда, старалась угодить машинисту, как самому привередливому барину.
Но Шурша и по происхождению, и по воспитанию очень далек был от барства.
Однажды вечером, разговорившись, он поведал отцу и матери одну из тех историй, которые заставляют содрогаться душу. Рассказывал он так же, как ходил — быстро, сыпля словами, как пригоршнями гороха. И слова были острые, насмешливые, злые, грубо откровенные, то и дело заставлявшие мать испуганно поглядывать на рассказчика и зажимать мне уши.
— Мать прижила меня с каким-то слесаришкой еще при жизни папаши, — хвастливо рассказывал Шурша. — Папаша мой был хиляк, на ладан дышал и кровью харкал. Подвернулся он раз под рельс во время проката, ну и толкнуло его в грудь маленько. Рельс был еще красный, огненный… Думали, амба, черный гроб папаньке моему, ан нет, отзевался, ожил, но толку от него потом было мало: проковылял годик-два, покашлял, да и окачурился. Сирота в мужичьей семье — это еще тютельки, а вот в таком семействе, как наше, в землянке, где жабы по ночам курлыкают, дым да смрад от завода, а в четырех стенах — ни шиша, тут оставаться сиротой — это вам, дубинники орловские, не землю сохой ковырять, не на пузичке на печке лежать и дожидаться, пока хлеб поспеет. Восьми лет от роду пошел я на завод — стружку подбирать. Кому — школа, а мне — горячая стружка да подзатыльники. Так и рос, зарабатывал в день четвертачок, а в месяц выходило рублей семь-восемь. Так было, пока сам на ноги не поднялся. Тут уж я научился тому, чему вас никогда не учили и что вам даже не приснится. Знаете, что такое штрафы? Не знаете, где уж вам! А жандармы? А казаки? Не слыхали? Случилась у нас однажды забастовка прямо под пасху. Нужда, она не ждет, когда придет срок. Начали мы в страстную субботу. Попы в колокола ударили, а мы во все гудки. Такой дали хор, что звону не стало слышно. Куда там вам «Христос воскресе»! Мамаша моя, царство ей небесное, пугливая была — схватилась и говорит: «Что же это, Киря, деется, никак, светопреставление началось? Как же мы ласочку будем святить? Бери-ка ты узелок с пасочной да беги в церковь — посвяти кулич да яички, авось, нас боженька к себе на небо пустит». А я ей: «Маменька, какое тут освящение, когда черти в дудки дуют и самого Иисуса Христа в мазуте купают и на тачке вывозят». — «Ах ты, говорит, шибельник, богохульник! Чтоб у тебя, у анафемы, — язык отсох! Сейчас же бери пасху и беги к попу!» Ну, я пасху в руки, вроде бы в церковь, а сам — на завод. А там уже наша братия разговляется. Поймали мы одного мастера бельгийца — такой был аспид, ябеда и стерва, поедом ел рабочих. Взяли мы его за ноги, раскачали да в домну вместе с рудой и спустили…
В этом месте рассказа я задрожал, сжался в своем углу в комок. Восприимчивое детское воображение уже нарисовало страшную картину: пыхающее адским пламенем жерло печи, а в нее люди с кочергами, подобно той, какая стояла возле нашей печи, швыряют ябеду мастера. Он визжит, как поросенок, и, попав в огонь, изжаривается…
По спине моей пробегают мурашки. Загадочная Юзовка, с огнедышащим заводом и безжалостными жестокими людьми, встает передо мной. Такой благодатной и ласковой по сравнению с ней кажется светлая степь с ее чистым просторным небом, пахучими травами и цветами, птичьими голосами и пчелиным задумчивым жужжанием.
Отец сидит у печи, слушает рассказ Шурши, склонив голову.
А Шурша, словно наслаждаясь впечатлением, подбирая слова покруче, помрачнее, продолжает:
— Да это что!.. Мы, юзовские, такие — мастеровщина, известное дело. С нами шутки шутить опасно. Никто, конечно, кроме меня да еще троих, так и не знал, куда девался бельгиец. В домне пекло свыше тыщи градусов, там от человека только парок схватился, даже пеплу не осталось. На чугун переплавились мастеровы косточки. Поди узнай, куда девался. Исчез бельгиец, аки дух святой растаял в небесах. А забастовку мы кончили на Красную горку, да мало чего добились, только кое-кого из нашей братии не досчитались. Наверное, в Сибирь погнали. А я в водосточную трубу залез, сидел двое суток. Оттуда меня жандармы и вытащили. Положили на меня печать адову и записали в антихристов список.
При этих словах Шурша обнажил правую руку до самого плеча, показал багрово-синий и кривой, в виде полумесяца, рубец.
— Это казачок один, пошли ему боже почечуй и язву, стеганул меня сабелькой. Людишки-то — звери, знаете, мамаша. Ну, подержали меня в тюремном замке в Харькове годик, выпустили и прописали мне, чтоб я про Юзовку и думать забыл. Так и сказали: в Юзовку ты, Шурша, не ворочайся, а держись заводов подальше. Мамаша моя без меня тихо скончалась, а я вот брожу по свету, где поглуше да побезлюднее — то при молотилке пристроюсь, то в кузне где-нибудь молотком постучу. — Тонкие губы машиниста насмешливо покривились. — Скоро буду ведра да кастрюли паять. А в Юзовку все-таки вернусь. Там дружки-товарищи, там жизнь! Там и воздух каленой сталью пахнет. Не то что тут у вас — подохнешь с тоски, как в пустыне. В городах да заводах люди, как в котле, кипят. А за что страдают? Зачем кипят? Не знаете? Ну и знать вам не советую!
Шурша сверкнул глазами; он чего-то не договаривал, видимо, не желая больше просвещать «землеедов», как он презрительно называл всех обитателей хутора, бессловесных батраков, и отца в том числе. Говоря о муках людей, он изображал только жестокое, пугая нас и часто принижая достоинство человека.
Таков был рассказ Шурши о Ходынском поле, где Кирик, по его словам, присутствовал в день коронации его императорского величества. В рассказе этом ужасов и крови было, пожалуй, больше, чем во всем написанном о Ходынке, что приходилось мне потом читать уже взрослым.
Шурша словно смаковал отталкивающие картины массового унижения и гибели людей.
— За кружками полезли, за самыми обыкновенными кружками из жести, дурье! — захлебываясь, негодовал он. — На кружечках — портретики молодого царя и царицы, а в кружечках — кисленькие марафеты-карамельки, гривенник за фунт. И вот поперли за этими кружками, стали топтать друг друга, выдавливать кишки…
— А вы, Кирик Устинович, тоже ведь полезли? — не то простодушно, не то с подковыркой спросил отец.
— Я? — на минуту растерялся Шурша и зло блеснул зелеными глазами. — Я не за кружкой. Я из любопытства. И я уже не шел — рад был выбраться, а меня несли на плечах, пока все мы не сломали забора и не попадали в ров.
…В ту ночь я почти не спал, все время вскрикивал, звал то отца, то мать. Мне грезились какие-то черные ямы, наполненные грудами раздавленных человеческих тел, потоки крови, распяленные рты… и кружки, кружки, горы жестяных разноцветных кружек, а на них — царь с царицей…
Отец и мать, вспоминая рассказ Шурши о Ходынке, разговаривали шепотом. В руках отец при этом всегда держал календарь с красочным изображением царской семьи на обложке, тыкал в курносое лицо царя пальцем, шептал:
— А, видать, небольшого ума царишка. Вишь, какое гулянье устроил на этой Ходынке.
Мать отвечала:
— Я еще у барынь сестер Клушиных прислуживала, когда Николай на престол сел, так старшая поглядела на его портрет и сказала: «А взгляд у молодого царя глупый». Я тут же была; они, барыни, сначала меня не заметили, а когда заметили, сразу заговорили по-французски. Вишь, сами господа царя ругали, да только чтоб народ не слыхал…
Отец ни о чем больше не расспрашивал Шуршу, но олеографические приложения к настольному календарю с изображениями царя и царской семьи уже не развешивал на стене.
А я, разглядывая царский портрет, спрашивал:
— Пап, а пап, а чего царь ест?
— Ну апельсины, ананасы… шоколад и все такое прочее, — серьезно отвечал отец. Что захочет, то и ест.
— У него много апельсинов?
— Много. Целые ящики. Он все время берет их и жрет. Как свинья — желуди.
Я задумывался: царская жизнь мне рисовалась земным раем. Я продолжал допрос:
— А что царь делает, папа?
— А ничего. Ходит, гуляет себе на здоровье, винцо попивает, в карты играет да смотры войскам делает. Ну подпишет бумагу какую-нибудь — и опять на боковую…
Мало-помалу почти неуловимо у отца и матери установилось свое насмешливо-ироническое отношение к царю. Отец уже не сравнивал его с пчелиной маткой и не задавал вопроса: «А как же держава-то без царя?»
Не знаю, кто завершил эту разъедающую работу в душе отца — Коршунов или Шурша. Оба верили одному богу, оба ненавидели общего врага, но по-разному — у Шурши в сердце горели только злоба и ненависть к самодержцу, презрение к «слепому» народу, у Коршунова за ненавистью и жаждой борьбы светились добро и неистощимая любовь к человеку.
Вести о событиях в хутор приходили с большим опозданием.
О том, что произошло 9 января 1905 года в Питере на Дворцовой площади, в Адабашеве узнали только спустя два месяца.
Ненастным мартовским вечером прямо из кузни Шурша прибежал к нам и, дергаясь от ярости, не совсем связно сообщил:
— Опять поперли к царю. С хоругвями и иконами да еще попа Гапона впереди выставили… Ко дворцу пришли, на колени встали! Ну он им и всыпал горячего. Тыщи убитых и раненых…
— Да кто? Кто? — спросил, расширив глаза, отец.
— Да кто же… Царь! Вот кто! Бумагу ему написали: «Царь-батюшка! Вызволи нас из нужды — пропадаем. Притесняют нас! Заступись». Ну он их и вызволил. Кровью умылись. Попишка поганый Гапон — рясу в руки да драла, а наши легковеры легли на улицах.
Мать перекрестилась:
— Спаси и помилуй. Что же такое делается?
— Значит, опять был бунт? — спросил отец.
— Да не бунт, темная голова! Если бы бунт или забастовка — куда ни шло, а то мирное шествие. С гимном шли. Слыхал я еще зимой что-то, но не верил, а вчера в Ростове от тех, кто в Питере был, узнал все подробности.
Шурша осекся, решив, что выболтал лишнее, приложил палец к губам, но тут же крикнул:
— Вы уши не развешивайте, орловские, и нишкните, помалкивайте! Слышите? Ничего я вам не говорил! Замрите, если хотите благополучно дожить век в степи своей. Эх, пропадешь тут с вами!
Шурша забегал по комнатушке, замахал руками.
— Два года я просидел в этой дыре. Ах, я сукин сын! Подлец! Товарищей забыл, кровь свою забыл! К молотилке армянской пристроился, гудочками занимался. Нет, нет, нет! Завтра же — в Юзовку! Шурша еще покажет себя!
И выбежал, хлопнув дверью.
Он скрылся из хутора ночью. Никто не видел, куда он ушел.
Феклуша
Отец стал менее доверчив к людям, сердитее нападал на хозяев и всяких праздношатающихся, никчемных людей. Зато охотнее зазывал тех, кто приносил в хутор разумное, ободряющее слово.
Многих «хожалых» отец зло высмеивал и выпроваживал.
Как видно, добрые семена Коршунова и беспокойные — Шурши давали первые, еще неуверенные всходы.
Вот стоит у окон нашей мазанки здоровенный детина в серой холщовой хламиде, в опорках, русая с проседью борода до пояса, нечесаные патлы до плеч, из-под мохнатых выгоревших на солнце бровей настороженно и дерзко выглядывают маленькие диковатые глаза вечного бродяги, под ними дряблые мешки, нос на конце горит, как стручок красного перца, — видать, обладатель его лихо заливает горькую.
На широченной груди странника — диковинное приспособление: плоский старинный штоф из-под водки, а в нем — хитроумно помещенная модель Киево-Печерской лавры и миниатюрная иконка богоматери. Модель из дешевого цыганского «золота» горит, переливается на солнце. Я поражен видом этой заманчивой игрушки, прилипаю к ней взглядом, не могу оторваться.
— Подайте на святую Киево-Печерскую лавру, — сиплым, пропитым басом тянет бородатый верзила.
Отец насмешливо смотрит на него, спрашивает:
— Как ты ее, церковь-то, засунул в бутыль?
— Не я… А бог… — с притворным смирением гнусавит верзила.
— Брось дурака валять. Вишь, ловко как пристроил. Дай поглядеть ближе.
Странник отступает, сипит:
— Грешно. Не всякому можно близко смотреть. Ослепнешь. Грешен ты, я вижу.
— А ты не грешен? — смеется отец. — Может, поднести шкалик? Вижу, с похмелья.
Странник сразу мягчеет, юлит:
— Не откажи, добрый человек. Вино сам Иисус Христос пил в Кане Галилейской. Вино и в таинстве евхаристии превращается в кровь господню.
— Ну ладно, проваливай. Ходишь тут, дурачишь людей, — меняет тон отец. — Тоже мне — бога в бутылку запрятал и выманивает копейки на пропой. Иди, иди, а то вон Серка натравлю.
— Ну и анафема на твою голову, — не оставаясь в долгу, рыкает пропойца. — Чтоб на тебя и хлад, и град, и красный петух, и мор, и язва! Ах ты, богоотступник!
— Ирод! — уже кричит он издали, отступая и на всякий случай выставляя вперед длинный посох-дубину.
Отец смеется, а мать, выбежав из хаты, испуганно ворчит:
— Что ты, отец! Вот проклянет он нас, накличет беду на нашу голову. И так счастья у нас нету.
— Ну и ладно, — сердито отмахивается отец. — Не святой он, чтоб слово его исполнялось. Много их тут, дармоедов и лодырей, шляется.
А мне жалко, что отец прогнал попрошайку: хотелось вдоволь наглядеться на сияющую в бутылке лавру.
Однажды летом уже под вечер постучалось к нам в окошко не менее удивительное создание — тонкая, стройная девушка в черном, до пят, платье, голова повязана таким же черным, прикрывающим лоб до самых глаз, платком. На груди — серебряный крест, на боку — кожаная объемистая сумка, в руках — опечатанная сургучом железная кружка.
— Пустите, хозяюшка, заночевать, ради Христа. Я — послушница Задонского девичьего монастыря. Ходим собираем на божий храм. Разошлись мы по деревням. Я от подводы отбилась — притомилась, не могу дальше идти.
Мать зазвала монашку, поставила самовар, стала ее поить чаем. Монашка сидела за столом, смиренно потупив глаза, положив белые тонкие руки на колени, а я жадно смотрел на нее из-за печки. Была она очень хороша собой — лицо румяное, с ямочками на щеках, чуть тронутое нежным загаром, глаза, под темными тонкими бровями, глубокие, темно-синие, в густых ресницах. Она редко поднимала глаза, но когда взглядывала на мать, то словно освещала ее лучами. Выражение тихого смирения и покорности не сходило с ее лица. Монашка принесла в хату запах кипарисового дерева, ладана и еще какой-то неопределимой ароматной смеси, схожей с запахом чебреца и елея.
Она казалась мне неведомо откуда явившейся феей. Переполненный сказочными образами и чудесами, я с нетерпением ожидал: вот она сменит темную одежду на светлую, усыпанную драгоценными камнями, взмахнет волшебной палочкой — и свершится чудо: убогая хата наша превратится в сияющий чертог, и хлынут в нее несметные сокровища, уйдет нужда, на которую так часто сетовала мать…
— Как же зовут вас? — тихонько, в тон монашке, спрашивала мать.
— Феклой… Феклушей… а в миру звали Феоктистой. — чуть слышно отвечала «фея».
— И давно вы, голубушка, в монастыре?
— Два года милостию господней.
— Что же вас заставило идти в монастырь? Красу свою заживо хоронить?
Румянец на бледных щеках монашки вспыхнул, как полымя, — кровь мгновенно прихлынула к лицу. «Фея» очень смутилась, но тут же оправилась, ответила так же тихо и кротко:
— По обету, матушка, по обету. Тайну только одному богу на исповеди открываю.
— Ну, бог с вами… В святое дело мы не касаемся.
Так мирно и благонравно текла беседа, пока не пришел с работы отец. У меня невольно сжалось сердце: как бы не прогнал он «фею» так же, как странника с лаврой в бутылке. Уж очень хотелось мне подольше поглазеть на нее, полюбоваться ее красотой.
Отец сразу же, с одного взгляда, определил, что за гостья сидела у нас; глаза его, по обыкновению добродушные, живо и чуть насмешливо заблестели.
— А-а, здравствуйте. Вот благодать-то какая… Святые люди нами не гнушаются.
При первом же звуке отцовского голоса «фея» вздрогнула и даже красота ее чуть потускнела: что-то в тоне отца сразу насторожило и испугало ее. И кто привил отцу такое неприятие монашеской черной одежды? Уж не Шурша ли?
Я невольно испугался за гостью, но преждевременно. Монашка вскинула на отца свои глубокие кроткие глаза, и отец, как мне показалось, даже растерялся от вида ее красоты и смирения, улыбнулся приветливо, ласково.
— Угощайтесь, угощайтесь на здоровье. Милости просим. И я с вами присяду, — залебезил отец.
Не прошло и получаса, как все за столом изменилось. Беседа текла с нарастающим оживлением. За окном спустились сумерки, мать зажгла лампу. Лицо Феклуши осветилось и разрумянилось, глаза засияли, как два самоцвета. Надо сказать, отец в беседе, которая бывала по душе ему, всегда был весел и щедр на шутку. Глаза его тоже разгорелись. Он хотя и добродушно-насмешливо, но восхищенно посматривал на Феклушу, задавал ей подтрунивающие, незлобивые вопросы о существовании бога, о греховной монастырской жизни, а мать все более сердилась, хмурилась и откровенно ревниво поглядывала то на отца, то на гостью.
Феклуша разговорилась вовсю. Глаза ее излучали пламя веры, горели желанием поставить на путь истинный заблудшего в неверии и сомнениях отца. Но не она, а отец громко убеждал ее:
— Все прах! Обман! Храмы, монастыри — все это попы придумали, ваши архимандриты да архиереи. Если есть бог, то ему ничего не нужно. Никакого золота. А вы ходите собираете у бедных людей последнюю копейку, чтоб новый иконостас поставить, богатые ризы попам пошить.
— Да простит вам бог ваши речи, — отзывалась Феклуша. — Кощунствуете вы, добрый человек. А в чем же спасение от грехов? В чем?
— А у вас разве грехов много? Какие же у вас такие грехи, Феклуша? — ласково и чуть лукаво спросил отец. — Когда же это вы успели так нагрешить? Любопытно…
И взгляд его становился игривым: знаем, мол, ваши женские грехи.
Феклуша потупила очи, но тут же, не оробев, выхватила из сумки пачку тоненьких книжечек и сунула одну в руки отца. На ней — картинка: геенна огненная, в большом чане в смоле кипят грешники, а черные хвостатые страшилища с козлиными рогами и копытами колют их зубчатыми вилами.
— Вот, почитайте. Это про ад и страшный суд. Пока не поздно — покайтесь, — убеждала Феклуша.
Отец упирался, нарочито поддразнивал:
— Какой там ад, какой страшный суд! Умер человек, дух из него вон — и вся недолга. Прах! В землю закопали — и ладно. Через год откопай — одна труха остается. Я, когда умру, мне и гроба не надо. Пусть так закопают — все равно сгнию.
— Ой, свят, свят, свят! И кто вас таким речам научил? — ужасалась Феклуша и осеняла отца крестным знамением. — Спаси и настави вас господь!
Так препирались отец и Феклуша, а я, любуясь ею, видел: отец больше забавляется беседой, чем спорит всерьез.
Ему мила была красота юной послушницы, забавно ее смирение. Кончилось тем, что отец громко вздохнул, проговорил с сожалением:
— Эхма! И зачем только вы, Феклуша, в монастырь пошли! Не в монастыре вам место, а в жизни.
Слова эти прозвучали так искренне, с таким волнением, что Феклуша взметнула глаза на отца, и в них блеснуло смятение. Отец в те годы был еще не стар, даже пригож собой и ясен взглядом, хотя и огрубел в работе, словно покрылся земляным, серым налетом. Одевался он по-крестьянски просто, но опрятно, и в голосе его звучали подкупающая задушевность и доброта.
Мать же моя преждевременно состарилась, лицо и руки ее заскорузли в работе, темно-карие, когда-то красивые глаза утратили блеск, а обветшалая одежда сидела на ее увядшей фигуре неловко, скрадывая черты былой женственности. Около нее Феклуша сияла, как алмаз рядом с грубым, простым камнем. Прелесть ее не могла скрыть даже монашеская одежда.
Каким-то свойственным только детям чутьем уловил я тревогу матери: в нашу мазанку в образе монашки явился большой соблазн, облеченный в схимническую одежду и от этого еще более опасный. Гостья тоже, как видно, чувствовала себя все беспокойнее под ревнивым взглядом матери. «Бес», кружился где-то близко, готовясь сыграть с людьми злую шутку.
Мне было жалко мать и в то же время не хотелось расставаться с «феей». Теперь я уверен: пугая отца страшным судом, Феклуша делала это не совсем искренне, ведь она была на самом деле добрая девушка.
Мать заторопилась постлать тут же на глиняном полу постель для Феклуши, а отец, еще раз с тоскливым сожалением обернувшись к гостье и вздохнув, ушел спать в сарай.
Я лежал на печке и слушал, как Феклуша, стоя на коленях перед «святым» углом, молилась. В красноватом свете лампадки краем зоркого ребячьего глаза я видел ее плавно сгибающуюся в земных поклонах фигуру, ее лицо, в сумраке казавшееся бледным и строгим.
Черная монашеская косынка с головы была снята, и темные подстриженные кудри падали на лоб, когда Феклуша отбивала поклоны.
Да, сомнения не было — это она, добрая волшебница. Мне так хотелось думать. Я еще не знал, что такое монастырь, мне не было никакого дела до религии. Злой волшебник Кощей заточил Феклушу в замок, именуемый монастырем, обрядил в черную одежду, вырвал из жизни, дал в руки страшные книжки с рогатыми чудовищами на обложке. Но она (не монашка, а «фея») жила и, в какие одежды ни рядил бы ее Кощей, являлась по временам людям. Мрачные книжки, темная одежда и слова о страшном суде принадлежали не ей, а Кощею.
Ее собственными были темно-синие лучистые глаза, нежный румянец, живая улыбка — вся красота ее, и наступит час — Феклуша уйдет от злого волшебника с его страшным судом и адом и засияет вся, как утренняя заря.
В таких смутных фантазиях я оторвался от грешной земли и не заметил, как уснул. А наутро Феклуша ушла, оставив после себя кипарисовый запах монашеской одежды и тоненькую брошюрку с чертями на обложке, поджаривающими бедных грешников.
Отец хотел было изорвать книжку, но мать не дала.
— Вот и тебя так черти будут на том свете в смоле кипятить и вилами ковырять, — мстительно сказала она отцу, с виноватым видом стоявшему перед ней. — На кого пялил буркалы-то? На монашку, на божьего человека!
— Ну что ж. Пускай кипятят, пускай ковыряют. Я на девичью красоту смотрел, — улыбнулся отец и мечтательно поглядел в окно на дорогу, по которой ушла Феклуша. Но тут же помрачнел, добавил: — И какой злодей законопатил ее в монастырь? Такую красоту и живую душу… Уйдет она оттуда, обязательно уйдет…
По волчьему билету
И еще один необычный гость появился на хуторе.
Однажды веселым майским утром, когда адабашевский сад благоухал цветением, а отец работал на пасеке, на главной садовой аллее появился высокий, немного сутулый человек в потертой суконной тужурке поверх синей косоворотки, в простых крестьянских, густо покрытых пылью сапогах. Из-под приплюснутой фуражки с выцветшим околышем, с задорно выставленным кверху согнутым посредине козырьком, вились белокурые, почти до плеч, кудрявые волосы. Лицо у незнакомца худое, загорелое, с запавшими щеками и тонким прямым носом, глаза большие, серые. Светлые пушистые усики и округлая бородка обрамляли упрямо сжатые губы.
За плечами прохожего висела тощая котомка. Помахивая палкой, он подошел к пасеке, поздоровался с отцом звучным мягким басом.
Отец отставил вынутую из улья рамку, накрыл улей крышкой, подошел к незнакомцу.
— Мне сказали, в вашем саду нужен сторож. Могу ли я предложить свои услуги? — очень правильным нездешним говором, твердо отчеканивая «г», спросил прохожий.
— А из каких же мест будете? — с первой же фразы почуяв в прохожем «образованного», полюбопытствовал отец.
— Об этом позвольте мне сказать потом, — вежливо ответил незнакомец и улыбнулся, обнажив молодые крепкие зубы. — Я хочу только узнать: есть ли у вас место сторожа?
— Может, и найдется. Только не я хозяин сада, я — садовник. Вам нужно поговорить с арендатором. Он как раз вон там, в балагане.
— Благодарю, — чуть кивнул прохожий и, помахивая палочкой, направился к балагану, служившему когда-то для нашей семьи жильем.
Арендатор, грубый, неграмотный тавричанин, краснолицый, с заплывшими от чрезмерного сна глазами, вышел из балагана, дочесываясь, спросил:
— Чого треба? Сторожем? А пачпорт е?
— Есть, есть… Пожалуйста, — ответил прохожий и, торопливо вынув из-за пазухи документ, протянул тавричанину.
Тот долго вертел паспорт в задубелых толстопалых руках и, подержав с минуту вверх ногами, вернул прохожему:
— Вид вин и е. А що ты за чоловик, хиба по нему сгадаешь? Ты хоть скажи, виткиля ты?
— Я из Петербурга. Билет у меня — особенный. Но пристав хутора Синявского разрешил мне прожить в вашем хуторе до осени.
При слове «пристав» арендатор испуганно оглядел прохожего с ног до головы, его запыленные сапоги, хлопчатобумажные брюки, старую студенческую тужурку.
— Так ты аж из самого Питербурха? Эге. Далеко же ты, парубче, забрався. Ты, мабуть, и царя бачив? А може, ты из таких, що против самого царя, га?
Прохожий усмехнулся, но тут же преувеличенно нахмурился, проговорил строго:
— Вам угодно нанять сторожа? Если не угодно, я могу уйти. И прошу не присовокуплять к нашему разговору святого имени его императорского величества.
Незнакомец так почтительно протитуловал царя, что мужик опешил: не подослан ли от власти хожалый человек? Не угоди такому — беды не оберешься.
Прохожий уже шагнул от балагана, гордо подняв голову. Арендатор остановил его:
— Стой, парубче, як що так, будешь сторожувать. Дамо тоби ружжо, пороху та крупной соли и сидай вон у того балагана. А пока фрукта поспие, поможешь нам сад вид гусеницы опрыскивать.
— Какое жалованье? — сухо осведомился незнакомец. — Харчи я буду покупать сам.
— Як що так и до покрова, то красненькую — по трояку в мисяць. Бильш не дамо, — подумав, сказал арендатор.
Прохожий махнул палкой:
— Ладно. Только уговор, я буду охранять сад и фрукты, а меня охранять не нужно. Раз в неделю я буду уходить в казачий хутор. Ясно?
Мужик кивнул:
— Як що так… Пехай.
И снова опасливо оглядел пришельца.
Так появился в хуторе новый житель — исключенный из Петербургского горного института и пущенный по Руси по волчьему билету студент Сергей Валентинович Куприянов. Он словно заместил в хуторе Африкана Денисовича Коршунова, вежливостью, любезностью, простым обхождением сразу расположил к себе отца и мать. Не прошло и недели, как Куприянов уже сидел за нашим столом и пил чай. Так и повелось — каждое воскресенье Куприянов приходил в нашу мазанку к вечернему чаепитию, приносил книги, вел неторопливые беседы.
— Сразу видать: из благородных, — восторженно отозвалась о Куприянове мать.
В то лето я всецело был поглощен ребячьими играми и беготней по степи, совсем одичал, как выпущенный в луга «на отгон» жеребенок, и не вникал в содержание бесед Куприянова с отцом. Я прибегал домой усталый, с сожженным на солнце лицом, не чуя ног, и сразу же валился в постель. А жаль! Если бы я был повзрослее, немало, наверное, услыхал бы интересного о Петербурге, о встречах с разными людьми на пути странствований бывшего студента.
Возможно, велись разговоры и о «политике», о том, как собирались в городах люди и готовились опрокинуть царский трон, не щадя не только своего благополучия, но и своей жизни. Возможно, шепотом, с благоговением, назывались имена тех, кто был вожаками в борьбе за правду, — так мне думается теперь. Я делаю такой вывод, ибо помню: после разговоров с Куприяновым отец весь преображался, выпрямлялся, становился как будто выше, добрее, разумнее, ласковее в семье и суровее в общении с хозяевами.
Расхаживая после ухода Куприянова по хате, он говорил:
— Так-то. Слыхал, что Сергей Валентинович говорил? Оказывается, есть люди, что о нашей нужде думают. И не всегда такая жизнь будет.
Мать, тоже просветленная надеждой на лучшее будущее, умиротворенно и мечтательно вздыхала:
— Эх, кабы все так было, как сулил Сергей Валентинович. Какой он добрый! Он всех бы так и обнял и приголубил напоил, накормил, одел и обул. А вчера слыхал, отец, что он мне сказал? «Варвара Федоровна, говорит, вы какой цвет материи больше любите — светлый или темный? Я, говорит, в следующее воскресенье пойду в станицу и куплю вам материи на платье». Вот чудак!
— Не купит, — снисходительно улыбнулся отец. — Не за что ему. Поди, без гроша в кармане бродит по свету… — И вдруг, обняв меня и прижав к себе, сказал с давно неслыханной лаской: — Эх, сынок! Вот бы тебе таким стать — умным да образованным… В учение бы тебя…
— Дай боже! — вздохнула мать. — Только не желаю ему так скитаться по земле, как Сергей Валентинович.
Отец горестно усмехнулся, поник головой.
А для меня наступили отрадные, счастливые дни. Я чувствовал: причиной этому — Куприянов. Отец стал менее строго относиться ко мне — не так неволил работой на пасеке, отпускал на весь день с пастушатами в степь. Однажды я услыхал, как Куприянов говорил отцу:
— Мальчонка у вас смышленый. Я заметил: увидит книгу — глазенки так и разбегаются. Любит книжки, ему надо бы учиться. И вы старайтесь ему покупать хорошие книжки. Такие есть, и недорогие. Не «Францыля-венециана» — эту ерунду выбросьте, а вот какие я вам посоветую…
И Сергей Валентинович записал на клочке бумаги названия нескольких книжек, которые отец потом, бывая в городе, покупал мне. Это были — хорошо изданный, о яркими рисунками художника Ягужинского сборник избранных сказок Афанасьева, сказки братьев Гримм, рассказы и сказки П. Засодимского, книга для городских училищ «Новая школа» и, наконец, увесистый том в красном коленкоровом переплете, первая толстая книга в нашей семье — «Хижина дяди Тома» Гарриэт Бичер-Стоу. Потом отец сам научился выбирать хорошие книжки, покупал их на скромные гроши.
Куприянов каждую субботу ходил в казачий хутор, где, была неплохо подобранная библиотека-читальня купца Панчуткина, и приносил оттуда книги. Он подружился с хуторскими ребятишками да так, что наиболее умные и менее озорные из них не только не залезали в сад воровать недозрелые фрукты, но не позволяли этого и другим.
Старое шомпольное ружье, заряженное солью, висевшее под крышей камышового шалаша, не выстрелило за все лето ни разу.
Сергей Валентинович часто собирал ребят в кружок тут же у шалаша и читал вслух. Ребята слушали, разинув рты, и про Робинзона Крузо, и про Гулливера, и про Рейнеке-Лиса и его проказы, и об Иване-царевиче и Сером волке, и о Красной шапочке. О героях этих нетленных книг я впервые узнал из уст Куприянова. Иногда к слушателям примыкали и взрослые — работавшие в саду девчата и парубки. Тогда арендаторы начинали бранить «студента» и грозили прогнать его.
Хуторские подростки, да и многие великовозрастные парни полюбили обходительного, умного и вежливого «студента». Но особенно без ума от него были ребятишки. Каждое воскресенье он собирал из них ватажку и расставлял в саду посты, обещая награду — конфеты, карандаши, тетради, переводные картинки и чтение новых интересных книжек. И сад надежно охранялся самыми отъявленными в недавнем прошлом воришками, а Сергей Валентинович уверенно уходил в хутор к моему отцу. Он шел не с пустыми руками: обязательно нес с собой какую-нибудь новую книгу. Как сейчас, вижу его, всегда бодрого, веселого, в опрятной, старательно выстиранной полотняной косоворотке, опоясанной плетеным пояском с кистями, в соломенном бриле в жаркую погоду и в фуражке студента горного института, со следами молоточков на выцветшем околыше, в пасмурную и дождливую.
Я был влюблен в Куприянова не меньше, чем другие его слушатели и друзья. Я старался подражать ему во всем — голову держал высоко и щурился так же, как немного близорукий Сергей Валентинович. Я носил вздутые на коленях штанишки и ситцевую, с латками на спине и локтях, рубашонку, но старался носить эту одежду на такой же манер, как и Куприянов, — подвязывал рубашку веревкой.
Заметив это, мать посмеялась, но вскоре сшила мне из черного сатина такую же косоворотку и упросила отца купить в станице шнурковый поясок с кисточками. Я даже разговаривать старался, как Куприянов, — чуть на «о» и нажимая на твердое «г», что получалось очень смешно и вызывало улыбку даже у моего кумира.
При встречах со мной он всегда ерошил мои белесые, выцветшие на пекучем степном солнце вихры, говорил глубоким и теплым голосом:
— Ну, степнячок, как поживаешь? Птичьих гнезд много разорил? Слыхал я, вы тут гнезда разоряете. Этого делать нельзя. Я вот книжку тебе, отцу и матери про зверей принесу, такую великолепную.
И принес в одно из воскресений том Брема в роскошном издании. Эта книга всколыхнула жизнь нашей семьи, как приход необыкновенного умного гостя. Сначала Куприянов сам растолковал красочные иллюстрации этой книги, потом вслух прочитал особенно интересные случаи из жизни животных.
Перед нашими взорами распахнулся изумительный, дотоле не ясный для нас мир. Мое воображение было потрясено, оглушено, взято целиком в плен бородатым немцем Бремом.
Вот бежит по саду, прячась между листьями травы, молчаливый еж. Сколько раз я кололся о его иголки, брал его обвернутыми тряпкой руками. Мне хотелось узнать тайну его существования, заглянуть в скрытый от людских глаз ежовый мир. И Брем открыл мне эту тайну.
А вот и волк, и медведь, и лиса, и житель далеких жарких стран лев, и свирепый тигр, и носорог, и громадный, как дом, слон… Я слыхал о них только из сказок или видел на картинках. А книга рассказывала о них, об их жизни, повадках, характерах. Звери были злые и смирные, умные и глупые, доверчивые и хитрые, храбрые и трусливые. У каждого из них был свой нрав, свое отношение к человеку.
По вечерам допоздна, не жалея керосина, отец и мать читали вслух Брема, а я слушал, затаив дыхание, готовый не спать до утра. Мне и во сне виделись дикие звери. Я охотился на них с отцовским ружьем в темных тропических джунглях; звери с жутким ревом бросались на меня, а я спасался от них бегством, влезая на деревья; я скакал на диких лошадях, отчаянно вскрикивал и просыпался весь в холодном поту.
Теперь я не просто разглядывал пойманного отцом крота или хомяка, а сразу же переносился к книге Брема, силился представить себе то, о чем прочитали в ней отец и мать. Казалось, сама природа заговорила со мной многоголосым языком, дополнила раскрытыми тайнами многое, о чем не умел рассказать отец.
— Скажи на милость, — часто говорил он теперь, поймав какого-нибудь степного подземного зверька, — вот знал я, что ты тварь вредная, шкодливая — морковку и пастернак портишь, а того, что червей, жучков вредных уничтожаешь, не знал. Ну, если так, живи на здоровье, только на огороде не попадайся. Да скажи спасибо Брему.
Куприянов свое обещание все-таки выполнил: принес матери ситцу на платье, чем очень растрогал ее, и новую книгу. Это была «Атмосфера» Камилла Фламмариона. С Бремом пришлось расстаться — наступил срок сдавать его в библиотеку; на смену Брему пришло новое, не менее интересное, захватывающее…
Все тайны подоблачных высот распахнулись передо мной. Рушились многие наивные представления о грозах и загадочных явлениях природы. Как часто, лежа в траве в степи, где слышался только знойный скрип кузнечиков да свист ветра, я смотрел на облака, медленно проплывающие в осиянной солнцем лазури. Они казались волшебными кораблями, на которых можно унестись на край света, в невиданную чудесную страну. Я был уверен в их плотности; по ним, по моему мнению, можно было ступать, как по перине, или сидеть на их краю, как на стуле, свесив ноги в бездну, и плыть, плыть по синему воздушному океану, подобно гусям-лебедям из сказки.
Когда я однажды спросил у отца, так ли это на самом деле, он коротко ответил: «Облако — пар, на нем не удержишься». Но я не поверил: не хотелось расставаться с полюбившейся мечтой. И вот в книге Фламмариона очень убедительно и просто рассказывалось, как из морей и океанов под действием солнца поднимаются в воздух пары и собираются в облака, а потом из облаков идет дождь, сверкают молнии и гремит гром. И совсем это не Илья-пророк разъезжает на своей гремящей по облакам, как по булыжнику, колеснице и мечет огненные стрелы, а великая и грозная сила — электричество полыхает разрядами-молниями. Она может катить вагоны с людьми, двигать машины, гореть в лампочках и даже убивать, сжигать и разрушать…
Особенно страшна она в грозовых облаках, когда ее накапливается чересчур много — тогда молнии падают на землю и причиняют большие бедствия. Но молнии можно и отводить в землю — для этого существуют громоотводы.
Обо всем этом увлекательно рассказывал Фламмарион. Эта книга и сейчас любима мной.
Нет ничего свежее и памятнее того, что врезывается в сознание с детства. Из книги Фламмариона я узнал и о происхождении радуги — ее семицветным призрачным светом я часто любовался в степи, и о чудесных галло и северных сияниях, и о страшной силе смерчей и ураганов, и о шаровой молнии, о таинственных «огнях святого Эльма», наводящих страх на плывущих по океану моряков, и о многом-многом другом.
То лето, когда в адабашевском саду, как всезнающий оракул, поселился Куприянов, было очень грозовым. Грозы надвигались на степь, сменяя одна другую. Черно-синие облака то и дело нависали над хутором. Ливни обрушивались внезапно, с чудовищной силой, балки клокотали, как весной, а молнии стреляли отвесно, прямо в землю..
Ежедневно на хутор приходили вести: там молния ударила в хату, прямо в печную трубу, и убила старуху, вынимавшую из печи хлебы; в другом месте в окно вскочила шаровая молния и, покружив по хате, вновь вылетела в трубу; в третьем — побила много скота, а в одном селе насмерть сразила священника, вышедшего после обедни на паперть.
О степных грозах необыкновенной силы и величественной красоты я расскажу дальше. Все прочитанное в книге К. Фламмариона дивным образом сочеталось с тем, что я видел сам и слышал от людей.
Я уже умел хорошо читать и зачитывался теми страницами «Атмосферы», где описывались разные случаи, рассказывающие о силе и разнообразии грозовых ударов, о смерчах и сокрушительных торнадо. Но книга книгой, а искусный толкователь ее всегда придаст немым строчкам еще более впечатляющую силу. Такую силу придавал книге Куприянов.
Надо было слышать, как объяснял он некоторые неясные для меня вещи. Я как сейчас слышу его вдохновенный голос, чистую речь с характерно твердым петербургским произношением.
Я весь превращался в слух, замирая перед своим наставником. Теперь я мог бы сказать: как поэтически ярко и художественно Куприянов мог объяснять сложнейшие законы и явления природы! Да, это был истинный педагог. И я невольно думаю теперь: не забыли ли этого тонкого искусства некоторые наши современные учителя?
Килина
У Куприянова на хуторе и в саду, помимо друзей, нашлись и злые, закосневшие в тупом невежестве враги. Дело в том, что Сергей Валентинович обладал не только душевным обаянием, простым и вежливым обхождением даже с неприятными людьми, но и привлекательной наружностью. Мне казалось, не только от его слов, но и от него самого исходил лучистый свет.
Всегда приветливый, ладный, широкоплечий, со спадающими на высокий лоб и затылок русыми вьющимися кудрями, с точно осветляющей снизу правильное открытое лицо мягкой бородкой и серыми умными глазами, он являл собой образец славянской мужской красоты, какую потом мне случалось видеть на картинах Васнецова.
По-детски восхищенно я глядел на него, когда он, весело отозвавшись на оклики ребятишек, выходил из шалаша, улыбающийся, загорелый, в длинной полотняной всегда чистой рубахе и в чувяках на босу ногу.
В глазах его, даже когда он улыбался, таились какая-то сосредоточенная мысль и непонятная нам грусть.
— А-а, воробьи, прилетели. Ну получайте, — мягко гудел он, горстями раздавая дешевые, купленные у лавочника в станице леденцы.
Вслед за этим начинались игры или рассказы и чтение. Он обязательно удивлял нас чем-нибудь новым — то показывал какие-то земляные груши, то пойманных накануне тушканчика, злую ласку или ежа, а однажды напугал всех громадным полозом, которого посадил в собственноручно сплетенную из хвороста клетку и кормил полевыми мышами. Полоз мирно спал в клетке, свернувшись кольцом. Он совсем не походил на того страшного желтобрюха, за которым так долго и безрезультатно охотились мы с Дёмкой.
Конечно, тут же была прочитана выразительная, сразу дошедшая до нашего сознания лекция о мирном нраве степных полозов-желтобрюхов, о их безопасности для человека.
Так, в беседах и чтении, складывалась наша дружба с Куприяновым. Но у него были не только поклонники, но и поклонницы совсем иного, чем мы, склада.
В саду работали девушки-украинки, краснощекие, загорелые, озорные. Наиболее смелые из них сразу обратили внимание на молодого красивого «москаля». Снимая с деревьев яблоки и груши, завидев Куприянова, они громко и шутливо на весь сад подкахикивали, чихали и озорно похохатывали. Но Куприянов отвечал на их шутки только улыбкой и приветливым помахиванием руки.
Если бы какая-нибудь дивчина поближе заглянула в его лицо, то увидела бы, как щеки молодого человека заливались совсем немужественным румянцем. Такие покашливания и вызывающие оклики кончались всегда одинаково: Куприянов быстро уходил на окраину сада или прятался в балагане. Умный человек, он не забывал о недоброжелательном отношении к себе хуторского старосты, многоземельного тавричанина Петра Никитовича Панченко.
Петро Никитович был очень важный, неглупый мужик с большим круглым животом, в отличие от других хуторян ходивший в широких казинетовых[2] шароварах, в пиджаке и войлочной шляпе. Из кармашков жилета всегда свисала толстая никелевая цепь от часов с ключиками; сапоги, густо наваксенные, блестели на солнце, как начищенные кастрюли. Петро Никитович выписывал газету «Сельский вестник», осанкой и деловитостью напоминал американского фермера средней руки.
Куприянов с первых дней привлек к себе недружелюбное внимание старосты. Станичный пристав не забыл шепнуть Панченко о том, чтобы тот время от времени доносил, как ведет себя «волчьебилетник».
Сергей Валентинович не мог не знать, что за ним следят чьи-то недобрые глаза, и, чтобы не подвергать неприятностям других, старался поменьше сближаться с молодежью хутора и, тем более, не позволял себе ухаживания за девушками.
Но молодость взяла свое, и Куприянов наконец не выдержал одиночества.
Была среди голосистых садовых работниц одна, с виду ничем не приметная, не отличающаяся ни особенной красотой, ни бойким нравом. Худенькая, невысокая, с серыми, всегда застенчиво опущенными глазами и спадающей вдоль узкой спины пепельно-русой косой, она терялась среди товарок, и никто не жаловал ее особым вниманием.
Звали девушку — Килина. Ее отец и мать батрачили тут же на хуторе у Петра Никитовича Панченко.
Однажды Куприянов, выйдя вечером из своего шалаша, услыхал хор девушек, возвращавшихся с работы в хутор, и невольно заслушался. Девушки пели о склонившемся у речки, похилившемся в воду яворе и молодом козаченьке, загрустившем о своей коханой.
Песня была пронизана печалью, словно угасающим вечерним светом. Особенно тронул Куприянова за сердце один голос, одновременно и мягкий и сильный, но не грубо крикливый, как некоторые голоса хора. Он лился свободно, словно широкая чистая струя, дрожал над притихшим вечерним садом, то замирая, то вновь взлетая белокрылым лебедем. Он звучал по-разному в зависимости от склада песни и вложенного в нее чувства — то беззаботно-весело, то грустно, то мечтательно-тихо, то страстно, как любовный призыв, то нежно, как скрипичная струна, то звонко, как серебряный колокольчик.
Дорога шла мимо шалаша. Девчата приближались к нему, песня нарастала. Поравнявшись с шалашом, девушки увидели Куприянова и сразу умолкли.
— А-а-пчхи! — озорно крикнула бойкая веселая Настя, дочь арендатора.
— Здоровеньки булы! — откликнулось ей сразу несколько голосов.
Послышался хохот, взвизги.
— Чи вам не сумно и не важко тут одному ночевать? Ходимьте с нами в хутор на досвитки, парубче! — предложила Настя.
— Благодарю, — вежливо ответил Куприянов своим приятным петербургским говором. — А сад кто будет караулить?
Он уже знал, что означало слово «досвитки». В украинских глухих селах того времени существовал странный обычай — после игрищ на улице девушки и парни шли в чью-нибудь просторную хату, обычно предоставляемую какой-нибудь разбитной вдовой, и там располагались на «ночевку»: девчата и парубки ложились вповалку на покрытое широкой полстью сено и «ночевали», то есть лежали в обнимку до самой зари. На первый взгляд, это был как будто безобразный обычай, но удивительно ограничиваемый традиционной строгостью. Парень, посягнувший во время «ночевки» на честь девушки, изгонялся из компании с позором и навсегда терял право на благосклонность дивчины и ее родителей.
— Вы лучше спойте мне что-нибудь, — попросил Куприянов девушек.
Девчата захихикали, толкая друг друга локтями.
— Килина, заспивай! Нехай москаль послухае, — смуглая, как цыганка, Настя звякнула дешевым монистом.
Притопывая босыми ногами, девчата запели шуточную:
…Батько рудый, маты руда, Сам рудый — руду взял…И опять из всех голосов выделился один. Он словно расплескивал в тишине сада кристально-прозрачные брызги, он резвился, смеялся… Куприянов не сразу понял, кому принадлежал удивительный голос.
Он попросил девушек спеть еще одну песню. Девушки запели. На их голоса из хутора привалили хлопцы, и тут же в саду, у шалаша, началось гулянье, танцы, закружились хороводы. Молодость не знает усталости, как будто и не было долгого трудового дня. Минуты веселья незаметно растянулись на часы.
Взошла луна. Сад расцветился светлыми бликами и фиолетовыми тенями; простые платья девушек разукрасились, как пышные наряды, а стеклянные бусы засверкали не хуже драгоценных камней.
Бывший петербургский студент, волею царских властей заброшенный в далекий степной хутор, сидел на плоском камне у шалаша, склонив голову, слушал песни, веселый молодой смех и предавался думам. Никто не интересовался его мыслями. Здесь он был чужой. Хуторские парубки смотрели на него с сочувствием — странный «чужак», не участвующий в веселье, походил на задумавшегося старика. И лишь одна Килина часто бросала на Куприянова любопытные взгляды.
Веселая Настя несколько раз пробовала потянуть его в хоровод, но Сергей Валентинович вежливо отказывался. Он не отрывал взора от сероглазой певуньи и все время просил ее петь.
Хоровод разошелся только после полуночи… Так было и на следующую ночь и в другие августовские вечера и ночи. Собирались в саду девушки и парни, пели, плясали, веселились. И все шло бы, как всегда, если бы, если бы… Наутро по хутору пополз грязный слушок: «москаль» приманивает к своему шалашу девчат, заводит с ними игрища и «шуры-муры». Кто пустил слух — неведомо, но вскоре заговорили и о другом: будто однажды в сумерки видели Куприянова и Килину у старой садовой беседки, что пошли они после этого к шалашу, а на прохладной утренней зорьке Килина будто бы бежала, кутаясь в хустку, из сада к хутору…
Сергей Валентинович стал реже бывать у нас. Отец и мать забеспокоились, особенно после того, как Петро Никитович, встретив отца и погано подмигнув маленькими заплывшими глазами, спросил:
— Ну як? Книжки со стюдентом читаешь? Гляди, Пилып Михайлович, як бы не пидсунув вин тоби якусь таку библию, що ты и не всхомянешься, як потягне тебэ урядник за очкур. Хиба ты не кумекаешь, що москаль по вивчему билету ходе? Чув, як вин с дивками порчу робэ? Килинку Ничипорко потягнув на лиху пораду соби, кажну ничь вона у его в балагане ночуе. Но, як староста хутора, я не дозволю цьего робыть. Я за хлопцив отвечать не буду. А воны кажуть: «Пидкараулемо стюденга за Килинку, надинемо на голову чувал та и с кручи, щоб не соромив наших дивчат».
Отец ничего не сказал об этой угрозе ни матери, ни мне. Я ничего не знал о надвигающейся на моего любимца опасности. По-прежнему мы, ребятишки, бегали к шалашу Сергея Валентиновича. Он встречал нас так же радушно — читал и, словно за руку, вел нас к знанию. И не только я, но и отец и мать не знали, что слух о просветительских занятиях Куприянова дошел до станичного и волостного начальства и старосте было наказано выжить опасного пришельца из хутора любым способом.
И катастрофа разразилась…
Многое в этой грустной истории так и осталось неясным; я восстанавливаю ее по рассказам, сохранившимся в памяти правдивых и добрых людей. Приведу один такой рассказ в том виде, в каком он остался в моем воображении.
В один из пропахших антоновскими яблоками и полынью августовских вечеров, после того как не одну песню спела Килина, Куприянов подошел к ней, взял за руку, вывел из хороводов и так ласково, как не разговаривал с ней никто, смущенно заговорил:
— Килиночка, знаете ли вы, что вы — божий талант, самородок драгоценный? Вам надо учиться пению… в Москве или Петербурге, все равно, но учиться в консерватории… И тогда вы станете актрисой, певицей…
Килина засмущалась, потупилась, невнятно пробормотала:
— И що вы таке кажете? Хиба я знаю…
Слова «чужака», над которым добродушно подтрунивали парубки и девчата, ей были неведомы — слишком мудреными были такие понятия, как «консерватория», «актриса». Килина подумала: «москаль» обидно шутит над нею и, вырвав руку, убежала в хоровод.
Но на следующий вечер она вновь услышала те же слова и они не показались ей такими чуждыми и странными, как вначале. Куприянов терпеливо разъяснил их, и они пробудили в душе Килины смутное беспокойство.
В тот вечер Куприянов шел с Килиной в хутор и, стараясь подбирать слова проще, понятнее, с увлечением доказывал:
— Килиночка, вам обязательно надо учиться. Я совсем не смеюсь над вами, как вам кажется. Но как сделать, чтобы вы уехали учиться? Это, конечно, нелегко, а надо. Обязательно! Иначе талант ваш так и заглохнет в степи. Знаете ли вы, что есть такой певец — Федор Шаляпин? Не знаете… Да откуда вам знать? Так вот, Килиночка, есть такой певец. Это великий талант, вершина. И он вышел из народа, из бедной семьи… Вот так бы и вы… Эх, да что я говорю! — взмахнул рукой Куприянов и, вздохнув, шагал некоторое время молча.
Впереди, смеясь, шли девушки и парни. Иногда слышался голос бедовой Насти, отпускавшей по адресу Куприянова и Килины безобидные шуточки. Со степи надвигалась ночь. Сухой ветер шелестел травами, нес горькие запахи иссохшей в летнем зное степи.
— Чтобы учиться пению, Килиночка, нужна большая охота, нужно, чтобы вы сами захотели этого. Потом нужны деньги, учителя пения, музыки, знание нот. Нужно уехать из хутора надолго, может быть, навсегда — далеко-далеко, в большой город, какой вам, дорогая дивчина, и не снился… Вам, наверное, смешно и удивительно меня слушать, не правда ли? Понимаете ли вы меня, Килиночка?
Девушка кивнула:
— Понимаю… — Ее глаза возбужденно светились в сумерках.
Куприянов продолжал с возрастающим жаром:
— Если вы решитесь, Килина, если у вас действительно хватит смелости, я помогу вам… Если не сейчас, то через год, через два. Сейчас я бесправнее, чем вы. Мне не разрешают останавливаться где-либо более чем на два-три месяца. Мне дали льготу, другим не дают даже по два и по три дня. И шагает человек по земле, гонят его, как перекати-поле, не давая остановиться. Но я верю: придет время и странствия мои окончатся. Я вернусь в Петербург, к себе домой. Там мои родители. Говоря по-вашему, по-крестьянски, Килиночка, они. — паны, богатые люди. У них много денег. И какой-то частью денег распоряжаюсь я, хотя отец и пригрозил лишить меня состояния. Но если и случится так — все равно у меня будут деньги. Я сдам экзамены за институт, буду работать и получать большое жалованье. У меня хватит денег, чтобы устроить вас в Петербурге и заплатить за ваше учение. Согласны вы? — наклоняясь к девушке, спросил Куприянов.
Она с изумлением и даже страхом отшатнулась от него:
— И що вы таке кажете? Як вам не совестно так обманывать бидну дивчину?
— Нет, нет! — загорячился Куприянов. — Видит бог, я не обманываю и не шучу! Через год-два я приеду за вами в хутор и повезу в Петербург, в консерваторию. Вы должны петь в театре. Вас будут слушать тысячи людей.
Далее студент заговорил совсем непонятно, по-книжному. Килине показалось, что он «божевильный», то есть безумный, и она убежала к подругам…
И все-таки этот странный пришелец из другого мира словно притронулся своими словами к глухому камню, закрывавшему спящий родник в ее душе. Камень отвалился — и родник забил, зажурчал, заплескался светлыми струями.
До этого Килина пела бездумно, как птица, — знакомые с детства песни как будто сами лились из ее груди. Теперь ей казалось: ее слушают все. Ей грезились невиданное сияние огней, восторженный шум толпы.
Степь начинала вызывать в ней тоску. Иногда ей хотелось плакать, и она, ссыпая в корзины пахучие яблоки и груши, вдруг заливалась беспричинными слезами, начинала петь вполголоса, пряча лицо от подруг:
Ой, коли б той вечiр Та й повечорiло. То б мое серденько Та й повеселiло! Ой, коли б той вечiр Та й сонечко зайшло, То б мое серденько Та й до мене прийшло.И слышался Килине в шелесте увядающего сада ласковый голос: «Килиночка, спойте еще».
Она озиралась, украдкой поглядывала в сторону шалаша: не появится ли на садовой дорожке знакомая фигура в косоворотке и студенческой тужурке.
Она тихонько пела и думала: «Какие у него мягкие руки, какие очи, добрые да ласковые, — так бы и глядела в них каждый вечер без конца». Да, это он, он заговорил с ней так, что у нее дух захватило, и за песню похвалил… Это он уведет ее из этой степи… И станет она артисткой. «Артистка, артистка, артистка», — шептала Килина новое, еще вчера чуждое ей слово.
Килина носила тяжелые лозовые корзины с туго налитой, приятно поскрипывающей антоновкой, подавала их на арендаторские подводы, а сама с нетерпением поглядывала на солнце — ждала вечера, чтобы опять услышать «Килиночка, спойте!»
Сердце ее млело от какого-то ей самой неясного волнения… Ей хотелось петь и петь без конца, и почему-то все грустные украинские песни, и чтобы слушал их только он, которому так внезапно впервые открылось девичье сердце…
…Овеяны печалью, полынными ветрами, запахами дынь, арбузов и подсолнухов степные приазовские, ночи. Озарены они тусклым мерцанием звезд, далекими и сухими грозовыми сполохами. Об увядании, о надвигающейся осени лопочут листьями раскидистые тополи где-нибудь у яра, у иссякшего, полувысохшего ручья.
В такую ночь после игрища у куприяновского шалаша, когда парубки и девчата расходились по темным хатам, Килина ни к кому не примкнула, а, пройдя с подругами до хутора, незаметно отстала и бегом кинулась обратно в сад.
О чем думала она — неизвестно, но противиться зову сердца не могла. Может быть, опять хотелось ей услышать ласкающее слух слово «артистка», тихо пропеть песенку тому, кто так хорошо слушал ее и восхищался ею?
Килину гнала в сад неизвестная сила. Только бы вновь услышать рассказ о больших светлых городах, о том, как поют в театрах в не слыханных ею операх артисты, о музыке, о несбыточной сладкой мечте. Гляди, скажет коханный еще какое-то хорошее слово и еще больше укрепит веру в осуществление мечты…
Она сбежала вниз с кручи по каменистой тропинке в сад и через минуту очутилась у чернеющего в ночном сумраке знакомого шалашика. Здесь, у неказистого шалаша, и родилась мечта, горючая тоска по несбыточному, по прекрасному. Килина не заметила, как за ней, крадучись, сбежали три согнутые тени и скрылись в зарослях дикого вишенника неподалеку от шалаша.
Шаги Килины услыхал Куприянов. Он все еще сидел у входа на камне и думал о чем-то своем, далеком, что унес с собой из покинутой два года назад жизни, из шумных городов, с бурных студенческих собраний, из среды близких ему по духу людей…
— Кто это?! — окликнул он и вскочил. — Килина?
Она стояла перед ним, неровно дыша, прижав к груди смуглые руки. На ней была широкая сборчатая юбка и светлая ситцевая кофточка, ладно обтягивающая ее тонкую фигуру. В сумраке сухой звездной ночи пугливо светились ее глаза. Они, казалось, ждали от Куприянова какого-то ответа на немой жадный вопрос.
Куприянов не ожидал от Килины такой доверчивости и смелости и смутился:
— Килиночка, ведь уже поздно. Почему вы здесь, в саду?
Он старался говорить как можно мягче и осторожнее, чтобы не обидеть девушку, но голос его невольно звучал сухо, с неудовольствием. Сергей Валентинович знал: на свободе его лежит черная полицейская печать, и, пока он ходит по земле с волчьим паспортом как неприкаянный, нет места в его душе для простой человеческой радости, и не имеет он права давать волю своему чувству.
Он заметил: Килина дрожит, готовая расплакаться, не в силах объяснить, зачем пришла в такой поздний час к «чужаку».
— Что с тобой, Килиночка? — почувствовав к девушке жалость, более ласково спросил Куприянов.
Она чуть слышно прошептала:
— Скажить мини, будь ласка, чи вы правду казали, що вы за мной приедете, чи шутковали?
— Правду, моя милая, правду! — горячо откликнулся Куприянов. — Даю честное слово: я не оставлю ваш талант глохнуть в степи. Пройдет некоторое время, и мне разрешат вернуться в Петербург. А там я и похлопочу, чтобы вас устроили учиться пению. У меня есть влиятельные друзья, они помогут. А завтра я поговорю с вашими родителями, чтобы они поберегли вас… Объясню им, какой драгоценный дар у их дочери… А сейчас идите, пожалуйста, домой. Уже поздно.
И он нежно взял Килину за плечи. Но девушка не пошевелилась. Склонив голову и пощипывая край кофточки, она, казалось, ждала не таких слов.
— Хотите, я провожу вас? — натянуто спросил Куприянов.
От Килины веяло полынным ароматом, девичьей свежестью и чистотой, как от не захватанного ничьими руками полевого цветка.
У Сергея Валентиновича, отвыкшего за годы странствий от женской ласки, предательски забилось сердце. Килина ему нравилась. Молодой, сильный и здоровый, он не мог не заметить, как глаза ее часто и застенчиво останавливались на нем, как при ответных его взглядах румянились ее щеки…
И на какой-то миг он забыл о своем положении политического изгнанника, о том, что в Петербурге когда-то была у него первая непрочная любовь; он взял Килину за руки и с минуту держал в своих. Кожа на ее ладонях была жесткая, огрубелая, с твердыми бугорками мозолей. Килина не шевелилась, не отнимала рук — они лежали в руках Куприянова покорные и неподвижные.
Те девушки, которых знал он в своей среде, может быть, вели бы себя в такую минуту иначе. Они разыграли бы сцену протеста, притворного сопротивления или страстного порыва, возможно, кинулись бы ему на шею или резко оттолкнули его, а эта стояла, покорная и в то же время недоступная в своей девичьей наивной душевной простоте…
И только глаза ее блестели в звездном слабом свете. Казалось, она готова была к любой, самой большой жертве. Сегодня она окончательно поверила в свою мечту…
Куприянов не удержался, притянул девушку к себе. Они стояли обнявшись несколько минут. Но вот жестоким усилием воли Куприянов преодолел порыв, мягко оттолкнул Килину и быстро, словно убегая от опасности, кинулся в шалаш.
Когда он минут через пять выглянул наружу, Килины возле шалаша уже не было. Только холодно поблескивали в вышине неяркие августовские звезды да шумели листвой тополи…
Куприянов вышел из шалаша и, присев на камень, впился зубами в свои сжатые кулаки с такой силой, что почувствовал на губах солоноватый вкус крови.
Он и радовался, что нашел в себе мужество не загубить другой жизни, и боялся, что Килина вернется или придет завтра, и тосковал по простому счастью — ведь ему было всего двадцать четыре года…
Он докуривал третью папиросу, когда из темноты, из вишневых кустов, вынырнули трое и кинулись к нему, размахивая суковатыми дубинками-кийками…
Сергей Валентинович успел вскочить и занять оборонительную позицию. Еще в институте он учился боксу и фехтованию, и в начале боя это дало ему преимущество. Когда его оглушил не совсем верный удар по голове, он сумел устоять и, вырвав у одного из парубков дубинку, отшвырнул ее далеко в кусты.
— Надо драться честно! — успел он крикнуть и по всем правилам бокса нанес парню удар кулаком прямо «под ложечку». Тот без чувств повалился на садовую дорожку.
Но одному парубку все же удалось увернуться от рассчитанных ударов Сергея Валентиновича и пустить в ход длинный чабанский нож…
Наутро арендаторы и рабочие нашли Куприянова в шалаше. Он лежал на полынной подстилке, бледный и слабый, зажимая на правом боку скомканным алым от крови платком косую неглубокую рану: видно, неизвестный тавричанин промахнулся и нож пошел вскользь, ударившись — о ребро.
Отец и мать, напуганные происшествием, кинулись в сад. Я от страха убежал в степь и спрятался в зарослях подсолнуха. Мне казалось, неведомые изверги, ранившие моего наставника, ранили и мою душу, потушили светивший мне издали яркий луч. Вот они явятся, разыщут меня и убьют…
Мои родители нашли меня только к вечеру. Я дрожал всем телом, в глазах моих стоял ужас…
Мать плакала, отец ходил, словно шальной, стиснув зубы. И лишь Петро Никитович Панченко важничал и шутил как ни в чем не бывало, говорил, что это не иначе как пошалили хуторские парубки из ревности и мести за Килину.
Через два часа из станицы прикатил урядник с двумя полицейскими. Вместо того чтобы разыскивать преступников, полицейские уложили Куприянова на подводу и увезли в станицу.
Отца и мать даже не допустили к нему. Староста Петро Никитович сказал, что лучше не интересоваться судьбой «волчьебилетника», так как о нем у пристава будто бы есть от высшего начальства какая-то тайная бумага.
И осталась у нас на столе после пребывания Сергея Валентиновича в хуторе только книга «Атмосфера» К. Фламмариона, но и ее пришлось вскоре сдать в библиотеку. Килина же точно тронулась разумом, и ее увезли к родным в соседнее село… Только два год спустя отцу в станице знакомый учитель сказал, что Куприянов все-таки выжил, поправился и поступил кочегаром на пароход дальнего плавания.
Больше мы о нем ничего не слыхали.
Отрубщики
После этого события я скорее чувством, нежели разумом, постиг: на земле, помимо света, есть и тьма и, кроме хороших людей, восхитительных сокровищ и явлений природы, существует еще и людская жестокость — тупая, страшная, бессмысленная…
Человек может быть красивым и добрым (для меня примером этому были Коршунов и Куприянов), но человек мог стать лютее самого страшного зверя — это открытие потрясло и словно перевернуло мою душу. Я стал сторониться людей и уже не с такой доверчивостью шел на их даже приветливый зов.
Деление людей на добрых и злых подтверждалось прочитанными мной сказками и рассказами. Особенно запомнились мне поэтичные легенды и сказки П. Засодимского «Бено», «Бруно-скиталец», «Ринальдово счастье» и рассказ Н. Телешова «Домой». Я перечитывал их много раз, а рассказ «Домой» — о мальчике-переселенце, потерявшем в Сибири отца и мать и пустившемся в обратный путь пешком, — знал наизусть.
Все эти простые, словно окрашенные в светлые и темные тона, выдуманные и невыдуманные истории говорили мне о противоборстве двух начал — хорошего и дурного, то есть всего того, что было в жизни…
Вспоминая о Куприянове, я убегал в степь и там, лежа в высокой траве, плакал. Степь притихла в осеннем увядании. Не пели жаворонки, не свистели суслики, не стрекотали кузнечики. Тишина словно усиливала мое горе и ощущение одиночества… Сердце изнывало от острой невыносимой тоски. Я ни о ком еще не тосковал так сильно, как о Куприянове.
Никто так и не узнал, да и не старался узнать, кто же ранил его… Но я был уверен: виновники живут на хуторе, я их, может быть, встречаю ежедневно, и они улыбаются мне, разговаривают со мной…
Отец очень дурно отзывался о старосте Петре Никитовиче, бранил его, но при встречах лишь хмурился и, как мне казалось, робел перед важным мужиком.
Однажды к услыхал, как отец сказал матери:
— Куприянова пырнули ножом по указке Петра Никитовича. Хитрый хохол. Я сам видел, как он в станице с приставом здоровался за ручку.
Это меня удивило и вновь напугало: неужели такой с виду приятный человек мог быть причастным к звериной жестокости? Не раз он угощал меня леденцами так же, как Сергей Валентинович, а при встречах с отцом улыбался, приподнимал над лысеющей головой черную поярковую шляпу, но разговаривал надменно и повелительно, как разговаривал со своими работниками, и важно выпячивал при этом бочкообразный живот.
Позже мне стало ясно: для богатея-старосты отец мой был только батрак, кацап, голодранец, не имевший ни кола, ни двора, служивший у хозяина, да еще разорившегося, за ничтожный заработок.
Я нисколько не разбирался тогда в общественном положении людей, но что Петро Никитович принадлежал к разряду губителей добра, теперь, после услышанных от отца слов, я окончательно убедился и, когда староста при встрече поманил меня, роясь в кармане и, по-видимому, намереваясь угостить конфетой, я убежал стремглав, пугливо оглядываясь…
Я был занят своими детскими делами и понемногу душевная боль — память о Куприянове — стала затягиваться целительной пеленой забвения…
К тому времени адабашевская экономия пришла в окончательный упадок. Уже увезены были неведомо куда паровые молотилки. Ржавели в машинных сараях сноповязалки, сенокосилки, плуги и жатки. Ни одной лошади в конюшне не осталось. Кузни, овчарни, птичники, свинарни, конюшни и амбары разваливались и зарастали лебедой и чертополохом.
Управляющий Борис Гаспарович, одеждой и обличьем походивший на адвоката, давно уехал в город и все реже появлялся на хуторе. Потом и совсем перестал приезжать. По слухам, молодой хозяин перевел его в другую, такую же хиреющую экономию.
В обезлюдевшем Адабашеве осталось несколько сторожей — томящихся от безделья и скуки стариков, вооруженных только деревянными колотушками. Но потом и их уволили. Экономия погрузилась в глухую немоту — не стало слышно по ночам даже побрякиванья колотушек.
На всю экономию единственным сторожем остался отец. Это очень его тяготило. Когда его спрашивали, кто же он теперь — садовник, пчеловод, огородник или сторож, — он не мог ответить. Очевидно, страдала гордость «мастера на все руки». Но уехать из хутора на поиски новой работы отец не решался: силы у него поубавилиось, да и привык он к хутору, сжился со степью. К тому же теперь была хоть небольшая, но своя пасека — единственная зацепка и отрада в чужом хозяйстве.
Молодой хозяин не увольнял отца: по-видимому, все еще надеялся поправить свои дела. Пребывание на хуторе честного человека, каким он считал отца, казалось ему необходимым. Он полагался на него, доверял ему, пожалуй, не меньше, чем управляющему. Отец изредка ездил в город и докладывал Ивану Марковичу или его жене о состоянии дел в имении.
В это время большую часть адабашевской земли арендовали тавричане. Они хозяйничали на ней, точно на своей собственной, и сам молодой хозяин не мог теперь сказать уверенно, где и какая земля принадлежала ему, какая арендовалась, а какую целиком прибрали к рукам отличные хлеборобы-отрубщики. Урожаи на их полях были выше.
На токах гудели, давясь тучными пшеничными снопами, молотилки, сытый, отборный скот выгуливался на адабашевских пастбищах.
Однажды весенним утром, обходя хозяйские постройки, отец обнаружил: пудовый железный засов на воротах главного машинного сарая был вырван вместе с болтами и валялся тут же на земле, дверь слабо притворена.
Отец вошел в сарай и остановился в изумлении: не хватало двух сеялок и нескольких трехлемешных плугов, ящики с запасными частями были опустошены и разбросаны. В сарае стоял терпкий дух ржавчины и застарелой машинной смазки. Из кузова сноповязалки, хлопая крыльями, вылетел сыч и, взвившись под высокую крышу, уселся на перекладине, глядя оттуда желтыми бесовскими глазами.
Сквозь дырявую черепичную крышу пробивались мутные от пыли лучи апрельского солнца, на дворе пышно расцветала весна, тавричане уже начали сеять, а здесь царили распад и запустение, ценные и необходимые орудия стояли без применения и ржавели…
В этом была какая-то нелепая несправедливость, и кто-то решительный, самолично, на свой риск, нарушил право чужой собственности и увез сеялки и плуги, чтобы использовать их во время сева. И вместе с тем это было воровство, хотя и необычное, как бы вынужденное, за которое все еще нес ответственность сторож. Следы рубчатых железных колес вели на тавричанский хутор…
Отец пришел домой сильно расстроенный.
— Ну, мать, беда — машинный сарай разграбили, — уныло сообщил он. — Утащили две сеялки, плуг и, наверное, еще кое-что, чего я и сам не знаю.
Мать сперва испугалась, а потом сердито закричала:
— Ну и дьявол с ними, с сеялками и плугами! Ты всю жизнь хозяйское добро сторожишь, а что толку? Что ты приобрел? Чего тебе хозяин дал? Ничего! И будь оно проклято, это хозяйское имущество!
Отец возразил:
— Но ведь я у хозяина еще служу. С меня спросят.
— А что за спрос?! Что ты один сделаешь? Вон сколько сторожей было, и все же воровали, а теперь и вовсе… И не думай. Пускай хозяин думает: его добро.
— И кто это мог утащить? — разводя руками, недоумевал отец.
— Они, кто же еще… — уверенно кивнула мать в сторону рассевшегося над балкой нового хутора.
— Неужто суседи?
— А кто же еще…
Отец задумался.
— Нет, мать, не могу я это так оставить, — сказал он немного погодя. — Как я теперь в глаза хозяину буду смотреть? Поеду к нему — пускай сторожей сажает или продает все, а я уйду. Ведь я садовник, пчеловод, а не сторож… А то поеду в станицу и заявлю в полицию. Пускай шукают сеялки…
Мать закричала громче:
— И не думай! Тебе что, жизнь надоела? Они — тот же Панченко — прирежут тебя, как Куприянова, или сожгут вместе с хатой.
— Ладно. Тогда я к Ивану Фотиевичу пойду — он, наверное, знает, кто украл, — сказал отец и, не слушая отговоров матери, ушел на тавричанский хутор.
В то время у отца с отрубщиками уже сложились неопределенные и противоречивые отношения. Некоторые из тавричан относились к нему недоверчиво и подозрительно, очевидно, думая, что он доносит хозяину обо всех посягательствах на адабашевскую землю, огороды и пастбища.
Наиболее прочными и дружественными были у отца отношения с Иваном Фотиевичем Соболевским, шумным веселым украинцем, с зычным, каким-то разудалым голосом, с розовым, как кожа только что искупанного в теплой воде с мылом поросенка, толстым круглым лицом и светлыми, очень насмешливыми, всегда точно выпученными глазами.
Двор и молотильный ток Соболевских начинался сразу же за нашей мазанкой.
Это было крепкое, более чем зажиточное хозяйство, уступавшее по силе лишь хозяйству старосты. Еще недавно оно целиком находилось в руках Фотия Савельевича, отца Ивана Фотиевича, жилистого, прямого, как верстовой столб, восьмидесятилетнего старика с необыкновенно суровым, словно вырубленным из ноздреватого камня, лицом.
Семья Соболевских держалась на старых патриархальных устоях. Фотий Савельевич только на бумаге разделил хозяйство между тремя сыновьями, на самом же деле продолжал жестоко эксплуатировать их. С двумя — Иваном и Александром — он вышел на отруба и не давал им никакой самостоятельности, причем явно благоволил к младшему, Ивану: ему он отписал большую часть земли и имущества. Старший же, Александр, не получил ничего и по существу вместе с женой гнул спину у отца батраком.
Причиной такого неравенства и немилости была обычная в те времена история — Александр пошел против отца в выборе невесты. Фотий Савельевич намеревался женить красавца Александра на дочери богатейшего на все село тавричанина — конопатой, как сорочье яйцо, и длинной, словно жердь, Луньке, которая была намного старше Александра. Александр же, на беду свою, уже «кохался» с такой же, как и сам, кареглазой красавицей Маней Стеценко.
Выслушав решительный отказ старшего сына жениться на Луньке, старик взял твердый, как сталь, барок[3] от брички и избил Александра до потери сознания, потом посадил в погреб на черствый хлеб и подсоленную воду.
Через три дня он выпустил из сырой домашней темницы больного, еле стоявшего на ногах Александра и снова спросил, собирается ли тот оставить свою Маньку-голодранку и жениться на Луньке.
Александр ответил не менее решительно, что не собирается и предпочтет смерть в погребе разлуке с любимой.
Тогда Фотий Савельевич вторично, с помощью работников, избил непокорного сына и уже вновь собирался посадить его в погреб, как вдруг сбежались соседи и сказали: Маньку Стеценко только что вынули еле живую из петли. Услышав это, Александр разорвал на руках чересседельник, которым был связан, и убежал спасать свою любимую…
Александра и Маню все-таки соединила твердая, как кремень, любовь — они поженились. Но нерадостным было их послесвадебное существование. Фотий Савельевич не дал им на разжиток ни мешка пшеницы, ни единой овцы, ни свиньи, ни коровы.
Три года скитались молодожены по селам, батрачили у богатых тавричан, пока нужда вновь не загнала их к родному батьке. Смилостивился Фотий Савельевич, взял к себе сына и невестку с годовалым внуком в батраки, да слишком запоздалой была милость: побои отца и перенесенные мытарства не прошли для Александра даром — он заболел жестокой чахоткой и спустя два года умер. А через год умерла и молодая вдова, красавица Маня, оставив Фотию Савельевичу пятилетнего внука Ёську, моего ровесника и дружка детства…
Смутно помню я отца Ёськи, высокого худого черночубого мужчину с желтым, словно восковым, смуглым лицом, вислыми усами и темно-карими болезненно блестевшими глазами, и такую же печально-красивую, тихо угасавшую мать его.
Давно это было, а вот маячат они сквозь солнечно-голубую мглу детства, и до сих пор к горлу подступает горечь, когда вспоминаю о них.
Хороша и вольна с виду приазовская степь, но нравы в ней были жестокие. Горючими слезами обильно орошены ее просторы, дороги и старые, заросшие полынью и бессмертным лиловым цветом тропки. До настоящих лет отзывается это горе в степных украинских песнях о несчастной любви, о разлученных сердцах, о погибших молодых жизнях… К сожалению, и песен этих мало осталось — не уберегли, точно степной ветер развеял их…
Фотий Савельевич вскоре умер, и полным хозяином на отцовском дворе стал жизнерадостный Иван Фотиевич. Он был уверен, что не несет вины за жестокость отца и преждевременную смерть брата. Если бы не лютость и своенравие старика, Иван и Александр зажили бы мирно и скоро сошлись бы и на разделе земли, и на отцовском наследстве, и на выборе жен — послушных хозяек и даровых работниц. Иван Фотиевич был хоть и хитроватым, прижимистым хозяином, но незлобивым, покладистым человеком.
Богатеть на отрубах он стал быстро, с каждым годом набирая силу и отправляя в город на ссыпку длинные обозы золотозерной ядреной гарновки.
С отцом моим у него завязалась дружба по простой причине: задумал Иван Фотиевич разводить сад и пасеку. Отец в этом деле оставался по-прежнему незаменимым. Не прошло и трех лет, как на противоположном склоне балки зазеленел молодой хорошо разбитый сад, а в нем зажужжали пчелы от двух десятков вновь отсаженных роев. За это отец, как водится, не получил никаких особенных благ кроме мешка вальцовочной муки-крупчатки да нескольких кусков сала…
Так, продолжая служить у одного крупного хозяина, отец незаметно подпадал под власть другого, пожалуй, более хитрого и не менее жестокого.
К Ивану Фотиевичу и пришел отец с жалобой на пропажу адабашевского имущества.
Входя в его двор, он не мог не заметить кое-как затертых отпечатков рубчатого колесного следа, который вел прямо к сараю. Хозяин даже не постарался как следует скрыть улики. Он встретил отца во дворе самыми радушными возгласами и приветствиями:
— А-а, Пилыпу Михайловичу, доброго здоровья! Як живемо, як працюемо?
— Да все так же, Иван Фотиевич. А как ты? — спросил отец. — Слыхал я: купил ты две новые сеялки и плуги.
— А на що мени куповать? Це кто же тоби таке набалакав? — даже не моргнув глазом, возразил Иван Фотиевич. — У меня и старых сиялок хватае.
Дальше разговор потек по менее щекотливому руслу — поговорили о погоде, о севе, о затяжной весне. Потом отец медленно и раздельно сказал:
— А в экономии пошло воровство. Нынче ночью из сарая увезли две сеялки и плуги.
— Тю! От-то рахуба! — с искренним возмущением воскликнул Иван Фотиевич. — Да кто же це зробыв? Який злодий?
— Этот злодий, Иван Фотиевич, — ты… След от сарая ведет прямо на твой ток, — рубанул отец. — Ты хотя бы взял грабли да заровнял следы от колес.
Иван Фотиевич простодушно расхохотался:
— Да ты сказывся, Пилып Михайлович, чи що? Чи тоби приснилось? И не бреши ты, будь ласка. Я ось що тоби скажу, Пилып Михайлович: годи тоби сидеть сторожем на чужом добре. Як сусиду кажу: чого ты сидишь биля цих жаток та косилок, доки их не растащут або ржа их не поточе. Взяв бы та продав их якомусь-небудь доброму хлеборобу. Та булы бы у тебе гроши, а земли, ей-богу, мы тебе отризалы бы десятин пять… И став бы ты сам хозяиновать.
В веселых глазах Ивана Фотиевича отражалось столько искреннего соседского доброжелательства, что отец сначала даже не нашелся, что ответить.
— Нет, Иван Фотиевич, спасибо, — сказал он немного погодя. — Пускай это добро погниет и поржавеет, но брать и продавать его я никому не буду. Я вот поеду завтра в город и доложу обо всем хозяину. И пускай он сам с вами разделывается и торгуется, как знает.
Между выгоревших на солнце бровей тавричанина впервые легла враждебная, недобрая складка, но тут же разгладилась.
— Та дурный же ты, Пилып Михайлович. Може, тоби за ти сиялки дать гроши? Га? — И опять захохотал. — А може, подывышься на мои? Ха-ха-ха! Эх ты, голова, два уха! На грэця[4] тоби буть таким честным? Вин, твий Адабаш, и не знае, що у него е якись сиялки да плуги. Вин давно со счету сбився и пропье та прогуляв и тэ, що у него осталось… Вин и земли своей не знае. А ты, Пилып Михайлович, дурень, ей-богу, дурень… Кого ты рятуешь; га?
И пока отец уходил со двора Соболевского, хохот Ивана Фотиевича катился ему вслед…
Молодой хозяин
Ранним утром, еще затемно, отец ушел на станцию, чтобы ехать в Ростов к хозяину.
Потом он рассказывал, как, прибыв в город, тотчас же поехал в Нахичевань к молодому Адабашеву. Дома хозяина не оказалось. Отца встретила молодая хозяйка, бледная, чем-то опечаленная, красивая, с заплаканным лицом. Она была вдвое моложе отца, но говорила ему «ты» и называла Филиппом, точно слугу.
Отец рассказал ей, как разваливается на глазах экономия, как тавричане растаскивают имущество, а арендаторы не только снимают фрукты, но и портят деревья, выкапывают и увозят очень ценные плодовые саженцы.
— Хозяину надо приехать на хутор самому посмотреть все, поговорить с хуторянами. Если экономия еще ваша, то нужны люди — сторожа, рабочие в саду, плотники и каменщики, чтобы не допустить до полного развала построек. Вокруг дома ломают забор, лазают в окна. В доме надо поселить человека, иначе и от дома останутся одни стены.
Хозяйка выслушала, не перебивая, думая о чем-то своем. Вид у нее был очень рассеянный и равнодушный ко всему.
— Филипп, тебе придется подождать, пока не приедет Иван Маркович. А когда он приедет, не знаю. — У хозяйки глазах заблестели слезы, она отвернулась. — Мы его разыскиваем по городу третий день…
Она ушла, прижав к глазам носовой платок, оставив отца на кухне в недоумении. Отец не знал, что делать — не возвращаться же на хутор ни с чем.
Он решил дождаться хозяина.
Кухарка, толстая добродушная армянка, накормила садовника остатками завтрака. Они разговорились.
Поглядывая на дверь, кухарка с характерным армянским выговором, путая мужской и женский роды существительных, тихо и многозначительно поведала:
— Хозяин гуляла… Давно не ночевала дома. Ай, беда, как хозяин гуляла… С русским бабам, с цыганом. Музыка, вино, ай-ай-ай! Много денег прогуляла… — Кухарка приглушила голос до шепота. — Ой, Филипп, ты не дождешься хозяина. Тебе надо ехать — я скажу, куда. Я знал, где Ованес Маркович кушает. Ты слухай меня. Садись трамвай, бери извозчик, катай — такой большой дом стояла на Садовой — гостиница. Туда давай. Хозяин там была. Я знаю.
Отцу ничего не оставалось делать, как самому разыскивать закутившего хозяина. Он ничего не сказал хозяйке, сел у Нахичеванского базара на скрипучую прицепку трамвая и за две копейки доехал до Таганрогского проспекта. Сухой весенний ветер гнал по улицам пыль. По Большой Садовой вереницами тянулись извозчики. В воздухе густо пахло конским навозом, лежавшим грудами у частых извозчичьих стоянок. Зазывалы, дергая за фалды, тащили в магазины прохожих, расхваливали товар:
— Только у нас! Самый лучший товар у нас! Пожалуйте! Цены умеренные!
— К нам, к нам! У них цены без запроса! А у нас — скидка! — выкрикивал другой, стоявший у двери приказчик.
На улице шум, умопомрачающий грохот окованных железом колес о булыжную мостовую, мягкое шуршание резиновых шин, поцокиванье копыт.
Отец уже догадался: хозяина нужно искать в самой лучшей гостинице, где у подъезда, вытянувшись в ряд, стоят не только скромные пролетки извозчиков, но и сверкающие лаком, запряженные орловскими рысаками экипажи на дутых резиновых шинах — услада местных воротил-миллионщиков.
Толстый и грозный, с громадными усищами и рыжими бакенбардами, швейцар, сияющий позументами, как генерал, долго не хотел впускать в вестибюль отца, презрительно оглядывая его одежду и запыленные сапоги, устрашающе басил:
— Куда прешь, деревня, сюда нельзя! Не видишь — тут чистая публика…
Швейцар бесцеремонно теснил отца за массивную, с бронзовыми ручками, дверь.
— Я к хозяину… К хозяину — Адабашеву… Он тут, — настойчиво уверял отец.
— К Адабашеву? Его тут нету. А ты кто? Кто тебе сказал, что Адабашев здеся? — Глаза усача подозрительно ощупывали отца. Широченная его грудь заслоняла дверь. — Зачем тебе к Адабашеву? Его тут и не было. Тебя хозяйка послала? Вишь, ты! И не шуми. Ступай в «Ампир», а тут «Палас-отель».
По глазам швейцара отец уже заметил: тот говорил неправду — не иначе как был подкуплен богатым посетителем, скрывавшимся вместе с компанией таких же, как и сам, кутил от жены, родственников и знакомых.
Отец не отступал:
— А ты пусти, а то доложи Адабашеву. Я знаю — Иван Маркович тут. Я из его имения приехал по важному делу. Не пустишь — хозяин тебя не помилует. А я все равно его дождусь.
Швейцар заколебался: убедительный тон отца сломил его. Он сердито махнул рукой:
— Ладно. Ежели ты набрехал, он тебе же сломает шею. Ты сиди тут, я его позову. И никуда не двигайся, не топчи ножищами ковры. Лестница не для вашего брата…
Швейцар ушел. Отец терпеливо сидел, оглядывая роскошный вестибюль с сияющими, вправленными в золоченые рамы зеркалами, с бронзовыми статуями нагих женщин у лестницы. Статуи поднимали над головой чаши — газовые светильники, их осеняли темно-зеленые веера огромных пальм. Откуда-то сверху доносилась еще не слыханная отцом, по его мнению, райская музыка — нежными голосами пели скрипки, глухо, размеренно бил барабан, словно какой-то добродушный великан гудел в бочку. Но вот завыли хором, завизжали женские голоса — это цыгане затянули лихую песню.
«Живут же люди, гуляют в свое удовольствие», — без зависти, но с какой-то долей восхищения подумал отец.
И вдруг перед ним как из-под земли выросла солидная, начинающая полнеть фигура молодого Адабашева. С виду он ничуть не походил на пьяного кутилу, держался на ногах крепко. И лишь черные курчавые волосы дыбом торчали на голове да под опухшими, воспаленными от бессонных ночей глазами резко синели тени. Его крахмальная манишка и галстук-бабочка чуть съехали на сторону, полные, еще по-ребячьи пухлые губы казались излишне влажными и капризно кривились.
— В чем дело?! — гаркнул он хриплым басом (такой же бас был и у отца его) и вдруг изумленно разинул рот: — Филипп? Ты? Зачем ты тут? Как сюда попал?
Отец стоял в почтительной позе. Черные, сросшиеся на переносье брови Ивана Марковича грозно насупились. Он, наверное, подумал, что отца прислала молодая хозяйка.
Отец торопливо рассказал о цели приезда. Иван Маркович выслушал молча. На его красивом, уже начавшем отекать смуглом лице отражались апатия и досада: неладные дела в имении, о котором он менее всего думал, отрывали его от каких-то более важных, далеких от хуторской жизни интересов.
— Ну, так что же? Что надо делать? — резко спросил Адабашев.
У него была такая же, как у отца, манера разговаривать — грубо, отрывисто, часто вспыливая.
— Надо ехать, Иван Маркович. Поговорить с хохлами. Иначе они все растащат. Они уже до дома добираются — забор ломают, в окна залезают, — сказал отец.
— Ах они, сук-кины дети! Ну, я им покажу! — проворчал Иван Маркович и пустил крепкое армянское ругательство. — Ну, что ж… Едем, — решительно добавил он. — Домой я не поеду, а прямо на вокзал. Ты уже обедал? Ел что-нибудь?
— Ел… Я же у хозяйки был… И ей все рассказал, — несмело сообщил отец.
— Г-м-м, ч-чер-рт! — неопределенно прорычал Адабашев. — Это она послала тебя сюда?
— Нет. Она ничего не сказала. Это кухарка…
— Ах, старая шельма! — свирепо сдвинул брови Иван Маркович. — Едем!
Швейцар, подобострастно сгибаясь, надел на Ивана Марковича легкое весеннее пальто, подал шляпу, тросточку. Адабашев небрежно бросил ему кредитную бумажку и, не оглядываясь, вышел.
У подъезда он окликнул извозчика, теперь на воздухе уже явно нетрезво пошатываясь, влез в пролетку, кинул отцу:
— Садись и ты, Филипп.
Так, в молчании, доехали до вокзала, причем всю дорогу молодой хозяин прятал лицо в воротник. На вокзале он велел отцу купить билеты второго и третьего класса, так что до Синявки, все тридцать пять верст, хозяин и батрак ехали в разных вагонах. Из вагона Иван Маркович вышел совсем трезвым, но еще более мрачным, сосредоточенным на какой-то ему одному известной думе.
До хутора добирались на наемной подводе. Адабашев ни о чем больше не расспрашивал и только всю дорогу усиленно курил. А когда из-за степного бугра выплыли сиротливые постройки обезлюдевшей экономии, черные глаза хозяина странно оживились, в них мелькнуло что-то вроде удивления и испуга. По-видимому, неприглядный вид хутора подействовал на него удручающе. Он не был в нем года два. Разваливающиеся птичники и свинарники, разбитая черепица на крышах, словно уменьшившийся в объеме, приникшей к склону балки сад — все это, как гневный укор нерачительному владельцу, немо взывало о помощи.
— Э-ге-ге! Вот так-так! — неопределенно воскликнул Иван Маркович и, отвернувшись, яростно сплюнул.
Уже вечерело. По балке, крадучись, ползли скучные тени. Из степи долетали крики погонычей. Тавричане заканчивали сев кукурузы, подсолнечника. В степи теперь хозяйничали они.
Адабашев не пошел осматривать ни машинный сарай, ни пустые амбары, ни другие постройки, не обнаружил желания заглянуть в распускающий нежную листву сад. Он все время курил, доставая из золотого портсигара папиросу за папиросой, и брезгливо топырил мясистые губы.
Несмотря на позднее время, он велел отцу тотчас же позвать старосту Петра Никитовича и всех хуторян. На приглашение отца — пока тавричане соберутся — зайти в хату и закусить Иван Маркович отрывисто ответил.
— Некогда. Я через час должен уехать, чтобы успеть к вечернему поезду.
И отец не стал его упрашивать. Иван Маркович так и остался сидеть на крыльце пустого дома с заколоченными окнами и ожидать тавричан. К немалому удивлению отца, они собрались очень быстро, а Иван Фотиевич Соболевский явился чуть ли не первым. Он весело отдувался и был красен лицом, как разрезанный спелый арбуз. Прозрачно-светлые выпученные глаза его смотрели смело и хитро.
Тавричане подходили к Адабашеву здороваться, протягивали руки, но он делал вид, что не замечает этого, и только небрежно кивал.
Петро Никитович суетливо и грузно топтался вокруг Адабашева, заискивающе похохатывал, лебезил, приглашал «на вареники»; Иван Фотиевич что-то рассказывал о затянувшейся весне и запоздалом севе, о том, что арендуемая адабашевская земля стала скупа на урожаи и не окупает вложенных в нее средств, что «дуже гарно, що вы, Иван Маркович, перестали заниматься хлеборобством и що треба скинуть хоть трохи арендную плату».
Отец присутствовал при разговоре, но не вмешивался и только слушал. Панченко и Иван Фотиевич бросали на него все более неприязненные взгляды, видимо, считая его доносчиком и хозяйским прихвостнем. «И хочь бы было за що, а то так — за здорово живешь», — как бы говорили их глаза.
Молодой Адабашев вдруг перебил болтовню старосты. Зажигая очередную папиросу, резко заговорил:
— Вот что, господа хохлы, вы мне тут меду не заливайте и очков не втирайте. Если вы сейчас не свезете расхищенный инвентарь, я завтра же на всех вас подам в суд. Будьте уверены — судьи и адвокаты у меня найдутся, какие надо. И я сразу припру вас к стене! Понятно? Вот вы, — ткнул Иван Маркович пальцем прямо в толстый, выпирающий, как бочка, живот Петра Никитовича, — вы — староста и будете отвечать за кражу вдвойне, как лицо ответственное, должностное… Поэтому предлагаю вам подумать…
— Та мы що… Та мы ничого, — разом загудели тавричане. — Та хто вам доказав? Та мы ж ваших сиялок и не бачилы… Це вам садовник набрехав…
Иван Маркович досадливо поморщился, крикнул:
— Не хотите, значит, свозить краденое?!
— Та мы… та що…
— Ладно, господа хохлы… Я сейчас уеду. Не хотите по-хорошему? Тогда…
Хозяин встал, огляделся.
Иван Фотиевич и староста торопливо зашептались.
— Иван Маркович, — сияя выпученными глазами, миролюбиво и заискивающе заговорил Соболевский. — Мы ось що надумалы. Мы купимо у вас що е из инвентарю и уси постройки гамузом. Тильки писля обмолоту. Писля ссыпки хлиба? Як вы на це дывытесь?
— Вы мне уплатите сначала за две сеялки и за плуги, тогда я соглашусь, — усмехнулся Адабашев. — Будем считать, что никакой кражи не было. Ведь хуже, если я завтра же пришлю сюда исправника и полицию.
Панченко и Соболевский вновь быстро переглянулись.
— Лады. Мы тут посоветуемся, — заговорил Петро Никитович. — Надо же всем обчеством обмозговать, порешить…
— Потом и порешите… Я ждать не могу. Если согласны — говорите. Нет — я уезжаю. Я знаю: сеялки вам были нужны, вы их и взяли. Кто — я не допытываюсь. Все вы тут воры! Пожалуйста, забирайте не только сеялки, но и все, что есть в сарае. Только деньги — на кон!
Иван Фотиевич сиял. Он не думал, что явно скандальное дело с присвоением чужого имущества решится так просто.
Тавричане и Иван Маркович поторговались с полчаса и тут же заключили сделку да еще скрепили ее изрядным магарычом.
Но хозяин выпивать с хохлами не стал и, получив за украденный инвентарь сразу всю сумму, немедля потребовал подводу, заторопился на станцию. Все окончилось самым благополучным образом. Осмелевший Панченко, считавшийся на хуторе просвещенным старостой, предъявил Адабашеву новую просьбу:
— Продайте нам и дом, Иван Маркович. Мы откроем в нем школу, бо нашим хлопцам далеко ездить учиться, аж на Каменный Мост — за пятнадцать верст.
— Ну, вы хотите — мед, да еще и ложкой. Об этом пока не будем говорить. Я сам еще буду жить в доме, — возразил хозяин и опять недобро усмехнулся. — Я пока не знаю, что вы тут наделали с моей землей. Займусь этим. А то получится так — я приеду, а вы скажете: земля наша и мы тебя не знаем.
При этих словах староста и вслед за ним все тавричане неискренне и угодливо засмеялись.
— Осенью мы произведем перемер и новое межевание земли, — сказал Иван Маркович. — Я пришлю землемеров и, если обнаружу, что вы залезли в мою землю, тогда держитесь!
На душе отца было тягостно. Состоявшаяся между Адабашевым и тавричанами скоропалительная сделка говорила о том, что дни старой экономии сочтены и следует подумать всерьез, куда уходить из нее, где искать работы и нового пристанища.
В сентябре, когда закончился обмолот хлеба, из Ростова на хутор приехали двенадцать землемеров с теодолитами, астролябиями, цепями и железными вехами.
Землемеры расположились в пустом хозяйском доме вместе с прибывшим с ними управляющим Борисом Гаспаровичем. Двое поселились в нашей мазанке. Это были служащие какой-то землеустроительной конторы. Обращались они с матерью очень вежливо, говорили ей: «Позвольте», «Пожалуйста», «Благодарю вас», «Будьте добры», «Прошу не беспокоиться». Эти слова звучали среди грубой речи хуторян, как музыка, и очень понравились мне. И я в разговоре с отцом и матерью и даже со своими сверстниками-пастушатами употреблял их, чем вызывал у старших поощрительную улыбку, а у сверстников обидный смех…
После перемежевания тавричане, теперь уже с ведома Ивана Марковича, совершили новую сделку — всем обществом купили еще десятин полтораста до этого арендованной земли и придвинули свои угодья вплотную к самому хутору. Дом и сад Адабашева стояли теперь среди черной пашни, как остров среди океана. Небольшой участок земли остался у хозяина, какая-то часть перешла к армянам из большого села Чалтырь. Адабашевское имение распалось окончательно.
Наши соседи
Как-то после отъезда хозяина из хутора староста Петро Никитович, встретив отца, насмешливо ухмыляясь, сказал:
— Що, Пилып Михайлович, подякував тоби Адабаш за тэ, що ты переказав ему, що мы взяли сиялки та плуги? Богато ты получив за це, га? В дурнях и остався. Я тоби ось що скажу: те, у кого гроши е, всегда поладят между собой. Адабашу треба богато грошей, а у нас, слава богу, вони е. И скоро все будет наше. И халупу твою заберем вместе с тобою. Так що сиди и не рыпайся. Будешь караулить теперь не адабашевское, а наше добро… Но ты не журись — с нами не пропадешь… Хе-хе-хе!
Выслушав эту довольно ехидную тираду, отец не остался в долгу, ответил:
— Что и говорить — поладили вы здорово! Вор у вора дубинку украл.
Придя вечером домой, пожаловался матери:
— Ну, мать, Петро Никитович уже отблагодарил меня за купчую с Иваном Марковичем. Сказал: хату нашу вместе с нами купит у Адабашева.
— А я что тебе говорила? — сердито ответила мать. — Не надо было тебе совать нос в ихние дела. Пускай бы погнило хозяйское добро. Они деньгами откупились, а тебя со свету сживут.
Отец задумался, потом сказал:
— А ведь верно, мать, какой я был дурень — думал честностью у хозяина спасибо заслужить. Какая с панами может быть честность?.. — Вздохнув, добавил: — Куда отсюда уходить теперь? Неужели опять к какому-нибудь другому пану идти наниматься?
— Я тебе давно говорила: зря ты с железной дороги ушел. Сидел бы в будке на переезде, как Иван или Игнат, братья твои. Жалованье от казны получал бы и знал, что у тебя есть заработок.
Мать клонила разговор на свою излюбленную тему, всегда неприятную отцу. Напоминание о работе на железной дороге и о мнимом благополучии братьев, работавших путевыми сторожами, почему-то сердило отца. Такие разговоры всегда заканчивались ссорой.
Нужно прямо сказать: не видя конца нужде, мать, как бы мстя отцу за то, что он завез ее на чужую сторону и «заживо похоронил в степи», все чаще нападала на него. Слова ее становились несправедливо резкими и желчными.
— Как же, хотел у пана всю жизнь прожить, девками в саду командовать да с ружьишком по степи разгуливать, — язвила мать. — А у самого «ни кола, ни двора — зипун весь пожиток», — процитировала она стихи, заученные, по-видимому, с детства. — Не сумел стать хозяином — ступай на железную дорогу казне служить.
Отец стал доказывать, что всю жизнь, смолоду, стремился «получить в руки любимое рукомесло» — хотел стать садовником, и не он виноват, что не может приложить к делу свои руки, что люди больше о наживе думают, чем о самой красоте дела, о любви к нему. С садом у него удачи не получилось только потому, что сад попал к нерадивому хозяину, но зато теперь у него есть пчелы, хоть и небольшая, своя пасека — последняя опора его жизни. Зачем же на железную дорогу поступать? Пока хозяин не прогоняет с хутора, он будет жить здесь, тут вольная степь, природа и пчелам хорошо — всяких цветов много. А станут гнать из хутора — что ж! — ничего не поделаешь, тогда переберемся в казачий хутор.
Слушая планы отца, мать не успокаивалась. Она настаивала, что, пока не поздно, надо уезжать из хутора на родину, в Орловщину.
Мечта о поездке домой, к родным местам, превратилась для нее в манию. Матери не нравились здешние места, она часто плакала и говорила, что глушь ей опротивела, что она, как перелетная птица, давно улетела бы к себе на родину, да вот отец привязал ее к хутору нуждой и недостатками и рано иль поздно сведет в могилу.
Это были несправедливые, жестокие жалобы. Отец возражал на них все резче, гневно повышая голос. Мне всегда становилось больно слушать их пререкания. Было жаль степи: жизнь в ней, беготня и игры с пастушатами, работа с отцом в саду и на пасеке нравились мне все больше, я целиком был на стороне отца. Зачем уезжать из хутора? И как это можно уходить куда-то? Хутор, сад, степь, балки, курганы, дороги, казавшиеся мне бесконечными, стали для меня центром мира, постоянным, неизменным и вечным…
Но жизнь тянулась своим путем. После удачной купли-продажи адабашевского сельскохозяйственного инвентаря все на хуторе вошло в свою колею. Внешне добрые, хотя и непрочные, отношения между тавричанами и отцом возобновились.
Отец, по-видимому, решил не лезть на рожон, не противиться их самоуправству. «Один хозяин не лучше другого», «С волками жить — по-волчьи выть», — рассуждал он теперь. Да и трудолюбие тавричан, их здоровая, крепкая хозяйская хватка, привязанность к земле в противоположность разгульной жизни молодого Адабашева склоняли отца на их сторону. Избегал он по-прежнему лишь Петра Никитовича Панченко. Зато с Иваном Фотиевичем установилась странная некрепкая, часто охлаждаемая взаимным недоверием и имущественным неравенством дружба, и хотя веселый хохол держался с отцом как равный, но изредка, когда речь заходила о странной роли отца в опустевшем окончательно имении, намекающе подмигивал:
— Послав бы ты к грэцю Адабашева, Пилып Михайлович. Разбирай каменный сарай, покупай на лесной бирже лес, або роби цеглу[5] и клади соби будинок. Не буты же тоби сторожем до киндя вику. Чи у тебе грошей немае?
— Какие же у меня гроши, — уклонялся от разговора отец.
— Да ты чи не брешешь? — наигранно удивлялся Иван Фотиевич. — Скильки рокив працюешь у пана, экономия его, сад у тебе на руках — и ты разжився? Эх, ты, голова!
После того как установились мирные отношения с тавричанами, для отца наступила внешне благополучная, а на самом деле тревожная жизнь. Отец окончательно утратил ясное представление о своей роли. Иногда ему казалось, что он получил самостоятельность и далее мог кое-что предпринимать в рушащейся экономии лично для себя — так поступали все управляющие, приказчики и другие распорядители опустевших имений.
Но по натуре своей, по привычке честно оправдывать доверие хотя и скверного хозяина, из-за отвращения ко лжи и ловкому стяжательству, из-за неприспособленности практически вести какие-нибудь дела отец не становится хотя бы маленьким хищником среди больших.
Возможно, если бы ему определили земельный надел и в семье его было больше рабочих рук, он и трудился бы, возделывая свою пашню, завел бы какое-нибудь крестьянское хозяйство — ведь и дед, и отец его всю жизнь работали на земле и все же очень часто вынуждены были «идти в кусочки». Но надела отец, как пришлый чужак, ни у тавричан, ни у их соседей казаков получить не мог — надо было или приписаться к их обществу или стать казаком, что по существовавшим тогда законам было весьма трудным делом.
Оставалось одно — купить землю, лошадь, инвентарь у хозяина. Но о купле земли и земледельческих орудий и думать было нечего: никакой земельный банк не открыл бы батраку кредит, а на воровство и всякие махинации с хозяйским имуществом не хватало ловкости и не позволяла совесть.
Вот и осталось на долю отца жить работником у хозяев, пока хватит сил. С юности привык он думать, что никогда не станет самостоятельным хозяином. И хотя был он на все руки мастер и всякое дело давалось ему легко, не мог он найти своим способностям настоящего применения.
Зная о честности отца, хуторяне изо всех сил стремились подчинить его себе, сделать своим союзником и ширмой. Петро Никитович и Иван Фотиевич теперь благоволили ему, всякими услугами и подачками старались перетянуть на свою сторону, задобрить, усыпить.
Если отцу требовалось вспахать огород или бахчу, съездить в станицу за покупками, они беспрекословно давали ему коней и бричку. Требовались семена — Иван Фотиевич и семена давал… Только садовник должен был отработать эти милости — ухаживать за ульями Ивана Фотиевича, которые стояли вместе с его пасекой, опиливать и окулировать сад, закрывать глаза на самовольное использование адабашевских сенокосов и других угодий.
Так незаметно и постепенно отец подпал под влияние тавричан.
Они приглашали его на все семейные празднества и молебны, которые тогда справлялись очень часто, по каждому поводу — при освящении новых построек и приобретении нового имущества, во время крестных ходов с иконами и хоругвями по полям, чтобы бог послал обильный урожай, не допустил засухи и моровой язвы на скот.
По обыкновению, все эти торжества сопровождались обильными выпивками и гульбой, в которой участвовали не только устроители, но и церковный причт — попы, псаломщики, регент и певчие. Пили хуторяне отчаянно: всякие гульбища и магарычи измерялись десятками ведер водки, пили на рождество, на Новый год, на крещение, на пасху. На масленицу хутор стонал от разгула, устраивались всякие забавы, игрища, ряжение. Не обходилось и без бесчинств и диких выходок.
К великому огорчению матери, хлебосольные, широконравные хуторяне постепенно и незаметно втягивали отца в свои гульбы. И все это под знаком дружбы и любвеобильных словоизлияний.
На рождество начинались колядки. До поздней ночи по хутору разносился людской гомон, хохот, припевки под окнами, собачий брех. Колядовать ходила не только молодежь, но и пожилые. Обязанность хозяев после припевок под окном «Щедрый вечер, добрый вечер» — вынести колядчикам по чарке водки и закуску — колбасу, сало, пирог, вареники. Не вынесешь — получишь удар кийком по ставне, а то и камнем по стеклам.
На Новый год до восхода позднего зимнего солнца шли в обход «посыпальщики». Как сейчас, помню: еще темно, так сладко спится на заре, и вдруг громовой удар в дверь — «Пустите посыпать!»
Охая и бранясь, встает с постели мать, идет отворять дверь. Напуская в единственную комнатенку холоду, прямо с мороза вваливаются хохлы — пучеглазый, всегда шумно-веселый Иван Фотиевич, сутулый и тщедушный Прокоп Белый, по прозвищу Хрипливый, рыжий, с красными веснушками на кривоносом лице, с гнусавым дребезжащим тенорком Василий Соловей (нос ему повредили в драке, когда был парубком) и еще несколько подвыпивших уже хуторян. Начинается «посыпание» под припевку:
Уроди, боже, жито-пшеницу, Щоб було с чего спекти паляницу, Овес, ячмень, просо, кукурузу, Коноплю, горох, чечевицу, —гнусаво тянет Соловей и, набирая в пригоршню из холщовой подвешенной через плечо торбы пыльные отсевки, осыпает ими «святой» угол, где теплится лампада, белеет стол, накрытый ради праздника чистой скатертью, окна, всю хату. Ему неверными, хмельными голосами вторят Иван Фотиевич, Прокоп Белый, брат старосты Карпо Никитович и все остальные.
Разлив водку, отец подносил каждому по рюмке. Начинались новогодние поздравления и взаимные пожелания. Часто посыпальщики не довольствовались скромным угощением. Из карманов широченных штанов извлекались новые бутылки. Удар ладонью о донышко — и пробка летела в потолок, чарка вновь шла по кругу. Мать чуть ли не силой выпроваживала посыпальщиков, сметая веником рассыпанное зерно, ворчала:
— Хоть бы хорошим зерном посыпали, а то насыпали последу да еще грязного. А еще богачи. И не боятся, что уродит у них такое… Тьфу!
А однажды большая ватага тавричан под предводительством Ивана Фотиевича ввалилась на Новый год в нашу мазанку с цепями, и началась «молотьба». Через минуту глиняный пол, штукатурка стен и потолка превратились в кучи мелко размолотой пыли, в хате повис белесый туман — не продохнешь.
Я спрятался на печь, чихая и кашляя, наблюдал сверху, как работали «молотильщики»: тяжелые ясеневые цепы только мелькали в грязном пыльном облаке, из пятерых могучих грудей вырывались хриплое хаканье и покрякивание.
Мать рыдала, умоляла хуторян прекратить озорство, хватала наиболее ретивых за руки, но «молотьба» продолжалась.
— Вот так щоб молотыть в новом году. Да не цепами, а катками та машиной! — приговаривал Соловей, остервенело ударяя цепом по глиняному полу.
Притомившись, «молотильщики» распили с отцом бутыль водки и удалились с пьяными песнями. А мать, упав тут же на разбитую, словно вспаханную доливку,[6] жалобно завыла. Все ее труды и старания сохранить вымазанный перед праздником пол и выбеленные стены за несколько минут были сведены на нет…
Отец, чтобы не слышать плача матери, убежал вслед за разбушевавшимися хуторянами, а я спрыгнул с печи и, упав на пол рядом с матерью, заплакал от жалости к ней…
Поездка в город
Я не помню точно, в каком году отец впервые взял меня с собой в Ростов. Кажется, мне было лет шесть-семь — не больше.
Помню отчетливо: впечатления от этой поездки были ошеломляющие. Отец довольно часто брал меня с собой в город, но последующие поездки не оставили во мне такого глубокого следа.
Первое впечатление от железной дороги было очень сильным: куда-то уходящие в бескрайность рельсы, зеленые и красные светлячки стрелок, черное, дышащее паром и дымом стальное чудовище-паровоз, оглашающее окрестность зычным свистком, гораздо более мощным, чем гудок Коршунова или Кирика Шурши на степном молотильном паровичке, длинные пассажирские вагоны, в несколько раз объемистее нашей мазанки, и, наконец, быстрота и плавность движения — все это было так ново и восхитительно, что дыхание спиралось в груди от восторга.
Ощущение быстрой и плавной езды у детей самое волнующее и привлекательное. Как сейчас, вижу: вагонное узкое окошко, где-то внизу несется назад зеленая земля, а на ней, как букашки, — люди, пасущиеся коровы, лошади, крошечные домики. В окне, то быстро поднимаясь, то опускаясь, тянутся подвешенные к столбам телеграфные проволоки. Столбы тоже убегают назад. Шум и стук поезда сливаются в веселую необыкновенную мелодию движения…
И еще запомнилось мне (теперь этого не услышишь на железной дороге): оравы ребятишек выбегали при приближении поезда на насыпь и, махая руками, кричали хором: «Газе-ет! Газе-ет!» Потом, когда мы поселились в станице, я сам бегал на железную дорогу и вместе с мальчишками так же кричал, выпрашивал газеты. И часто на мою долю доставались то измятый, промасленный номер «Приазовского края», то журнал, то пустая коробка из-под папирос.
Крики ребятишек, бесстрашно подбегавших очень близко к поезду, меня очень удивили и восхитили.
Но вот и Ростов. Шум толпы, лязг вагонов, свистки паровозов, дым и копоть от курного угля. Отец не выпускает моей руки. Я жмусь к нему, вздрагиваю от страха, озираюсь как затравленный. Я никогда еще не видел столько людей, куда-то бегущих, спешащих, толкающих друг друга…
Первое впечатление от тогдашнего Ростова — это грохот ломовых дрог о булыжный камень мостовой и привокзальная удушливая вонь от плохих уборных. На маленькой, затиснутой между рельсовыми путями и заборами площади масса народу с сундучками, мешками и плотничьим инструментом. Многие в серых зипунах и лаптях.
— Расея! — коротко заметил отец и как-то особенно ласково, словно при встрече со старым другом, усмехнулся.
«Расея» гомонила вокруг, перебранивалась, обменивалась ядреными шутками — все это был кочующий мастеровой люд, съезжавшийся каждый год из центральных губерний в южные города на заработки. Так называемый третий класс вокзала всегда был забит до отказа подобной публикой.
Тут же у мокрой вонючей стены прямо на мостовой сидели грязные, засаленные торговки и тянули гнусавыми голосами:
— Требушки-и! Печенки-и жареной! Солдатик, купи салтисончику… Две копейки кусок!
— Квас! Лимонад! Лимонад! Первый сорт! Холодненький! Копейка кружка! — выкрикивал рядом малый в сапогах, в сером мокром фартуке.
По городу стоял едкий запах конюшни — всюду извозчичьи пролетки и извозчики в темно-синих длинных, до пят, подпоясанных кушаками кафтанах. И как нечто мощное, изумляющее, недавно вторгнувшееся в шумливую и безалаберную жизнь города — электрический трамвай: зеленые и красные вагончики с открытыми прицепками.
Отец взобрался на прицепку, уселся вместе со мной на узкую скамейку, кондуктор дал свисток, и мы поехали. Отец тотчас же не преминул просветить меня:
— Электричеством поехали. Сила такая — тянет куда посильней лошади.
Трамвай казался мне, степному дичку, таким же чудом, как и поезд, — он словно осветлял грязный и шумный городок, переносил его в какое-то другое, более разумное и чистое царство. В этот приезд в город мы ездили с отцом очень много из конца в конец, из Ростова в Нахичевань и обратно, через просторный и всегда пыльный пустырь — «границу». Я подозреваю: это была езда не столько по делу, сколько ради моего просвещения.
Второе, что потрясло меня, — это кино того времени, синематограф, как его тогда называли, игрушечный и книжный магазины.
Казалось, отец готов был показать мне все семь чудес мира. Мы не просто ездили и ходили по городу, а путешествовали, учились, узнавали. Отца подгоняла неутомимая жажда знания, словно город был для него частью той же любимой им природы.
Вечером отец повез меня на главную улицу Ростова — Большую Садовую.
Тогда на улицах, наряду с газовыми фонарями, светились электрические; их было не так много, но казались они мне, не видевшему другого света, кроме свечи и керосиновой лампы, такими ослепительно-яркими, что я невольно зажмуривал глаза.
Был какой-то «царский» день, кажется, третья годовщина со дня рождения наследника престола Алексея. Большая Садовая вся пылала огнями иллюминаций. Огни прыгали, кружились, плясали. В саду Коммерческого клуба пускали фейерверки. Разноцветные фонтаны искр взлетали высоко в синее небо, слышались хлопки петард и музыка. Я обалдел от такого обилия света, онемел и только вздрагивал.
В парк нас не пустили — нужны были какие-то особенные билеты, да и одежонка на нас была далеко не праздничная, деревенская.
И вот тут-то отец разорился: купил билеты в синематограф, который помещался где-то неподалеку от городского сада. То, что я увидел в нем, как бы завершало все сногсшибательные городские впечатления. На белой стене зажегся голубоватый квадрат, потом под музыку побежали по нему надписи, появились дома, живые люди, экипажи, лошади. Немые люди двигались очень быстро, гораздо быстрее, чем в жизни, и все делали молча — они преследовали друг друга, стреляли из пистолетов, а один забрался в чью-то спальню и под веселую музыку зарезал громадным ножом молодую красивую женщину. Тут я заорал на весь зрительный зал благим матом. На меня зашикали, кто-то засмеялся, а отец, прижав меня к себе, поспешил успокоить:
— Да ведь это только туманные картины. Не бойся, сынок…
Но я долго не мог успокоиться и, наверное, вел себя, как дикарь, оглушенный невиданными чудесами цивилизации. Вышел я из театра словно одурелый — все люди казались мне немыми туманными призраками и… убийцами.
Потом я оправился от первого, точно с силой ударившего меня по голове, впечатления от кино и на обратном пути в поезде и дома хуторским ребятишкам представлял в движениях все похождения героев фильма.
Книжный магазин поразил меня невиданным количеством книг. До этого я не представлял себе, что на свете существует столько книг и что те из них, которые отец изредка покупал мне — только жалкая капля в море. Я был буквально подавлен видом заставленных книгами полок.
— Вырастешь большой, станешь больше грамотным, будешь все это читать, — пообещал мне отец.
Я взглянул на его лицо. Мне показалось, что по нему блуждала грустная усмешка. Может быть, он и сам сожалел, что представшие перед нашими глазами залежи человеческих знаний покоились, как недостижимый, за семью печатями, клад?
Игрушечный магазин, куда отец повел меня не столько для того, чтобы купить игрушку, а лишь поглазеть и удивить чудесами человеческой изобретательности, восхитил меня не меньше, а может быть, и больше, чем книжный. Я буквально прирос к полу у стойки и, наверное, стоял бы с разинутым ртом весь день, если бы не осторожный толчок отца.
Все эти громадные разноцветные мячи, разряженные куклы, колясочки в кружевных фестончиках, кони с всамделишными гривами, ружья, стреляющие пробками пистолеты и трехколесные велосипеды сразу полонили мое воображение, вызвали детскую острую зависть. Но я не мог просто сказать, как говорят теперь многие дети: «Папа, купи!» Я только стоял и ошалело глазел на все это великолепие, вспотев от волнения.
За исключением дешевых жестяных и глиняных дудочек и свистулек, у меня не было ни одной покупной игрушки. Это были хотя и грубо, но добротно сделанные тележки — в них можно было ездить и в грязь и по камням, они скрипели, как настоящие крестьянские телеги, но не ломались; молотилка, которая молотила хлебные колосья; ветряная мельница с толчеей и просорушкой (целый агрегат), она могла работать при ветре часами, монотонно пошумливая деревянным жерновом и стуча колотушками.
У меня было и двуствольное разламывающееся ружье, в стволы которого вставлялись настоящие ружейные патроны; только оно не стреляло. Были у меня игрушечные пароходы и лодки, пилы, топоры, рубанки и тряпичные мячи, сшитые из лоскутков матерью, но такого красочного великолепия я еще не видел.
Теперь я подозреваю: отец всегда строил игрушку так, чтобы она учила какому-то практическому делу в жизни, а не просто служила забавой.
На этот раз отец купил мне дешевенький пистолет, стреляющий бумажными пистонами, на том и закончились наши приобретения. Я был рад пистолету и бумажным пистонам, но на душе было неспокойно. Долго после этой поездки грезились мне городские игрушки. Я мечтал и о коне с настоящей волосяной гривой, и о велосипеде на трех колесах, и о громадном красно-синем мяче, опущенном в нитяную сетку… Но что поделаешь!
Словно угадав мои мысли, отец мягко умерил мои мечтания. Вздохнув, он сказал мне при выходе из магазина:
— Игрушки-то хорошие, сынок, но дорогие. Очень дорогие.
Слово «дорого», помнится, рано вошло в мое сознание — оно как-то успокаивало, оправдывало нашу бедность. «Есть квас, да не про нас», — говорила в таких случаях мать.
Не только светлыми впечатлениями наградил меня в эту поездку город, но и безобразными. Справившись с делами, отец и я приехали на вокзал, но опоздали — все билеты на наш поезд были проданы, и тут в грязном, с висящими клубами табачного дыма зале третьего класса я увидел такую, навсегда поразившую меня картину. Двое сезонников в серых из домотканой материи зипунах, сидя прямо на полу, на своих сундучках, готовились распить бутылку водки. Вихрастый малый уже вышиб пробку, бутылка выскользнула из его рук, упала на плиточный пол и разбилась на мелкие осколки. Водка разлилась по грязному, заплеванному полу мутной лужицей. Парень побледнел, как мертвец, сидел с разинутым ртом, схватившись за голову. Еще бы! Нелегко пережить такой убыток!
Пожилой партнер его с сивой взлохмаченной бородой, ничего не говоря, развернулся и трахнул со всего плеча парня в ухо кулаком.
— Разиня! Язви тебя в корень! — от всей души выругался бородач и тут же, мелко перекрестившись, лег на пол вниз лицом и стал схлебывать лужицу, приговаривая: — Эх-ма! Не пропадать же святой водичке.
Парень, очумев от удара, некоторое время тупо глядел на своего компаньона, но сообразив, что на его долю не останется и того, что пролито, сам припал к лужице.
В это время мимо, заложив за спину руки, важно проходил высокий плечистый жандарм в желтых аксельбантах, с шашкой и револьвером у пояса. Ухмыляясь, он с минуту смотрел на мастеровых и вдруг подошел к ним, стал толкать пожилого носком сапога в затылок, говоря:
— Осколки-то хоть подбери, чернь неумытая, губы порежешь!
Бородач, не обращая внимания на толчки жандарма, продолжал схлебывать с пола водку.
Отец увел меня в сторону от этой безобразной сцены, сказал с огорчением:
— Эх! Ну и жаден до водки наш брат.
Слова «наш брат» прозвучали так же обидно, как «чернь неумытая». Они точно проводили незримую черту между миром богатых и чистых и таких, как мы, то есть «черни», людей в грубой одежде и словно с какой-то темной печатью на лицах…
Я видел на улицах чистых и богатых людей, их презрительные, а иногда сожалеющие взгляды, останавливавшиеся на нашей одежде, видел высокие красивые дома, куда мы с отцом не могли зайти, видел одежду, книги и игрушки, которых мы не могли купить. Нас не пустили в парк Коммерческого клуба только потому, что отец и я были бедно, по-деревенски, одеты.
И вот это слово «чернь», самодовольный вид жандарма, толкающего в затылок одуревшего от водки человека, вызвали во мне чувство гадливости, обиды за «нашего брата» и страха, какой я уже испытал однажды, когда узнал об избиении Куприянова. Это тяжелое чувство усилил еще один внешне незначительный для такого, как я, малыша случай…
Отец хотел пройти со мной в зал первого и второго класса, где был и воздух почище и народу поменьше. Ведь тогда не было на вокзалах ни нынешних комнат матери и ребенка, ни комнат отдыха, доступных всем и каждому.
У входа в первый класс отца грубо остановил толстый швейцар.
— Нельзя! Назад!
Отец показал на меня:
— Дитю бы… В чистом побыть. Воздухом подышать… Маленький ведь.
Широкая, вся в галунах и басонах, глыба заслонила вход более решительно:
— Нельзя! Не видишь? Тут первый класс!
Ох, уж эти разные классы для «чистых» и «нечистых»!
Отец и я повернули назад. Мы кое-как пробились на перрон. Наш поезд уже ушел, а к отправлению готовился какой-то ускоренный. И тут, как завершение всех наших неудач, случилось то, что долгое время возбуждало во мне стыд. Причиной всему была моя застенчивость, пугливость, боязнь людей, толпы…
Отец оставил меня на перроне возле какого-то столба, приказав: «Стой тут! Никуда не уходи!», а сам побежал разыскивать обер-кондуктора, чтобы попроситься доехать до нашей станции «зайцем», за двадцать копеек, что часто практиковалось в те годы.
Кругом сновали пассажиры, бегали носильщики, царила обычная перронная кутерьма, а я стоял в этой суматохе один — ни жив ни мертв. Прошла минута, другая — отец не возвращался. Я поглядывал направо и налево-напрасно: всюду чужие люди, чужие равнодушные лица. На меня вдруг напал ужас. Мне показалось, что я остался один на всем свете среди враждебной толпы и никогда больше не увижу ни отца, ни матери, ни хутора, ни родной степи… Я сорвался с места и побежал по перрону, крича:
— Папа-а-а! Папа-а-а!
Рыдая, я остановился как раз у вагона первого класса. Кое-кто из пассажиров и поездной прислуги стал расспрашивать, как я попал на платформу, кто я, куда еду и где мои родители. По-видимому, у меня, одетого в старую кацавейку и штанишки на помочах, был очень жалкий и смешной вид.
Какая-то пышно разодетая красивая дама в шляпе с серебристым пером, выглядывавшая из окна вагона первого класса, навела на меня лорнет, спросила нежным голосом:
— Мальчик, а где же твой папа? Почему ты плачешь? Мальчик, а мальчик?
От сочувствия я заревел еще громче. Подошел жандарм. Его грозный вид, казалось, заморозил мою кровь. Я снова чуть не пустился бежать, но рука жандарма схватила меня за кацавейку, и сиплый бас гаркнул:
— Чего орешь?! Где твои батька и мамка? Идем-ка… Тут не полагается.
Я уже считал себя окончательно погибшим. Но тут появился отец и, успокаивая, потянул меня за руку:
— Я же сказал тебе: стой тут и никуда не уходи, а ты… Эх ты-и-и…
Я сразу обрел присутствие духа: моя опора, моя сила, рядом с которой я ничего не боялся, снова была со мной.
— Ну и трус ты, — строго упрекнул меня отец. — Чего тут бояться-то… В степи бегаешь по балкам один — не боишься, а тут людей испугался. Идем. Не пускают в этот поезд, будь он неладен. Придется заночевать в городе.
Мне было и радостно и стыдно, стыдно за то, что я в самом деле так боялся многолюдья… Этот страх, между прочим, долго жил во мне.
Отец сказал, что у него где-то близко, на Темернике, есть знакомые, у них-то мы и заночуем.
Мы перешли мост, перекинутый через железнодорожные пути, и очутились в узкой грязной улочке. Рядом тянулся высокий деревянный забор, за ним черным дымом коптила высокая кирпичная труба, слышалось какое-то уханье, звонкие, как о железо, удары, пыхтение. В воздухе пахло, как от нашей хуторской кузницы.
Забор кончился, и мы зашагали мимо громадных, зарешетченных, с непроницаемыми стеклами, окон. За ними что-то шелестело, лязгало, звенело.
— Что там? — спросил я отца.
— Железнодорожные мастерские. Тут паровозы чинят. И вагоны.
Навстречу нам шли старые и молодые мужчины с черными, вымазанными сажей, хмурыми лицами. Мне вспомнились Коршунов и Шурша, и показалось, что я встречу их здесь. Одно мгновение мне даже почудилось, что впереди мелькнуло насмешливое лицо Кирика, его скособоченная фигура. Я совсем забыл, что он уехал не в Ростов, а в свою Юзовку.
— Наш брат — мастеровой, — весело проговорил отец и добавил, усмехнувшись: — Тут, сынок, мы как дома. Отсюда нас никто не прогонит…
Мы зашли к старому знакомому отца, паровозному машинисту. Нас встретили радушно, угостили обедом, потом чаем. У отца было очень ценное качество — быстро сближаться с людьми: его добродушие и доверчивость подкупали самых необщительных людей.
По своему возрасту я еще не мог разбираться в их качествах, но впечатлительность и наблюдательность у меня были острые, по-детски цепкие, жадно впитывающие и откладывающие в потайной сундучок памяти все, что взрослые скоро забывают.
Фамилия старого отцовского приятеля была Дубинин. Он не раз приезжал до этого на хутор поохотиться с отцом за степной дичью. Помню его длинноватое сумрачное лицо, светлые глаза под сердито нахмуренными бровями, седеющие, торчавшие ежиком волосы, длинные, остро оттопыренные в стороны, желтые усы.
Мать побаивалась Дубинина, сторонилась его, может быть, потому, что тот уже сидел в тюрьме за участие в забастовке и всегда упрашивала отца перед его поездкой в город:
— Не заходи, пожалуйста, к Дубинину, затянет он тебя куда-нибудь, да так, что не дождусь я тебя из города.
Это были знакомые, уже надоевшие отцу жалобы и предупреждения. Он отмахивался и говорил:
— Ладно. Не зайду. Чего мне туда заходить.
А сам, наверное, заходил, и нередко. Ослушался он мать и на этот раз.
Сквозь дымку прошлого я вижу застекленную веранду домика Дубинина, остывающий самовар на столе, вползающие на веранду душные летние сумерки. В просвет поднятой широкой фрамуги виднелся длинный и черный силуэт цеха железнодорожных мастерских. Он был тих и темен, как гроб. От него, словно невидимыми сумеречными волнами, исходила тревога.
Отец и Дубинин разговаривали вполголоса, иногда переходя на шепот, и от этого ощущения тревога усиливалась.
— Так говоришь — опять бастуют? — осторожно и как бы боязливо спросил отец.
— Опять, — ответил Дубинин и помешал ложечкой в стакане.
В вечернюю тишину упало знакомое, пугающее меня, очевидно, потому, что этот страх внушила мне мать, и вместе с тем волнующее, влекущее слово — забастовка.
Мне хотелось спать, глаза после обильных городских впечатлений слипались. Я сидел за столом и клевал носом. Отец легонько и ласково тряхнул меня за плечо, сказал:
— Иди-ка спать, сынок…
— Да, пожалуй… Нечего ему тут кунять, — сурово посоветовал Дубинин.
Жена его, полная, молчаливая и, как видно, очень добрая, увела меня в крошечную каморку, уложила на узком диванчике. Маленькое окошко на веранду было открыто, и я некоторое время слышал осторожное погукивание мужских, спадающих до шепота, голосов…
О чем они говорили? Что так тревожило Дубинина? Какие новости он сообщал отцу? Какую тайну хранил черный и тихий корпус железнодорожных мастерских, так жутко, угрожающе темневший за окном?
Ночью отец разбудил меня. Шепот его был лихорадочно-торопливым, возбужденным, словно отец хотел поскорее поделиться со мной какой-то важной новостью.
— Встань, Ёра, — быстро шептал он. — Встань. Обними меня.
Я ничего не понимал спросонья, испуганно и инстинктивно обхватил крепкую шею отца, прижался к нему всем согревшимся во сне телом.
— Пойдем скорей, я покажу тебе кое-что, — прошептал отец.
Я задрожал и крепче прижался к нему. Он поднял меня и вынес на веранду.
— Гляди, — прошептал он.
Ничего не понимая, я повернул голову туда, куда показывал отец. Я чуть не вскрикнул от изумления. Прямо перед нами, на горе, по ту сторону вонючей и грязной речки, которую я еще днем заприметил, пылал огнями огромный город. Никогда в степи я не видел столько огней. Они дрожали, переливались и точно сбегали вниз в глубокую балку — желтые, голубоватые, крупные и мелкие, как светящийся бисер.
— Эка, горит как! — восхищенно шепнул отец. — Город-то! Сколько огней, сколько огней!
Меня бил озноб смутного волнения. Огни, казалось, о чем-то таинственно перемигивались, рассказывая о непонятной мне загадочной жизни.
А внизу, прямо за забором, грозно чернел главный цех мастерских, он был по-прежнему тих и черен, как сажа. Мне вдруг подумалось, что это лежит, притаился огромный, сказочный великан, готовый каждую минуту заворошиться, вскочить и кинуться на город, сломать его вместе с огнями.
Там, где стояли мы с отцом, всюду было темно, лишь кое-где тускло мерцали одинокие керосиновые и газовые фонари. По ту сторону речки громоздились высокие дома, полыхал свет, а по эту — ютились низкие, закоптелые, точно налепленные друг на друга домишки, кривые горбатые переулки, чахлые деревья…
И опять мир показался мне разделенным надвое… Словно желая умерить мое волнение и суля какое-то еще невиданное мной в городе чудо, отец произнес странным дрожащим шепотом:
— Ничего, сынок… Ничего… Придет время… Придет. Все будет наше… Все…
Я ничего не понимал и только крепче прижимался к его теплой и сильной груди…
Случай с кошельком
К этому времени я окончательно подружился с Ёськой Соболевским, красивым кареглазым парнишкой, моим ровесником. Насмешливый рыжий подросток Дёмка был намного старше меня и уже водил дружбу со взрослыми ребятами.
Ёська — смирный и тихий мальчик, медлительный и задумчивый. Он был круглым сиротой и жил у Ивана Фотиевича на положении батрачонка. Но одевали его опрятно и поначалу, по-видимому, не особенно неволили работой. В первые годы нашей дружбы у Ёськи было много свободного времени, мы бегали с ним по степи и играли досыта.
Ёська очень нравился мне, потому что разделял со мной все мои увлечения. А увлечений этих было немало: то мы изображали охотников, то лепили из глины паровозы и вагоны, причем первая роль принадлежала мне, как человеку, уже побывавшему на железной дороге, то возили по токам мою молотилку и «молотили» тавричанам хлеб.
Как и всех мальчишек нашего возраста, нас увлекла техника. Я рассказывал о том, что видел в городе, и, как водится, многое приукрашивал, выдумывал и сочинял. Мы просто бредили паровозами, трамваями и другими машинами. А после того как Ёська побывал с дядькой Иваном Фотиевичем в Таганроге, куда хуторяне возили хлеб на ссыпку, между мной и Ёськой завязалось подлинное соперничество — кто больше увидел и узнал в городе.
Здесь Ёська вскоре перещеголял меня: путь тавричанских обозов с пшеницей лежал в Таганрог мимо металлургического завода с доменными печами, подвесными вагонетками, подъемными кранами, заводской узкоколейкой, маленькими паровозиками и вагонетками-дековильками. Ёська поразил меня рассказами о величине завода, о всех диковинках, которые довелось ему увидеть, проезжая мимо на бричке с мешками хлеба.
Я мог на это ответить только повторением рассказа Шурши о юзовском заводе, о том, как в жерло домны бросили мастера бельгийца. Но Ёська все-таки доконал меня уверениями, что сам, собственными глазами, видел на шляху повозку без коней, что она будто бы бежала гораздо быстрее, чем пассажирский поезд, и рычала так, что кони испугались и понесли. И если бы не дядько Иван, то они вместе с бричкой очутились бы в глубокой балке и наверняка побили бы лошадей и себе сломали шею.
На мой изумленный вопрос, что же это была за повозка, Ёська с таинственным победоносным видом ответил:
— Ах-та-на-биль!
С этого дня мы приделали к палкам колеса от игрушечной повозки и все дни напролет, фырча, гоняли их по степным дорогам. Моей новой навязчивой идеей было во что бы то ни стало увидеть автомобиль и, может быть, даже проехаться на нем по степи. Автомобиль я увидел очень скоро, а вот мечта проехаться на нем осуществилась только много лет спустя.
Милая, незабываемая, превращающая жизнь в мечту пора детства! Неуемная игра воображения, жажда новых открытий, когда все предстает в преувеличенно ярком заманчивом свете! Если бы люди могли сохранять эту неуемность воображения, смелый полет мечты и жажду нового до конца дней своих, то мир двигался бы по пути прогресса значительно быстрее и, может быть, достиг бы гораздо большего.
С Ёськой мы жили дружно. Хотя часто ссорились, но тут же скоро мирились. Не проходило и часа, как до моих ушей долетал его зов: «Ёрка-а-а!»
Ёська, по обыкновению, стоял на бугре и, как мельница крылом, махал рукой. Я бежал к нему стремглав, и игры возобновлялись.
Несмотря на зажиточность Ивана Фотиевича и на то, что денег у него было не меньше, чем у старосты, Ёське не покупали ни книг, ни игрушек. Тут я чувствовал себя значительно осведомленнее. Я просвещал Ёську на каждом шагу и старался делать это так же увлекательно, как Валентин Сергеевич Куприянов. И, надо сказать, Ёська признавал мой авторитет в этом полностью. Но в хитрости и некотором безобидном лукавстве, в стремлении поиграть на моей доверчивости и неискушенности в житейских делах Ёська превосходил меня.
В числе игрушек у меня был маленький детский кошелек, в котором лежали десять копеечных монет. Зачем вручили мне такой «капитал», с которым я не знал, что делать? Не задумываясь, я просто раскладывал медные монетки и вновь собирал их.
Совсем иное впечатление произвел мой кошелек на Ёську. Он как-то подозрительно долго вертел его в руках, пересчитывал монетки и вдруг (мы в это время шли в степи по дороге), резко крутнулся на одной босой ноге, ухватился за пятку, точно ее что-то укололо или ужалило, сморщился, как от сильной боли, потом взмахнул рукой и сел.
Я опустился рядом, не спуская глаз с Ёськиной пятки, забыв о кошельке. Меня занимало одно: что случилось с другом. Морщась и охая, на мой тревожный вопрос он ответил:
— Не бачишь — мабудь, укусил тарантул, а может, оса.
И, поплевывая на пятку, стал усердно растирать ее ладонью.
Потом мы встали.
— А где же портмонет? — сам же удивленно спросил Ёська, оглядываясь.
Кошелька в его руках не было.
— Я же отдал его тебе, — озабоченно сказал он.
Я стал уверять, что и не думал брать у него кошелек. Мы заспорили.
— Тогда, мабудь, мы его потеряли, — спокойно заключил Ёська.
Я испугался и, чуть не плача, стал искать кошелек. Меня страшило наказание отца. Несколько раз мы исходили дорогу взад и вперед, даже, забредали в пшеницу, думая, не отлетел ли кошелек случайно туда, когда мой приятель взмахнул рукой, почувствовав укус тарантула. Напрасно! Кошелек словно сквозь землю провалился!
Был только полдень, но Ёська почему-то заторопился домой. Он помахал мне рукой-и пошел, все время оглядываясь… Угнетенный пропажей кошелька, я тоскливо смотрел другу вслед и думал, что сказать отцу… А Ёська, отойдя шагов на пятьдесят, достал что-то из-за пазухи и, отвернувшись, нагнув голову, стал разглядывать. И тут догадка точно насквозь прожгла меня… Я заплакал и побежал домой… Я все рассказал матери. Ничего не ответив и не побранив меня, мать ушла.
Я сидел в хате и хныкал: мне было жаль не столько копеечных монет, сколько хорошенького кошелька с изображением двух ласточек на мягкой коричневой коже. А еще меня мучили подозрение и обида на Ёську.
И вдруг дверь скрипнула, вошла мать и протянула мне кошелек:
— На, держи! Да не разевай рот!
Глядя то на мать, то на кошелек, я действительно шире обыкновенного разинул рот.
— Где ты взяла его, мама? — спросил я, пересчитав все монетки. Они были целы — все десять штук.
— Да где же… У Ёськи твоего. Я пришла к Соболевским, а Ёська сидит на завалинке и усмехается. Отдай, говорю, кошелек. Он тут же отдал, покраснел, как мак, и говорит: «Я пошутковал». Вот, поди узнай, как он пошутковал…
Я так и не спросил Ёську, зачем он это сделал. О кошельке ни я, ни он больше не заговаривали, и дружба наша ничем после этого не нарушалась. Но играть монетками я перестал и вскоре совсем забросил кошелек. И до сих пор вид денег в руках детей вызывает у меня неприятное чувство. Я убежден: деньги — плохая игрушка для детей…
Знойный день
Остро жгучий, знойный августовский день. В побелевшем небе — ни облачка. Дождя давно не было. В раскаленном воздухе — испепеляющая сухость. Над степными дорогами после проехавшей арбы или брички долго висит душная бледная пыль. В пожухлой траве и на жнивье на невидимых точилах точат свои маленькие ножи кузнечики. Скучные поскрипывающие звуки «вжи-вжи-вжи» как бы сливаются с ощущением нестерпимого зноя.
Хлеб давно скошен, копны свезены в скирды, поля пустынны. На тавричанских токах гулко бьют о землю тяжелые каменные катки, а на току Ивана Фотиевича однообразно гудит, глотая валки хлеба, паровая молотилка.
Зной, скука… От солнца нет спасения. В тени за хатами в золе купаются сонные куры. Я подбегаю к нашей осевшей в землю мазанке. Окна наглухо закрыты дощатыми ставнями, их наискось пересекают железные пруты. Я убежал с Ёськой из дому еще утром и не без опаски подхожу к двери. Я побаиваюсь отца — он в саду на пасеке и, наверное, бранит меня на все корки за то, что я, бездельничая, шляюсь по степи.
Мне хочется есть. Только бы перехватить у матери кусок хлеба — и снова махнуть к пастухам. Но что это? Глухой, надрывный стон словно вытекает из-под ставней. Я замираю, прислушиваюсь. Стон, жалобный, натужный, мучительный, повторяется. Теперь явственно слышу — это стонет мать. Меня пригвождает к земле ужас. Я стою некоторое время у закрытого окна с неистово бьющимся сердцем. Тишина. В ушах тягучий звон. И только бьют о землю катки на току. Стона не слышно. Может быть, он мне только почудился?
Я подбегаю к двери. На скобе висит большой замок. Это вселяет в меня еще больший страх. Наша мазанка никогда на замок не запиралась. Ее запирали только, если отец и мать уходили куда-нибудь очень далеко. Новая паническая тревога наваливается на меня.
Я обегаю несколько раз мазанку. За глухой стеной непролазные заросли дикой конопли. Все те же куры роются в золе, которую много лет высыпала сюда мать. И опять я слышу стон, на этот раз отчетливый и громкий. Я вскакиваю на завалинку и зову мать, стучу кулаком в ставню. В ответ — ни звука. И вдруг вместе со стоном различаю протяжное, глухое:
— Иди-и, сынок… погуляй… Иди-и… И не приходи до вечера… Отец скоро… скоро… У-у-у!
Я что было духу побежал в сад, но ни на пасеке, ни на огороде отца не оказалось. Только скучно жужжали пчелы да где-то среди яблонь переговаривались арендаторы…
Так в недоумении и тревоге я то подбегал к хате, замирая и прислушиваясь, не раздастся ли снова болезненный стон, то напрасно искал в саду отца. Наконец выбрался на проселочную дорогу и там, сев у обочины на курганчике, под жгучим солнцем предался горьким размышлениям. Почему мать отослала меня гулять и, если она заболела, то почему отец запер ее на замок, а сам ушел неизвестно куда? И что за болезнь у матери, и почему она не хочет, чтобы я пришел ей на помощь?
Не помню, сколько я просидел, как вдруг услыхал мягкий стук колес и увидел быстро едущую по пыльной дороге линейку, а на ней отца, подхлестывающего коня, и маленькую загорелую до черноты старушку.
Линейка подкатила ближе. Я подбежал к дороге. Отец меня увидел, но линейку не остановил и, взмахнув кнутом, словно пригрозив мне, подстегнул взмыленного мерина.
— Домой пока не ходи! Иди в сад — присматривай за пасекой! — строго крикнул он мне.
Слова отца были для меня новой загадкой. Недоумевая, я побрел в сад. Там у старой жерделы под дощатым навесом я просидел до вечера, изнывая от тоски, тревоги и голода. Мне все время казалось, что я слышу стоны матери, незнакомо-строгое приказание отца никуда не уходить с пасеки. Какая-то тайна словно сковала все вокруг, весь этот скучный, безотрадно-знойный день… Я чувствовал себя заброшенным и несчастным. И вдруг мне стало до слез жаль мать, представилось, что когда я приду домой, то ее уже не будет в живых и закопают ее у опушки сада так же, как закопали когда-то моих братьев и сестрицу. Я припал лицом к притоптанной сухой и теплой земле и не заметил, как задремал. Очнулся от твердых шагов отца.
Солнце уже зашло, земля остывала, сад окутывали сумерки. Отец приподнял меня за плечи и весело проговорил:
— Вставай, сынок, идем домой. Теперь тебе не будет скучно — у тебя есть сестра…
Я не понял. Отец потрепал меня по голове, повторил:
— Сестра, говорю, тебе нашлась, дурачок. Веселей будет…
И засмеялся странно — не то стыдливо, не то виновато.
В мазанке нашей светила лампа, было очень душно от пара, поднимавшегося от стоявшего прямо на глиняном полу деревянного корыта. Мать лежала на кровати, бледная, осунувшаяся, накрытая стареньким лоскутным одеялом. Возле кровати горбилась низенькая кругленькая, как колобок, старушка, которую я видел на подводе, — бабка Горлина, повитуха — и раскачивала на руках сверток, затянутый крест-накрест свивальником.
— Ну, Ёрка, подывысь на свою сестричку, — скрипучим добрым голосом проговорила бабка и поднесла к моему носу сверток. В нем что-то шевелилось и смешно кувекало. Я мельком враждебно взглянул на завернутое в чистое тряпье чужое мне существо, розовое, зевающее крошечным беззубым ротиком, и отвернулся, подумав с презрением: «И это моя сестра!»
Так открылась тайна этого беспокойного дня.
Забот у меня теперь прибавилось. Я должен был нянчить сестру, укачивать ее в подвешенной к потолку зыбке, или, как ее называли у нас на хуторе, «колыске», совать в рот сестре резиновую соску, а иногда и «жевку» — завернутый в тряпицу жеваный хлеб.
Пока мать занималась домашней работой, я часами носил сестру на руках, возил в самодельной колясочке, баюкал, развлекал как мог, а сам с тоской и завистью поглядывал на бугор, откуда манил меня настойчивым призывом Ёська.
Сладостная воля для меня кончилась, и то время, когда я работал с отцом на пасеке, мог отпроситься у него и убежать к друзьям, казалось мне невозвратимым блаженством.
Сестрицу свозили в станицу, окрестили, назвали Еленой. У нее были мутные глазки и вздернутый носик. Она все время плакала. Бабка Горпина, которая все еще жила у нас, уверяла, что у сестрицы болезнь «сонячницы», то есть рези в животике. Но я думал совсем другое.
Маленькая Леночка казалась мне жестокой тиранкой, капризной, своенравной крикуньей. Она как будто понимала мои мучения и нарочно терзала меня своим криком. Я часто шлепал ее, а иногда и щипал, горя несправедливой злостью. И все же, по мере того как она подрастала, я привязывался к ней все больше и наконец, когда она впервые улыбнулась мне, полюбил со всей силой братского чувства… Можно сказать, я вынянчил сестру на своих руках. Осенью отец съездил в Ростов и привез новость: хозяин разрешил нам поселиться на кухне сильно обветшалого адабашевского дома. Мазанка наша покривилась, стала совсем разваливаться, камышовая крыша прогнила. Надвигалась унылая степная зима, деваться было некуда, и мы переселились в хозяйский дом. Как потом стало известно, молодой Адабашев согласился на такую милость с условием, чтобы отец охранял дом, а тем временем подыскивал себе новую работу и был готов при первом же известии о продаже дома выселиться из него.
Но, по-видимому, кутежи и новые финансовые прожекты, в которые пустился Иван Маркович, замедлили продажу оставшегося недвижимого имущества. Развалившиеся, растащенные наполовину хуторянами постройки — кузни, сараи, конюшни, птичники, амбары и торчавший на самом бугре, как могильный камень, серый неприветливый дом, — видимо, не привлекали покупателей, а возможно, Иван Маркович за новыми делами совсем забыл о них.
Так или иначе мы прожили в доме еще четыре года. За это время, как стало известно потом, в жизни молодого Адабашева произошли большие изменения. Он связался с темными дельцами, вложил оставшийся капитал в какое-то сомнительное предприятие, прогорел и — было слышно — тронулся умом, долго лечился за границей, вернулся в свой родной город Нахичевань больной, притихший, окончательно растерявший былую, гремевшую на всю приазовскую степь славу отца.
Судьба адабашевской экономии завершилась, подобно судьбе многих пореформенных, рушившихся под натиском новой буржуазной стихии землевладельческих имений. Их по Приазовью было немало. Они еще жили в моей памяти, все эти Карташовы, Ласкановы, Валуевы, Кирпичовы, Компаницкие, Мержановы, Манучкины, Адабашевы, не считая крупнейших дворянских поместий, вроде огромных владений Иловайских, Кутейниковых, Мартыновых и многих других, распылившихся и исчезнувших еще в конце прошлого века. Богатые экономии таяли, как степные миражи, и на месте их оставались только пустыри да развалины. Этот распад ускорился с началом столыпинской реформы и дроблением бывших общинных владений на кулацкие отрубные хозяйства… Новый степной хозяин алчно присасывался к земле и, питаясь батрацким потом, набирал силу, чтобы потом через десятилетие с боем уступить место беднейшему и среднему крестьянству, новому, колхозному строю…
Дядя Иван
Из событий последней поры пребывания на хуторе запомнились мне приезд к нам дяди Ивана, ссора его с отцом из-за религии, нашествие холеры и тяжелая болезнь отца, чуть не закончившаяся для нашей семьи трагически.
С распадом экономии отцу стала неясна его роль здесь, в характере его появилась какая-то трещина. Он как будто махнул на все рукой, чаще стал участвовать в осенних и зимних попойках хуторян. Происходило это, по-видимому, от отчаяния, оттого, что по-прежнему не мог он в полную силу приложить к делу свои руки. На беду, два года подряд были засушливыми, для пчел безвзяточными и очень тяжелыми. Отец вынужден был продать половину пчелиных семей и всю осень и зиму плотничал у хуторян.
Нужда глодала нашу семью, как голодная собака кость. Надежды на устройство собственного угла и какого-нибудь своего хозяйства окончательно угасли. Оставалось одно — продать пасеку и идти куда-нибудь на заработки. Особенно тяготило отца ожидание распоряжения хозяина о нашем выселении из дома, которое могло прийти в любой день зимы.
И вот тут, в нехорошее время, к нам приехал дядя Иван. Братья приезжали к отцу и раньше, хотя и не так часто. Их приезд всегда сопровождался большой радостью и весельем.
Низкорослый, щуплый, с выпирающими вперед зубами, болезненный с виду дядя Игнат своей бойкой орловской скороговоркой вносил в нашу семью оживление и всегда заражал отца каким-нибудь новым неосуществимым прожектом, который, по его мнению, мог раз и навсегда прикончить нужду. То он предлагал участие в какой-то денежной лотерее, будто бы сулившей громадный выигрыш, то советовал развести под Ростовом какой-то сад и сбывать фрукты на базар, то разводить кур и гусей.
Направление его ума определялось близостью делового торгового центра и занятием жены. Железнодорожная будка, в которой дядя Игнат служил путевым сторожем, стояла в четырех верстах от Ростова. Жена его, бойкая практичная казачка, торговала на базаре разной молочной снедью и выращиваемыми летом и осенью редисом, луком и прочей огородной зеленью.
К сожалению, ни один прожект, предложенный дядей Игнатом, не увенчался для отца успехом. Он пробовал возить в город огурцы, и помидоры, и яйца, но почему-то выручка никогда не окупала расходов. Объяснялось это, может быть, совершенной непрактичностью отца в торговых делах. Единственное, что было ему по душе, — это продавать мед, чистейший, без всякой примеси, на лакомство людям, но это случалось не всегда — только во взяточные годы.
Соблазнившись посулами дяди Игната, отец приобрел и два билета денежной лотереи, кажется, стоимостью в пятьдесят копеек каждый. Но никаких десяти тысяч рублей не выиграл, билеты так и пролежали в сундуке до самой Октябрьской революции, пока их не выбросили с прочим ненужным хламом.
Совсем иного склада был дядя Иван. Он был такой же балагур и весельчак, но с неодобрением относился к мелкотравчатым рыночным устремлениям Игната и к беспросветной батрачьей службе отца у хозяина. Дядя Иван в отличие от своих братьев был рыхлый, грузноватый, с большущей, во всю голову, бледной лысиной. От его всегда засаленного пиджака пахло коровником и еще чем-то острым, что я воспринимал как запах железной дороги — это был, вероятно, запах вещества, которым пропитываются шпалы, чтобы предохранить их от гниения.
Дядя Иван отлично исполнял обязанности путевого сторожа, слыл аккуратным службистом, но все время мечтал подкопить деньжонок, уйти с железной дороги, уехать на родину, в Орловщину, и там заняться крестьянским хозяйством.
Отец был раздражен неудачами на пасеке, бесцельностью пребывания на хуторе и встретил брата невесело. Озабоченным чем-то казался и дядя Иван. Братья, как всегда, обнялись и расцеловались, но веселух шуток и прибауток не получилось. Было позднее осеннее время. По опустевшему хутору носился холодный, уныло посвистывающий ветер. Адабашевское поместье и сад выглядели особенно неприветливо и пустынно.
Дядя Иван высыпал на стол гостинцы — орехи и леденцы, выглянул в окно кухни хозяйского дома, где мы недавно поселились, и покачал головой:
— Ну и глушь тут у вас. У нас на будке и то веселей.
Мать тотчас же стала жаловаться:
— Говорю ему: поступай опять на железную дорогу, так нет — прилип к этому хутору, как банный лист.
Отец нахмурился, сердито оборвал ее:
— Ну, завела опять свою музыку. Так тебя сразу и посадят на будку — приготовили особенную для тебя. Там и без нас сидят уже. Ты, брат, подожди, а я сбегаю к хохлам за водкой. Разопьем бутылочку.
К всеобщему удивлению, дядя Иван, любивший в прежние свои приезды выпить под веселые разговоры рюмочку, и не одну, запротестовал:
— Нет, братец, не хлопочи. Пить я не буду. Нам запрещено.
— Кто же тебе запретил? Начальство, что ли? — засмеялся отец.
— Не начальство, а вера. Наша вера запрещает пить, Филя, — смутившись и поглаживая широкую каштановую бороду, сказал дядя Иван.
— Это с какой же поры? Чай, вера у нас с тобой одинаковая…
— Нет, Филя, — как-то нерешительно заявил Иван, — была одинаковая, а теперь нет.
Отец с недоумением взглянул на брата:
— Ты шутишь или бредишь?
— Нет, не шучу, братец, и не больной я, чтобы бредить. А перешел я в другую веру — это истинно.
Отец ошеломленно смотрел на Ивана и вдруг крикнул:
— Да ты сдурел, что ли, аль ополоумел?! В какую же ты веру перешел?
— В баптистскую. Я и моя жена, Марья Константиновна.
Мать испуганно закрестилась:
— Господи, помилуй. Сколько годов жили в одной вере, а теперь и веру стали менять…
Тут начались крики, спор. Братья заспорили о том, какая вера лучше и правильнее, нужны ли господу-богу иконы и церковная роскошь или не нужны. Теперь я мог бы назвать этот спор ненужным и бесплодным, он уводил братьев далеко от истины, да к тому же ни отец, ни дядя Иван ничего не смыслили в богословии. Отец, кажется, очень убежденно отрицал всякие ритуалы и священнослужителей.
— Ничего этого не нужно! Все прах! И человек — прах, и церкви — прах! — запальчиво выкрикивал он, но тут же делал уступку религии: — Но бога помнить надо, и, чтобы о нем не забывать, нужны иконы только одного спасителя и божьей матери, а всяких святых выбросить! Все попы и монахи — блудники, пьяницы и картежники. А святые угодники — чепуха! Они были еще грешнее нас с тобой, Иван! Как же их можно почитать?
— Иконы — те же идолы, — с неменьшим запалом возражал дядя Иван. — Ты поклоняешься идолам, ибо сказано в писании: «Не сотвори себе кумира и всякого подобия». Мы почитаем только святое евангелие…
— Вишь, какую веру придумали — сами в будке собираться! Иконы не признавать! — негодовал отец. — Сотни лет предки наши в этой вере жили, а ты сменил на новую. Бесстыдник, темный ты человек! Нет, ты найди такую веру, чтоб нужду поправить, чтоб человеку лучше жилось, тогда я тебе скажу спасибо!
— А где такая вера, Филя? Где? Люди потеряли настоящую веру, — с гневной скорбью говорил дядя Иван.
— Есть такая вера настоящая, только не божеская, а людская! Есть люди, что о нашей нужде думают. Они нам и покажут правильный путь, как жить! — кричал отец.
До самой ночи спорили братья и, кажется, совсем запутались, так и не пришли к согласию. Незаметно с веры перешли на личные упреки. Отец, и без того подавленный недостатками, стоявший перед возможностью оказаться без работы на старости лет, обругал дядю Ивана за гордость, за лицемерное святошество; дядя тоже не остался в долгу, хотя и старался сохранить смирение и кротость, проповедываемые баптистами.
Утром дядя Иван ушел. Расстались братья очень холодно. Обычно в таких случаях отец просил у Ивана Фотиевича подводу и отвозил брата на станцию, а в этот приезд даже не проводил его, и дядя Иван отправился пешком.
Помнится, было очень морозно, пошел первый снег, в степи было серо, тоскливо и бесприютно. Мне было очень жаль дядю Ивана, который ушел в холодную, метельную степь один. Мне думалось, что он замерзнет в пути или на него нападут волки и съедят, как съели когда-то женщину, о которой рассказывали отцу охотники. Мать плакала и сердилась на отца, но не одобряла и поступка Ивана.
Я вышел во двор и долго слонялся вокруг дома один-одинешенек. Ёську отправили в соседнюю украинскую слободу к родичам, а сестрица Леночка была еще очень мала, чтобы делить со мной грустные мысли.
Степные грозы
Следующее лето было урожайным. Пчелы работали хорошо. Отец и мать повеселели. От продажи меда у нас появились деньги; отец отсадил в новые ульи несколько роев. Наша пасека вновь поправилась. На какое-то время забылось и то, что мы живем в хозяйском доме и нас могут выгнать даже не на улицу, а без лишних разговоров просто на дорогу в степь.
И тем не менее первая половина лета была столь же счастливой и радостной, сколь горестной была вторая. Я не обращал внимания на опасения отца и матери. Опустевший адабашевский хутор открывал мне новые прелести. Особенно нравились мне хозяйский дом и окружающий его палисадник.
Старая завалюшка-мазанка ютилась в лощине, точно в яме, у крутого спуска в овраг; оттуда не было видно ни степного простора, ни сада, ни окрестных курганов. Хозяйский дом стоял на высоком бугре. Из его окон и с обеих веранд, южной и северной, открывался широкий вид на адабашевский сад, на оба тавричанских хутора, на все проселочные дороги и синие дали.
Дом плотным зеленым кушаком опоясывала сирень; у обеих веранд высились могучие старые тополи, в летние ночи они мечтательно шептались листвой.
Весной отец вновь разбил с южной стороны палисадника клумбу, посеял любимый им портулак, львиный зев, вербену, посадил розы, починил изгородь. До этого сквозь проломы ее вот уже несколько лет лазали, протаптывая дорожки и подрывая сиреневые кусты, громадные тавричанские свиньи.
Все свободное время я играл в палисаднике, в кустах сирени, возле клумбы, а когда хотел, бежал в сад, одичавший, заросший ежевикой, пасленом, хмелем и болиголовом, отчего он нравился мне еще больше.
Мы ютились в маленькой кухне. Остальные пять комнат хозяин занимать не разрешил, но двери всюду были не заперты, и я мог бегать по всему дому. Я чувствовал себя в нем неограниченным властелином. Мебели в комнатах не было никакой; голоса и шаги громко отдавались в тишине. Мне это очень нравилось. Я часто выкрикивал какое-нибудь слово, удивленно прислушиваясь к катившемуся по всему дому эху.
В летнюю пору в окна заглядывали ветки дикого винограда, густо оплетавшие весь дом и южную веранду, а по вечерам комнаты наполнялись струившимся от клумбы ароматом вербены и ночной фиалки-душицы. В зной все окна пустых комнат наглухо запирались изнутри ставнями, и тогда в них стоял прохладный таинственный полумрак.
А в сильную грозу по ночам дом, как огромный ящик, по которому с силой колотили палкой, страшно грохотал от ударов грома. Щели в ставнях процеживали ослепительный блеск молний, и комнаты то и дело вспыхивали ярким пламенем. Спрятаться от молний было некуда, разве что укрыться с головой одеялом. Дом вбирал и усиливал во сто крат треск грома и шум ливня так же, как усиливает звуки мощный резонатор.
Огневые грозы тем летом были часты, и дом словно откликался на них то гневно, то ликующе, и я впервые за свою малую жизнь понял, что такое настоящие степные грозы.
Как-то в июле отец с утра уехал вместе с Карпо Никитовичем Панченко, братом старосты, в казачий хутор. Карпо Никитович был смирный, тихонравный дядька, помогавший отцу из бескорыстных добрососедских побуждений. У него были давние нелады с братом из-за какого-то имущества, хозяйство его было значительно слабее хозяйства Петра Никитовича. Я еще не знал тогда, что внешне дружная жизнь отрубщиков-тавричан раздиралась такими же глубокими, как и всюду, противоречиями.
В тот день с утра сильно парило. Воздух был недвижим, в знойной истоме перекипало марево. По степи, по дорогам словно разлилась бледно-голубая вода. При приближении к ней она таяла, точно уплывала в землю, а впереди возникали новые стеклянные озера и реки. Зреющая густая пшеница поникла бронзовыми колосьями, от нее, как от горячего, только что испеченного каравая, исходил теплый хлебный запах.
Пасека наша — все сорок ульев — стояла теперь у самого дома. Пчелы, отягченные взятком, летели со степи клубами. Отец велел мне никуда не отлучаться, чтобы не прозевать какого-нибудь шального, запоздалого роя, и я томился под камышовым навесиком от скуки, прислушиваясь к ровному пчелиному гудению. Иногда мне казалось: шальной рой все-таки вышел — так густо клубились пчелы. Но роение, видимо, кончилось, лишних маток в ульях благодаря бдительности отца не осталось, и маленькие крылатые труженицы были заняты только работой.
После полудня у далекого, перекипающего в мареве устья балки завиднелось маленькое белое, подсиненное снизу облако. Оно стало заметно расти, набухать, темнеть. Передний серебристый край его, похожи, на накатывающийся морской вал, навис над землей, растягивался в ширину; под ним обозначалась сине-черная стена, изредка прорезываемая сверху донизу отвесными и прямыми, как сияющие иглы, молниями. Стали доносится глухие, словно подземные, удары — все чаще, все слышнее.
Я тогда целиком находился под впечатлением «Атмосферы» Фламмариона, и созерцание надвигающейся грозы всегда вызывало во мне какой-то особенный трепет, восхищение и удивление, смешанные с затаенным и сладким замиранием сердца. Это чувство нельзя было назвать страхом, это было какое-то боязливое преклонение перед величием грозных сил природы.
Пожалуй, нигде, ни в каком другом месте, приближение сильной грозы нельзя наблюдать так широко, так вольно, во всей могучей красе, как в открытой степи.
Грозы в горах потрясают своей мощью, но они обрушиваются сразу, без всякой подготовки, и уходят так же внезапно, как и возникают. Страшны грозы над лесом, они оглушают многократно усиливающимся эхом. Величественное и какое-то космическое слияние полыхающего неба и водных просторов, особенно ночью, представляют собой грозы над морем. Но нигде гроза не сопровождается таким предшествующим ей обилием и разнообразием звуков, цветов, запахов, сменой света и теней, изменением в поведении всякой степной твари — маленьких зверушек, птиц, насекомых, — как в открытой южной степи…
Пожалуй, никогда мне не удавалось так подолгу любоваться надвигающейся грозой и отдаваться этому всей душой, как в детстве. Какими дивными, угрожающе-загадочными казались мне черные глубины грозовых облаков, какой непостижимой представлялась жуткая тишина перед тем, как обрушиться ливню, молниям и грому! Как все затихает тогда в поле — ни один кузнечик не застрекочет, ни один суслик не выглянет из своей норы, ни одна птичка не пискнет, ни одна травинка не шелохнется; кажется, степь притаилась и ждет той секунды, когда разверзнутся небесные хляби, когда мгновенно озарит ее молния и оглушительно грянет первый сильный удар грома…
…Я сидел на краю оврага и смотрел на медленно и низко плывущую над пожелтевшими хлебами черную с густо-синим отливом тучу. Земля под ней была совсем темной, словно там уже опустилась ночь. Что-то зловещее таилось в этой черноте. Промежутки между белыми вспышками и громом сокращались с каждой минутой.
С веранды меня окликнула мать. Тревожно поглядывая на тучу, она спросила, не видно ли на дороге, ведущей в казачий хутор, тачанки с отцом и Карпо Никитовичем. Ведь уже время им возвращаться. Я ответил, что ничего не видно, и тут же заметил: пчелы, нагруженные медом, летели к ульям большими массами. Под тяжестью ноши, с отвисающими брюшками, они падали, не долетев до летка, на землю и быстро ползли к улью. В полете возвращающихся со взятком пчел была заметна необычайная торопливость. И в то же время обратного полета их за взятком в степь не наблюдалось: по-видимому, и пчелы чуяли приближение грозы.
Между тем край тучи уже закрыл солнце. Степь потемнела и притаилась. И землю объяла такая тишина, что было слышно хлопанье двери где-то на дальнем краю хутора. Казалось, в приближении грозы наступил какой-то перерыв, передышка перед новым взрывом. Темная, теперь уже с коричневым оттенком, лохматая туча надвигалась в полном безмолвии. Ее передний, волнистый, низко свисающий над степью край уже дотянулся до скрытого за дальними курганами Азовского моря. Там светлела узкая солнечная полоска. Стало очень душно.
Мы с матерью ходили по пасеке и приглядывались, нет ли очень низко стоящих ульев, которые могло затопить или бурей сорвать крышки. Мать подсовывала под некоторые ульи кирпичи, накладывала на крышки камни, все время поглядывала то на клубящийся навес тучи, то на дорогу.
— Ох, какое светопреставление заходит, а наших все нету…
Тревога объяла хутор. Хлопали ставни, мычал загоняемый в базы скот, кудахтали куры. Внизу, от самого оврага до горизонта, насколько хватал глаз, простиралась толока, на ней пасся табун лошадей. Табунщики в рваных заплатанных рубахах, похлопывая батогами и все время оглядываясь в ту сторону, откуда приближалась мутная стена ливня, стали подгонять лошадей к хутору. Но Иван Фотиевич Соболевский как раз в это время вышел на бугор, увидел табунщиков и закричал сиплым залихватским басом:
— Эй, вы! Куда гоните?! Повертайте назад. Зараз повертайте, бисовы души! Грому злякались, чи що? Вот я вам задам! Пасите коней, иначе я с вас шкуру спустю. Да усих коней спутайте, щоб не разбиглысь!
Табунщики, испугавшись хозяйского окрика, остановили лошадей, погнали назад, на толоку. Серые фигурки людей в открытой нахмурившейся степи перед надвигающейся грозой выглядели особенно жалкими и маленькими.
Мать осуждающе покачала головой:
— Ох, Иван Фотиевич, какой же он губитель — ни людей, ни скотину не жалеет.
— Мам, а куда денутся пастухи? — спросил я. — А если в них стрела ударит?
— Да вот так и будут мокнуть под дождем. Подневольные они, сынок.
«Подневольный» — сколько раз я слышал на хуторе это слово! Подневольными были работники и пастухи у тавричан, подневольными были отец и мать у Адабашева. Так и повелось в степи с незапамятных времен, и отец и мать произносили это слово с грустной покорностью.
И только однажды я услыхал, как пастух Дёмка, сплюнув, сказал:
— Вот куркули трекляти. Гоняю телят уже другий год, а ни один хозяин чоботы мини не купе. Ух, и жадюги!
Наблюдая, как табунщики в рваных штанах, хлопая арапниками, бегали по толоке, отгоняя от хутора лошадей, я почему-то вспомнил эти злые слова Дёмки.
Вдруг послышался нарастающий шум, похожий на шум вихря. Я обернулся: вал ливня уже захватил тавричанские дворы и катился прямо на наш дом и пасеку. Было видно, как струи дождя — миллиарды крупных капель — обрушивались на еще сухое пыльное пространство, секли его, словно бесчисленные кнуты, так, что внизу поднимался мельчайший водяной туман.
Мать схватила меня за руку, и мы побежали в дом. И едва успели вскочить на веранду, как ливень налетел, точно табун бешеных коней, загремел по железной крыше, заплясал, рассыпался гулко звенящими брызгами.
Мы вбежали в переднюю, где было совсем темно. Я подошел к окну и стал смотреть в палисадник, но уже ничего не видел за непроницаемо-серой стеной дождя. Она заслонила весь остальной мир. Я почему-то не думал об отце, возможно, застигнутом в степи ливнем, а все время представлял себе жалких, согнувшихся под дождем табунщиков. Вот они сидят где-нибудь в траве, сжавшись и натянув на головы холщовые рубахи, а дождь хлещет по ним, и некуда убежать от него. Нельзя оставить табун: хозяин не велел, этот добродушно-веселый, всегда улыбающийся во всю красную рожу Иван Фотиевич…
В какое-то мгновение мне показалось: вся просторная прихожая вспыхнула необыкновенно синим огнем. Я невольно отпрыгнул от окна. Потолок над нами словно треснул, раскололся вместе о железной крышей, и весь дом как-будто провалился в бездну. Я схватился за юбку матери.
— Свят, свят, свят! — после, когда отгремел удар, проговорила мать, прижав меня к себе.
И в тот же миг ливень за окном зашумел еще сильнее. Казалось, дом наш — корабль и плывет он в ревущем, плескающемся и гремящем океане.
За первым ударом последовал второй, не менее сильный. Мать все время крестилась и шептала: «Свят, свят, свят!»
Она боялась грозы — это я знал, но всегда только бледнела и отсиживалась где-нибудь в уголке, крестясь, пока не отгремят удары. Но на этот раз мать вела себя все беспокойнее, почти панически. Она вдруг вскочила и заметалась по комнате, бормоча:
— Застигло наших, застигло… Не дай бог, ударит в тачанку…
Я бегал за ней, заразившись ее страхом, хватался за юбку. А стены и крыша дома все раскалывались, отблески молний гуляли по всем комнатам. Ударяло недалеко от нас, и казалось: следующий разряд обязательно угодит в нашу трубу или в тополь.
Да, это была ужасная, еще не слыханная гроза! Удар следовал за ударом. Мы оглохли, и, когда наступала минутная тишина, в ушах тянулся тоненький звон. За окном по-прежнему стояла мутная стена.
От громового удара проснулась спавшая в колыбели Леночка.
Мать взяла ее на руки, стала укачивать. Леночка успокоилась. Мать положила ее в колыбель, и сестрица опять уснула…
Не помню, как мы с матерью вновь очутились в прихожей.
— Было шесть сильных ударов, — сказала мать. — Три или шесть — больше не бывает.
Мать, наверное, имела в виду всесильную «троицу», приложимую ко всем случаям жизни: троекратные «свят, свят, свят» и крестное знамение, троекратная молитва и заклинание…
Но не успела она докончить фразу, как дверь на веранду распахнулась, точно ее вышибли, и в переднюю ворвался, как мне почудилось, острый, кривой язык красного пламени, и я ощутил — это я отлично помню — волну горячего воздуха и какой-то неясный, как от серной спички, запах. Одновременно с этим грянул такой оглушительный удар, что мы с матерью присели на пол.
С минуту мы ничего не слышали и лишь смотрели друг на друга. Мать крестилась и шевелила бледными губами…
Это был действительно последний, самый сильный удар. Вслед за ним ливень стал ослабевать.
Дождь еще сеял, когда мать, накинув на голову мешок, выбежала из дома. Я удивился: еще минуту назад она боялась, а тут стала такой храброй…
Я выбежал вслед за ней и все понял: мать стояла на бугре и напряженно всматривалась туда, где сквозь редеющую дождевую мглу виднелась дорога. Мать надеялась увидеть на ней подъезжающую тачанку с отцом и Карло Никитовичем.
Она прижимала руки к груди и что-то шептала. Она боялась за отца. Страх этот был настолько силен, он всегда так преследовал ее, что даже обыкновенная гроза, которой мало боятся работающие в степи люди, взволновала ее. Во мне уже было достаточно здравого смысла и чуткости, и я приготовился утешать мать, но дождь прекратился, мгла рассеялась и там, где пасся табун, на черной дороге, я увидел тачанку, ту самую тачанку, на которой уехали в казачий хутор отец и Карно Никитович. Тачанка была распряжена, и в ней никого не было, я это ясно увидел, ведь до нее не было и полуверсты.
На месте табуна царила какая-то суматоха. От хутора, перекликаясь, бежали люди с лопатами и ломами. На всю степь гремел голос Ивана Фотиевича. Он бежал к толоке напрямик, через огороды. Тучную, богатырскую его фигуру сразу можно было отличить от других.
Я обернулся. Мать стояла с побелевшим лицом и ломала руки.
— Сынок, сынок, это они… наши… отец… — шевелила она серыми губами.
Она пошатнулась, у нее подломились ноги. Я вцепился в ее локоть и почувствовал, как мать оперлась на меня. Ощущение этой тяжести наполнило меня мгновенной гордостью. В эту минуту я чем-то был сильнее ее… Я все-таки был мужчиной.
— Мама, ты не плачь. Надо узнать… Зачем зря пугаться… Мамочка, не надо, — стал я ее успокаивать, а у самого в груди как будто лежал кусок льда.
Недалеко от нас с бугра сбегал работник Соболевских с лопатой в руке.
— Что там случилось? — спросила мать слабым голосом.
— Коней побило громом! — крикнул на бегу работник.
— Каких коней?
— Звистно — яких…
Тут и я сорвался с места и побежал, шлепая босыми ногами по теплым лужам. И вспомнилось мне все, о чем читал я в «Атмосфере» Фламмариона и о чем рассказывал мой учитель Куприянов…
Когда я добежал до дороги, то уже выглянуло солнце. В высокой траве, среди татарника и донника, пасся разбредшийся на целую версту табун. Трава сверкала крупными алмазными висюльками.
Тачанка стояла на дороге, упершись единственной оглоблей в жидкую черную грязь. В ней никого не было. Чуть поодаль, сгрудившись вокруг чего-то, гомонила толпа — мужики, бабы в подоткнутых юбках, ребятишки. В центре толпы торопливо рыли землю, слышалось натужное дыхание. Земля падала, тяжело шлепаясь о траву.
— Глыбже копайте, глыбже! — командовал Иван Фотиевич.
— Казали же, щоб гнать коней до дому, так заборонили. Вот и пропали кони, — пожаловался кто-то из табунщиков.
— Цыц, бисовы диточки! — гаркнул Иван Фотиевич. — Не вашего розуму дило!
Запыхавшись, в мокрой до самой груди рубашонке и штанишках (высокая трава так и хлещет по мне теплыми пахучими брызгами), подбегаю к толпе и вижу худую спину отца, наклонившегося над чем-то, и широкую — Карпо Никитовича. Кричу обрадованно:
— Папа! Папаша!
Отец оборачивается. Он бледен и весь, до самой шеи, в грязи. От мокрой его одежды схватывается парок. Солнце припекает, парит, сушит одежду. Бормочу ему что-то невнятное о том, какая страшная была гроза, как мы с матерью напугались, думая, что побило «наших», то есть отца и Карпо Никитовича.
По моим бессвязным словам отец догадывается, что нас напугал вид распряженной тачанки, и тут же велит бежать домой и сказать матери, что у них все благополучно, что побило коней из табуна, а ихних распрягли, чтобы дать передохнуть, так как дорога была очень трудная, кони измучились совсем, а сами они, отец и Карпо Никитович, скоро подъедут…
Меня раздирает любопытство. Пробираюсь сквозь людской заслон и вижу черную неглубокую яму, а рядом с ней тушу гнедой лошади с опаленной гривой и с выжженной от самой шеи до крупа, словно громадным тавром, кожей, с оскаленными и белыми, как сахар, зубами. Другая лежит поодаль, вытянув прямые, как палки, ноги, третью уже зарыли в землю, оттуда торчит ее страшная, с выпученными, фиолетовыми глазами, голова.
— Не поможет. Припозднились. Раньше надо было. Может, и отволожили бы… — слышу я позади чей-то сиплый голос.
— Громоотвод бы надо к ним приделать, тогда электричество от них скорее пошло бы в землю, — мрачно шутит кто-то, намекая на замысел отца построить на своей мазанке громоотвод.
Я бегу стремглав от страшного места.
«Табунщики хотели гнать их в хутор, а Иван Фотиевич не велел… Жадюга!» — зло думаю я и награждаю тавричанина кличкой, не менее едкой, чем та, какой окрестил его когда-то веснушчато-рыжий Дёмка…
Мать я застаю сидящей на ступеньках веранды, бледную, но успокоенную: оказывается, кто-то уже рассказал ей все и убедил, что за отца беспокоиться нечего. Мать кормит грудью маленькую несмышленую сестричку, а та теребит пухлыми ручонками воротник материной кофточки и смотрит на меня ясными глазками, еще не ведающими никаких печалей и гроз…
Яшка-зубарь
Предвестники другой, отнюдь не атмосферной, грозы пронеслись в то лето над нашим хутором.
В последние годы не раз проникали к нам слухи о том, что где-то совсем недалеко бунтуют крестьяне. Однажды я слышал, как отец говорил матери:
— Слыхать, громят мужики экономии под Екатеринославом и у нас в Расее.
«Расеей» отец всегда называл родную Орловщину. Мне эта «Расея» представлялась очень далекой страной, как будто наш степной хутор находился в другом государстве и никогда не был Россией. И мать всю жизнь тосковала не по какой-то своей губернии, а по «Расее».
Откуда взялось такое определение родных мест? Не с тех ли незапамятных времен, когда южные степи — Дикое поле, все Приазовье и Донщина — не считались Русью?
Я помню, отец и мать рассказывали в долгие зимние вечера о родимой стороне, часто вспоминали о каких-то голодных годах, о поджогах помещичьих усадеб мужиками, о деревнях, поголовно ходивших в побор на «погорелое».
Поэтому слова отца о бунте мужиков где-то на Миусе, в Екатеринославщине, нашли отзвук в моей по-детски живой душе.
В нашем, теперь уже тавричанском, хуторе слухи о бунтах и разгромах имений вызвали свой особенный отклик. У крепких хозяев-тавричан появилась подозрительность ко всем чужакам, ко всякому бродячему люду, во множестве ходившему тогда в поисках заработка.
Наши хуторяне с опаской стали нанимать в работники пришлых людей, а то и совсем отказывали им в этом. По-видимому, они боялись, что зараза погромов и восстаний коснется и их, — ведь они, отрубщики, жили куда сытнее и богаче, чем их односельчане в многолюдных тавричанских слободах, восставшие против своих помещиков.
Такие хлеборобы, как Иван Фотиевич и староста Петро Никитович, считали себя столь многоземельными, что в пору посоперничать и с некоторыми помещиками, не говоря уже о разорившемся Адабашеве. Им явно было теперь не по пути с украинской беднотой. Они начинали побаиваться своих же соплеменников-батраков не менее, чем крупные помещики — крестьян.
Прокатившаяся в девятисотые годы по Таврии волна крестьянских восстаний по-своему отозвалась и в нашем хуторе, правда, очень слабо.
В то урожайное и грозовое лето молотьба началась во второй половине июля.
Отрубщики скопом наняли в соседнем казачьем хуторе у богатого казака Рыбина паровую молотилку на весь сезон. Первый обмолот начался на току старосты Петра Никитовича.
В свободное время, когда не нужно было помогать отцу на пасеке и нянчить сестру, я убегал на ток. И теперь не могу понять, почему мне так нравилась работа парового двигателя и молотилки. Я, что называется, был влюблен в паровик, в мелодичную песню барабана, в бодрящую суету молотьбы… Часами я мог любоваться дружной работой людей.
Запыленные, загорелые парни и девчата, крепкие, голосистые, с лицами, повязанными до глаз платками, подавали с арб на полок молотилки валки пшеницы. Зубари, в мокрых от пота рубахах, подхватывали их и бросали в барабан. Молотилка захлебывалась, гул ее то и дело спадал до низкой октавы. Губастый, курчавоголовый, темноликий, как закоптелый чугунок, машинист Матвей Кузьмич кричал снизу:
— Легче! Легче! Вы! Архаровцы!
Гул, пыхтение паровика, плескание ремней, крики погонычей. Запах половы, зерна и пара…
Мечтой моей было — взобраться на полок и бросать в барабан пшеницу или стоять у паровика и давать гудок, как этому учил меня друг нашей семьи Коршунов. Но строгий и смуглокожий, как арап, машинист не подпускал меня к машине ближе чем на десять шагов. Я часто видел, как он, сидя за низким столиком у вагончика, наливал из бутылки водку в медный стаканчик, выпив, крякал от удовольствия и закусывал сухой таранью.
В эти минуты он становился добрее, а однажды, заметив меня поблизости, поманил пальцем. Я боязливо подошел. Оглядывая меня покрасневшими, мутными глазами, Матвей Кузьмич спросил скрипучим голосом:
— Чей ты, малец?
Я ответил, не называя фамилии, как это было заведено на хуторе:
— Садовника.
— А-а, знаю… Знаю твоего папашку. Ну, иди. Валяй!
Я приметил: как только хозяин молотилки сидел у вагончика и потягивал из своей бутылки, паровик начинал странно сопеть, работать натужно, точно у него не хватало сил. Молотилка то и дело срывалась и захлебывалась, а зубари кричали: «Ге-гей! Поддай!»
Петро Никитович Панченко, в поярковой, несмотря на жару, шляпе и черном жилете поверх розовой ситцевой рубахи, жирный, потный, с трудом неся свой громадный живот, подходил к машинисту, вежливо спрашивал:
— Матвей Кузьмич, що же це таке вы робыте? Паровик не тягне.
Машинист усмехался:
— Почему не тягне? А вы поменьше кидайте в барабан валки. У меня паровик восьмисильный, вам это известно? — Он наливал в свой самодельный стаканчик, успокаивал хозяина: — Ничего. Вот я поддам пару сначала себе, и паровик заработает веселей.
И, подмигнув, опрокидывал в усатый рот стаканчик.
Петро Никитович вздыхал, покачивая головой:
— Вы хочь бы зараз не пили, Матвей Кузьмич. Закончили б молотьбу — тогда…
Кончалось это всегда одинаково: паровик без присмотра машиниста начинал чихать и вдруг останавливался. Зубари ложились под молотилку, в тень, и, накрыв соломенными брилями головы, отдыхали. Молотьба не возобновлялась, пока Матвей Кузьмич с опухшими с похмелья глазами не выходил из своего вагончика и не устранял в золотниковой коробке какую-то неисправность. После этого кочегар вновь разводил пары и работа продолжалась.
Я пристраивался к возчикам соломы и, ввалившись на влекомую по земле пахучую золотистую копну, барахтаясь в ней вместе с ребятишками, переезжал на ней до ближайшей скирды.
А однажды мне все-таки посчастливилось залезть и на полок. Кто-то напялил на меня, чтобы не запорошить глаза, синие очки-консервы, и я по лесенке взобрался на самый верх. Тогда транспортеров на молотилках еще не было и снопы подавались в барабан вручную, прямо с полков, что было небезопасно. Подо мной все гудело, стучало и дрожало, и от этой дрожи немели и подкашивались ноги. Пыль, вылетавшая из барабана, першила в горле. Я испугался, думая, что зубари и меня вместе с валками пшеницы кинут в барабан. Но высокий пожилой, с костлявой и коричневой, как дубленая кожа, грудью, рыжеусый зубарь потянул меня за руку, крикнул:
— Гляди, хлопчик!
Я посмотрел вниз, в прямоугольное зевло молотилки, куда зубари, растрясая, кидали снопы. Оттуда несся теплый воющий ветер. Бичи барабана слились в одну стеклянно-прозрачную массу. Пучки пшеницы исчезали там, как в омуте. Я оглох от звенящего гула, но чувствовал себя храбрецом и даже стал бросать в барабан маленькие пучки колосьев. Это продолжалось недолго: я зазевался и чуть не угодил в барабан вместе со снопом пшеницы. Рыжий зубарь вовремя подхватил меня, оттащил в сторону от приемника и, крепко ругнувшись, прогнал вниз.
— Иди-ка ты, хлопчик, и более не суйся сюды — не годишься ты еще в зубари, — веско посоветовал он мне.
Тоненько, призывно затутукал на паровике свисток — оповестил час обеда. Зубари быстро расположились вокруг ведерка с кулешом, застучали деревянными ложками.
Староста Петро Никитович важно расхаживал тут же, поглядывая на солнце. Казалось, он сожалел, что драгоценное время уходит на такое пустое занятие, как обед, в то время когда арбы стоят в ожидании, чтобы везти мешки с зерном в город на ссыпку.
Вдруг рыжеусый зубарь с сердцем отбросил ложку, вскочил, крикнул с ожесточением:
— Эй ты, хозяин! Чучела толстопузая! Когда ты будешь кормить нас чистым пшеном, а не свечкой вместо свиного сала?
— Що? Що таке?! — подходя к обедающим, спросил староста.
— А «таке»! — передразнил рыжий зубарь. — Сволочь ты! Оглоед! Когда ты перестанешь жадничать и кормить поденщиков гнилым пшеном? Подавись ты, кровосос, своим харчем!
По группам обедающих батраков точно пробежала искра. Некоторые также побросали ложки, загомонили:
— Правильно! Обрыдло! Каждый день кондер да еще из прелого пшена. А мяса не дают. Не будемо исты! И робыть не будемо!
— Хлопцы, хлопцы, та подождите… Що вы таке кажете? — поначалу смиренно воздел руки Петро Никитович, останавливаясь возле группы зубарей. — Та яке ж це прелое пшено? Только вчера я сам привез из слободы. И кондер гарный. И сало. Я ж его сам куштував. И каша гарна. Вы лучше раскуштуйте, хлопцы!
— Не будем куштувать! Надоело! — зыкнул рыжий зубарь и вдруг изо всей силы ударил ногой по ведру с кулешом. Ведро со звоном покатилось прямо под ноги Петру Никитовичу, расплескивая синевато-мутную постную жижицу.
— Сам жри, гад, эти помои! Робята! Айда под скирду! — Зубарь-русак махнул рукой в сторону от молотилки. И обернувшись к старосте: — Вот что, чучела, до тех пор пока твои стряпухи не сварят нам хороший обед с мясом, на полок мы не полезем и молотить не будем. Слышишь аль нет?
Петро Никитович внезапно вспылил, подскочил к зубарю, поднес к его красному, в рыжей, давно небритой щетине, прокаленному солнцем лицу округлый, как обушок, кулак, стал грозить:
— Ты, Яшка-кацап, сучий сын, не бунтуй моих хлопцев! Не хочешь робыть — геть с току пид три черта! Я зараз же поеду к уряднику и таких, як ты, живо зануздаем! А вы, хлопцы, живей полуднуйте и — на молотилку. Сонечко, бачите, где, а машина стоит — даром пары грие!
Большинство батраков настороженно и враждебно слушали хозяина и не выражали готовности выполнять его приказание.
— Голодные мы робыть не будем. Яшка-зубарь правду каже, — послышались угрюмые, раздраженные голоса.
За рыжим Яшкой в тень под ближайшую скирду потянулось десятка полтора пришлых из дальних губерний рабочих. Среди них были и безземельные, весь век работавшие по чужим дворам тавричане.
Кто-то крикнул:
— Ты нас сперва нагодуй, а потом пытай с нас работу!
Петро Никитович рассвирепел еще больше, затряс пузом, завопил:
— Ах, кляп вам в дыхало! Як же вас еще годувать? Ну подождите — я вас нагодую!
Обливаясь потом, он грузно зашагал с тока во двор. Не успели батраки обсудить угрозу хозяина, как со двора его на дорогу выметнулась запряженная отборной парой линейка и помчалась прямиком на казачий хутор. На линейке глыбой развалился староста. Такой же толстый, как хозяин, флегматичный дворовый работник Юхим рьяно нахлестывал лошадей.
— Ну, хлопцы, заробыли мы себе лиха, — мрачно проговорил кто-то из рабочих и первым полез на полок молотилки. За ним потянулись другие. У арб и у подвешенных к молотилке мешков встали девчата, готовясь принимать обмолоченное зерно.
Из вагончика неторопливо вышел Матвей Кузьмич, уже успевший за обедом трижды приложиться к медному стаканчику. Он подошел к паровику, дал свисток и потянул за рычаг. Паровик закашлял, запыхтел, и молотилка загудела. Но работа без старшего зубаря Яшки текла вяло, снопы подавались не споро, и молотилка минутами гудела без напряжения, вхолостую. Молотьба явно расстроилась.
Неприметный, маленький свидетель внезапно разыгравшейся сцены, я побежал домой и сообщил обо всем отцу.
Отец покачал головой:
— Панченко — куркуль, что и говорить. Паук. С ним не совладаешь. Привезет он полицию — пропадет Яшка. Свои же тавричане изобьют его. Панченко их подкупит. Страшный человек.
Отец оказался прав. Еще до того как Петро Никитович вернулся от урядника и привез с собой двух полицейских, подговоренные им дворовые силачи работники схватили Яшку под скирдой, скрутили ему руки и стали избивать. За Яшку вступились его земляки, завязалась драка, перешедшая очень скоро в поножовщину. Теперь уже столкнулись не хозяева с батраками, а коренные тавричане с кацапами. Кто-то невзначай свернул набок скулы батраку-тавричанину, за него кинулись его дружки — и пошла потасовка. На золотую пшеницу-кормилицу, на хозяйский хлеб брызнула батрацкая кровь…
Машину пришлось остановить, девчата с визгом пустились врассыпную, с соседних токов прибежали разнимать дерущихся.
Яшка, раненный вилами в живот, отполз под скирду и там истекал кровью… И когда подоспели полицейские с намерением связать бунтарю руки и отправить его куда полагается, Яшка уже подкатил под лоб глаза — ничего не видел и не слышал…
В ту ночь над хутором, точно темные совиные крылья, витала тревога. Многие не спали. Бодрствовал и староста Петро Никитович. У него в светлице сидел помощник пристава и писал протокол о «непредумышленном» убийстве… Никто не мог точно сказать, кто пырнул Яшку вилами. Пришлось для проформы арестовать двух работников-тавричан и отправить в слободскую «кутузку».
Не спали и мы с отцом; лежа на веранде адабашевского дома, прислушивались к подвыванию собак на хуторе, к приглушенному гомону.
— Папа, а за что зарезали Яшку? — шепотом спрашивал я, прижимаясь к отцу и боязливо глядя в ночные степные потемки.
— А так… ни за что, как и Куприянова. Голодный человек попросил есть — ему сунули вместо хлеба вилы. Староста наш на такие дела мастак. Захочет — и нас с матерью выживет отсюда. Теперь он сильнее Адабашева.
— А Петра Никитовича посадят в тюрьму? — допытывался я, думая не столько об Яшке, сколько о Куприянове.
— Нет, зачем же… Его не посадят, сынок. Не он ведь убивал… — Помолчав, отец вздохнул: — Ты спи. Маленький ты еще — не все тебе знать надобно…
Собаки на хуторе выли, чуя лежавшего под скирдой, под открытым звездным небом мертвеца. По спине моей пробегали мурашки.
Мир продолжал раскрывать передо мной темную сторону…
Полынные ночи
Но в мире этом не все было темно, много было светлого, ласково-обнимающего душу — темное, звериное, отступало перед ним. Незаметно, по капле, вливалось в меня ощущение прекрасного, заставляло замирать в каком-то томительном восторге, волноваться неясными чувствами.
Вот мы лежим с отцом ночью на веранде — летом отец и я всегда спали во дворе, за исключением грозовых ночей.
Теплое степное небо глядит из-под навеса веранды помигивающими огоньками звезд. Чуть слышно лопочут листьями старые тополи, шепчутся на каком-то своем, непонятном языке. Постепенно угасают все звуки в степи — она притаилась вокруг, огромная, бескрайняя, и дышит легким полынным ветерком. От ее молчания становится немного жутко.
И вдруг откуда-то издалека сперва чуть слышно наплывает песня. Сначала она настолько тиха, что сразу и не поймешь, звенят ли это комары под ухом или поют человеческие голоса. Но вот пение становится более отчетливым, голоса приближаются.
Теперь ясно: песню ведут девичьи голоса. Их много, сильных, здоровых, звенящих то мягко и низко, как медь, то звонко и нежно, как серебро. Только украинские девчата могут так петь — широко, вольно, всей грудью, точно растягивая песню на многие версты. И только в степи могла родиться такая песня. В ней мало или совсем нет пауз. Голос или два запевают, запев подхватывают два-три голоса, потом вступает весь хор и тянет, пока запевалы вновь не сменяют его, не начинают круг снова.
Иногда песня, когда в ней выражены удаль и раздолье, звучит, как крик, как мятежный призыв. Особенно голосистые девчата словно вышивают яркий песенный узор, тянут его от начала и до конца фразы, а по нему стелют пеструю вышивку остальные голоса…
Все громче, сильнее звучит женский хор. Уже слышно, как поскрипывают колесами арбы. Обоз, отвозивший зерно на ссыпку, возвращается на хутор. Я представляю себе, как девчата и молодицы, сидя на подстилке из сена или прислонясь к дробинам в двух арбах, под медленную, размеренную поступь волов, точно переговариваются друг с другом песней. Запевалы едут на первой арбе, им подтягивают с другой, и, может быть, поэтому песня как будто двоится, откликается с соседней арбы эхом, и одна и та же фраза звучит дважды.
Я уже различаю слова песни. Она протяжная и грустная.
Ой, iз-за гори Та буйный вiтер вiе… Ой, там удiвонька Та пшениченьку сiе. Ой, ще й удiвонька Та й до дому не дiйшла, А вже кажуть люди, Що пшениченька зiйшла…И в песне все то же — хлеб, труд, поиски летучего, как ветер, неуловимого счастья. Не вечно будет разрываться от горя вдовье сердце, блеснет и заря, взойдет солнце, созреет кормилица-пшеница.
Ой ще удiвонька Та на лаву не сiла, А вже кажуть люди, Що пшениця поспiла.Хотя и печальной, но светлой струей льется песня, сверкает, как ручей в степной балке, вытекающий из чистой, как слеза, криницы. Недолговечна радость вдовы, худо сиротам без отца, без работника и кормильца.
Ох, горе ж менi Та, дiточки, з вами, Гей, та що немае Хозяiна над вами!Все ближе и ближе песня. Вот уже звенит она за домом, и кажется: ей вторят шелестом своих листьев старые тополи. Грудь моя наполняется чем-то теплым и душным, подступающим к горлу. Больно и сладко сжимается сердце. Мне кажется, — я сам такой же сирота, и никто иной, это мать моя тужит, изливает надо мной свое горе… Но дети и я вместе с ними утешаем мать:
Мати ж наша, мати, Не журися нами — Як повирастаем, Розiйдемося сами!Песня ворвалась на веранду, разметала тишину. Голоса, громкие и не такие нежные, какими они казались издали, словно ударяются о стены, рассыпаются звонким эхом. Дорога лежит в двадцати шагах от дома. Слышно, как дышат волы, поскрипывают ярма. Отец ворочается рядом — он тоже не спит, слушает, вздыхает:
— Хорошо девки поют… Эх, хорошо!
И вдруг грустную песню сменяет буйная, залихватская, перемежаемая гиканьем и хохотом:
Ой, ходила дiвчина берiжком, Загоняла селезня батiжком…И пока удаляются арбы, искрометным, сверкающим вихрем взлетает в ночное небо песня. И хочется вскочить самому и бежать за удаляющимися арбами, пританцовывать вместе с девчатами, вторить их заливистому молодому смеху…
В те далекие годы в селах и хуторах не было ни кино, ни клубов, ни театров, ни заезжих артистов.
Единственными местами, где молодежь пела, плясала и водила хороводы, были улица, вечерницы, свадьбы, сговоры и прочие игрища.
Я был еще мал, чтобы участвовать в них, но однажды вечером мы с Ёськой случайно заигрались на опустевшем после молотьбы току и не заметили, как собрались на нем парубки и девчата.
Был какой-то праздник, кажется, спас, всюду стоял запах яблок и меда. Тихий вечер простерся над хутором, потом выплыла полная луна, покрыла утрамбованный, как танцевальная площадка, подметенный ток и окружающие его соломенные скирды светлыми бликами, испятнала мягкими таинственными тенями.
Празднично одетые девушки, в сапожках, лентах, монистах, а какие победнее — просто босые, в ситцевых сборчатых передничках и платочках, разноликой, весело щебечущей стайкой расположились на траве по обочине тока. Особо от них, басовито переговариваясь, стояла группа парубков в разноцветных сатиновых, а кое-кто — в расшитых красными крестиками рубахах. Появился гармонист, и начались игры и танцы… И тут впервые в жизни, как смутный, неясный ветерок, как аромат весенних цветов с поля, овеяла и удивила меня, наполнила каким-то стыдливо-радостным и чистым предчувствием девичья красота. Это было похоже на уже пережитую мною радость, когда я впервые увидел в степи тюльпанное поле.
Играла гармоника, девчата, взявшись за руки, вели хоровод и пели. Они вводили в круг то одного, то другого парня, те пытались вырваться, девушки приседали, не пускали их. Но один парень под игривые слова песни хватал самую красивую, какая была по душе ему, дивчину, вырывал из пестрого, как венок живых цветов, круга и целовал при всех под общие выкрики и хохот…
Луна светила неистово, лица девчат казались высеченными из белорозового мрамора, а глаза, казавшиеся у всех черными, как уголь, блестели, точно светлячки в темной траве. Все девушки казались мне прекрасными, ленты вокруг их голов развевались, мониста переливались разноцветными огоньками, а косы спадали ниже пояса, извивались, как живые…
Среди девчат я увидел и Килину. С того времени как увезли из хутора Куприянова, прошло два года, после нервной горячки она оправилась, но была бледна, задумчива и в сравнении с другими цветущими девушками выглядела тонкой, сильно вытянувшейся тростинкой. Но пела она по-прежнему хорошо, хотя чистый, как родниковая струя, голос и звучал слабее…
Я все время глядел на нее и думал о Сергее Валентиновиче. Но вот и ее выбрал высокий светлочубый парубок, грубо обнял и хотел поцеловать, но она выскользнула из его рук и убежала за круг. Непонятное глухое волнение овладело мною. Мне не хотелось, чтобы парубок ловил и целовал Килину. Она долго не возвращалась в круг. Девчата дружно уговаривали ее и укоряли за то, что она отказом избравшему ее парубку нарушила правила игры…
Я, сжавшись, сидел на траве и не отрывал глаз от Килины. Она стояла близко от меня, озаренная лунным сиянием. Белая вышитая сорочка, заправленная за тугой пояс зеленой плахты, резко отчеркивала смуглость ее тонкой шеи и рук. Желтые и голубые ленты, стянувшие ее маленькую головку и вместе со светло-русой косой разметавшиеся по узкой спине, трепетали на легком ветру.
Мне даже показалось, что я чувствую запах Килининой одежды, запах сухого сена и «македонки» — дешевого крема, которым тавричанские девушки смазывали свои лица, чтобы не чернела и не лупилась кожа.
Вдруг Килина, словно под воздействием моего восхищенного взгляда, обернулась, удивленно взглянула на меня и улыбнулась… Нет, никогда больше я не видывал такой улыбки. Я даже глаза зажмурил, а Килина тихонько засмеялась и ласково потрепала меня по голове.
— Ты, дывысь, Полька, — сказала она стоявшей рядом, дивчине. — Бачишь яки тут е хлопцы. Ось воны наши кавалеры… — И засмеялась серебристым ласковым смехом.
Но зеленоглазая толстая Полька, дочь старосты, увидев нас, ощерилась, крикнула:
— А ну, геть витциля! Ах вы, сморкачи! Бачь — и воны к дивкам пришлы. Скажу батькови, так вин плетюгана вам надае…
Мы с Ёськой испугались и кинулись прочь от гульбища, затопали голыми пятками по твердому, как цемент, току. Посреди него лежал еще не убранный ворох ячменя, укрытый брезентом. Мы наткнулись на ворох и остолбенели: прямо в лунном свете, чуть прикрывшись брезентом, лежали в обнимку парубок и дивчина и целовались.
Нежным, воркующим басом, в перерывах между поцелуями, парубок приговаривал:
— Ты ж моя зиронька… Голубонька… Наталочко ты моя… Я ж тоби носик откусю…
Мы с Ёськой прыснули от смеха. Парубок поднял голову и погрозил нам кулаком и стал натягивать на себя и на дивчину брезент.
Я опомнился от такого «стыдного» зрелища не сразу, и когда обернулся, то Ёськи возле меня уже не было. Круглая блестящая луна точно обнажила весь хутор, всю притихшую степь, светила исступленно-ярко.
Мне стало чего-то боязно, и я пустился со всех ног домой. Кажется, я прибежал позже, чем следовало, за что и получил от отца крепкий подзатыльник…
Но я не обиделся и не заплакал. Мне было весело, словно я узнал и увидел что-то новое, необычайно интересное. Как будто люди приоткрыли передо мной какую-то запретную, волнующую тайну…
Зарю сменяет утро
Отец работал на пасеке, осматривая «магазины» (надставки) ульев перед очередной качкой меда.
Опираясь на вишневый кнут, к изгороди подошел Петро Никитович Панченко, окликнул:
— Пилыпу Михайловичу доброго здоровья! Бог на помочь!
Отец удивленно оглянулся, вложил тяжелую, сплошь покрытую янтарной печаткой рамку в «магазин», подойдя к изгороди, ответил на приветствие.
— Ну як медок? Солодкий? — осклабился Петро Никитович.
— Солодкий, — в тон Панченко ответил отец.
Было очень жарко, с толстого лица старосты мутными стекляшками катился пот.
— Робе, значит, бчолка? Гарно робе?
— Да ничего, взяток есть.
— И скильки плануешь накачать меду?
— Не знаю. Медогонка покажет, — хмуро ответил отец.
В эту минуту вокруг головы старосты, сердито жужжа, закружилась пчела. Петро Никитович отмахнулся, чего, конечно, не следовало делать. Пчела зажужжала злее, норовя пустить жало в потную и жирную физиономию Петра Никитовича.
Я стоял неподалеку, меня разбирал ребячий неудержимый смех.
— От-то, рахуба! Яка сердита, — тревожно заметил староста, продолжая отмахиваться.
— Да вы, Петро Никитович, не мотайте руками. Нельзя, — вежливо предупредил отец.
Но предупреждение оказалось запоздалым. На помощь первой прилетела вторая, и обе атаковали Петра Никитовича с еще большей яростью.
Староста хотел было отойти от изгороди подальше, прикрываясь рукой, но в этот момент пчела жиганула его прямо в правый глаз. Петро Никитович охнул, скрипнул зубами, проворно отбежал от изгороди.
Отец сказал:
— Да вы, Петро Никитович, пожалуйте в дом. На крыльцо. У вас ко мне дело?
— Да, дило. И велике, — зло ответил староста. — Ну и бчолы у тебя скаженные, Пилып Михайлович. Чем ты их так раздратував?
Запах яда уже привлек других пчел, и вокруг головы Панченко закружилось их не менее десятка.
Тут отец схватил всегда стоявший наготове дымарь и, выскочив к отступавшему в панике старосте, стал окуривать его, отгоняя пчел дымом.
— Ты ось що, пан садовник, — сердито заговорил Петро Никитович, когда проказницы отстали и отец привел его на веранду, в прохладную тень. — Шукай себе квартеру. Я купую у Адабашева дом.
Отец встретил весть молчанием, потом как можно спокойнее сказал:
— Я недавно был у хозяина, и он мне ничего об этом не сказал.
— Тебе не сказал, а мы уже сторговались, — потирая укушенное, сразу вздувшееся веко, недовольно проговорил Петро Никитович. — Он — хозяин, ты — наймит. Зачем же ему тебе казать?
Староста победоносно взглянул на припертого к стене отца.
Мать возилась тут же, собирая на стол угощение, услыхала разговор. Руки ее затряслись, уронили какую-то чашку. Отец вздрогнул от грохота, сурово покосился на мать.
Морщась от боли, староста ухмыльнулся:
— Но купчая еще не зроблена, Пилып Михайлович. Я не спешу. Ты можешь еще зимовать тут.
— Нет, зачем же. Если вы купили дом, так я постараюсь выбраться до зимы, — сказал отец.
Староста засмеялся, тряся животом.
— Да ты не колготись, Пилып Михайлович. Я же тебя не гоню. Я сказал, щоб ты пока приглядывал квартеру, а потом чин-чином с музыкой мы тебя и проводим из хутора.
Староста явно издевался.
— А дом покупаете для школы или для себя? — спросил отец.
— Зачем — для школы? Буду жить самолично. Сына женить буду — ему хату отдам, дочку замуж выдам — другую хату стану будовать, а сам — тут. — Староста захихикал. — Це я тогда Ивану Марковичу для большей важности про школу завернул. Думал, що воно так буде надежнее. Школы нам пока не треба. Хлопцив у нас не так богато, в слободе будут учитысь.
— Так вот, Петро Никитович, — после натянутого молчания заговорил отец. — Пока мне хозяин никакого распоряжения не давал, я выселяться из дома не стану. А квартеру я подыскивать буду…
Петро Никитович все еще трясся в беззвучном смехе. Отдышавшись, он взглянул на отца здоровым, неукушенным глазом (другой совсем заплыл) и сказал:
— Пане добродию, купчая буде подготовлена. Но я же тебя не гоню. Хочешь жить — давай за кухню со взятка три пуда меду, а потом положу яку треба оплату. Остальной дом займу я. Да… еще не сказал тебе… Амбары я тоже купил и занимаю под зерно. Так что был Адабашев, а теперь нема. Фукнул. Есть новый хозяин — Петро Никитович Панченко… Срозумив?
И староста, подмигнув левым глазом, встал, похлопывая кнутовищем по голенищу, направился к калитке.
— Бувай здоров, пане садовник! — насмешливо крикнул он за калиткой. Остановился, добавил: — Будешь пчеловодом на моей пасеке — никуда не уйдешь. Дам тебе халупу и жалованье от покрова до покрова пивсотни…
Прибежав с пасеки, я застал дома целый переполох. Мать плакала, упрекала отца, что «не сумел поладить с хохлами, довел дело до скандала».
— И чего сидел, скажи, в этой яме, чего ждал? Давно надо было убираться отсюда, — доказывала мать. — Разве не видишь — тавричане давно точат против тебя зубы. Их завидки берут, что ты живешь один в таком доме.
— Тавричане тут ни при чем, — отговаривался отец. — Это староста…
Почти ежедневные посещения Панченко отравляли нам жизнь. Он уже вел себя как владелец дома: то лазал на чердак, осматривая крышу, то расхаживал по комнатам, пробуя, как открываются и закрываются рамы и исправны ли шпингалеты. Просыпаясь по утрам, мать первым делом выглядывала в окно — не идет ли староста, не скажет ли: «Убирайтесь вон, чтоб и духу вашего тут не было!» Но дни текли, и Петро Никитович пока не трогал нас. Он, как видно, забавлялся нами, как кошка мышью…
Дня через два, оставив пасеку на мое и материнское попечение, отец уехал в Ростов. Что там было и какой разговор он вел с хозяином — для меня осталось неизвестным. Вернувшись из города, отец коротко сообщил:
— Староста взял нас на испуг. Купчая еще не сделана. Хозяин колеблется между двумя покупателями. Сказал: «Живите пока до весны, сторожите дом, а там будет видно…» Но с экономией, видать, все кончено. Сад и амбары Панченко уже купил. Выбираться нам отсюда нужно. И поскорее… Да, еще новость… Зараз ходит по Ростову… Холера.
И новое пугающее слово, точно черным крылом, опахнуло дом.
Холера… Тощая, длинноносая, безобразная старуха в грязных захлюстанных лохмотьях, какую я видел среди бродяг однажды на хуторе, — так рисовалась мне эта страшная гостья. Вскоре до Адабашева стали доходить слухи: холера косит людей по придонским станицам и окрестным тавричанским слободам и хуторам. На наше и без того тревожное житье надвинулась новая грозовая тень…
Весь июль и август отец ходил по селам в поисках жилья, попутно спрашивая, нет ли должности садовника. Пришел он и в хутор Синявский. Тогда пришлым, намеревавшимся жить в станицах и хуторах иногородним, полагалось прежде всего явиться к атаману.
— Хочу жить в вашем хуторе, — заявил отец, когда казак-сиделец пропустил его в атаманский кабинет.
— В собственном доме или как? — спросил атаман, чернявый пожилой, но все еще бравый казак.
— На собственность нет средств, хочу на квартеру.
— У кого нанимаешь?
— Пока не подыскал.
— Имущество имеешь?
— Только пасека — сорок ульев.
— Живи. Только на землю не зарься. Своих иногородних много, будем прижимать, — откровенно заявил атаман.
— А ежели на огород, чтоб картошки, капустки посадить… Али, допустим, бахчу… Мне немного — сажени три-четыре…
— Никаких. Только в леваде при дворе, где будешь жить. По согласию с казаком. А ежели в работники — то и на эту не разевай рот. Много тут вас таких ходит. Наша земля обчественная, казачья…
— Стал быть, не даете земли? — спросил отец.
Атаман удивленно повел черной лохматой бровью.
— Ты чего пристал? Откуда такой взялся?
— А ежли я куплю… хозяйство… Аль заарендую землю, — больше из любопытства, нежели сообразуясь с действительным намерением, закинул удочку отец.
Атаман помягчел:
— Это можно. В аренду паи сдаем… А откель ты будешь?
— А тут из хутора, садовник…
— А-а… вон что… Тогда сад мне оправишь. На той стороне… За речкой…
— Это можно. До свидания, — поклонился отец и вышел из хуторского правления, решив обосноваться в Синявке — благо хутор большой, богатых хозяев много, есть сады и пасеки, да и железная дорога под боком; в случае нужды, всегда на ремонте пути можно заработать…
Навстречу отцу двигался крестный ход: по случаю холеры несли икону святого Пантелеймона. Впереди шел, помахивая кадилом, священник, за ним — певчие. Старики несли иконы, крест и хоругви, как на похоронах. Унылое песнопение разносилось по знойной, пустынной и пыльной улице. Холера уже вырвала из дворов немало людей: не успевали отпевать и относить на кладбище. Траурный перезвон маленьких колоколов катился от церкви. Крестный ход останавливался у каждого двора, причт служил молебен, поп кропил «святой» водой ворота, окна и двери.
Кто-то сказал отцу, что от холеры лучше всего спасает какая-то особая водка-«баклановка», настоенная на стручковом красном перце, а воду можно пить только с лимонной кислотой. Отец тут же зашел в аптеку, купил лимонной кислоты, но «баклановки» он нигде не мог купить. Сильно хотелось пить.
Уже зная по прежним холерным годам, какую опасность представляла собой сырая вода, отец зашел в хуторской трактирчик, попросил чаю. Грязный половой подал стакан коричневой теплой водицы, отец опустил в нее кристаллик лимонной кислоты, выпил…
В тот же день отец вернулся из Синявки. Я возил сестру в тележке позади дома, когда меня позвала мать:
— Иди, сынок. Беда. Отец захворал.
Лицо ее было очень серьезным.
Отец лежал на веранде на лоскутном одеяле и тихо стонал. Небритые щеки ввалились, нос заострился. Вокруг роились мухи. Тяжелый дух шел от подстилки, и мне стало страшно — безобразная, носатая старуха в грязных вонючих лохмотьях явилась и в наш дом.
Я хотел было приласкаться к отцу, своему поводырю в жизни, но он властно отстранил меня, слабым голосом предостерег:
— Не подходи, сынок. Иди гуляй…
Но я не мог отойти от него. Я уже понимал, какое горе посетило нас.
Удивительно! На этот раз мать не растерялась. Обычно она быстро падала духом, хныкала и причитала, а тут, сжав губы и засучив рукава, принялась ухаживать за отцом: грела воду, прикладывала к ногам горячие бутылки, сменяла подстилки. А главное — словно кто шепнул ей — она побежала к Соболевским и принесла два громадных кувшина с кислым молоком.
Слабея с каждым часом, отец ежеминутно просил пить, а мать давала ему кислое молоко. Припав к кувшину, отец жадно пил. По усам, по бороде стекала сыворотка, а мать снова и снова подносила ему кувшин.
Когда оба кувшина были выпиты, она вновь побежала к тавричанам. Пять кувшинов выпил отец, и начавшиеся было предсмертные судороги прекратились. Отец затих, впал в забытье.
Уже вечерело. Оранжевое и все еще жаркое солнце, склоняясь над степью, золотило поднятую на дорогах пыль. Роями вились всюду мухи, нагоняя тоску своим жужжанием.
Я побежал за кусты сирени, упал в сожженную солнцем жесткую траву вниз лицом.
— Господи… Святый боже, святый крепкий, спаси моего отца, — стал я молиться, сжимая кулаки и припадая мокрой щекой к горячей земле. — Матерь божья! Не обижай нас с мамой, не надо, чтобы отец умирал… Слышишь, Иисус Христос?!
Я впервые так горячо молился за жизнь отца.
Все несложные молитвы, которым с подсказки научила меня мать, заставляя слово в слово повторять их за собой перед сном, перечитал я в тот предвечерний час.
Вернулся я домой в сумерки, усталый, опухший от слез. Отец все еще тихо лежал на веранде, вытянувшись пластом. Мать сидела у его изголовья и отгоняла комаров. Отец спал. К дому подкрадывались сумерки…
Я тоже заснул тут же рядом с отцом и проснулся только, когда озяб, под утро. Первое, что я услыхал, это слова матери, которые она громко говорила кому-то из хуторских соседок:
— Так я его, тетка Приська, закваской и отволожила. Воды не давала почти совсем… Вот так кислым молоком и отпоила…
Я вскочил. Отца возле меня не было. Солнце уже взошло. Весело свистели скворцы, трещали воробьи. Со степи долетели крики пастухов, хлопанье арапников. Я сбежал с крыльца и увидел мать. Беда успела согнуть ее, еще ниже прижать к земле и словно выпила из лица последние кровинки. Она и без того была невысокого роста, а тут показалась мне такой маленькой, жалкой, босая, в порыжелом заношенном платьишке, что я опять чуть не взвыл от жалости. Но опомнился и только подбежал к ней, ткнулся головой в колени.
Из калитки, которая вела на пасеку, слабым неуверенным шагом, чуть пошатываясь, шел отец. Он был темен, худ лицом и очень слаб, плечи его опустились, спина сгорбилась, но он был жив; он радостно смотрел на меня, мой добрый и строгий поводырь…
Холера не миновала и моего личного врага Петра Никитовича Панченко. Она настигла его прямо на молотильном току и обошлась с ним более жестоко. Жирное тело старосты как будто еще больше вздулось и посинело. Работники еле втащили его в светлицу.
В те годы многие домочадцы и близкие утаивали заболевших холерой: боялись, чтобы их не увезли на санитарный пункт. Кое-кто еще верил нелепым слухам о том, что доктора приканчивают больных, травят ядами… И вместо того чтобы послать в слободу, где находился холерный пункт, подводу за доктором, домашние предоставили Петру Никитовичу полную свободу умирать без врачебной помощи.
Когда мы узнали, что старосты не стало, мать набожно перекрестилась и облегченно вздохнула:
— Грешница я великая… Царство небесное Петру Никитовичу… Не жалко мне его…
И я, малыш, не осудил ее за эти слова. Внезапная смерть старосты отсрочила на неопределенное время наше выселение из адабашевского дома.
А через месяц отец и мать снарядили меня в школу. Еще летом казак-портной в хуторе Синявском сшил мне брюки и гимнастерку из серого, грубого сукна, пальтишко на вате, чудесное, теплое, как-то особенно ласково облегавшее тело. Сапожник стачал крепкие яловые сапожки, а чтобы не скоро сбились каблуки, приколотил к ним железные подковки. Отец купил кроличью шапку и рукавички, ранец из свиной кожи для тетрадей и книг.
Ранним утром, едва забрезжил рассвет, меня, одетого во все это великолепие, вывели во двор, усадили на тавричанскую бричку. Над синевато-темным краем степи занимался восход. Рассветный холодок мелким ознобом пробегал по телу. Нервная дрожь судорогой сводила челюсти. Меня увозили в казачий хутор, к чужим, неизвестным людям. Мать обняла меня, поцеловала в глаза и щеки, и я ощутил на губах соль ее слез.
Но я не плакал, и только сердце мое сжималось от страха перед неизвестностью.
Отец чмокнул губами, тронул вожжами добрых тавричанских коней. Бричка, безрессорная, тряская, загремела колесами по ранней влажной от росы дороге.
Я оглядывался, мысленно надолго прощаясь с хутором. Вот промелькнули мимо старые обветшалые амбары, пахнул прелой листвой и подгнившими фруктами-падалицами сад, уже кое-где тронутый осенней желтизной, промаячили у опушки на бугорке затравевшие могилки моих маленьких братьев и сестры Мотеньки. Косо накренившиеся зеленые кресты словно поклонились мне на прощание. Все заметнее стал отдаляться хутор: серый адабашевский дом на голом, поросшем лебедой бугре, ободранные, полуразвалившиеся хозяйственные постройки — пустая приземистая кузня, машинный сарай — пристанище филинов и сов, конюшня, птичник и наше прежнее обиталище — вросшая почти до самых окон в землю завалюшка-мазанка…
Уплывали назад, становились все меньше тавричанские дворы, длинные скирды соломы, старый ветряк.
Там, на хуторе, оставались мои дружки — Дёмка и Ёська, пастухи и подпаски, дети таких же, как и отец, батраков.
Вместе с хутором уплывала, отделялась незабвенная пора раннего детства, первых впечатлений, «факультетов природы», откровений жизни, печалей и радостей…
Впереди ждала другая пора, неизведанная и манящая, как нераскрытая таинственная книга.
Тревожную зарю сменяло не менее тревожное утро…
Конец первой части
Примечания
1
Вещество из цветочной пыльцы, заготовляемое пчелами для кормления детвы.
(обратно)2
Казинет — грубая полушерстяная ткань.
(обратно)3
Приспособление к упряжи, деревянный валек для постромков.
(обратно)4
На черта, на беса (южн.).
(обратно)5
Саман (украинск.).
(обратно)6
Земляной пол в украинских хатах, покрытый, глиной, смешанной с навозом.
(обратно)


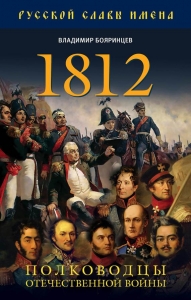



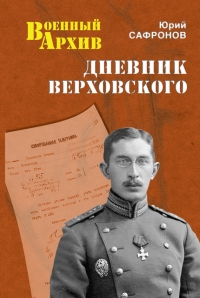
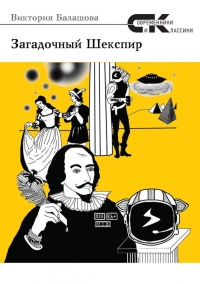
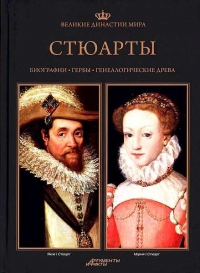
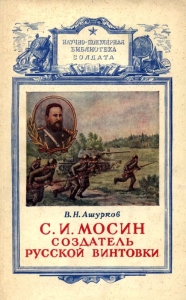

Комментарии к книге «Отец», Георгий Филиппович Шолохов-Синявский
Всего 0 комментариев