Быть сестрой милосердия Женский лик войны
И. С. Тургенев Памяти Ю. П. Вревской
Юлия Петровна Вревская (1838–1878) — баронесса, урожденная Варпаховская. Друг Ивана Сергеевича Тургенева.
Во время русско-турецкой войны — сестра милосердия полевого госпиталя Российского Красного креста
На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.
Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.
Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.
Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!
Сентябрь, 1878
Эти строки посвящены Юлии Петровне Вревской, фрейлине императрицы Марии Александровны и близкому другу И. С. Тургенева. Во время русско-турецкой войны Юлия Петровна работала сестрой милосердия полевого госпиталя Российского Красного Креста. В январе 1878 года заболевает тяжелой формой сыпного тифа. Скончалась 5 февраля 1878 года и была похоронена в платье сестры милосердия около православного храма в городе Бяле.
Е. М. Бакунина Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины (1854–1860)
В майской книге «Вестника Европы» за 1893 год, в статье «Накануне реформ», я нашла, что кроме признания интереса исторического и литературного достоинства, заключавшегося в известных воспоминаниях И. С. Аксакова, — в этой статье высказывалось и желание узнать более про то интересное, а для нас, живших тогда, ужасное и тяжелое время. Это дало мне мысль напечатать мои записки с 1854-го по 1860 год.
В ноябре 1854 года великая княгиня Елена Павловна устроила Крестовоздвиженскую общину; я в нее поступила; тогда это казалось очень ново, и многие были против этого. Сестры поехали прямо в Севастополь, и там Николай Иванович Пирогов был нашим главным начальником и руководителем.
Были мы при 1-м перевязочном пункте, на южной стороне Севастополя. Мы ее оставили только уже тогда, когда Малахов курган был занят неприятелем, так что все это происходило на наших глазах. Когда же пришлось нам переехать в Симферополь, я, по желанию Николая Ивановича Пирогова, четыре раза провожала транспорты раненых и больных. Боже, что это было за трудное и мучительное время! В феврале умерла наша сестра-настоятельница Екатерина Александровна Хитрово, и великая княгиня назначила меня сестрой-настоятельницей. Я, побывав в Петербурге, опять вернулась в Крым и ездила по всем госпиталям, где служили наши сестры в десяти городах. Когда же в конце 1856 года военно-временные госпитали были закрыты, мы все съехались в Петербург; тут великая княгиня занялась устройством постоянной общины в Петербурге, и тогда я переписывалась с Николаем Ивановичем Пироговым; его письма помещены в моих записках. Для той же цели я ездила в Берлин и Париж, чтобы видеть устройство тамошних общин. Записки мои кончаются в половине 1860 года, когда я оставила общину.
Глава I
Я не начну своих воспоминаний, как мог это делать талантливый автор писем из эпохи Крымской войны И. С. Аксаков, — с самых первых дней моей молодости: она прошла так, как в то старое время проходила жизнь девушек нашего звания, то есть в выездах, занятиях музыкой, рисованием, домашними спектаклями, балами, на которых я, должна признаться, танцевала с удовольствием, и, может быть, вполне заслужила бы от нынешних девиц, посещающих лекции и анатомические театры, название «кисейной барышни». Но тогда мы все были такие, и мое желание поступить в сестры милосердия встретило сильную оппозицию родных и знакомых.
Теперь это совсем не то, и в последнюю кампанию в сестры Красного Креста шло очень много, можно почти сказать, что это было модой, и они шли на известное, а тогда…
Вот с этого-то времени я и начну мои воспоминания.
В 1854 году мы с сестрой были в деревне у нашей хорошей знакомой, Варвары Петровны Писемской, во Владимирской губернии.
Никогда не забуду я того вечера, когда мы получили газеты с известием, что французы и англичане высадились в Крыму. Я не могла себе представить, что этот красивый уголок нашего обширного отечества может сделаться театром жестокой войны (1849-й и лето 1850 года мы провели в Крыму, так как сестре были предписаны морские купанья. Как хорошо и спокойно там было!).
А через несколько дней опять известие об альминском сражении!
В октябре месяце мы вернулись в Москву. С каким нетерпением мы хватались тогда за газеты; и вот, прочитала я, что французские сестры поехали в военные госпитали; потом в английские госпитали поехала мисс Найтингейл с дамами и сестрами. А что ж мы-то? Неужели у нас ничего не будет? Эта мысль не оставляла меня. На мое счастье, сестра, с которой я была очень дружна, разделяла мои мысли и согласилась отпустить меня, если и у нас тоже будут посылать. Мы поехали к кн. Софье Степановне Щербатовой, у которой мы были помощницами по попечительству о бедных, узнать, неужели ничего не будет у нас. Она сказала: «Говорят, что в Петербурге что-то готовится», — и советовала подождать княгиню Анну Матвеевну Голицыну, которая в это время была в Петербурге. Я всякий день посылала узнать, приехала ли Анна, но дни проходили, а ее все не было.
Но вдруг я получила записку от Софьи Степановны (я ее и теперь помню). Она звала приехать к ней и писала: «У меня есть то, что Вам надо».
Когда мы к ней приехали, она рассказала, что великая княгиня Елена Павловна устроила Крестовоздвиженскую общину, что первый отряд собрался, что они на днях пройдут через Москву и что будут посылать еще. Я решилась ждать их и сейчас к ним поехать, увидаться и все расспросить; а пока я все-таки хотела испытать себя и поехала к знакомому мне доктору, ординатору в полицейской больнице, которую граф Закревский называл «самой гнусной» из всех московских.
Я приехала на визитацию и просила его показать мне всех перевязочных и потом позволить мне приехать провести целые сутки безвыходно в госпитале. Он удивился, взглянул на меня, а я ему сказала: «Павел Яковлевич, я собираюсь ехать в Севастополь».
— Ну, что ж, с Богом! Вы выдержите.
Итак, сбудется мое сердечное желание чуть не с самого детства — я буду сестрой милосердия!
Первый отряд сестер проехал. Я была у них (не помню, где они останавливались); их было тридцать; может быть, несколько и больше. Все мне у них понравилось, и они тоже все понравились. Чтобы ехать далее из Москвы, для них были приготовлены хорошие тарантасы; их провожал чиновник. Я провела с ними часа два. Как я завидовала, что они уже едут! Они мне сказали, что и второй отряд уже готов и скоро поедет, но будут посылать еще.
На другой же день я написала в Петербург к гр. Антонине Дмитриевне Блудовой, чтобы она сообщила кому следует, что я желаю поступить в сестры, и с нетерпением ждала ответа, а между тем провела сутки безвыходно в больнице, видела много перевязок и очень была довольна тем, что все это перенесла очень спокойно и без утомления.
Но как было горько и досадно, когда в ответ на мое письмо я получила такой ответ: «Теперь собирают петербургских, а когда будут вызывать из Москвы, тогда и вас позовут».
На это я написала, что меня очень удивляет такое разделение и что когда дочь Бакунина, который был губернатором в Петербурге, и внучка адмирала Ивана Лонгиновича Голенищева-Кутузова желает ходить за матросами, то странно, кажется, отказывать ей в этом. На это мне отвечали, что в первый отряд, который соберется, и я попаду.
Но что было ужасно при всех этих проволочках — что всякий день приходилось слушать возражения на мое решение. То приедет Иван Васильевич Капнист, наш родственник, — он был тогда губернатором в Москве, мы с ним были в самых дружеских отношениях, — и начинает он очень серьезно говорить, что приехал уговорить меня не поступать так опрометчиво и не брать на себя таких тяжелых обязанностей. То приедут двоюродные сестры, которые целый вечер болтали о том, как это хорошо, и что надо служить больным. Я молчала, потому что серьезно думала об этом; но когда я сказала, что поеду, то они же были против меня.
Алексей Бакунин, который имел знакомых в Симферополе, привез мне письмо, которое получил оттуда; в нем были описаны все ужасы после альминского сражения и страшное накопление госпиталей и тифозными, и ранеными. Но этот меня знал и не спорил, а, прочитав письмо, сказал: «Ведь я тебя знаю — тебе теперь еще больше захотелось туда ехать».
Но всего больше меня смущал и мучил брат (он военный, был в кампании 1828-го и 29-го годов); он все говорил, что это вздор, самообольщение, что мы не принесем никакой пользы, а только будем тяжелой и никому не нужной обузой.
Нынешние сестры Красного Креста ничего этого уже не испытали.
Наконец я получила приглашение явиться в Петербург, но и на дороге еще меня уговаривали вернуться. Тогда поезда встречались в Бологом; я вышла на вокзал и там встретила Капниста, брата губернатора, который стал серьезно меня уговаривать не продолжать моего пути, а вернуться с ним в Москву… Но, наконец, я в Петербурге.
Написала записочку к баронессе Эдите Федоровне Раден. Какой-то будет ответ?
Утром я получила записку от Эдиты Федоровны. Она приглашала меня приехать к ней, чтобы идти вместе к великой княгине Елене Павловне.
Всем давно было известно, что великая княгиня — очень образованная и умная женщина, но я не ожидала, что при этом она так мила и привлекательна. С каким чувством, с каким жаром и участием она относилась к начатому ею делу! Я была ею очарована. Она сказала мне, что приглашает меня переехать во дворец. Я отвечала, что приехала с сестрой, при которой есть еще горничная. Она мне ответила, смеясь: «Вы полагаете, что у меня нет для нее места?».
Итак, было решено, что мы сейчас же переедем во дворец, а обедать будем с фрейлинами.
Отряд готовился небольшой; кроме меня должны были ехать семь сестер, три доктора и два фельдшера; но не все еще было готово, а в это время мы должны были ездить в клинику, то есть во второй сухопутный госпиталь, и заняться перевязками под руководством доктора Чартораева и тоже продежурить там сутки. Я очень скоро туда поехала на дежурство, там встретилась и познакомилась с сестрами, которые тоже собирались ехать. Не помню, кто из них был тогда со мной и много ли их было, но очень помню, как мы проходили всю ночь по этим длинным неопрятным коридорам. Этот госпиталь был тогда в ужасном виде.
В одном только случае мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не поддаться страху. Незадолго до этого времени какой-то шальной волк (тогда говорили, что он бешеный) забежал в Петербург и сильно искусал одну женщину. Она лежала в клинике совершенно особенно. Мы отворили к ней дверь, и она стала нас звать подойти к ней. Вот тогда-то мне стоило большого усилия подойти и поговорить с ней, но я не хотела тогда позволить себе ни малейшей слабости, да и против больной было совестно показать, что я ее боюсь…
Когда я вернулась с дежурства, напилась кофе и собиралась отдыхать, кто-то постучался в дверь, которая вела во внутренние комнаты дворца. Надо признаться, что я встала и с некоторой досадой пошла открывать дверь; вдруг вижу — предо мной стоит великая княгиня. Она вошла, села и с большим участием принялась меня расспрашивать, как я провела ночь, какое действие это дежурство произвело на меня. Говорила, что я должна подумать; что там будет гораздо хуже и труднее. Не сомневаюсь ли я в себе? Если же я раскаялась, то «не надо упорствовать из-за ложного стыда». Все это было сказано с такой добротой, с таким сердечным участием!.. Но я ей отвечала, что, напротив того, я на себя надеюсь и все больше и больше желаю ехать.
Пока мы готовились к отъезду, я почти всякий день видела великую княгиню. Так живо вспоминается мне, как мы с ней сидели на тюках в театре Михайловского дворца, который весь представлял какой-то складочный магазин. Сама великая княгиня все придумывала, обо всем сама хлопотала. Одно меня очень смущало: на тюках, которые готовились для нас, писалось: «в Херсон» и «в Николаев», а мне так хотелось в Крым, в Севастополь!
Помню тоже очень, как мы все восемь и, кажется, еще несколько готовившихся поступить в сестры были в клинике на операции, и великая княгиня была тут же с нами во все время операции, которая длилась очень долго; ее делал Немерт.
Я еще ездила раза два на перевязки утренней визитации. Помню, что много было гангренозных. Это было хорошее приготовление для Севастополя. Знаю, что некоторые доктора надо мной смеялись, говорили: «Что это за сестра милосердия, которая ездит на перевязки в карете!». Но я так боялась простудиться и быть вынужденной остаться, что очень берегла себя. И, слава Богу, я не была хуже других и готовилась очень серьезно к принятию давно желаемого звания сестры милосердия, говела и причастилась.
И вот наступило 10 декабря. Мы все восемь, уже одетые в коричневые платья, белые передники и белые чепчики, пошли к обедне в верхнюю церковь дворца. Великая княгиня была там; еще были разные дамы и тоже мои родственники: сестра моя, Федор Николаевич Глинка с женой и другие.
После обедни священник громко прочел наше клятвенное обещание перед аналоем, на котором лежали Евангелие и крест, и мы стали подходить и целовать слова Спасителя и крест, а потом становились на колени перед священником, и он надевал на нас золотой крест на голубой ленте. Эта минута никогда не выйдет из моей памяти!..
Но и тут я имела маленькое смущение: когда я отошла к стоящим, Феофил Толстой, остановив меня, сказал: «Что вы сделали, кузина!». Но уже это было последнее сопротивление, и затем все признали совершившийся факт. На другой день мы выехали в Москву.
Странно было приехать в Москву, в свой родной город, и поехать не в дом, где мы жили вместе с братом, а поехать вместе с сестрами в клинику на Рождественку, где для нас было приготовлено помещение. Мы остались несколько дней в Москве, экипажи не были готовы. Мы ходили в клинику, учились бинтовать на фантоме. Я помню, что ездила только, как настоящая москвичка, помолиться в часовне Иверской Божией Матери и со всеми сестрами принять благословение митрополита Филарета; да еще была у старой тетушки. А то родные и знакомые приезжали ко мне в клинику, а две мои сестры даже ночевали со мной в общей нашей комнате. Странное это было для меня время — точно во сне!
Екатерина Михайловна Бакунина (1810–1894) — сестра милосердия, героиня двух войн XIX века
Наконец 15 декабря мы пустились в путь; в двух тарантасах ехали мы, сестры, в третьем — доктора, и еще перекладная для клади и фельдшеров. И всегда некрасивые и тяжелые четырехместные тарантасы были еще неуклюжее, поставленные на полозья и с привязанными тут же колесами. Я не стану подробно рассказывать этого длинного путешествия, но расскажу из него некоторые эпизоды. И для тех, которые ездят или, правильнее сказать, которых возят несколько вроде клади по железным дорогам, этот рассказ покажется из «времен очаковских и покоренья Крыма».
20 декабря мы с трудом дотащились до Белгорода и тут должны были остаться почти весь день. Надо было бросить полозья и ехать на колесах. Дорога ужасная! Еще в наших тарантасах мы ехали немного скорее, но несчастные сердобольные, которых везли в огромных мальпостах, ужасно бедствовали; экипажи у них беспрестанно вязли и ломались. В Белгороде нас повезли прямо в дом купца, где нам был приготовлен обед; а я могла исполнить свое желание ехать поклониться святителю Иосафу. Потом нас еще повезли в женский монастырь; там чудотворный образ Корсунской Божией Матери. До Харькова мы доехали скоро; там была дневка, и мы обедали у генерал-губернатора Кокошкина, где нас очень любезно приняли.
Мы надеялись теперь беспрепятственно продолжать наш путь. Но увы! Когда 24 декабря, почти у Екатеринослава, мы подъехали к Днепру, нам объявили, что нас перевезут, но экипажей нельзя перевезти, паром не ходит, что слишком большие закраины и много льда. Нечего делать. Мы взяли самые нужные вещи, подушки и отправились по льду до дуба (так называются здесь большие лодки с палубой); часто лед нас затирал, и тогда все находящиеся на лодке раскачивали ее с протяжным криком: «Качай дуба! Качай дуба!».
Наконец мы стали приставать к ледяным закраинам другого берега, но несколько раз он оказывался слишком тонким и ломался под досками, которые на него бросали. Наконец удалось нам перебраться на берег и достигнуть Екатеринослава, кто на дрожках, кто на перекладной, а кто и пешком. Наши экипажи нескоро переправились, и нам пришлось остаться несколько дней. Как я рада была, когда мы опять поехали! Но вот что было ужасно: несмотря на то, что мы ехали с подорожной по казенной надобности, нам запрягали по три пары волов несколько станций сряду. Этот постоянно медленный воловий шаг выводил меня совершенно из терпения. Еще помню, как мы 30 декабря совсем сбились с дороги; ночь была непроглядная, лошади останавливались, дождь, ветер, и в перспективе — провести ночь в степи. Еще так, на авось, мы подвинулись, не зная куда. И вдруг увидали огни и кое-как до них доехали. Это оказалась Новая Грушевка, имение барона Штиглица, где управляющий и его семейство встретили нас очень радушно. Надо было иметь в перспективе провести ночь в завязнувших тарантасах, в непроглядной тьме, чтобы оценить вполне светлые, теплые комнаты, кипящий самовар и сон на постланных постелях! Тут мы остались ночевать и уже на волах пустились утром далее, чтобы ехать день и ночь.
Но когда мы приехали в Нововоронцовку, то наш погонщик нам объявил, что он нас не «свалит» на станции, а он знает, куда нас «свалить», и свалил он нас перед хорошим домиком. Это распорядился полковник Солнцев, управляющей имением графа Воронцова, и нам был сделан самый милый прием.
Полночь на 1 января 1855 года пробило, когда мы сидели за столом, поздравляли друг друга и от всей души желали всего хорошего. Грустно и тяжело было встретить новый год совсем с чужими, а все-таки надо было стараться быть повеселее.
На следующий день, после завтрака, мы пустились в путь; нам заложили две пары волов. Их оказалось мало, припрягли еще две пары, и вот восемь волов с трудом нас тащат по три версты в час. Это нестерпимо! Только последние две станции нам дали лошадей, и мы скоро доехали до Берислава.
В Бериславе мы должны были найти письмо от Николая Ивановича Пирогова с распоряжением его, куда нам ехать. Письмо это и было оставлено, но сестры второго отделения взяли его и распорядились по нем, то есть некоторые из них поехали в Херсон, а другие — в Симферополь; тут эти две дороги расходятся.
Из трех докторов, которые ехали с нами, двое посылались тоже великой княгиней на перевязочный пункт, а третий, доктор Василий Иванович Тарасов, был назначен доктором нашей общины и должен был всем распоряжаться. Он и написал Николаю Ивановичу и послал эстафет (тогда еще не было телеграфа). Я должна признаться, что меня очень обрадовало то, что уже другие отправились в Херсон, — авось мы попадем в Севастополь. Но нам пришлось ждать ответа несколько дней. Здесь можно было уже чувствовать, что мы подвигаемся к месту, где война, слышать рассказы, как мы бежали из Евпатории, и иногда смешные рассказы; например, как наши бежали под Перекопом, воображая, что за ними гонится неприятель, а за ними гнались казаки, чтобы их остановить… Мы пробыли в Бериславе и крещенский сочельник, а в Крещение ходили на Иордань на Днепр. Очень было красиво: высокая гора, на которой стоит город, была вся покрыта народом.
Через несколько дней получен был ответ: ехать в Симферополь. И вот, то на волах, то на паре верблюдов (эти по крайней мере идут скорее, по семи верст в час), мы добрались до Симферополя.
Приехали прямо в дом, где жили сестры первого отделения. Впечатление было очень грустное. Они со всем рвением и усердием принялись за дело; симферопольские госпитали были переполнены ранеными и особливо тифозными, и сами сестры стали очень скоро заболевать. Когда я приехала, то уже четыре сестры умерли; иные поправлялись, а другие еще были очень больны, и сама старшая этого отделения, она же и начальница всей общины, Александра Петровна Стахович, лежала еще в постели.
Я знала Симферополь прежде. Мы тут провели зиму 1850 года, когда приезжали с сестрой, но этот мирный, тихий городок был неузнаваем. Мы тогда хорошо тут жили. У меня были и знакомые, и первый — добрейший и милейший Владислав Максимович Княжевич. Я сейчас пошла к нему, и тут же, для увеличения грустного впечатления, узнала о смерти дяди. На другой день я отыскала в госпитале своего давнишнего и хорошего московского знакомого, Александра Михайловича Дмитриева. Он ранен; но ему лучше. Он очень удивился и обрадовался, увидав меня.
Не вдруг мы узнали окончательное распоряжение насчет сестер; но, наконец, было решено, что все сестры будут в Севастополе. Уже 16 сестер второго отделения там, на южной стороне, то есть именно в Севастополе, а сестры первого отделения тоже туда поедут, как только поправятся. Сестры, что приехали со мной, тоже должны туда ехать. Сестра-начальница сначала пожелала, чтобы я осталась тут заняться их домашними делами. Я скрепя сердце согласилась, но мои сестры подняли плач и приходили в ужас, как им ехать без меня; а так как Александра Петровна Стахович стала чувствовать себя крепче, то и решила, что я могу уехать.
И вот мы стали собираться. Надо было и то, и другое приготовить и взять с собой. При первом отделении находился чиновник Филиппов, такой мешкотный; он меня несколько раз выводил из терпения с укладкой разных мелочей и продержал нас так, что мы выехали поздно и только доехали до Бахчисарая. Тут дорога была хороша, а там, что ближе к Севастополю, то хуже. Мы не решились ехать дальше, а ночевать тут же.
Приходила ко мне сестра Лоде; они уже недели три при бахчисарайском госпитале. Она мне очень понравилась; жаль, если мы не будем с ней вместе.
Утром на измученных лошадях и по ужасной дороге подвигались мы к Севастополю. Хорошо еще, что в моем тарантасе было заложено пять лошадей; и вот, когда какой-нибудь тарантас завязнет, их туда вели и пристегивали. Можно легко себе представить, как наше путешествие совершалось медленно; но погода была великолепная, легкий мороз, воздух чистый и свежий, и местами так сухо, что мы могли идти пешком.
В пять часов мы были на Северной и долго не знали, где нам приютиться. Наконец Тарасов отыскал смотрителя морского госпиталя, и тот дал нам комнату, всю заваленную разными тюками, на которых мы и расположились, а его жена и теща пришли нас напоить чаем. Они здесь тоже на бивуаках: их госпиталь совсем разрушен бомбами, и они сюда перешли на четвертый день бомбардировки, но никого из всего госпиталя не только не убило, но и не ранило.
Боже, как я была глупа, слушая пальбу! Мне надо было себе говорить, что это стреляет в нас неприятель, а то так и кажется — на Ходынке ученье.
19 января мы провели дома, только выходили полюбоваться через бухту на Севастополь. Как он красив! Смотрели на вражеский флот, который очень гордо красуется на горизонте, а наш!..
На другой день ездила с сестрой Александрой Ивановной Травиной познакомиться с сестрами. Их старшая сестра Меркулова очень приятной наружности и очень мне понравилась. Ходили в госпиталь, где занимаются сестры. Но наш доктор никак не хочет, чтоб мы, не отдохнув хорошенько, поступили в госпитали. Итак, мы опять вернулись на Северную.
Наконец, 21 января мы пошли в бараки. Очень мы были рады приняться за дело. Но странно, дико все это казалось: и доктора незнакомые, и все такое чуждое. Какой-то француз с радостью закричал: «А, сестра!» — и еще более обрадовался, когда я с ним заговорила. Но не долго мы тут оставались. Приехал Николай Иванович и сказал, что лучше и нам тоже переехать на ту сторону, то есть именно в Севастополь, чему мы очень обрадовались. Прошло дня три, покуда нам приготовили квартиру. Доктора тут же с нами поместились.
Как мне живо вспоминаются эти две маленькие комнатки и звуки органа (в этом доме помещалась католическая церковь). Но мы не долго оставались тут, а перешли в тот же дом, где помещалась Меркулова с сестрами. Мы очень желали, то есть я и она, соединиться совершенно; я ей даже предлагала, так как ее сестер было гораздо больше, быть старшей над всеми, но она этого не захотела, и было положено, что мы будем заниматься домашними делами вместе, и дежурство тоже. Но ни ее, ни мои сестры не были этим довольны. Мы надеялись, что это потом обойдется. Оно и обошлось.
Николай Иванович Пирогов был неутомим и всем распоряжался; он нашел, что в собрании, где был первый перевязочный пункт, необходимо проветрить, так как там постоянно стала появляться рожа. Он велел раненых, которые были покрепче, отправить на Северную в бараки, а прочих перевели в Николаевскую батарею, в которой и прежде уже лежали больные, то есть раненые. Две или три сестры второго отделения жили там; другие из того же отделения приходили туда дежурить. И я, и мои сестры сначала тоже туда ходили на дежурство. Перевязочный пункт открыли в так называемом Инженерном доме. Это были на дворе небольшие домики, так что постоянно из одного помещения в другое надо было ходить по двору.
Живо мне вспоминается, как, бывало, идешь по двору, вдруг что-то блеснет: тепло, несмотря на февраль, — так и кажется, что это зарница, но раздавшийся гул вам тяжело напомнит про бомбы.
При перевязочном пункте должна была жить сестра Травина, для заведования хозяйством, аптекой и порядком. Еще мы заняли небольшой дом, там тоже должна была жить одна сестра.
Четвертое помещение — дом Гущина de funeste memoire, на дверях которого, как мы говорили, должна была быть та же надпись, что на дверях ада у Данте: «Оставьте надежду все входящие». Тут тоже жили две сестры второго отделения, а мы, прочие сестры, дежурили по суткам то в том, то в другом доме. Я больше дежурила на перевязочном пункте. Сначала все это было странно, чудно, но в это время раненых не было так много; иногда трех человек вдруг принесут, иногда сами приходят. Но что дальше, то больше, и часто от 16 до 20. Тут же, тотчас, и начинаются операции: ампутации, резекции, трепанации. Большею частью все делал сам Николай Иванович. Докторов очень много всех наций, даже американцев. Все они очень учтивы, даже чересчур. Говорят: «Будьте добры сделать то или это; сделайте одолжение, давайте через два часа это лекарство». И русские доктора очень внимательны и учтивы.
Я не хочу в подробности описывать все эти страдания, все эти операции, мучения, крики; да это, несмотря на ужасы, по самому своему продолжению становилось монотонно и продолжалось не день, не три, не неделю, не месяц — а месяцы!
Когда мы приехали, Севастополь был еще очень красив. И улица, где мы жили, площадь, где была лавка со всяким товаром и даже много посуды, стекла, и Екатерининская улица, — все было совершенно нетронуто. Как-то раз я ходила покупать разные мелочи и забывала, что мы окружены огненным кольцом неприятельских батарей. Вот тут ко мне подошел доктор Реберг; он ехал с нами из Петербурга и сказал мне, что сейчас ходил гулять на наши бастионы. Только что он от меня отошел, как ко мне подошел унтер-офицер, спрашивая меня довольно грозно:
— Кто с вами говорил?
Я отвечаю: «Доктор». Он мне говорит: «Берегитесь, это дело серьезное; он, кажется, шпион».
Тогда я ему сказала, что он может идти на перевязочный пункт, где этот доктор постоянно работает. Слово «шпион» здесь возбуждало всегда страшное волнение.
Очень было тяжело ходить по Севастополю и встречать отряды, которые идут на батареи. Они идут бойко, весело, но за ними три или четыре человека несут носилки. Сердце так и сожмется, и подумаешь: «Для которого это из них?». Или встретишь четырех человек, которые несут носилки; на иных нет ни движенья, ни звука, а с других раздается еще стон, — и подумаешь: «Право, лучше тому, для которого уже все кончилось! А этому еще сколько придется выдержать и, может быть, для такого же конца!». А с каким терпением наши солдаты переносили свои страдания! Сколько раз я слышала эти слова: «Господь за нас страдал, и мы должны страдать»!
Несмотря на то, что на южной стороне не оставляли больных и мы ходили только за ранеными, в один день семь сестер слегли в тифе, а потом так и продолжалось: то две, то одна занемогают, и доктора тоже стали болеть, так что уход за ранеными и за больными сестрами стал очень затруднителен. Хорошо, что в это время А. П. Стахович со своим отделением приехала. Она с большим числом сестер осталась на Северной, где уже тогда было много больных, а к нам отделили некоторых.
Не могу вспомнить, в какое время, — в начале ли марта, или позднее, — приехало еще отделение сестер из Петербурга. Их поместили на Павловский мысок, но, сколько мне помнится, после 26 мая и потери трех редутов, Селенгинского, Волынского и Камчатского, их перевели в морской госпиталь, который был в Михайловской батарее.
Начиная писать эти воспоминания, я не думала придерживаться хронологического порядка, но скоро увидала, что это необходимо: без этого нельзя сделать ясным, как постепенно положение наше все ухудшалось и ухудшалось.
Не помню в точности, какого именно числа февраля я дежурила на Николаевской батарее; рано утром у одного раненого сделалось сильное кровотечение, и врач послал позвать доктора А. Л. Обермиллера. Помочь раненому было невозможно — кровотечение было из сонной артерии, но тут же Обермиллер сказал доктору по латыни, что государь Николай Павлович умер! Для нас это было совершенно неожиданно; мы слышали только, что великие князья Николай и Михаил Николаевичи, которые жили более месяца в Севастополе и часто посещали на южной стороне наши госпитали, вдруг уехали, но мы все решили, что это, верно, для императрицы. А между тем тут же было велено всем идти в собор для присяги. А я, глядя на нашего скончавшегося солдатика, мысленно повторяла слова последней погребальной песни: «К судии бо отхожу, иде же несть лицеприятия: раби и владыки вкупе предстоят, царь и воин, богат и убог в равном достоинстве, кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится…»
Александр Леонтьевич Обермиллер и Николай Иванович Пирогов. Фотограф А. Сумовский. 1877 г.
И мы в эти дни похоронили одну из сестер. Здешний священник Петропавловской церкви, отец Арсений Лебединцев, который к нам часто ходил и которого мы все полюбили, отпевал ее, также и монах Вениамин, который еще из Петербурга приехал с общиной и оставался с сестрами на Северной. Стахович с сестрами тоже приехала проводить. Грустны и торжественны были эти проводы! Надо было через бухту ехать на Северную — на Южной уже никого не хоронили. И вот, при звоне колоколов, при пении «Святый Боже», которому постоянно вторила пальба, с развевающимися хоругвями, при чудной погоде, мы пошли на Графскую пристань и на катере, с гробом и духовенством, переехали бухту. Никогда не забуду я этого дня!
В начале марта, после одной ночи, в которую была сильная бомбардировка, утром доктор Тарасов прислал мне сказать, что необходимо послать сестер в дом Собрания, так как там много раненых, а те маленькие домики, в которых был наш перевязочный пункт, недостаточны для такого числа.
Взяв с собой одну сестру, я пошла в дом Собрания. Это прекрасное строение, где прежде веселились, открыло вновь свои богатые, красного дерева, с бронзою, двери для внесения в них окровавленных носилок. Большая зала из белого мрамора, с пилястрами из розового мрамора через два этажа, а окна — только вверху. Паркетные полы. А теперь в этой танцевальной зале стоит до ста кроватей с серыми одеялами и зеленые столики; все очень чисто и опрятно. В одну сторону большая комната; это — операционная, прежде бывшая бильярдной; за ней еще две комнаты; в другую сторону еще две комнаты, с прекрасными, с золотом, обоями, и в них тоже койки. Утром было 11 ампутаций, и потом еще несколько в продолжение дня. Сначала не обошлось без суеты и лишней беготни, пока устроились в новом помещении. Вечером Тарасов объявил нам, что князь Васильчиков велел сказать, что ночью будет дело и чтобы все было наготове и исправно.
И вот собрались доктора, и, разумеется, первым явился неутомимо работающий, живой, одушевленный и возбуждающий и в других одушевление и ревность к труду Николай Иванович Пирогов. Ясно помню и других докторов, постоянно находившихся на перевязочном пункте; а именно: наш общинный врач В. И. Тарасов, Реберг, Дмитриев. Эти трое приехали вместе со мною; но Дмитриев скоро занемог тифом и так пострадал, что принужден был уехать. С Николаем Ивановичем, который, как мне помнится, приехал еще в ноябре, приехали Обермиллер, Каде и Калашников, этот последний всегда был при Гущином доме. Были еще присланные великой княгиней Еленой Павловной Бенерс — Пабо, Хлебников, Тюрин. Из полковых докторов был постоянно при перевязочном пункте Иван Михайлович Добров, да еще два, как служащие при госпитале, а не как хирурги, Рождественский и Ульрихсон.
В этот вечер собралось восемь докторов и восемь фельдшеров, да ко мне пришли две сестры; мы все приготовляли, резали, катали бинты. Наша дежурная комната была в дамской уборной. Там жила постоянно одна сестра, которая заведовала хозяйством, имела чай, сахар, водку для больных. У нас почти постоянно кипел самовар, так как часто надо было поить раненых чаем с вином или водкой, чтобы поднять пульс, прежде чем хлороформировать. А как ужасно, когда по слабости раненого операцию делали без хлороформа: что за страшные были тогда крики!
И в этот вечер у нас в большой зале все приготовлено: стаканы, водка, самовар кипит. В операционной, вокруг Николая Ивановича, сидят доктора. В одиннадцатом часу начала раздаваться пальба, и тотчас же стали раскрываться настежь наши парадные двери: то двое, то трое носилок сряду; то два человека ведут под руки раненого. Доктора их осматривают, при затруднительных случаях зовут друг друга на совещание, раздаются слова: «Этого на Николаевскую батарею!» (значит, легко ранен), «Этого в Гущин дом!» (значит, без всякой надежды), «Этого оставить здесь!» (значит, будет ампутация, экзартикуляция или резекция).
Ночь началась очень страшно, но, слава Богу, всего было только 50 раненых и 4 ампутации.
С 10-го на 11 марта у нас произошла большая тревога. Я только что собралась уйти в пустую комнату отдохнуть, как вдруг слышу — пальба все сильнее и сильнее; я вышла на крыльцо с дежурным доктором. Мы смотрели и слушали, различая, когда стреляют наши, когда — неприятели. Меня этому еще прежде солдаты научили. Точно был фейерверк: так и сверкали выстрелы, освещая окрестные строения. Все пришло в движение; забили тревогу; как будто и на нас повеяло войной: то пройдет толпа, то слышен говор, то между двумя выстрелами раздается хохот и очень дико звучит между свистом ядер и бомб. Прискакал к нам Обермиллер и объявил, что сейчас явятся все доктора. Я послала за сестрами. На горе зажгло дом ракетой, и пожар как-то грозно освещал Севастополь. Но у нас раненых было немного — их носили на третий перевязочный пункт. Утром наши доктора поехали туда и перевезли до ста раненых, а более 50 осталось у нас. С семи часов вечера до одиннадцати продолжались операции, а на другой день — с десяти часов до двух.
Я знаю, что доктора и даже сестры при позднейшей, более консервативной хирургии поразились бы, если б я подробнее стала описывать то множество ампутаций, которые делались у нас всякий день; но пусть они вспомнят, что все ранены были ядрами и осколками бомб, и поэтому, кроме ран, был всегда и ушиб; к этому еще — скученность раненых, дурные условия и зараженный воздух. Мы и доктора не ходили за больными, а почти все получили тиф; солдаты были утомлены, и часто после операции, при первой перевязке, оказывалась гангрена: резекции шли неудачно; ампутации ног кончались хуже, чем рук. Руки лучше заживали и скорей, когда ампутация была выше локтя, а ноги — напротив того; и ампутации бедра, особливо в верхней трети, всегда почти имели печальный исход. Но что было ужасно, это когда одному человеку делали ампутации двух членов зараз, и, однако, были такие молодцы, что и это выдерживали. Я видывала их у нас на перевязочном пункте, видела их потом в симферопольских и екатеринославских госпиталях. Было также очень тяжело, именно у нас на перевязочном, когда, после того как больной подавал надежды на выздоровление, он вдруг начинает лихорадить, пожелтеет, и доктор говорит, что надо его отправить в Гущин дом — для больного это все равно что смертный приговор. А нечего делать, вполне сознаешь, что нельзя только что принесенным раненым быть в соприкосновении с таким больным и видеть умирающего. На перевязочном пункте не должны умирать.
В Гущином доме, куда я ходила, постоянно увидишь трех или четырех умирающих; всякое утро, если погода была теплая, всех больных на койках выносили на двор, а если придешь через полчаса, как они внесены, то уже дух был невыносимый, несмотря на целые ведра ждановской жидкости. Однако и в этом ужасном месте были такие, которые выздоравливали. Я сама имела удовольствие отдать одному обратно его деньги, которые он мне поручил переслать жене после его смерти.
В этом госпитале были постоянно две сестры, Григорьева и Голубцова, и это был великий подвиг: так там было безотрадно. Бедная Голубцова много вытерпела: во-первых, их экипаж опрокинулся и у нее были сломаны два ребра; потом у нее был тиф, несколько дней она была совершенно без сознания, и наконец, когда летом было немало случаев холеры, она была при этом госпитале и умерла холерой.
В продолжение марта иные сестры выздоравливали, другие занемогали, одна еще умерла.
Пасха в 1855 году была ранняя, 27 марта. В Вербное воскресенье я тоже слегла в тифе, на Страстной неделе причастилась запасными дарами, и хотя была в памяти и даже всякий день одевалась, но дальше кровати не могла идти. Грустно было так проводить Страстную неделю и встретить Христово Воскресение не в церкви, которую не смели иллюминовать снаружи, чтобы не сделать целью для выстрелов, а на постели.
А еще было грустнее, когда в понедельник утром началась страшная бомбардировка. Вас. Ив. Тарасов пришел тотчас ко мне и потребовал, чтобы я сейчас же переехала на Николаевскую батарею. Но пришел Яни, офицер, который нам доставлял все, что нужно по хозяйству, дров или воды. Я у него спросила: «Можно здесь остаться?». Он отвечал: «Очень можно!».
И я опять спокойно легла и слушала пальбу, но грозная записка от Тарасова и экипаж от Николая Ивановича заставили меня послушаться; отправив прежде сестер, я тоже, под тихим весенним дождем, при неумолкаемой пальбе, переехала на Николаевскую.
Кстати, постараюсь описать это странное строение, от которого после не осталось камня на камне. Кто его видел, тот сам вспомнит, а я боюсь, что не сумею описать подробно для других.
Это — длинное, огромное строение, которое служило и казармой, и батареей. Во всю длину его тянулась длинная — не знаю, как и назвать — галерея, не галерея, а скорее длинный коридор; по сторонам — ниши, даже можно назвать почти комнаты, но только ничем они не отделены от прохода, довольно просторны, так что в них стояло шесть и восемь кроватей или только нары. Тут большие окошки, но в них не очень светло, так как вдоль всего строения, по внутренней его стороне, что к городу, идет наружная крытая галерея. С другой стороны, которая обращена к морю, углубления или ниши, только гораздо меньше, что нужно для пушки, и маленькие окна или, лучше сказать, амбразуры. В иных еще в это время стояли пушки и даже люди бывали наготове. Все строение в два этажа, длинные галереи перебиваются сенями, и лестница вниз. На одном конце — хорошие комнаты, где помещался главный штаб и жил граф Дмитрий Ерофееевич Остен-Сакен, а на другом конце, что к Графской пристани — пороховой погреб. Все строение казематировано, и нам отвели каземат довольно просторный, отделенный от других, но сырой и темный, так как он был обращен к морю, а маленькое окошечко служило только амбразурой для пушки.
Была у нас железная печка, и тут мы и пекли, и варили и устроились, точно цыгане: кастрюли, горшки, все в одной комнате. Наша дверь прямо открывалась на ту длинную галерею, какую я сейчас описала. Все койки были заняты фрактуристами (больные с переломами конечностей. — Прим, ред.)-, у многих делается гангрена, дух ужасный, а их стоны так и слышны, когда все умолкает и ляжешь спать.
И несмотря на все это, я очень скоро поправилась и могла, сначала, по крайней мере, ходить по нашим палатам.
Во всяком длинном коридоре посредине висели образа, и перед ними теплилась лампадка. И вот вечером всякий, кто только мог вставать, приходил помолиться перед этими образами. Как теперь вижу, как те, которые лишались правой руки, сейчас же начинали креститься левой.
Скоро я могла идти хоть днем на перевязочный пункт. В эти дни площадь между Николаевской и Собранием бывала наполнена солдатами; они тут и ночуют, и обедают, одни уходят, другие приходят. Трудно было по ночам и проходить в Собрание. Усиленная бомбардировка продолжалась до 10 апреля, когда в одни сутки случилось 238 человек раненых, а 11-го — только 28 человек. Потом иные дни было потише, потом опять сильнее.
Как я была рада, когда с 11 апреля я могла опять через день дежурить по целым суткам! Солдаты нас очень любят и рады, когда мы к ним приходим; для них было большое утешение, когда к ним заходили женщины. Была у нас одна старушка, которой еще 10 марта в ее доме осколком бомбы раздробило бедро. Я ее уговорила на ампутацию, и, несмотря на худые условия (она лежала вместе с мужчинами) и на то, что раз в этой комнате разбило окно осколком, и что ей было 60 лет, — она выздоровела! Но что было ужасно — это видеть раненых детей, как они, бедняжки, мучаются и страдают. Был у нас мальчик семи лет с перебитой ножкой; была даже грудная девочка, которой мать была убита, в то время как она ее кормила. Дочь моей старушки тоже кормила своего ребенка и взялась кормить и нашу раненую малютку, но ребенок скоро умер. Господи, как все это было ужасно и тяжело!..
В доме же Собрания, в одной комнате, бывшей прежде нарядной гостиной, лежали у нас и оперированные офицеры. А то был еще особый офицерский госпиталь в так называемом Екатерининском дворце; но это не только не дворец, но и дом-то небольшой и довольно низкий; он был близко к Графской пристани. Его тоже и следа не осталось.
В этой больнице заведовала хозяйством и ухаживала за тяжело раненными сестра Александра Ивановна Травина, нашего, третьего отряда.
Во время этой сильной и продолжительной бомбардировки, по случаю болезни сестер, к нам приехало много сестер из первого и даже четвертого отряда. Они и остались у нас, так что персонал сестер несколько изменился. Иных перевела Стахович, по расстройству их нервов, других — после разных глупых сплетней. Да и при громе пушек и блеске ракет они все-таки потихоньку шептались. Не стану о них и вспоминать, только расскажу, до какого абсурда все это доходило. Меня, например, приходили предостерегать, что одна сестра из маленького окошка на море подает разные сигналы неприятельским кораблям, или что другая сестра, купаясь в море, говорила, что она уплывет к французам!
Положа руку на сердце, и перед Богом, и перед людьми твердо могу сказать, что все сестры были истинно полезны, разумеется, по мере сил и способностей своих. Во-первых, денежного интереса не могло и быть, так как сестры Крестовоздвиженской общины были всем обеспечены, но жалованья не получали. Были между нами и совсем простые и безграмотные, и полувоспитанные, и очень хорошо воспитанные. Я думаю, что были такие, которые до поступления никогда и не слыхали, что есть и чем должны быть сестры милосердия, но все знали и помнили слова Спасителя: «Егда сотвористе единому из сих меньших, Мне сотвористе». И все трудились, не жалея ни сил, ни здоровья. Но, однако, разные сплетни и распоряжения, которые я находила ненужными и несправедливыми, довели меня до того, что я отказалась быть старшей сестрой, а только исполняла обязанности сестры при наших раненых, чему я была очень рада: не надо было хлопотать о сестрах, заниматься хозяйством, писать отчеты.
Когда мы уезжали, великая княгиня просила часто писать в Петербург; но чтоб облегчить корреспонденцию, которая была бы очень затруднительна и официальна, если писать прямо на имя ее высочества, нам было разрешено писать к мадмуазель Шабель или к Эдите Федоровне Радей, а все это будет читаться великой княгиней. Я писала к Раден и по необходимости должна была написать и обо всех этих неурядицах, и о том, что я остаюсь не старшей, а младшей сестрой на Южной стороне. Что писали другие в это время, я не знаю, но, думаю, было много сплетен и разных пустяков. Жаль, если все эти письма хранятся в архиве общины; их не стоит беречь. Надо сохранять только то, что касается чести и той великой помощи, которую, благодаря неутомимым попечениям и живому и благотворному участию великой княгини Елены Павловны, принесла община в это грустное время.
Кстати, о письмах. Великая княгиня распорядилась напечатать в «Морском сборнике» отрывки из писем сестер; когда я вдруг прочитала выписку из своего письма к сестре, то мне даже было неприятно и неловко, особенно когда доктора стали смеяться и приступать, что вот как я описываю именно наш перевязочный пункт.
Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией. Художник К. Брюллов. 1830 г.
Были у меня в Севастополе и старые знакомые. Во-первых, двоюродный брат, Александр Бакунин, пришел с тобольским полком, в котором он служил юнкером, после того, что был профессором в Одессе. Еще мичман Творогов, который мальчиком жил у нас в Москве; старший комендант Кизмер, граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, оба — старинные знакомые нашего дома.
Если и приятно было видеть Александра Бакунина, то и тяжело было провожать его и следить глазами, как он идет по Екатеринославской улице на четвертый бастион, и видеть, как в этом направлении на чистом голубом небе появляются маленькие беленькие облачка, и знать, что это лопаются бомбы. Но, слава Богу, оставаясь до последнего дня, он не был ранен.
Мы почти весь апрель оставались на Николаевской батарее; я только иногда ходила отдыхать на нашу квартиру. В половине или конце апреля к нам приехала, как старшая, сестра Лоде.
И у нас все пошло по-старому. Раненых — то больше, то меньше. Утром операции, перевязка. С 19-го на 20 апреля ночь была ужасная: более ста раненых и 60 операций в одно утро! К нашим постоянным трудам прибавились новые хлопоты: всем ампутированным стали раздавать деньги; у кого нет ноги, тому 50 руб., у кого нет руки — 40 руб., а у которых нет двух членов, то 75 руб. Наши раненые, разумеется, сейчас же просят нас взять деньги на сохранение. Но, приняв, надо все записать аккуратно: имя, полк, родину, родных. Суммы соберутся большие. Вот у меня в один день собралось до двух тысяч серебром, и как страшно было их беречь; ведь мы не имели ни комодов, ни сундуков. А было еще хлопотливее то, что больной вдруг просит дать ему рубль или даже 50 коп., а разменять 50-рублевую бумажку в Севастополе было очень трудно. Потом еще при отправлении больных в другие госпитали надо отыскать всякого, от кого взял на сбережение деньги, и отдать ему. В начале мая у нас именно отправляли больных на Северную, так что у нас на перевязочном пункте в Собрании осталось только 16 человек, а на Николаевской батарее, где бывало более 1000 — только 47. И как было грустно, что всех моих знакомых увезли!
В это время я часто ходила на нашу квартиру в доме генерала Павловского; мы были хорошо знакомы с его дочерью и воспитанницей. С ними в катере генерала мы ездили купаться на Хрустальные воды, как называется это место в Артиллерийской бухте. И я думаю, что это купанье нас много подкрепляло и спасало. Но с конца июня пришлось от этого отказаться, так как мы раз, придя садиться в лодку, увидали в ней штуцерную пулю.
Помню также, как раз мы шли от купанья, и вдруг раздался громкий гул от пролетевшего ядра. Одна сестра села наземь и открыла для защиты над собой зонтик, так что мы все расхохотались.
Еще живо помню я, как раз шла из дому в Собрание; встречались мне то солдаты, идущие на работу, — они идут бодро и весело, а за ними неизбежные и, к несчастью, необходимые носилки; то огромные фурштадтские телеги на тройках с турами; то четыре человека несут больного на зеленой кровати. Боже мой! Как грустно! Это из Собрания — в Гущин дом. Но вот идет ко мне навстречу высокий мужчина с красным воротником, военный — их так много. И вдруг я слышу возглас: «Екатерина Михайловна, так это вы! Покуда я вас не увидал, мне все не верилось, что это точно вы сюда приехали». И Николай Васильевич Берг стоит передо мной, и его голос, так звучно оглашавший стихами наши бутырские рощи, в одну минуту перенес меня от настоящего военного в прошлое мирное и тихое время. Он и потом несколько раз приходил ко мне. Он, кажется, служил у князя Горчакова и жил на Северной.
Я должна несколько подробнее описать ужасную ночь с 10-го на 11 мая. Но я чувствую, что мне теперь так живо этого не описать, как я описывала сестре моей в письме от 13 мая. Пропускаю все возгласы, которые тогда так и лились с пера, и привожу прямо описание: «С понедельника на вторник наши выходили рыть новые траншеи, — кажется, между пятым и шестым бастионом, — и устраивать батареи под прикрытием войска. Мы были наготове всю ночь, но ночь прошла благополучно, и во вторник днем все было тихо и спокойно. Вечером опять ждут и все необходимое готовят в нашей белой мраморной с розовыми пилястрами зале. Тюфяки уже без кроватей, а лежат на полу в несколько рядов; несколько столиков с бумагой, а на одном — примочки, груды корпии, бинты, компрессы, нарезанные стеариновые свечи. В одном углу большой самовар, который кипит и должен кипеть во всю ночь, и два столика с чашками и чайниками. В другом углу стол с водкой, вином, кислым питьем, стаканами и рюмками. Все это еще в полумраке, в какой-то странной тишине, как перед грозой; в зале 15, а может быть, и более докторов; иные сидят в операционной комнате, другие попарно ходят по зале. Офицер и смотритель торопливым шагом входят и выходят, распоряжаясь, чтобы было больше фельдшеров, больше рабочих.
А когда посмотришь в дверь или в ряд высоких окон по обеим сторонам нашей залы, то ночь такая светлая, тихая, тонкий серп луны блестит так ярко, звезды такие ясные!.. Но вот в десятом часу точно молния блеснула, и раздался треск, даже стекла задребезжали в рамах. И блестит все чаще и чаще… Нельзя расслышать отдельных ударов, но все сливается в один гул. Это пальба на 5-м и 6-м бастионах, там, где работают новые батареи. В город бомбы не долетают.
Мы сидим и слушаем все в том же полумраке. Так проходит около часа… Вносят носилки, другие, третьи. Свечи зажглись. Люди забегали, засуетились, и скоро вся эта большая зала наполнилась народом, весь пол покрылся ранеными; везде, где только можно сесть, сидят те, которые притащились кое-как сами. Что за крик, что за шум! просто ад!
Пальба не слышна за этим гамом и стонами. Один кричит без слов, другой: „Ратуйте, братцы, ратуйте!". Один, увидя штоф водки, с каким-то отчаянием кричит: „Будь мать родная, дай водки!"
Во всех углах слышны возгласы к докторам, которые осматривают раны: „Помилуйте, ваше благородие, не мучьте!.." И я сама, насилу пробираясь между носилок, кричу: „Сюда рабочих!" Этого надо отнести в Гущин дом, этого — в Николаевскую батарею, а этого — положить на койку. Много приносят офицеров; вся операционная комната наполнена ранеными, но теперь не до операции: дай Бог только всех перевязать. И мы всех перевязываем.
Принесли офицера; все лицо облито кровью. Я его обмываю, а он достает деньги, чтобы дать солдатам, которые его несли; это многие делают. Другой ранен в грудь; становишься на колени, чтобы посветить доктору и чтобы узнать, не навылет ли, — подкладываешь руку под спину и отыскиваешь выход пули. Можешь себе представить, сколько тут крови!.. Но довольно! Если бы я рассказала все ужасные раны и мученья, которые я видела в эту ночь, ты бы не спала несколько ночей!..
Наконец рассвело. Пальба прекратилась. При доме Собрания есть маленький садик. Представь себе, — и там лежат раненые. Я беру водки и бегу туда. Там, при чудном солнечном восходе из-за горы над бухтой, при веселом чириканье птичек, под белыми акациями в полном цвету лежит человек до 30 тяжело раненных и умирающих. Какая противоположность с этим ясным весенним утром! Я позвала двух севастопольских обывателей, которые всю ночь с большим усердием носили раненых, перенести и этих. Говорили, что в эту страшную ночь выбыло из строя 3000 человек; у нас перебывало более 2000 и было 50 раненых офицеров».
На другой день начались операции и продолжались во весь день до вечера, только с небольшим перерывом для отдыха и обеда. На третий день пальба была меньше и раненых тоже; мы думали, что можно отдохнуть, но вдруг двери отворились и пошли носилки за носилками; и это оказались несчастные, которые были ранены еще в ту ужасную ночь и так и пролежали там почти двое суток. Иным французы давали воды и галеток. Все были ранены в ноги.
Я могла бы, после этих ужасных воспоминаний, рассказать что-нибудь поотраднее… Вот вспоминается мне великолепный вечер 19 мая. Я была у сестер на Северной; возвращалась я назад через бухту на катере с А. П. Стахович. Так было хорошо! Море как зеркало, пальбы почти никакой; в воздухе что-то приятное, успокоительное. И вот, зайдя на минуту в Собрание, я пошла домой, чтобы хорошенько отдохнуть, но сейчас же приходит почти вслед за мной сестра Степанова и говорит, что меня просят сейчас же идти в Собрание. Иду поспешно, не понимая, зачем меня зовут; ведь я только что ушла оттуда. И первая сестра, которая меня встретила, говорит: «Творогова сейчас принесли сюда; он ранен в грудь с левой стороны навылет».
Он был страшно бледен и так слаб, что насилу мне ответил. Прежде чем я пришла, он уже исповедовался и причастился. У нас постоянно дежурили тоже священники, имея при себе запасные дары. Я не имела никакой надежды и всю ночь в полутемной комнате просидела подле него, прислушиваясь с напряженным вниманием к его дыханию, ожидая ежеминутно последнего его вздоха. Но к утру он стал не так бледен и слаб и отвечал мне в полной памяти. Но я все-таки не решилась 21-го, в именины великой княгини, ехать на Северную, где начальница, сестры и доктора справляли праздник основательницы нашей общины. Итак, я не знаю, кто и что там было. Я боялась оставить моего раненого, так как положение его было очень опасно, хотя на третий день Николай Иванович и все доктора начали подавать надежду на его выздоровление. Ухаживать за ним мне было очень удобно, так как он и еще некоторые раненые офицеры оставались в доме Собрания, хотя и был особенный офицерский госпиталь в Екатерининском дворце.
Я всегда слыхала, что Нахимов очень внимателен ко всем раненым морякам, а тут я увидела это и на деле. На другой же день он был два раза у Творогова — спрашивал, что он желает, что можно сделать для его семейства, так как в эту минуту не было еще никакой надежды на его жизнь. Он также очень внимателен и к матросам, присылает табак, варенье и пр., часто приходит навещать их. Как же морякам не любить такого начальника?
25 мая, только что мы сели обедать на балконе, спасаясь от мух, которых в комнате целый рой, — одна бомба за другой вдруг начали свой грозный полет. Мы продолжали обедать, но Творогов прислал за мной. Я испугалась, пошла, думая, что ему стало хуже. Но он мне сказал, что желает, чтобы я была в Собрании, где менее опасности (не знаю, отчего он это находил, так как наши госпитали были постоянно обстреливаемы). Ожидали, что начнется бомбардировка. Бомбардировки города не было, но была ужасная пальба на бастионах; нам хорошо это было видно с террасы, на которую можно было выйти с хор залы Собрания. Шум, треск — настоящий ад! А когда стемнело, то точно фейерверк: по десяти и более бомб вдруг летали. У нас раненых было мало, так как с тех бастионов носили на Павловский мысок. Через день только Николай Иванович съездил туда, и к нам перевезли 200 человек, и пошли операции. Результат ночи с 25-го на 26-е был очень грустный: мы потеряли Селенгинский, Волынский и Камчатский редуты, и неприятельское кольцо все теснее и теснее окружало Севастополь. Это произвело большое уныние.
В это же время Н. И. Пирогов и многие из докторов, которые именно были с нами на перевязочном пункте, собирались уезжать, да и перевязочный пункт решили перевести на Северную, на Михайловскую батарею, то есть такой пункт, какой был у нас в Собрании, где делаются большие операции и лежат больные, а на Южной будет только подаваться самая первая, необходимая помощь.
Сестер решили оставить только пятерых. А. П. Стахович не хотела этим распоряжаться, а предложила, чтобы сестры сами заявили свое желание. Я первая очень пожелала остаться, и многие тоже вызвались, но решено, что довольно пяти.
Я забыла сказать, что великая княгиня, зная давно, что Николай Иванович думает уехать, поручила общину графу Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену, так что он после отъезда Николая Ивановича стал нашим главным начальником и покровителем. Он и всегда был очень внимателен к сестрам и показывал большое участие к нам.
Теперь, дойдя в моих воспоминаниях до 6 июня, не могу не остановиться и не написать подробно об этом дне. Мне так живо вспоминается все то, что тогда было, все, что я тогда испытала и перечувствовала, что кажется, будто это было не так давно.
Начну мои воспоминания с самого вечера 5 июня. Мы опять с мая месяца жили в доме Павловского; только сестра Меркулова со своими сестрами осталась на Николаевской батарее.
Только что мы поужинали и хотели лечь спать, чтобы хорошенько отдохнуть, как вдруг бомба разорвалась близ ко от нас, так что осколки посыпались на деревья нашего садика. Сестры хотели сейчас бежать на Николаевскую батарею, а я решительно сказала, что останусь; французы попалят с великим треском, да и перестанут. Четыре сестры тоже остались. Но перестали только на полчаса, а затем опять поднялась адская трескотня и с нашей Константиновской батареи; с густым и полным звуком несутся ядра над морем в их корабли, а они с кораблей пускают ракеты по несколько вдруг — настоящий фейерверк!
Я, сестра Куткина и Павловская, мы сели у открытого окошка смотреть на это грозное и красивое зрелище. Как сейчас вижу — вдруг три ракеты блестят все ярче и ярче и поднимаются все выше и выше, точно прямо к нам. Как я усердно помолилась в эту минуту! Но, слава Богу, не знаю, куда они долетали, но нас не тронули. Когда рассвело, я крепко заснула, но вбегает Павловская и кричит: «Штурм! Надо скоро уходить!».
Но, однако, штурма в эту ночь не было. Так как с вечера у нас все было уложено и приготовлено, то мы сейчас собрались и отправили весь свой багаж на Николаевскую батарею, куда и велено было носить раненых.
Сестра Куткина, которая со мной дежурила, ушла туда, а я осталась при девяти офицерах. Иные уже давно у нас лежат, в том числе и Творогов; ему, слава Богу, было лучше, но он жаловался, что эти близкие выстрелы очень болезненно на него действуют.
А бедный молоденький юнкер, которому недавно отняли ногу, метался, выходил из себя, умолял, чтобы его перевезли на Северную. Я его успокоила, пообещав, что при первой возможности он будет туда перевезен.
Куперницкий, штурманский офицер, находящийся при перевязочном пункте и которому в особенности были поручены флотские раненые, поехал на Северную, чтобы узнать, приготовлено ли помещение в 4-м №. Комнаты были очищены, но в них ровно ничего не было, так что раненых надо было перевозить на их кроватях.
Во время его поездки брат его был ранен на бастионе, и он прямо оттуда велел перенести его на баркас; те же рабочие перенесли из Собрания юнкера и еще двоих. Я их провожала до баркасов. Ночь была темная, но совершенно тихая и теплая. С одной стороны серебристый свет нового месяца, с другой — то раскаленные ядра; то ракеты.
Кровати поставили на баркас, и сам Куперницкий с ними уехал, поручив мне на двух приготовленных баркасах отправить остальных раненых, а чтоб было кому их перенести, обратиться к дежурному офицеру при Графской пристани, так как рабочие должны были немедленно вернуться на бастион.
Я так и сделала, но тут вышло непредвиденное затруднение: дежурный офицер сказал мне, что у него нет рабочих.
— Так прикажите же людям, которые на баркасах, перенести раненых.
На это он объявил, что они обязаны работать только на воде, а не на земле.
— Но что же будет? — вскрикнула я. — Они останутся ждать тут под ядрами, а раненые будут лежать в Собрании также в опасности? Боже мой, что же мне делать?
— Что хотите.
— По крайней мере, не препятствуйте им идти, если я их на это уговорю.
— Извольте, уговаривайте.
Я подошла к баркасам и сказала:
— Вы знаете, что вы должны перевезти раненых, но некому их нести, а покуда я достану рабочих, вы простоите тут всю ночь. Гораздо лучше, если вы сами за ними пойдете, а я вам еще и заплачу за труды.
Сестры Крестовоздвиженской общины попечения раненых. Севастополь. 1855 г.
Они согласились охотно, и мои раненые, которые долго и с таким нетерпением меня ожидали, были, наконец, перенесены на баркасы.
Проводя их, я вернулась в Собрание. Какое грустное и тяжелое впечатление производила эта большая опустевшая зала, освещенная одной свечой, которую я держала в руках, и сверкающими в окнах выстрелами!..
Итак, мы оставили этот дом, где столько перебывало страдальцев; нашим единственным убежищем в Севастополе стали казематированные своды Николаевской батареи.
Взяв из Собрания некоторые вещи, я тоже пошла туда продолжать свое дежурство. Там было много тяжело раненых, теснота, духота страшная. По временам я выходила на галерею подышать свежим воздухом и посмотреть на грозно-прекрасную картину: на горе в Севастополе было несколько пожаров, и какой был резкий эффект белого, яркого света брандскугеля, если он падал близко от красного пламени пожаров. А на Малаховой кургане так и сверкал батальонный огонь.
Александр Бакунин скоро пришел и рассказал, что французы пытались штурмовать Малахов курган, но, потеряв много людей, лестницы и фашины, были отбиты. Солдаты бросались им на встречу как львы. Успех очень всех одушевил, но ждали новой попытки.
Тут мы уже совсем устроились в Николаевской, только наш каземат был с большим окошком не на море, а на Севастополь, на площадь, на Екатерининскую улицу, откуда на нас стреляли.
Через день я могла съездить на 4-й №, куда перевезли Творогова и других офицеров. Очень мне хотелось знать, хорошо ли они перенесли переезд и будет ли там ординатором наш доктор В. Ив. Тарасов, чего я очень желала и очень была довольна, что он там; я долго у него сидела.
Теперь стало очень затруднительно попадать на Северную, так как вольных лодок уже не было, а надо было доставать казенные. На этот раз я поехала туда с Яни; ему надо было побывать на Михайловской батарее, где теперь был перевязочный пункт и где профессор Гюбенет заменил Н. Ив. Пирогова, который 5-го уехал в Симферополь, а оттуда в Петербург.
Там я познакомилась и с новыми сестрами и в первый раз была в этом госпитале. Вернулась я на гичке с Куперницким. Что за милая штучка эта гичка и как скоро она плывет! Все было так спокойно; прошла я в каземат сестры Айнской. Там был Ив. Ив. Кизмер; мы пили вместе чай и радовались недавнему успеху. Вернулась я к себе поздно. Вижу — записка от А. П. Стахович. Она пишет, что просит нас всех немедленно собраться и ехать к ним на Северную, что они нас ждут, что в другом месте мы можем быть полезнее! Я была удивлена, поражена, не могла понять, отчего, когда штурм был так успешно отражен, мы должны оставить Севастополь? Я тотчас пошла к графу Сакену, которому теперь была поручена община, узнать, что это значит, и спросить, что мне делать; уехать я никак не хотела.
Сначала он отказался меня принять; мне сказали, что он приехал с бастионов и лег; а я отвечала, что мне совершенно необходимо его видеть, и в горизонтальном он или в вертикальном положении, это мне все равно; я пробуду у него одну минуту.
Когда он меня принял, я ему поспешно рассказала, что я только что приехала с Северной, видела нашего доктора Тарасова; он мне ничего подобного не говорил. А возвратившись, нашла такую записку и показала ему письмо А. П. Стахович, спрашивая, что мне делать. Он тоже не понимал, отчего вдруг такое распоряжение, и отвечал мне очень неопределенно. Тогда я попросила дать мне казака, чтобы послать записку доктору Тарасову и узнать, что это значит. А чтоб не терять времени, я пошла написать записку в канцелярию главного штаба; там все радовались победе, отраженному штурму, писали реляции, и я еще более не понимала, зачем нам уезжать. Однако, отправив записку с казаком на Северную, я все-таки сказала сестрам, чтоб они были наготове и уложились, а сама поужинала и, совсем одетая, легла и скоро заснула, так как две ночи не спала.
Но вдруг, в первом часу ночи, страшная перестрелка на Малаховом кургане заставила меня вскочить и выбежать на нашу галерею. Увидя два ярких огня на кургане (это значило, что просят о помощи), я подумала: неужели я глупо сделала, что не уехала? Но огни очень скоро погасли, штуцерная перестрелка прекратилась, а казак подал мне записку от доктора, который писал, что уезжать нам нет нужды, что это какое-то недоразумение.
Я потом слышала, что сестры на Северной ночью поспешно ушли из бараков в какой-то новый, готовившийся для госпиталя лагерь. Какой это именно был — не знаю. Думаю, что это тот, который был, как его называли, на Северных горах, потому что до того места, где потом был тоже госпиталь на Бельбеке, очень далеко. Отчего у них была такая тревога — не знаю. Потом мне только некоторые сестры рассказывали с большой досадой про этот ничем не мотивированный побег.
Я мало пишу о других отделениях и о других сестрах. Хотя расстояние между нашими отрядами считалось очень небольшое, но способы сообщения были очень затруднительны, да к тому же у всех было слишком много дела, чтобы иметь возможность посещать друг друга; а по рассказам, которые я теперь отчасти и перезабыла, не хочу писать, не будучи уверена, что они справедливы.
Из первого отряда я знала только тех сестер, которые поступили к нам на перевязочный пункт. Знала я еще некоторых сестер, Гординскую и Домбровскую. Гординская была помощницей начальницы и старшей при бараках. Их обеих очень хвалили. Помню, что я раз была у них и с сестрой Гординской ходила в палатки, где тоже было много больных. Я была там в очень хорошую погоду и с удовольствием ходила по этому лагерю, отыскивая в палатках своих знакомых больных. В эту минуту погода была прекрасная, и хотя местность очень грустная, но каждый маленький кустик, каждая травка так свежо зеленели, воздух был такой чистый, приятный!..
Но этот госпиталь был открыт ранней весной, и бедные сестры, ходя в него из бараков, мучились, идя по невылазной, липкой грязи, и там иногда целый день находились под дождем.
Не знаю тоже, когда именно сестры были помещены в Михайловскую батарею, прежде ли, или после только того остались там, как туда был переведен от нас перевязочный пункт, который очень скоро вернулся на Южную сторону, в Николаевскую батарею (на Михайловской он был всего десять дней), а там остался главный флотский госпиталь. Потом там и была ранена сестра Васильева: осколком бомбы ей переломило руку, но, слава Богу, она хорошо поправилась.
Тоже не знаю, когда открыт госпиталь на Северных высотах и Бельбеке, и когда сестры туда переехали, и сколько и кто там был. Знаю только, что на Бельбеке жила сама А. П. Стахович, а на Северных высотах — сестра Чупати, но кто еще с ними и сколько — не знаю.
Я бы очень желала, чтобы кто-нибудь, пользуясь всеми письмами и официальными бумагами и обращая внимание не на сплетни, а на действия, описал все труды Крестовоздвиженской общины во всех местах и городах, где работали тогда сестры. А то жаль, что нет именно полного отчета о деятельности общины с первой же минуты ее создания неустанными и столь душевными заботами великой княгини Елены Павловны. Тогда это было совершенно новое дело. Даже в Париже сестры святого Винсента Поля только в крымскую кампанию поступили в военные госпитали. Это они мне сами рассказывали, когда я проводила с ними целые дни в военном госпитале «Долина милосердия» — и все неприятности и обиды, которые им пришлось там перенести.
Мне часто приходилось спорить с сестрами Красного Креста, которые говорили, что сестры Крестовоздвиженской общины не так работали и не так были поставлены, как они теперь, — что совершенно ошибочно, а особливо по госпитальному начальству мы были лучше поставлены, если судить только по тому, что я видела и, особливо, что слышала на Кавказе, где была сестрой Красного Креста больше года при военных госпиталях.
Но возвращаюсь к прерванному рассказу.
Итак, мы были совершенно правы, что не уехали с Николаевской батареи, так как через десять дней перевязочный пункт опять вернулся к нам. Опять приехала сестра Лоде, как старшая, а с ней и прочие сестры.
Только перевязочный пункт, вместо больших, высоких комнат дома Собрания, помещался в тесных трех казематах под сводами, да на место Николая Ивановича Пирогова — Гюбенет и совершенно не тот персонал докторов.
И теперь работали непрерывно, аккуратно, но не было того товарищеского чувства, которое соединяло всех вокруг Николая Ивановича; не было того оживления, той живости, того душевного участия!.. А работы все прибавлялось и прибавлялось, и опять пошли у нас однообразно мучительные дни, то менее, то более раненых, то много, то меньше операций…
Остановлюсь на приезде в Севастополь архиерея Иннокентия. В самый день своего приезда он с графом Сакеном приходил в наши казематы благословить сестер. А на другой день было молебствие на площади перед Адмиралтейством. С одной стороны этой площади — церковь, с другой — круглый фасад дома Красильникова. В этот дом постоянно в эти дни летали бомбы, и многих ранило, но об этом никто и не думал: они летали и дальше, и долетают и перелетают через площадь. Генералы, войско, народ, несколько дам в шляпках и я с сестрами спокойно тут стоим. Духовенство в золотом облачении; хоругви развевались и блистали при ярком утреннем солнце. Стройно неслось пение.
Когда окончилось молебствие, архиерей, в своем богатом облачении, в митре, блистающей золотом и алмазами, небольшой ростом и уже с поседелой бородой, подошел к аналоям, где лежали образа Божией Матери и святых угодников. Из задних рядов вышло по нескольку человек неустрашимых защитников Севастополя. Они пришли с бастионов, защищающих город, чтобы принять благословение архипастыря и отнести на бастионы образа, которые усердие соотечественников прислало из разных мест России.
Передавая им образа, архиерей Иннокентий говорил им краткие речи, но, к сожалению, за шумом и отдалением нам ничего не было слышно. Когда он отдал все образа и запели: Спаси, Господи! — как усердно все молились при слове «победы!»…
Во все пребывание мое в Севастополе я так отрадно и так успокоительно не молилась. Опять вошли в церковь для литургии, а когда служение окончилось, архиерей, во всем еще облачении, вышел на паперть благословлять войско, при воскресном пении: «Воскресение Христово видевше»… и еще: «Предварившия утро яже о Марии и обретшия камень отвален от гроба».
Как было тогда радостно это пение — точно и Севастополь может воскреснуть! А потом, взойдя в церковь, архиерей разоблачился и вышел оттуда, благословляя всех и направляясь прямо к графу Сакену. Я слышала потом, что архиерей Иннокентий очень желал и собирался посетить все бастионы, но граф его упросил этого не делать.
Еще расскажу один день, совершенно выходящий из общего порядка наших дней; я знаю, что меня даже осуждали за это, но я не могла отказаться, да, правду сказать, и не хотела.
Как-то, очень неожиданно, встречаю я в наших бесконечных коридорах священника и с ним черкеса. Священник обратился ко мне с просьбой согласиться быть восприемницей обращенного им в христианство молодого человека, уже заслужившего георгиевский крест. Восприемником будет генерал Липранди. Священник так настоятельно меня упрашивал, что мне пришло в голову, не ошибка ли это, не отыскивает ли он нашу начальницу, и просила сестру Зихель ему это объяснить. Но он сказал, что знает и именно отыскивает сестру Бакунину, и я согласилась. Надо было приготовить одежду для крещаемого, и один фельдшер вызвался сходить купить мне голубую ленту и коленкору; но только что он ушел, мне стали говорить, что на этой улице очень опасно. Боже мой! С каким нетерпением я его ждала, тем более что во все время, что он ходил, пальба не прекращалась. Но, слава Богу, он вернулся цел и невредим.
В назначенный для крестин день, переехав через бухту, мы сели в присланную за нами коляску: со мной была одна севастопольская жительница. Лагерь — за пять верст; я рада была ехать туда и, после пяти месяцев, подышать чистым воздухом. Вот перед нами высоты Инкермана; туман покрывает их и мешает видеть те высоты, — по ту сторону Черной речки, — которые заняты французами и англичанами, а с этой стороны — те, которые ближе увенчаны батареями, а еще ближе, между кустами держидерева и дуба (который на этой бесплодной почве не растет как дерево) — балаганы, землянки и кое-где палатки. Вдали, на Мекензиевой горе, белеются палатки, а ближе в стороне домик в три окошка; возле него собрались теснее палатки, и маленькие, и очень большие.
Выйдя из коляски, я увидела навес из сучьев с сухими листьями и под ним, на подпорках тоже из сучьев, — зрительная труба; в нее беспрестанно смотрит дежурный офицер по направленно к неприятелям, не подходят ли, не имеют ли намерения перебраться на нашу сторону и отрезать Севастополь. И я посмотрела в трубу, но за туманом ничего не видела.
В палатке, устроенной из двух солдатских, было приготовлено все для крещения: покрытый стол, на нем образ, посредине аналой и чан, покрытый красным сукном; возле поставили черкеса в белой рубашке с голубыми лентами; по правую его сторону генерал с георгиевским крестом на шее, по левую — я. Возле него очень молоденький юнкер, почти дитя, сын генерала; в его честь и новоокрещенный назван Рафаилом.
Полы с одной стороны палатки были подняты, и там виднелись юнкера, офицеры, солдаты. Священник совершил благоговейно обряд крещения; с пением: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» — сливалась очень отдаленная пальба, не нарушая его стройности. После крещения, пропев молебен архангелу Рафаилу, священник провозгласил многолетие царю, восприемникам, военачальнику Павлу, рабе Божией Екатерине и новоокрещенному Рафаилу. Поздравили друг друга, и я пошла с моим кумом в маленькую палатку полковника днепровского полка. К великому горю священника и новоокрещенного, их азовский полк накануне получил приказание и ушел ближе к Севастополю, на Северную. От этого так редки палатки и так мало людей.
Несколько минут разговаривала я с генералом; он изъявил мне свое удивление, что я пошла в сестры. Я ему отвечала, что если бы я была мужчиной, то давно имела бы честь служить под его начальством; но когда сделали воззвание к женщинам, я не могла не отозваться… Генерал уехал по направлению к домику, а я с моим крестником, но уже одетым в красивый черкесский мундир и с георгиевским крестом, пошла в палатку к священнику. Там мы завтракали вчетвером. Священник, узнав, что учредительницей нашей общины великая княгиня Елена Павловна, с чувством пил за ее здоровье. Но пора ехать. Подали коляску, мой крестник посадил меня, и пара славных лошадей повезла нас обратно в Севастополь, который совсем исчезал в знойном тумане. Даже и теперь, несмотря на то, что столько лет прошло, так сердце и сжалось, когда я стала вспоминать роковые дни конца июня и 1 июля!.. Но чувствую, что теперь так не опишу живо и горячо, как писала к сестре под первым впечатлением 3 июля, и поэтому включаю сюда отрывок из этого письма:
3 июля, Севастополь.
«…Бедный Севастополь! Сколько крови льется в нем и за него!.. И, наконец, французам удалось попасть в Нахимова. Сколько, сколько времени они в него метили! Он так неосторожно разъезжал по всем бастионам; никто не носил эполет, а он постоянно их носил, и когда ему говорили: „Тут опасно, отойдите", он всегда отвечал: „Вы знаете-с, я ничего-с не боюсь".
Оборона Севастополя. Художник Франц Рубо. 1904 г.
Эта ужасная весть сейчас донеслась и до нас; пошла какая-то зловещая суета. После своей несчастной раны в голову П. С. Нахимов прожил полтора суток, но не приходил в себя и не говорил. Он лежал на Северной; тело его перевезли сюда, в его дом, без всякой церемонии.
Но я тебе буду описывать только то, что сама видела, а это все будет в газетах. Хотя у нас большие строгости для выхода сестер, но я сказала старшей сестре Лоде, что иду поклониться Нахимову; еще две сестры пошли со мной.
Уже готовились к выносу в церковь для отпевания. Это было в пятницу после обеда. На улице стояли войска и пушки, множество офицеров морских и армейских. Во второй комнате стоял гроб, обитый золотой парчой, кругом много подушек с орденами, в головах сгруппированы три адмиральских флага, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. Священник, в полном облачении, читал Евангелие. По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. С тех пор я не видала ни одного моряка, который бы не сказал, что радостно бы лег за него. Один только сказал мне: „Жаль его, ну да все равно, — я сам за ним скоро умру". Он говорил это, лежа на операционном столе.
В церковь мы не ходили, а потом пошли на бульвар. Это близ того места, где библиотека; очень высокое место, и внизу церковь близ Графской пристани. Мы простояли некоторое время: все еще ходили в церковь прощаться. Наконец заунывный трезвон и все более и более слышное пение возвестили нам, что вышли из церкви. Процессия повернула совсем не туда, куда я ожидала, а прямо к нам на гору, и прошла мимо нас. Его несли в недостроенную церковь равноапостольного князя Владимира, где уже были схоронены адмиралы Лазарев, Корнилов, Истомин — два последние тоже павшие за Севастополь.
Никогда не буду я в силах передать тебе этого глубоко грустного впечатления. Представь себе, что мы были на возвышенности, с которой виден весь Севастополь, бухта с нашими грустно расснащенными кораблями, море с грозным и многочисленным флотом наших врагов, горы, покрытые нашими батонами, на которых Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словами. Дальше — горы с неприятельскими батареями, с которых так беспощадно громят Севастополь и с которых и теперь они могли бы стрелять прямо в процессию. Но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела.
Представь же себе этот огромный вид, а над всем этим, и особливо над морем, мрачные, тяжелый тучи: только кое-где вверху блистало светлое облачко. Заунывная музыка, перезвон колоколов, печально-торжественное пение; очень много священников, генералов, офицеров, на всех лицах грустное выражение…
Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника!
Ты не можешь себе представить того тяжелого чувства, с которым я смотрела на это, и как я наплакалась! И сколько, сколько, я думаю, теперь поминают новопреставленного Павла!
Говорят, что он все жалованье свое и все, что мог, отдавал, чтобы помогать морякам. А как он тоже был внимателен к нашим раненым…»
…И опять пошли грустно однообразные, грозные дни, и как-то все более и более терялась надежда на что-нибудь хорошее. Бомбы все чаще и дальше к нам залетали. В половине июля я имела утешение проводить Творогова в Николаев.
Весь июль продолжалось все то же. Вспомню теперь только из ряда вон выходящие случаи и события, а то страшные раны, оторванные ноги, несчастные, которые вместо рук поднимали обнаженные кости, проломанные головы — все эти ужасы только с разными переменами повторялись изо дня в день.
Но вот, в одно летнее, приветливое и ясное «после обеда», внесли одни за другими 13 носилок; двое из принесенных были сильно изранены и их сейчас же отнесли в Гущин дом, all остались у нас. Но что за странное было их состояние! Они все были без памяти, как-то ползали по полу, а руками делали такие жесты, как бы плавали. Это было последствие камуфлета; они работали в мине и подошли близко к неприятельской мине, а те свою и взорвали, и вот от этого они и получили такое страшное сотрясение мозга. Их обливали холодной водой, потом положили на койки и все прикладывали холодные компрессы; только с половины ночи они начали приходить в себя, но не все вдруг, а то один, то другой; и как-то странно они опоминались, точно в мелодраме: «Где я? Что со мной? Как я сюда попал?». Иные только вспоминали, что были в мине. Я всю ночь проходила от одного к другому — так меня это интересовало. К утру десятеро совсем опомнились, но один пришел в себя только через сутки, — и все они скоро и совсем поправились.
Кстати, упомянув Гущин дом, я вспомнила вообще, какие были у нас перемены по госпиталям. Сначала, когда мы перешли на Николаевскую, попытались еще некоторых оперированных, для которых боялись дурного воздуха батареи, — хотя в ней постоянно поливали ждановской жидкостью, — класть в небольшие комнаты дома Собрания. Но это скоро оказалось слишком опасным. Орлов дом, Гущин дом и Инженерный дом (где одно время была холерная больница, но, слава Богу, холерных было немного, и холера скоро совсем прекратилась, только сестра, которая ходила за больными, умерла холерой) были закрыты: там уже было слишком опасно. Гангренозных перевели в Екатерининский дворец, а офицерский госпиталь был переведен на Северную, в Михайловскую батарею. В гангренозной подвизалась сестра (не помню ее имени), здоровая, бодрая, простая женщина, уже немолодая. Это именно был подвиг великий — так все там было безнадежно и тяжело, и физически, и морально.
Иногда офицеры оставались и у нас на Николаевской, после раны или после операции, в ожидании или смерти, или возможности переехать на Северную.
Не только у нас на перевязочном пункте, но и во всех госпиталях, которые были на Южной стороне (про Северную наверное не знаю), всех больных поили чаем, даже и два раза в день. Откуда был этот чай и сахар — наверное не знаю. Помню, что два брата Кефали, евреи-караимы, очень часто к нам приходили и часто доставляли нам что было нужно для больных.
Около этого времени случилась большая тревога. Вдруг закричали, что бомба упала на крышу порохового погреба. Ив. Ив. Кизмер, несмотря на жар и на свою полноту, с великой смелостью побежал стремглав туда, — и все в недоумении ждали, что будет, хотя и знали, что погреб великолепно защищен. Но, слава Богу, бомбу не разорвало; кто говорил, что фитиль погас, а кто — что он выпал, прежде чем бомба упала.
Как-то и я раз бежала по нашему коридору, в тревоге не понимая, что могло случиться. Выйдя из операционной в наши казематы, вдруг слышу, что-то пахнет дымом все сильнее и сильнее. Бегу и вижу густой дым в нашем коридоре. И что же это? Одна из сестер разложила костер на полу (пол у нас был каменный) и варит из кизила варенье! Разумеется, я сейчас прекратила это неуместное хозяйственное занятие, погасила огонь, и ей пришлось лакомиться недоваренным вареньем.
Вспомнив этот больно женский и легкомысленный поступок в то время, как мы были не только на военном, но и в осадном положении, — я вспомнила другую женщину, в которой ничего почти не было женского. Это в то время очень известная Прасковья Ивановна; она была какая-то темная личность; много про нее говорили, может быть, и лишнего. Она ходила на 4-й бастион и Малахов курган; солдаты ее очень любили — она как-то все прищучивала; офицеры надевали на нее разные фольговые и из бумаги вырезанные ордена, давали ей денег. И вот раз она пришла и просит одну сестру купить ей шелковой материи на платье, и когда та ей принесла нежно-лиловый гроденапль — она очень ему обрадовалась. Но не удалось ей, бедной, пощеголять в этом платье; скоро после этого ей оторвало обе ноги, когда она шла на бастион, и она тут же умерла. Сестра, у которой хранилась ее материя, продала ее, чтобы употребить эти деньги на ее погребение и поминовение.
Вспоминаю еще один грустный случай, даже помню, что это было 20 июля, и, как по поверью, в этот день все набегали тучи, блистала молния и гремел гром. И вот от этой ли бурной погоды или от особенной болезненности раненого, но один раненый умер под хлороформом. И это был единственный случай, а то бывало, если и случится обмирание, то сейчас же приводили в чувство, — а тут что ни делали, ничего не помогло. В сущности же нечего было этого несчастного и хлороформировать: у него отымали всего один палец на ноге, а такие операции прежде всегда делались без хлороформа.
Но вот никак не могу вспомнить и не отыскала и в своих письмах, когда именно пришло к нам курское ополчение. Думаю, что это было в последней половине августа. Помню, как они входили с песнями; иных мы зазвали к себе, потчевали вином, водкой. Но скоро и ополченцев стали приносить к нам ранеными, и они как-то совсем падали духом; стоны и крики их были ужасны! Вот флотские — те были терпеливы и тверже, лучше переносили и раны, и операции. Армейских по терпению и твердости можно считать серединой; но и между ними были очень твердые и терпеливые. Я помню одного, у которого вся рука была раздроблена, а когда я хотела его усадить попокойнее, он мне отвечал: «Я могу и постоять, а есть раненые в ноги, тем необходимо сидеть».
Помню еще одного: он был легко ранен и пришел только перевязаться; но, видя его усталое и утомленное лицо, я стала его уговаривать воспользоваться этим и остаться у нас, чтобы хоть несколько отдохнуть.
— Нет, этого нельзя, — отвечал он мне, — уж нас, старых солдат, мало осталось, а молодые могут и оторопеть.
И этот безвестный и скромный герой, твердо исполняя свой долг, сейчас же ушел на бастион.
Но пора вернуться к последовательному рассказу. В самых последних числах июля я наконец могла попасть на Бельбек. Мне давно хотелось видеть сестер Назимову, Никитину и других, но устроить это было довольно трудно. При помощи Яни, на его катере, я с Купейной переехали через бухту на 4-й №, где Яни и доктор Тарасов добыли нам фурштадтскую телегу на паре; сиденье на веревках с ковром довольно покойно, но жара нестерпимая. Эти пять или шесть верст дорога местами была прескверная, а местами прекрасная. Но вдруг наш возница останавливается и говорит, что решительно не знает, куда нас везти, а дорог множество, одна другую пересекает.
К счастью, в это время мы увидали офицера верхом и попросили его потрудиться подъехать и объяснить нам, как попасть на Бельбек. Он очень любезно начал толковать нашему кучеру.
— А! Это госпиталь, — отвечает тот, — знаю.
Приехали. Фруктовый сад; под регулярно посаженными деревьями палатки. Спрашиваем: где сестры? — Дальше. И мы едем опять версту и, как было нам указано, поворачиваем на мост через речку, такую грязную, что в ней вода совершенно желтая и густая; потом аллея пирамидальных тополей и под большими ореховыми деревьями палатки сестер; палаток немного, они большие, но в них ужасно душно. Кругом фруктовый сад, тени мало.
Все знакомые сестры бросились ко мне навстречу, болтали, рассказывали; думаю, что много было экзажераций в этих жалобах и рассказах, тем более что в это время было очень неприятное столкновение и отчаяние одной сестры. Но, благодаря доброте и вниманию графа Дмитрия Ерофеевича, все кончилось благополучно. Мы пообедали с сестрами, немного погуляли. Слава Богу, все сестры были здоровы. Хотя госпиталь от них не очень близко, но ходить туда по саду. Подышать хорошим воздухом и приятно, и полезно, но мы с сестрой Куткиной спешили уехать: ведь надо было опять попасть к доктору Тарасову и иметь возможность переехать бухту; тут я тоже имела гичку. Как я выучилась ею управлять и как она быстро скользит и вертится под моей рукой! Когда нам встречались катера или боты, то мы их обходили под кормой, а у других проскальзывали перед носом. А там вдруг местами в совершенно спокойное море упадет бомба, и выскочит оттуда какое-то водяное чудовище с брызгами и грязью.
К вечеру мы вернулись на нашу Николаевскую батарею.
У нас вдоль всей батареи идет довольно узкая галерея тоже под сводами; такая же и в нижнем этаже. Вот с этой-то галереи мы и смотрим на пальбу, особливо с Mamelon-Vert бомбы падают к нам, или перед нами, на площадь, или через нас в море, и мы смотрим, куда летит, долетит или перелетит.
Почти во всей нижней галерее расположились солдаты; тут они и ночуют, и работают, — кто шьет сапоги, кто чинит платье, а кто завелся хозяйством и в кадочках солит огурцы. Свободное место на галерее только против операционных казематов и наших окошек. Вот на этом-то свободном месте, особливо по вечерам, сходятся офицеры, доктора, сестры; тут рассказываются новости, переносятся сплетни. Это что-то вроде афинских портиков, только Платонов нет, вряд ли есть и Аристофаны, но, кажется, Клеопов много…
Живо помню, как я раз, хотя не спала перед этим всю ночь, но могла уйти с этой галереи: начиналась гроза, и так это было грозно-красиво! То сверкнет зеленоватый и белый блестящий зигзаг молнии; то появятся красно-огненные шары, которые поднимаются довольно тихо, вдруг падают с ужасной быстротой и с треском лопаются на воздухе; то месяц осветит все; то надвинется страшная, темная туча, и наконец разражается страшная гроза и гром.
Все грустнее и грустнее становилось у нас. Никогда не забуду я 4 августа! Сколько у нас было тогда ожиданий, надежд! Мы знали, что будет большое дело на Федюхиных горах, а среди нас было какое-то зловещее молчание. И не только на неприятельских бастионах, — это понятно, — но удивительно было, что и наши батареи молчали. И вот, в этой непривычной для нас тишине тянется бесконечный день без всяких известий. Только поздно вечером, и то под тайной, мне сказал один, что все потеряно и дело проиграно.
5-го, уже при страшной пальбе, мы узнали подробности. Говорили, что раненых до 8 тысяч, несколько генералов убито; говорили, что сестры ездили на позицию.
В эти же дни бомба попала в Михайловский собор, во время службы, и взорвала весь пол, но ранила только одного. В Преображение уже была устроена церковь в Николаевской батарее, в нижнем этаже, так что в нее можно было ходить прямо по галереям. Я была очень рада, что в Преображение могла быть у обедни. Но теперь можно сказать, что почти и вся жизнь Севастополя сосредоточилась на Николаевской батарее: ресторан, магазины — все перевезено сюда.
Скажу также и о мелочных переменах в нашей общинной жизни. Сестре Лоде что-то у нас не понравилось, и она стала просить, чтобы ее опять поместили в Бахчисарай. На ее место старшей сестрой к нам приехала баронесса Екатерина Осиповна Будберг, хорошая, дельная и добрая сестра. Но что мне не нравилось, это то, что у нас в общине, где все должно, кажется, быть основано на любви, милосердии, полной готовности делать все, что возможно, стало вводиться какое-то чиновническое и формальное отношение к делу. Я знаю, что были сестры, которые на меня сердились за то, что я хожу к больным не в мой дежурный день, а я именно хожу, чтобы поговорить с ними, что они очень любят. И я с удовольствием всегда вспоминаю, как один из раненых, который, слава Богу, уже поправлялся, расхвалив сестер, спросил меня:
— Да кто же вас прислал сюда? Покойный государь или Александр Николаевич?
Я ему отвечала, что великая княгиня Елена Павловна. А другой раненый перебил его и говорит: «Ведь я тебе давно толкую, что это вдовушка Михаила Павловича все устроила. Да исполнит же Бог все ее желания, и да будет она всегда счастлива и здорова!».
Тут и другие раненые стали желать великой княгине всевозможного счастья. Меня это очень порадовало, как доказательство того, что мы полезны и любимы.
Даша Севастопольская (настоящее имя Дарья Лаврентьевна Михайлова, по мужу Хворостова; 1836–1892) — одна из первых военных сестер милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 гг.
«Движимая милосердием своей женской натуры, она здесь на полях битвы и госпиталях с таким самопожертвованием помогала раненым, что обратила на себя внимание высшего начальства…»
(Н. И. Пирогов о Даше Севастопольской)
Ездили мы тоже с сестрой Будберг на Северную в больничный лагерь, где ее сестра, Матильда Осиповна Чупати, старшей сестрой; у нее восемь сестер. Все раненые в палатках, ампутированные — в больших госпитальных, а легко раненые — в маленьких солдатских; лагерь — на высоком, совершенно открытом месте; не только нет ни одного дерева, даже нет и кустиков. Солнце должно тут жечь беспощадно. Но когда мы там были, день был совсем не жаркий. Я почти все время просидела у сестры Нины Грибарич; она нездорова и желала меня видеть. Потом мы обошли весь лагерь, а из лагеря заехали на рынок, который теперь на Северной. Это — кочевье бедных жителей Севастополя, и все более и более их прибавляется; у иных шалаши из сучьев, у других что-то вроде цыганских палаток или убежища из кое-как сколоченных досок. Тут, возле этих импровизированных и диких жилищ, валяется разная домашняя рухлядь: кадочки, бочонки, ведра, горшки.
Вот, припоминая все это, расскажу один несчастный случай. У нас уже давно не приносили женщин, и их мало оставалось в городе, только иногда на нижней галере появлялись дети и, бросая мячик, громко и весело кричали: «Бомба летит!». Вдруг нам принесли женщину с оторванной ногой. Я стала с ней разговаривать и спрашиваю ее:
— Зачем же вы не уйдете на Северную? Туда уже многие ушли.
— Да и мы на Северной, — отвечала она. — Да вот захотелось огурчиков посолить, я и пришла в дом за ведром, а тут меня и хватило!
Да так хватило, что она скоро и умерла.
На рынке сестра Будберг купила картофелю, капусты, а я — винограду, уже довольно хорошего.
Чем дальше, тем становилось все грознее и грознее. Раз был такой взрыв, что все мгновенно проснулись от гула и сотрясения. У нас даже из иных окон стекла посыпались. Говорили, что это нашим удалось взорвать неприятельский погреб на бывшем Камчатском редуте и что там было до 3000 пудов пороху.
В половине августа была у нас большая новость, но, увы! не предвещающая ничего хорошего. Стали строить или, правильнее сказать, наводить мосты через бухту от Николаевской батареи к Михайловской. Мост крепкий, но, разумеется, плавучий на бочках и качающийся, но широкий, так что два и даже три экипажа могут разъехаться; перила веревочные.
Дочь генерала Павловского и его воспитанница, которые тоже должны были оставить свой хорошенький дом и жить с нами в маленьком каземате, которого окошко обращено к морю, очень желали побывать на Бельбеке и повидать еще знакомых сестер. Не говорилось, но очень чувствовалось, что все это не долго продолжится, и Павловская упросила меня ехать с ней, доказывая, что теперь это гораздо легче и удобнее, так как не надо хлопотать о переезде на лодке через бухту, а спокойно переедем через мост. Я согласилась. С 4-го там очень много раненых, и мне хотелось видеть сестер, подышать свежим воздухом (от купанья мы уже давно должны были отказаться) — да и должна признаться, что хотелось проехать по мосту, который только видела из амбразуры нашей батареи, — проехать по морю, аки по суху.
Один из знакомых нам ординарцев графа Сакена был так любезен, что взялся добыть экипаж. И вот он сам нам пришел сказать, что экипаж готов. Но что это был за экипаж! Какая-то несчастная тележонка на измученной лошаденке. Как мы три там поместились, я и не понимаю. А наш учтивый кавалер провожал до моста, а мы, вместо благодарности, смеялись, говоря, что он нас провожает, чтобы видеть, не рассыплется ли наш экипаж. Однако мы очень благополучно переехали через мост. День был прекрасный, море так и блистает по обеим сторонам моста (он почти с версту). Было так тихо, что он совсем не качался; велено по нем ездить шагом. Мы начали с того, что поехали в лагерный госпиталь на Северную. Сестра Грибарич поправляется. Мы были там недолго и поехали на Бельбек, но насилу отыскали туда дорогу по очень живописному ущелью, — впрочем, когда редко выезжаешь, все кажется красиво, — только пыль была ужасная.
Сестры нас встретили очень радушно. Сестер тут много, и я познакомилась с сестрами пятого поезда. Когда они приехали, наверное не знаю, но, кажется, недавно. Отдохнув немного и напившись кофе, я пошла отыскивать своих знакомых раненых в лагере.
Теперь у нас с начала августа ужасно грустно: раненые почти не остаются у нас; очень тяжело раненных сейчас же отправляют на Северную, да и после операции больной остается недолго, двое, трое суток, и всякий вечер шаланда отвозит от нас много больных, а утром опять все занято новыми; и так проходит перед вами длинная вереница лиц, за которыми не успеешь и понаблюдать, и походить. И проходят они большей частью в могилу!.. И как я бывала рада, когда отыщу какого-нибудь, который поправляется. А это так редко.
Лагерь довольно далеко от сестер — через большой виноградный сад. Виноград или оборван, или еще зелен. Я пошла туда с сестрой Медведевой, моей давнишней знакомой. Она, до отъезда, жила у Варвары Петровны Тургеневой, матери Ивана Сергеевича, с которой мы были давно знакомы. Медведева дежурит при офицерских палатках. Мы долго ходили с ней по всему лагерю, пообедали с сестрами на воздухе под прекрасными деревьями, но тотчас после обеда спешили уехать на 4-й № к нашему доктору Тарасову. У него теперь сестра Айнская, которая прежде, с самого своего приезда со 2-м отделением, была на Николаевской; очень хорошая и добросовестная сестра. На зиму она оставалась на Бельбеке и там умерла.
Мы заехали к доктору для того, чтобы взять у него катер доехать до Николаевской. Мы боялись, что Павловскую и их воспитанницу не пропустят через мост, так как в это время женщин из Севастополя выпускали, но назад на Южную без пропускного билета не пускали. Разумеется, это не касалось сестер. Мы славно проехали на шестивесельном катере, ни одна бомба нас не тревожила, только далеко от нас упало одно ядро в море.
С 24 августа началась сильная бомбардировка бастионов; в город к нам не стреляли, а прежде — на площадь перед нашими окнами, где расположен полк, — так часто попадали, что мне полковник сказал, что у него тут выбыло 30 человек. Я сама видела, стоя на галерее, что когда летит бомба, солдаты со смехом разбегаются, точно играют в мячик, а потом с безрассудным любопытством сбегаются на нее, прежде чем она лопнет. Но, слава Богу, я не видала ни одного несчастья. Раз, еще в половине августа, бомба упала на галерею около окошка первого операционного стола, пробила свод, прошла в лавку и там лопнула. Я за минуту до этого ушла за водкой. В операционном каземате только отбило штукатурку, разбило окно, рамы, и была страшная пыль. Мы от души благодарили Бога, что в это время не было операции, а то нельзя ручаться, — нас всех поразило бы и разбросало, да и оперированному мог быть причинен большой вред. В лавке все было переломано: шкафы, прилавки разбиты в щепки, и мальчик приказчик так был ранен, что пришлось отнять стопу; но он, слава Богу, выздоровел. Тотчас после этого купцы стали укладывать все, что уцелело, и уехали; а тут начали рыть мины, чтобы взорвать Николаевскую батарею.
24-го и 25 августа раненых с бастионов приносили очень много, до 1000 человек в день, и бывало на трех столах до 100 операций. С этих дней уже не только дежурные, а все сестры — за делом; теперь было не до отдыха, и сестры оказались все очень усердны и деятельны. Два вечера сряду бухта и Севастополь были освещены горевшими в бухте кораблями. Первым сгорел самый большой транспорт, на котором находились смола и сало, — он горел очень ярко; а на другой день сгорел фрегат «Коварный». Живописно бегал огонь по снастям — как будто это была иллюминация!.. И так последние дни своего существования Севастополь был ярко освещен горевшими кораблями, остатками нашего несчастного потопленного Черноморского флота!
Глава II
Приступаю теперь к описанию событий 26-го и 27 августа. В моей тихой и уединенной жизни мне кажется иногда: да точно ли все это было, и я это видела? Но когда я всецело погружусь в эти воспоминания, зеленый луг, сосновая роща перед моим окном пропадают из глаз, и я вижу площадь, войско, ряды французского войска, идущего на Малахов курган, блеск ножей на их штуцерах!.. 26-го, утром, та же пальба, так же много раненых. Ветер ужасный, мост так и качается, волны заливают его, но что удивительно — не только люди, но и лошади идут спокойно, а мост под ними извивается змеей!
У нас сестра-хозяйка — именинница, и, несмотря на пальбу, она таки справляет именины; напекла пирогов и даже пирожного. Александр Бакунин пришел ко мне уже когда зажгли свечи. Я его давно не видала; знала, что он не ранен, знала тоже, что он жив, от Муравьева, который был на 4-м бастионе. В этот раз еще грустнее было смотреть с нашей галереи, по которой я его проводила, как он удаляется во мрак по Екатерининской улице, и видеть, как сверкают над его головой бомбы, и знать, что тысячи смертей летают над ним! Я пошла с сестрой Смирновой в приемную. Пальба тише; операций не делают, раненых не приносят. Я подошла к столу, где лежит книга, в которую записывают приносимых раненых. Цифры во все эти дни доходили до 1000. Слава Богу, все тихо и спокойно; раненых нет; надо идти отдохнуть… Вдруг блеснуло в окошки; за блеском — страшный гул, треск, шум; рамы, стекла — все летит! Свечи гаснут, служители бегут. Мы с сестрой прижались к стене. Промелькнула у меня мысль, что если это пороховой погреб, то отчего же мы не взлетели на воздух? Проходит минута, другая… все тихо и темно. Мы зажгли свечи и пошли в палаты. Из раненых, слава Богу, никто не ушиблен, но на кроватях — рамы, стекла, разные обломки… Что ж это было? Сбежала сверху Дуня Алексеева и сестра Куткина, они говорят, что у них тоже все рамы и перегородки попадали; что в другом каземате у сестер страшный крик; что, верно, они переранены. Я сейчас хотела идти к ним, но вот и они прибегают. Иные несколько ушиблены или порезаны стеклами и страшно перепуганы, так как многие уже легли и даже спали. И другие жительницы батареи тоже кричат и бегут; сбегаются и доктора. Но что же это было? Что это за взрыв, от которого не осталось не только стекол, но ни одной рамы во всей батарее? Потом рассказывали, что везли на баркасе до 140 пудов пороху, и у самой Графской пристани попала в него ракета и взорвала баркас.
Наконец все несколько успокоились, и я пошла к нам наверх. Там тоже опустошение: разорено все; что было на столах — изломано, перебито, облито чернилами; в шкафах вся посуда перебита. Перегородка, которая отделяла наш каземат от коридора, упала. Только в маленьком каземате Павловской, где окошко обращено к морю, уцелела часть перегородки. Но ветер так и ходит по всей Николаевской. Для утешения и согревания мы принялись ставить самовар и пить чай. Сестры Куткина и Алексеева остались ночевать у Павловской. Тут было все-таки уютнее, чем в нашем большом каземате, совершенно открытом, с большим окном, обращенным прямо на неприятельские батареи. А третья моя жилица, Маланья Селиверстова, севастопольская обывательница, осталась на галерее, устремив испуганные взоры на пороховой погреб. А я пошла к себе и заставила окно ширмами от ветра, а от прохожих завесила ситцевым одеялом; везде одинаковая опасность, и если Господь хочет помиловать, то и везде помилует. Я вспомнила тут слова одного солдата, который мне говорил:
— Что такое бомба? Бомба — глупость, а на все воля Божья!
Я крепко заснула под свист ракет.
27 августа. Как я теперь написала это несчастное число, так передо мной и встали все события этого ужасного дня!
Мы поднялись очень рано; пальба продолжалась; холодно; ветер, довольно сильный, так и ходит по нашей безоконной батарее.
В одиннадцатом часу я вышла из приемной и пошла по нашей галерее, чтобы попросить кофе. Масса народу; все толпятся и смотрят.
— Что такое?
— Посмотрите, ряды неприятелей подходят к № 2-му и к Малахову кургану.
Да, точно! Ножи на их штуцерах сверкают на солнце. Да, это штурм!
С Павловского мыска по дороге к Малахову кургану поскакал Хрулев и его свита, и все скоро закрылось пылью и дымом.
Видя, что все как-то в смятении, я вернулась в приемную помогать доктору при операциях и завязывать лигатуры.
Вдруг вбегает сестра Зихель, — на ней лица нет. Она говорит, что надо спасаться, что со всех сторон штурмуют. За ней вбегает Александра Петровна Стахович и прерывающимся голосом говорит мне:
— Ради Бога, сестра, надо уходить! Граф Сакен велел торопиться!
Как досадно, как горько! Но нечего делать, иду к нам наверх; сестры в тревоге; у иных хоть дорожные мешки в руках, а другие ничего и не берут с собой. Я говорю Александре Петровне, что мне необходимо собраться; у меня есть офицерские и солдатские вещи — хорошо еще, что рано утром я успела иное отдать; у меня ключ от аптеки, его надо передать доктору. Но Александра Петровна все спешит, говоря:
— Через полчаса на площади, может быть, будут резаться.
Я ей отвечаю, что мне невозможно все вдруг так бросить; даю ей честное слово, что я за ними последую, может быть, и догоню их, и она наконец уходит со всеми сестрами.
Тогда я принялась наскоро все убирать и брать с собой то, что необходимо. Показывая и на свои, и на сестрины мешки и чемоданы, которые к нам надо переслать, прошу у смотрителя еще солдата; а потом, вспомнив, что от большого ветра мост в воде, надеваю свои мужские сапоги и, отдав вещи солдатам, иду отыскивать доктора.
Сдав ему шелк для лигатур и ключ от аптеки, я оставляю с сокрушенным сердцем нашу Николаевскую батарею, нашу Южную сторону, наш бедный Севастополь!..
От сильного ветра мост сильно качается, и я должна была взять за руку нашего служителя-солдата, чтобы перейти бухту под усиленной пальбой.
На Михайловской батарее я нашла сестер; все там в величайшем беспорядке, так как все вещи живущих сестер сносятся в одну комнату и готовят пушки для пальбы.
Крик, шум такой, что не слышно бомбардировки. А тут еще сестры, служащие на Михайловской батарее, особливо их старшая, бранят начальницу.
Я и не упомянула бы об этом, если бы все эти мелкие беспорядки и неурядицы не повели впоследствии к большим переменам в общине. Да и многие сестры занимались в это время мелочами, хлопотали о своих мешках, чемоданах, плакали о сундуках, — точно они и не понимали, что происходит перед их глазами, что Россия теряет в эту минуту!..
А как ужасно мы провели этот день, глядя через бухту на Севастополь! Еще сначала войско поспешным шагом шло туда, а жители — откуда их так много набралось! — еще поспешнее, с тяжелыми узлами, бегут на эту сторону.
А между тем то бомба, то ракета падают в море, в ту или другую сторону моста.
Но Бог милует. Одна бомба упала и на мост, но одни остановились, другие побежали вперед, и только две доски летят прочь; их сейчас же чинят, и все продолжают идти. Вдруг видим, что и войска идут на эту сторону… Они несут знамена, которые были в комнатах графа Сакена, и тут же — в красном — идут и пленные…
Поехали полуфурки и возы, нагруженные донельзя. На одном сидит на самом верху комиссар перевязочного пункта и заботливо держит, прижав к себе, корзину с котятами, а кошка сидит с ним рядом!
Стали носить и раненых на Северную. Вдруг на Малаховой кургане огромное извержение земли, камней: это взрыв погреба или мины.
Синопский бой. Художник А. Боголюбов. 1860 г.
Кроме раненых, лежащих в казематах Михайловской батареи, лежат раненые в магазинах; до них нет и четверти версты.
Мы пошли с сестрой Надежиной, чтобы напоить их водкой: мы шли туда более получаса — так все было загромождено телегами, полуфурками и т. п. Народ валит толпами; солдаты разных полков скликаются. Крик, шум страшный!
Какую ужасную ночь мы провели! Никогда не забуду я этой картины! Как ужасно горел весь Севастополь — огромное пламя! А в бухте затапливали все наши несчастные оставшиеся корабли… По мосту все гуще и гуще идет войско и остальные жители; ядра так и летают.
Говорили, что под тем окошком, в которое мы смотрели на Севастополь, оторвало голову часовому.
Тут я узнала про нашего доктора В. И. Тарасова; иные говорили, что он совсем уехал, а другие — что он поехал встречать Н. Ив. Пирогова, который сюда едет.
В ужасном положении была бедная Д. Алексеева; перед ее глазами горел ее родной город, ее собственный дом, и она знала, что ее единственный брат еще там, на Южной стороне!..
Нам было сказано, чтоб мы не ставили самоваров в коридоре, не выходили туда со свечой, потому что везде порох. А между тем бомбы разрывались со всех сторон.
Рассвело. Только одни мачты видны от кораблей; густой, черный дым поднимается над Севастополем. Одни войска идут по мосту. Когда я услыхала, что идет тобольский полк, я побежала к мосту в надежде узнать об Александре Бакунине. Спрашиваю унтер-офицера. Он мне отвечает:
— Прапорщик Бакунин сейчас пошел в гору.
Слава Богу, жив и здоров! Тобольский полк прошел последним; сейчас же начали разводить мост и притягивать его к Северной. Граф Сакен и оставшееся с ним войско переехали на пароходах.
У моста я встретила нашего служителя; он сказал мне, что все наши вещи везут на катере, а мне он очень бережно отдает мой хрустальный стакан, который спас в своем кармане!
Когда привезли все наши вещи, пошла опять ужасная толкотня; кто отыскивает, кто плачет, что все пропало.
Но времени терять нельзя, надо скорей все укладывать на возы и отправлять на Бельбек. Ждут с минуты на минуту взрыва Николаевской батареи; уверяют, что камни долетят сюда. Один солдат, услыхав это, говорит мне:
— Небось, матушка, ничего не будет, она не взорвется.
— Как, почему ты так думаешь?
— Да мина та не так сделана.
И в самом деле она не взорвалась. А Александровская два раза взрывалась; камни сыпались в море, как огромный град. Скоро половина сестер уехала. Мы тоже поехали с Александрой Петровной, но мы заехали на Северное укрепление, и там, найдя раненых, я и сестра Надежина остались, чтобы их перевязать и напоить водкой. Очень мы были рады, когда к нам присоединился флотский доктор Шелома.
К счастью, я встретила А. Д. Княжевича, который служил, как мне помнится, при полевом почтамте; он мог нам выдать находящееся там в тюках: корпию, бинты, компрессы и казенный шелк для лигатур, а то у нас ничего не было. Помню, что явился к нам какой-то офицер и требовал, чтобы мы накормили раненых. Я ему отвечала, что он должен бы был прежде спросить, имели ли мы сами что поесть в этом месте. Мы провели тут весь день.
Как тяжело было слышать звон наших колоколов, который доносился до нас с Южной стороны! Туда пробрались французские мародеры, несмотря на запрещение главнокомандующего, так как взрывы все продолжались в разных местах.
И вот, как теперь вижу на плоском мысе трехэтажную круглую Павловскую батарею; вдруг из нее поднимается черный столб, расширяется кверху, как рисуют извержение огнедышащих гор, только не огненный, а черный. Страшный гул, треск. Летят обломки, сыплются камни, взвивается дым и пыль, и менее чем в минуту от трехэтажного здания остались только две небольшие насыпи.
Не хочу и повторять того ужасного рассказа, который потом ходил у нас об оставленных и погибших там людях.
Всей душой желаю и надеюсь, что это неправда; и тогда многие утверждали, что это неправда, что там никого не осталось.
К вечеру пришел к нам А. Бакунин и многие другие из нашего перевязочного пункта; после такого дня и ночи обрадуешься, увидав даже тех, которые и не были симпатичны.
Слава Богу, все, даже все служители нашего пункта, вышли живы и здоровы; только у многих ничего не осталось, кроме того, что было на них.
Ночью мы с сестрой Надежиной уехали на Бельбек. И вот нас окружают высокие, красивые деревья; воздух легкий и свежий — вся прелесть южной долины. Тихо; только иногда вспорхнет или чирикнет птичка…
Но, Боже мой, как тяжело! С какой бы радостью я вернулась под наши своды, под неприятельские выстрелы! Но, увы! нам уже нет туда возврата, и пришлось идти в маленькую палатку, которую очень радушно разделила со мной сестра Гардинская.
Сестры, которые давно были на Бельбеке, имели все свое дело, свои палатки, а мы, приехавшие с Николаевской батареи, толкались без дела, comme des ames en peine. Ho я через день уехала в лагерь на Северные высоты, узнав, что там лежит мой крестник-черкес, смертельно раненный при штурме на Малаховой кургане.
Какую грустную ночь я провела там! Этот лагерь, и всегда невеселый, стал еще грустнее. Дождь так и льет; во всех палатках огонь, но не видно ни солдат, беспечно прохаживающихся, не слышно разговоров, а только по ужасной грязи раздаются поспешные шаги служителя: он идет за фельдшером или за священником. В палатках слышны стоны и крики страданья. Я отыскала своего крестника в маленькой солдатской палатке, на которую была надета еще офицерская. И он тоже очень страдал. Его стоны смешивались с звуками странного чуждого языка; косматая белая шапка была надвинута на черные блестящие глаза; красивые черты исказились от страданья. Он метался на кровати, однако узнал меня. На другой кровати, против него, белокурый молодой человек с важностью разбирал старые газеты и объявления, и, без умолку говоря, рассказывал мне, как посредством шарманки он устроит новый телеграф и на Волге пароходы, а ведь с Каспийского моря рукой подать до Балтийского моря. И я отвечаю ему от времени до времени, чтобы его успокоить: «Хорошо; так точно». Мой крестник иногда закричит на него, что он вздор говорит. И я с грустью слежу за движениями умирающего, и его стоны сливаются с этими безумными речами контуженного юнкера. А дождь так и стучит в палатку, ветер так и рвет, так и завывает, а иногда раздается глухой гул со стороны Севастополя и напоминает о продолжении этих ужасных взрывов на бастионах и батареях. Черные тучи с южной стороны, то есть той, где был Севастополь, освещены багровым заревом пожара!.. К утру мой крестник скончался!..
Какая безотрадная долина, какая жалкая растительность! Тут одна палатка; возле нее лежит два ряда покойников; они покрыты холстом, но видно, что их более 60, и невдалеке роют огромную могилу. Два утра сряду я ходила туда и всякий раз видела новые ряды покойников и новую вырытую братскую могилу; только на второй день немного в стороне опустили розовый гроб с серебряным крестом, и я стала на колени и молилась, а священник бросил последнюю горсть земли. Как все грустно и безжизненно! А над Севастополем поднимается еще черный дым. Только воздух совсем переменился — такой теплый и приятный; небо не покрыто тучами, а чисто и ясно, и на безоблачном и голубом небе ярко и величественно блестит солнце… Да будет же оно символом будущего возрождения новоокрещенного и новопреставленного раба Божия, воина Рафаила, за веру и царя на брани убиенного!
Больничный лагерь на Северной стороне производил на меня всегда тяжелое впечатление и по его грустной обнаженной местности, и по множеству трудно раненных, и по обстановке, и по отношению начальства к сестрам и сестер между собою, и грубости некоторых из них. Вечером я уехала на Бельбек, но и там я тоже находилась без дела и ждала и надеялась на приезд Николая Ивановича Пирогова, а пока ходила все-таки в лагерь больных, но не ходила в палатки французов — не могла забыть, как в самое то время, как притягивали мост к Северной стороне, я, увидав на носилках раненого француза, у которого текла кровь, подошла к нему, чтобы перевязать его, и, не имея ничего в руках, изорвала свой носовой платок, а он мне гордо сказал: «И тем не менее мы взяли Севастополь!».
Однако пришлось мне пойти к французам. Доктор Ульрихсон, которому велено было переписать всех раненых пленных, находящихся в этом госпитале, пришел просить меня идти с ним и помочь ему, так как он не знал по-французски. Итак, я стала ходить и к ним. Но скоро приехал Н. И. Пирогов — не помню наверное числа, но это было в самых первых числах сентября, 4-го или 5-го, — с ним вернулся и наш доктор Тарасов, хотя между сестер и ходил слух, что он уволен от должности врача при общине. Приехали также и некоторые из врачей, которые были с ним прежде на перевязочном пункте. Я просила Николая Ивановича дать мне какое-нибудь дело. Он мне сказал: «Ступайте в операционную палатку». Я не помню, какая там была сестра, но знаю, что она этим обиделась, хотя ей и говорили, что тут нет ничего для нее обидного, так как все переменилось, и главный хирург не тот.
Николай Иванович со своими ассистентами обошел все палатки, переглядел всех раненых, нашел очень много упущений и запущений; не знаю, были ли в этом виноваты доктора, или наплыв больных в предыдущие дни был так велик, что недоставало ни средств, ни времени. Сестер нельзя в этом винить, у них недоставало знания и опытности, но усердия было много, и они постоянно и без устали работали и перевязывали вверенных им больных.
Я думаю, ни доктора, ни нынешние сестры не поверят тому, что я сейчас расскажу. Когда с одного больного сняли компрессы и бинты и промыли, то рука его выше локтя сама отвалилась! Я сама видела эту руку, мне ее показал доктор Бекере. С первого же дня начались операции, и в этой же палатке осталось 12 человек оперированных; они были поручены мне, но очень было грустно, что из 12 скоро осталось 7. Всякий день были новые операции людей очень истощенных и исстрадавшихся, а других, которые только могли выдержать перевозку, отправляли в транспорт.
Живо помню, как Николай Иванович Пирогов по несколько часов сряду простаивал при отправке транспортов и как, несмотря на дождь, грязь и темноту, он всякий день ходил в лагерь больных, что и от наших палаток было довольно далеко, а его маленькая квартира была еще дальше.
В эти же первые дни сентября в общине было целое событие — это приезд Екатерины Александровны Хитрово, начальницы сердобольных сестер в Одессе. Все мелкие неурядицы, глупые дрязги, нелепые сплетни, которые доходили до великой княгини чрез переднюю и всеми задними лестницами, очень ее беспокоили, и она просила сестру Екатерину Александровну Хитрово поехать в Крым и управлять общиной. Она приехала с одной молодой сестрой их общины, сама оставалась в платье и золотом кресте одесских сестер и держала себя очень скромно, любезно со всеми, никак не давая чувствовать, что она облечена полной властью от Великой княгини, хотя и говорили: «В ее присутствии чувствуется какая-то неловкость». Она мне с первой минуты очень понравилась — сейчас было видно, что хорошо воспитанная; говорили, что она очень умна, очень религиозна. Но я долго боялась поддаться этому впечатлению, чтобы не обмануться, как это со мной случалось уже несколько раз. Но чем я больше узнавала Екатерину Александровну, тем больше я ее любила и уважала, и мы с ней так сошлись, что я и теперь, хотя этому так давно, с глубоким чувством вспоминаю о ней. Несмотря на то, что ей было сказано, или, может быть, даже написано против меня, это не помешало нашему сближению.
Правда, что все это был великий вздор, — меня ей представили жорж-зандисткой, — и это было совершенно нелепо. Я знаю, что у меня было много недостатков, что во многом я не была тем, чем должна быть сестра милосердия, — помню, что граф Сакен, смеясь, называл меня «самой скромной и самой покорной из сестер», — знаю, что я далеко не подхожу к тому идеалу сестры милосердия, который имею в уме. Я знала много сестер милосердия, и только одна для меня олицетворяла этот идеал — это Е. А. Хитрово. Бывало, поговоришь с этой истинной сестрой милосердия и чувствуешь, что ее разговор и приятен и полезен, с ней отведешь душу. К несчастью, я мало могла пользоваться этим.
Но вернусь к моему рассказу. Как я уже прежде сказала, больных всех отправляли, и их оставалось очень мало. Сестры тоже уезжали в Бахчисарай и в Симферополь. Я предложила Николаю Ивановичу остаться с двумя сестрами на Бельбеке на зиму; но он нашел, что это не нужно, и предложил мне провожать транспорты больных и раненых от Симферополя до Перекопа. Я с удовольствием согласилась, тем более что меня давно мучила мысль о транспортах.
Последний вечер, что я провела на Бельбеке, очень мне памятен; все думалось, что вот на другой день праздник, во всей России теперь звонят и торжественно выносят крест. Так хотелось бы услыхать церковное пение и поклониться кресту!.. Но только слышался отдаленный барабанный бой или раздавались глухие звуки шагов уходившего или приходившего войска. Вечер был теплый; небольшой серп луны как-то таинственно освещал большие ореховые деревья и нашу опустевшую стоянку. Оставалась только одна палатка. Сестры, которые должны были тут зимовать, переехали в домик. Нас сидело только четверо у большого стола, и после того множества сестер, которые тут собирались, и той суеты, которая тут царила, было что-то меланхолическое в этой опустелой долине… Но недолго я могла предаваться такому настроению. Вывел меня из него наш письмоводитель Филиппов, на которого, не знаю отчего, такая напала паника, что при каждом неясном звуке, долетавшем до нас в тишине этого теплого вечера, он терялся, начинал говорить, что опасно, что он сейчас уедет, а мы ему говорили, смеясь, что он не может уехать от сестер. И наш смех вовсе не гармонировал с этой поэтической ночью и обстановкой.
Утром я уехала с сестрами в Бахчисарай, но ни в квартире сестер, ни в беседке в саду мы не могли поместиться: так было много сестер. И мы поместились в каком-то татарском домике с разбитыми стеклами — тесно, холодно, одним словом, скверно! Но чистая бахчисарайская вода показалась нам лучше всякого лимонада; она действительно очень хороша, после того, что мы пили на Бельбеке, — придешь, бывало, к столу и не вдруг разберешь, в котором графине квас, в котором вода, — а эта чистая, холодная вода казалась нектаром.
Я думала уехать на другой же день, но пришлось прождать до вечера Николая Ивановича, от которого я должна была получить полную инструкцию для следования при транспорте. Она у меня есть, написанная его рукою. Привожу ее целиком:
«1) В какой мере возможна перевязка раненых на этапах, и сколько примерно нужно сестер на каждую сотню раненых?
2) Каким образом утоляется жажда раненых на пути, и снабжены ли они или сопровождающие транспорт средствами, необходимыми для этой цели?
3) Выдаются ли раненым, кроме их шинелей, еще каждому одеяло или халат, или же (трудно больным) полушубок?
4) Как приготовляется пища на этапах, и возможно ли снабдить этап теплыми напитками в холодное время?
5) Осматривают ли транспорт, растянутый иногда на целую версту и более, от одного этапа до другого, врачи или фельдшера?
6) Соблюдается ли порядок, назначенный в снабжении больных пищею, т. е. кормят ли их на тех этапах, где изготовлено должно быть для этой цели?
Н. Пирогов.
Бахчисарай, 15 сентября 1855 г.»
Николай Иванович Пирогов (1810–1881) — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник. Художники. Репин. 1881 г.
На другой день я и еще четыре сестры, записавшись и согнувшись в три погибели в татарском дилижансе или, попросту сказать, в крытой фуре, поехали в Симферополь. Приехали туда в пятом часу в странноприимный дом Таранова, где две комнаты были отведены для сестер.
Екатерина Александровна тоже приехала в Симферополь; однако еще А. П. Стахович распоряжается в общине, и мне пришлось идти к ней, чтобы получить от нее деньги, необходимые для поездки, так как надо все купить и всем запастись. Она была очень расстроена, и только именем Николая Ивановича я могла получить от нее все, что мне было нужно, то есть денег и белья из склада. Я слышала, что почти все сестры 1-го и 2-го поезда, как исполнится год (мы ведь присягали на год), а может быть, и ранее, собираются уехать, а иные уехали и прежде.
Наконец 21 сентября, в пятом часу, выступил наш транспорт, и я и три сестры со мной в тарантасах, на измученных фурштадтских лошадях, поехали за ними шаг за шагом. Транспорт на волах, 139 подвод; на всех устроено нечто вроде кибиток, неуклюжих, низеньких, крытых рогожей.
На подводах по четыре человека; только на тех, где самые трудные или ампутированные, по три. Еще едет доктор, офицер и два фельдшера.
Долго мы ехали до нашего ночлега — аула Сарабуз. Совсем стемнело, когда мы приехали. Нас встретили страшный крик, шум: отводятся квартиры раненым и больным.
Домики разбросаны нерегулярно по обеим сторонам Салгира, и нам отведен домик. Целое татарское семейство нас окружило; пришел к нам и майор, который здесь продовольствует больных, как это было устроено в то время и на всех этапах до Перекопа.
Жена его живет тут же, и он приглашал к ней напиться чаю; я рада была не хлопотать о самоваре (который мы возили с собой, так же как и уголья), но, прежде чем пойти к ним, мы пошли на солдатские кухни, посмотреть ужин больных. Напившись чаю у майорши, мы вернулись в свою саклю. Но меня ужасно мучило, что я еще не знаю, какие у нас больные и как они проведут ночь. На другое утро я очень обрадовалась, увидав, что опасно раненных у нас нет.
В шесть часов, при восходе солнца, мы пошли на перевязку. С большим удовольствием я увидала, что фельдшера готовили разные примочки и теплую воду. Корпия не очень хорошая, но порядочная. Перевязывали мы, четыре сестры, два фельдшера и доктор. К девяти часам все было кончено. Больные пообедали, мы позавтракали и в первом часу выехали.
До Экибаша, нашего второго ночлега, было 20 верст; мы приехали туда в восемь часов. Опять темно, опять крики, лай собак, размещение больных, и мы — в своей новой сакле, на войлоках у низенького столика. Одно грустно и досадно: передовой пропал без вести и ужина для больных нет; хорошо, что многие не хотят есть. Потом мы узнали, что он проехал не в тот аул.
На другое утро мы очень спешили, — перевязочных у нас 325 человек, а всех больных до 500, — нам предстоял переход в 30 верст. Как только мы перевяжем одного, он тотчас идет обедать. Надеялись скоро выехать, но всего один колодезь — напоить волов надо много времени, — так что мы выехали только в 12 часов. Пасмурно; накрапывает дождь; если погода переменится, беда больным и нам! И вот мы опять едем и едем, и все та же степь, и все тянется тот же бесконечный обоз. Впереди — верховой казак; сзади, в крытой тележке, на лошадях — доктор и офицер. Мы то обгоним весь транспорт, то остановимся и всех пропустим мимо себя, считая, все ли подводы тут, или, выйдя из тарантаса, идем по степи. И тянется наш обоз — и больше ничего. Мы ведь едем не по большой дороге, где много езды, а проселком, от аула, в котором ночевали, до аула, где будет ночлег, и даже не проезжая мимо ни одного аула.
Иногда мы обгоняли наш транспорт и останавливались; между нами стоял бочонок с вином; он нам служит столом, и мы на нем располагали наш обед; случалась у нас и говядина, и курица, а то только сыр и икра. На наше счастье, вдруг явится татарин с огромной корзиной прекрасного винограда. Он дорог, но в дороге, в степи, это находка.
В этот день мы очень запоздали, но, слава Богу, туча рассеялась, звезды ярко сияют; уже десять часов, а мы все едем. Скучно! пошли пешком. Одиннадцать часов, все пустая степь; наш кучер, старый фурштадтский солдат, очень усердно нас утешает и говорит: «Слышите, собаки брешут, видно, близко аул». Но долго слышали мы их лай и только в первом часу доехали. Аул до того растянут, что наша квартира — с полверсты от кухни; я с одной сестрой и татарином иду туда посмотреть, как разместили больных. Ужин есть, но много ли найдется на него охотников: так поздно, а возле подвод раздаются разные жалобы и крики, что нет квартир и всем помещения. Я сейчас пошла к доктору и просила его идти туда и все уладить. Это славный старик, доктор медицины Александр Николаевич Муравьев, он все время находится при перевязке и сам перевязывает или дает лекарство и всякого внимательно расспрашивает. Во всех этих переходах мы потеряли нашего провожатого татарина и уже кое-как, вдвоем с сестрой, добрались до нашей квартиры, избегая собак, верблюдов и ям, которых множество приготовлено, чтобы ссыпать в них хлеб, а собак в ауле множество, особливо вокруг наших кухонь. На другой день мы не спешили: переход маленький, всего 15 верст. Погода славная, солнце светит; хохлатые жаворонки так и распевают. И наш транспорт, слава Богу, не наводит большой тоски: очень мало трудных; многие идут возле подвод, а другие, сидя на подводах, играют в карты; если найдется такой, что умеет рассказывать сказки, то он и говорит, а другие внимательно слушают. И мне иногда случалось идти возле подводы и прислушиваться. Иные даже пели.
В Биюк-Барашке мы приехали рано и, посмотрев, как разместили больных, пошли на свою квартиру, маленькую татарскую саклю. В ней на место пола — битая глина, вместо потолка — одна крыша, а вместо стекол — бумага, но стены чисты, очень тепло.
И мы принялись пить чай на маленьком столике, сидя на войлоках. Пришли к нам и два офицера, которые заведуют продовольствием больных на этих этапах, и еще офицер, который провожает наш транспорт. Мы их тоже поили чаем; потом, взяв фонарь, пошли на кухню, посмотреть ужин больных. Кто может, приходит туда ужинать, а другим разносят по квартирам. Хотя было еще рано, но мы легли спать. Все было так тихо и спокойно; и люди, и собаки, и кошки — все умолкло, а то подчас от них такой шум, что хуже бомб.
Как верно изображение восхода и заката солнечного в степи у Саврасова, и как хорошо оно вставало в тумане в Биюк-Барашке! В тумане собираются наши раненые к перевязочному пункту; они толпятся возле двух досок, на которых все приготовлено. Те, которые насилу дошли, хромая, сидят в отдалении, а прочие, один перед другим, стараются подойти скорее, сбрасывают шинели, развязывают бинты. Иной говорит: «Перевяжи же! Ведь ты все эти дни меня перевязывала!».
И так мы перевязываем около трех часов. Доктор тоже перевязывает или с ложкой в руках дает лекарство. Офицер переходит от нас к кухне, от кухни к волам. Кончив тут перевязку, мы идем по квартирам, перевязывать тех, что тяжело ранены. В девять часов все кончено, и мы идем к себе — пить кофе на этот раз, что большая редкость. У нас было и свежее масло, только из вареного молока. Доктор и офицер тоже пришли к нам пить кофе. Мы с ними в очень хороших отношениях. Больные очень жалеют, что мы едем только до Перекопа. Сестры очень дружны между собой, да и наш фурштадтский старик Алексей находит, что гораздо лучше возить сестер, чем кули.
Опять ехали мы целый день, и только от времени до времени наша степь оживлялась проходом орловского ополчения; молодцы, и хорошо одеты, в черные полукафтанья. С иными мы разговаривали. Я спросила у одного, знает ли он, кто мы.
— Как же: сестры милосердия; мы про вас в «Ведомостях» читали.
А другой, который со мной разговорился, когда я ему сказала, что мы оставили Севастополь, возразил решительно:
— Ну, а мы его опять возьмем!
В девятом часу приехали в Качкары. Опять шум, гам, лай и крик!
На другой день мы опять должны были спешить, так как переезд до Перекопа ужасный — 32 версты!
Выехали в 11 часов; несколько верст ехали проселком, и тут только и увидишь вдали верблюда или вола, или дрофа пролетит над головами.
Выехали на большую дорогу; можно считать версты, будут проезжие, будет развлечение. Но какое грустное развлечение! Вот воловьи возы, нагруженные мебелью и разным хламом, а наверху сидят целые семейства. Как на них грустно смотреть! Это все семейства флотских из Севастополя, где они жили в своих домах и в довольстве; а теперь они все потеряли и пробираются, бедные, в Николаев.
До Перекопа мы ехали 12 с половиною часов, так что приехали туда только в половине двенадцатого. Госпиталь освещен — это какая-то бывшая жандармская казарма: хорошо, что всех положат вместе, только очень тесно их положили.
Но что меня ужасно взволновало и чего я никак не могла уладить, как ни старалась: офицер, который распоряжался размещением больных на койки или на полу, никак не хотел положить слабого больного на койку, говоря, что на них велено класть только раненых. Напрасно я ему говорила, что у нас есть раненые совсем здоровые, а больные гораздо слабее, а один и очень слабый. Но он преспокойно отвечал:
— Генерал так приказал.
Я отвернулась от него и не удержалась, чтобы громко не сказать:
— Приказание глупое, да и исполнение такое же! — и пошла, постараться хоть на полу уложить покойнее моего больного.
Ужин был готов. Нам отвели маленькую, чистую комнату; в ней стоят стол и лавки, а все эти дни мы сидели на полу. Напившись чаю, в два часа мы легли спать, в половине шестого встали и пошли на перевязку. К нам пришли две сестры. Их здесь четыре; они присланы Екатериной Александровной Хитрово из Одессы, но не из ее общины, а из новонабранных прямо в крестовоздвиженские сестры. Е. А. Хитрово, кажется, отправляла сестер и в Херсон, и в Николаев, так как там сестер, присланных из Петербурга, было слишком мало по множеству больных, которые там находились.
И здесь сестрам очень много дела: они перевязывают во всех госпиталях, а госпиталя помещаются во всех домах несколько больше прочих. А когда приходит транспорт (и это бывает довольно часто), они тоже приходят на перевязку; тут я познакомилась и с их старшей сестрой. Кажется, она хорошая женщина и прекрасно исполняет свой долг, но в ее тоне и с больными, и с здоровыми есть неприятная резкость; она входит в палату и громко говорит: «Здорово, ребята!». И часто, по привычке, те отвечают: «Здравия желаем вашему благородию!». И смешно, и досадно!
Мы пошли к сестрам, и я со старшей сестрой пошла по всем госпиталям. А после обеда мы зашли к Озерецковским; это очень милое и приветливое семейство, а их хорошенькая дача, с деревьями, зелеными кустарниками, — настоящий оазис в этой солончатой местности. Ночевать мы вернулись в нашу казарму, и 28 сентября, рано утром, выехали обратно в Симферополь.
Нам предстояло скучное путешествие — ехать на измученных лошадях 130 верст, и во всю дорогу — только одни небольшие станционные домики.
На первой станции мы покормили лошадей, и в десять часов вечера приехали на ночлег; но на станции не только не было свободной комнаты, где бы переночевать, но даже и такой, где бы напиться чаю. На наше счастье, два офицера предложили нам для этого свою комнату, а я провела ночь в тарантасе, и едва только рассвело, наш Алексей запряг своих коней, и мы, полусонные, поехали в Айбары, где пили чай и обедали, хоть и очень плохо, а все же обед.
В Трехоблом мы прибыли рано, а так как мы ехали на своих и не имели подорожной, то смотритель не хотел нас пустить ночевать на станцию; но я ему объявила, что кто едет по казенной надобности, тот имеет право останавливаться в казенном доме. Он стал просить хоть какой-нибудь бумаги, а я ему возразила, что довольно взглянуть на наши платья и кресты, чтобы убедиться в нашем праве, прошла мимо него, села на диван, и больше нас никто не беспокоил. Мы сами поднялись в четыре часа утра и остановились покормить лошадей в корчме близ Салгира. От нечего делать и чтобы сократить время, мы гуляли по степи, которая была вся покрыта, точно лиловым ковром, цветами, а в два часа приехали в Симферополь. Тотчас же я пошла к Екатерине Александровне Хитрово и с ней вместе вечером к Николаю Ивановичу Пирогову, где увидала Елизавету Петровну Карцеву. О ней я не буду говорить: она слишком хорошо известна и теперь, как самая отличная сестра, и в Крестовоздвиженской, и в Георгиевской общинах. Она произвела на меня очень приятное впечатление. Елизавета Петровна очень встревожена была всем, что здесь происходило. Все, и довольные, и недовольные прежним управлением, были в каком-то трагикомическом смятении, все перешептывались. А. П. Стахович говорит, что она уходит, а тут же распускают слух, что она получила письмо из Петербурга, где ее умоляют оставаться.
Да и во всем другом сплетням и слухам несть конца. Вот, например, я еду в Перекоп, а мне говорят, что там француз; еду обратно, опять говорят, что он на такой-то станции. А приехала на станцию — говорят, что тут нигде никого нет, а француз — за семь верст от Бахчисарая, где церковь св. Анастасии. А бахчисарайские сестры туда ходили на богомолье, и там решительно все спокойно.
Мне пришлось написать Николаю Ивановичу отчет о транспорте и свои замечания. Меня это очень затрудняло. Исписала целый лист кругом. Что было написано, совершенно не помню: не то отчет, не то журнал, не то замечания.
Зная, что я должна Николаю Ивановичу докладывать, я еще в дороге кое-что записывала. Были тут и возгласы вроде того: «Мало людей настолько добросовестных, чтобы исполнять свой долг в виду только Бога и степи!». Были также замечания и о сестрах, которые истинно и много трудятся.
В Симферополе оказалось очень много госпиталей: все присутственные дома, все большие здания, Благородное собрание, гимназия, дом казенной палаты — все занято, а Присутствие — в доме председателя Владислава Максимовича Княжевича. Он мой давнишний знакомый и был очень внимателен ко мне, да и во всех сестрах принимал большое участие.
Всегда буду вспоминать с большой благодарностью, что он, несмотря на все хлопоты и тревоги того времени, как только узнал, что все сестры благополучно вышли из Севастополя, сейчас написал к моей сестре и успокоил ее гораздо раньше, чем она могла получить мое письмо.
Приведу здесь стихи моей сестры, написанные ею в карете, когда она получила о нас известие и ехала на Каменный остров. Она тогда жила в Петербурге и часто гостила у великой княгини Елены Павловны, то на Каменном, то в Ораниенбауме.
Стихи эти так и остались неотправленными, и я их прочла только тогда, когда вернулась в Москву. Да, тяжело ужасно было тем, у кого были тогда в Крыму родные!
Николай Пирогов на главном перевязочном пункте. Художник М. Труфанов
Ты в каждый миг и дня и ночи В моей душе, в моих мечтах! В незримый край вперяю очи, Живу не здесь, а в тех местах, Где ты на поприще страданья. Молюсь, страдая и любя, Но в сердце грустном упованье: Господень крест хранит тебя! Полна тревогою разлуки, Не замечаю, что кругом; Внимая песен сладких звуки, В душе я слышу пушек гром. И отчужденная душою — Молюсь, страдая и любя, Твержу, борясь с моей тоскою: Господень крест хранит тебя! Вокруг меня сады, аллеи, Краса цветущая дворцов, Но все мне видятся траншеи И раны страшные, и кровь… Смыкая, открывая вежды, Молюсь, страдая и любя. Но в сердце луч святой надежды: Господень крест хранит тебя! О, счастья радостные вести! Тебя Господь нам сохранил. И верю я: мы будем вместе, Велик Господь щедрот и сил! Благодарю всем сердцем Бога, Молюсь, блаженствуя, любя; В душе спокойной веры много В Господень крест: он спас тебя! 1855 года, 8 сентября.Продолжаю о госпиталях. Итак, их было много. Во всех были помещены сердобольные из Петербурга и Москвы; я слышала, что их было 80; многие из них хворали, и даже говорили, что 20 умерло, что выходит очень много, и гораздо больше, чем умерло сестер. Может быть, это и оттого, что сестры были моложе и обставлены были удобнее; сестры ходили дежурить, проводили в госпиталях сутки и возвращались отдыхать в общину, а главное — имели готовое содержание от общины; а сердобольные жили по две и по одной при госпитале, получали деньги на пищу и должны были сами хлопотать о своем содержании; иные и не умели, и не хотели этим заняться; другие экономничали, желая сберечь деньги, и все это дурно влияло на их здоровье.
Кстати, вспомню очень странную память сумасшедшего и одно очень странное совпадение.
Из всех сердобольных знала я только одну, которая жила прежде у моей тетушки, а потом поступила во вдовий дом и была уже сердобольной, когда стали им предлагать ехать в Крым. Она прибежала ко мне спрашивать совета; я, разумеется, советовала ехать, так как тогда только и думала, как попасть туда. В ее госпитале было отделение для сумасшедших; вдруг она получает от одного из больных записку, в которой он просит у нее чаю, а Екатерина Михайловна Бакунина ей после отдаст; она сейчас пошла к нему, и он ей рассказал, где меня видел, и дал письмо ко мне. Но она только тогда убедилась, что я точно в Крыму, когда я сама пришла к ней.
Я тоже ходила несколько раз и к больному юнкеру, что лежал прежде с моим крестником. Он был всегда очень рад, когда я к нему приходила. Он, слава Богу, совсем поправился. Этим госпиталем одно время заведовал наш доктор Тарасов, который и остался доктором общины и много трудился и сочувствовал устройству и успеху ее. Моей знакомой сердобольной, Клеопатрой Александровной Мальвиной, он был очень доволен.
В конце сентября или начале октября сестры поступили в бараки, которые стали наполняться больными. Обязанности старшей сестры исполняла Е. П. Карцева, а сестры ездили туда на суточные дежурства. Сестер в эту минуту было много, но многие из них собирались уехать, так как срок их кончался: 1-е и 2-е отделение поступили в ноябре. Я же, когда была в Симферополе, оставалась в странноприимном доме Таранова, где находились и больные сестры. Опять появился у нас тиф.
Мне говорили, да и самой мне казалось, что тот транспорт, который мы провожали, был устроен лучше, чем другие, так как знали, что Николай Иванович посылает сестер с транспортом.
Я предложила Николаю Ивановичу поехать на первый этап неожиданно, чтобы посмотреть, что там делается. И вот, узнав, что вечером ушел транспорт, я на заре велела заложить тройку в телегу и с сестрой Антиповой поехала в аул Сарабуз, первый этап больных, прямо к раздаче говядины и обеда; мы хлопотали, чтобы все были накормлены, помогли перевязке, указали на глупое распоряжение, а именно: тяжело раненные были помещены далеко от кухни, — подбили доктора побранить фельдшера, а доктор просил меня побранить офицера; раздали табак (белье на этот раз было хорошо); но транспорт был устроен гораздо хуже, чем тот, который мы провожали; у нас был доктор, очень расторопный офицер, два фельдшера и 500 больных на 130 подводах, да еще девять подвод для тяжестей; в этом же транспорте на 130 подводах были и тяжести, и 600 человек, лекарь, один фельдшер и какой-то вялый офицер. К четырем часам мы были дома.
Опять я скоро собралась провожать транспорт и опять только до Перекопа; дальше Николай Иванович не позволял; он находил, что возвращение затруднительно, и хотел, чтобы сестры, которые совсем уезжают, провожали транспорт и, доведя его до места, продолжали бы свой путь дальше; но это не уладилось. Кажется, сестры не соглашались, а может быть, и что другое помешало, — наверное не знаю. Знаю только, что еще до Перекопа один раз четыре сестры (за старшую была А. М. Медведева) провожали транспорт и вернулись в Симферополь.
9 октября Николай Иванович Пирогов прислал мне сказать, что транспорт готов и выступает, но опять только до Перекопа мы должны провожать его и остаться там несколько дней, чтобы хорошенько посмотреть, что там делается. Я сейчас послала сказать, чтобы мне приготовили лошадей.
Еще когда сестры были на Бельбеке, туда великая княгиня велела прислать лошадей из своего имения, Полтавской губернии, Карловки, но вдруг я узнаю, что их куда-то услали. Так было это досадно, и мы только в пять часов могли выехать. И что же? Транспорт на лошадях, а все еще стоит у заставы. Но мне сказали, что есть передовые на волах; наконец мы поехали вперед, перегнали еще три подводы. Из одной привстал полупьяный унтер-офицер и, глядя на нас, сказал: «Никак милосердные! Значит, надо ехать скорей готовить ужин!».
Однако мы приехали прежде него.
Тихо в ауле Сарабуз. Ночь чудная; луна так и блещет, так и сверкает в струйках Салгира, который извивается по аулу. Но нельзя было, однако, восхищаться красотой ночи, особливо старшей сестре, и оставить сестер проводить ее под открытым небом. Наша прежняя квартира занята; я велю позвать десятского татарина и приказываю ему отыскать нам квартиру. Он сейчас же это и сделал. Мы раскладываемся, хлопочем с самоваром. Со мною опять те же сестры, что ехали и в первый раз. Часа через два приехали и наши больные. Все подводы конные; раненых 105, а больных 380.
Молчаливый аул оживился; подводчики развели яркие огни (бурьян горит каким-то белым пламенем, вроде бенгальского огня), и они, и некоторые больные собрались вокруг огней, и слышен не полусонный и монотонный разговор чумака, который только чумакует за солью через Перекоп или Чонгарский мост — тут иной рассказывает про неметчину, потому что ходил туда с товаром, а другой говорит, что был за Дунаем, и в Тамани, и в Сибири — не далеко, ходил только до Томской области.
Доктор у нас — студент из Харькова, очень вялый, а офицер очень проворный (и, к моей великой радости, распорядился переменить солому у больных), два фельдшера, но перевязки мало, всего 50 с чем-то человек; есть из них 28 ампутированных, но в очень хорошем состоянии.
В Экибаш мы приехали благополучно и оттуда вовремя выехали. Едем себе по нашей однообразной степи, но вдруг на горизонте что-то блестит, то в той, то в другой стороне. Наконец, видим, что это войско, а там вдали у аула еще больше, а ближе к нам стоят по два солдата, не в дальнем расстоянии друг от друга.
Мы ехали впереди всего транспорта. Нам кричат: «Стой!» — «Что это?» — «Цепь…» — «Как, зачем?» Подхожу к гренадеру (а его товарищ пошел за офицером) и спрашиваю, что они тут делают. Он отвечает мне, смеясь:
— Говорят, что француз тут шляется, так мы его и стережем!
Пришел офицер и говорит, что их сегодня только сюда привели и велели быть наготове, но это только предосторожность. Нас пропустили, и опять мы не видим ничего воинственного, а только табуны немного оживляют голую степь.
Главные наши хлопоты на ночлеге состоят теперь в том, что мы по утрам поим иных больных чаем, а других кофеем. Чайник, в котором варится кофе, кое-как разогревается на кизяке, а для самовара возим уголья; но они так истерлись, что годятся для зубного порошка, а не для самовара. И вот, под большим колпаком, сделанным из плетня и глины, который трубой выходит кверху, мы, сидя на глиняном полу, варим кофе. Татарин, татарчонок лет десяти, еще две татарки, одна с грудным ребенком на руках, и прехорошенькая татарочка лет пяти, моя большая приятельница, хлопочут, чтобы развести самовар лучинами. Татарин режет их, а девочка подает, а я, с Монтандоном в руках (путеводителем по Крыму), разговариваю с татарином, спрашиваю, скоро ли у него будет марушка (жена). Он отвечает, что хочет марушку в 100 карбованцев (серебряный рубль), а про татарок, что с нами сидят, жен его братьев, говорит, что одна стоила один карбованец, а другая — 50. Все хохочут над моим татарским языком. Потом пришли еще шесть татарок и были очень довольны, когда я им раздала булавок. Мы в этой сакле большие приятели; старик хозяин, провожая нас, кричит: «Твой у моя!». А я отвечаю: «Якши!».
В Перекоп приехали довольно рано, как и всегда, на шестой день. Я ехала с той мыслью, что эту ночь больным нашим покойно будет в госпитале, но, когда вошла туда, была ужасно неприятно поражена: там уже лежит 500 больных; только что пришедший из Польши гренадерский корпус очень страдает от тифа. Иные говорят, что они с собой принесли болезнь; другие — что им очень неудобно, нет для них никакого жилья, даже говорят, что нет палаток!
И опять было распоряжение поместить только раненых в госпиталь, а всех больных — в палатки. Хорошо еще, что это большие госпитальные палатки на сукне, и в них было довольно тепло. Мы поехали ночевать к сестрам. Я, по желанию Николая Ивановича, осталась в Перекопе на несколько дней; ходила целые дни из госпиталя в госпиталь, записывала, замечала, чтобы все передать ему. Иногда вечером, чтобы вздохнуть свежим воздухом, ходила к Озерецковским и вполне отдыхала от шума, криков, брани, стонов, слушая прекрасное пение жены сына Озерецковского, у которой великолепный контральто.
Я удивлялась, как ко всему можно привыкнуть: когда я пожила несколько дней в Перекопе, где вода соленая, то после другая вода мне казалась нехороша и слишком пресна.
20-го мы вернулись в Симферополь, и как только я приехала, пошла к Николаю Ивановичу отдать ему отчет о транспорте и о перекопском госпитале.
В общине я нашла большие перемены. А. П. Стахович под конец все бросила, и у нас было настоящее междуцарствие; в субботу она уехала, а с ней, за исключением только четверых, и все 1-е отделение. Я ходила к ней прощаться. Признаюсь, что мне не хотелось, но Николай Иванович говорил, что надо. Я ему отвечала, что, прощаясь, надо что-нибудь сказать, а я не могу.
— Ну и не говорите, а все-таки идите прощаться.
Я и пошла. Разумеется, прощанье было самое холодное. В воскресенье, в доме, где жили сестры, был молебен с водосвятием, и после молебна Николай Иванович представил нам Екатерину Александровну Хитрово как старейшую сестру, заменяющую начальницу, причем сказал, что все важные дела должны решаться сестрой-начальницей с старшими сестрами, им самим и священником. Он надеется, что все пойдет хорошо, что и сестры поймут святую обязанность, которую взяли на себя.
Екатерина Александровна перебила его речь, заметив, что она только временно будет в нашей общине; она и оставалась всегда в одеянии одесской общины. В Тарановском доме, где в это время был госпиталь сестер, у нас опять были тифозные из тех, что не были больны в Севастополе; иные были в очень трудном положении, но поправлялись; умерла только одна сестра, и то по своей неосторожности.
27-го ждали государя. Целый день суета страшная, скачут верхом, бегут пешком, едут в экипажах. Бульвар вокруг собора наполнен народом; священники в соборе с утра. Все улицы освещены плошками; на обнаженных деревьях альянтуса и белой акации качаются от сильного ветра разноцветные фонари, повешенные без всякого порядка, и низко, и высоко.
С нашего балкона был очень хороший эффект. Теперь здесь все дома заняты для генералов, да и без приезда государя Симферополь совсем не тот мирный и тихий городок, каким я его знала в 1850 году. Дома все переполнены, правда, большею частью больными или бежавшими из Севастополя и других городов. Видишь и нарядных дам, но мужская половина населения напоминает госпиталь: или без руки, или без ноги, с подвязанной рукой, с завязанной головой или изнуренные болезнью.
На улицах до того тесно, что пройти нельзя; всевозможные телеги, великороссийские, малороссийские, новороссийские, всевозможные татарские, от самой длинной маджары до двухколесной арбы, и немецкие фуры, покрытые холстом, все это заложено худыми лошадьми, косматыми верблюдами и всех возможных цветов и роста волами.
И все это до того загромождает улицы, что не знаешь, как и пройти…
Одним словом, в 50-м году в Симферополе было 13 тысяч жителей, а теперь — 60 тысяч.
В десятом часу кто-то закричал «Едет государь!». Одни кинулись к окошкам, иные к воротам. А потом сказали, что это не государь; но народ долго стоял, и иллюминация долго горела. Государь приехал очень поздно.
Это время я проводила очень уединенно; в госпитали не ходила, а это для меня было единственное рассеяние: боялась, что сестры или сердобольные будут на меня коситься и подумают, что я теперь хожу, чтобы встретить где-нибудь государя. К Николаю Ивановичу тоже не хожу без дела: меня мучила мысль, что, наконец, ему так надоедят сестры и разговоры о сестрах, что он махнет рукой на общину.
Я задумала опять поехать с транспортом и пошла в главный госпиталь, откуда они отправляются, узнать — будет ли транспорт. Там никто ничего не знал. Тогда я пошла отыскивать генерала Остроградского. Я не помню его официального титула, но знаю, что он заведовал госпиталями. Он был добрый человек — сам, бывало, таскает койки — славный был бы фельдфебель, но не распорядитель! Я отыскала его, наконец, в правлении. Стала ему говорить о том, что делается в Перекопе, какие были перемены, а он мне отвечает совершенно равнодушно: «А я этого не знаю». Меня это совершенно взорвало, и я говорю ему: «Да ведь вы там начальник?» — «Как же, начальник!» — «Я имела убеждение, что начальники должны знать, что у них делается», — и еще много ему наговорила, и сказала, что сейчас иду к Николаю Ивановичу. А Остроградский был так любезен, что проводил меня на крыльцо и скоро сам пошел к Николаю Ивановичу, к которому я пришла раньше, чтобы спросить у него, не угодно ли ему, чтобы я ехала на другой день в транспорт. Он мне сказал, что ему было бы очень угодно, да решусь ли я сама, так как холодно, а ехать надо уже не до Перекопа, а до Берислава. Я, разумеется, решилась. Погода была ветреная, но довольно теплая, а главное — было сухо. Я только боялась грязи для лошадей, так как тарантас тяжел, и очень была рада, что Остроградский пришел к Николаю Ивановичу, так как при этом последнем я могла от него добиться, чтобы все больные были в суконных нижних платьях, а то они, несмотря на холод, все еще в холстинных. Было еще ужасное распоряжение: когда транспорт отправляли из Симферополя, то на всякую подводу давали только по два полушубка, хотя больных было по четыре на подводе! Но что еще хуже — когда больные продолжали дальше свой путь в Россию, где холоднее, полушубки отбирались и отправлялись обратно в Симферополь!
Члены Комитета и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины перед отправкой на Дальний Восток
Тем же порядком мы проехали пять ночлегов, но на место Перекопа наш транспорт был остановлен в Армянском Базаре — пять верст не доезжая до Перекопа. Больные кое-как были размещены по нетопленым домам, и городничий объявил, что для сестер нет квартиры, но унтер-офицер распорядился иначе, и нам отвели хорошенький армянский домик — чисто, тепло. Одно было грустно и тяжело: больным нет ужина, а за неимением котлов мы не могли напоить их ни кофеем, ни чаем; одним небольшим самоваром не напоишь двухсот человек.
Утром я поехала в Перекоп в контору хлопотать, чтобы больным прислали водки и устроили обед; видела там и коменданта; а потом явилась прямо к генералу Богушевскому: спросить, когда пойдет транспорт, и хлопотать, чтобы оставили полушубки и покрышки на телегах. Сначала он был очень нелюбезен, но потом, когда пришла его жена и, узнав, кто я, сказала, что знает все мое семейство, и тогда оба стали очень любезны. Она говорила, что ее сестра ей писала, что я тут, и она очень желала меня видеть. Я была очень рада, что могла подробно ему рассказать о несчастном положении транспорта в Армянском Базаре. Они могут сказать в извинение то, что на место 2000 человек, которых они могли бы поместить, у них 5000! Но я все надеялась, что хоть что-нибудь да сделают, хоть котлы и солома будут.
Купив все, что нужно для продолжения нашего пути и нам, и лошадям, мы поехали обедать к сестрам, и, совсем приготовившись, ждали, когда мимо нас пойдет транспорт, чтобы присоединиться к нему. Выехали мы только в половине шестого; совсем уже смеркалось, только новый месяц едва светил сквозь густые тучи, а потом стало совершенно темно. Мы тащились нога за ногу — переход 27 верст — и приехали во втором часу ночи. Разумеется, тут не до ужина.
Только утром огляделись, где мы находимся. Большое село Чаплинка, 300 домов, малороссийские чистенькие беленькие хатки, просторно, широкие лавки. Больные очень довольны, что они в христианских домах, да и хозяева дают им и то, и другое; разговаривать можно; печки теплые, солома есть.
Если не было ужина, зато обед рано готов, порции говядины большие, водка хорошая; но мы все-таки поили их чаем, кофеем, а тех, которые слабы, — красным вином. Хотя все это делается в одно время, но есть такие проворные молодцы, что успевают всего напиться, да еще подвернуться, когда я раздаю крестики да рубашки. А мы очень смотрим, чтобы два раза не поить одного, хотя наш транспорт и небольшой, но все же 370 человек — ведь это целая деревня.
Выехали мы в час и только в девять часов вечера доехали до Малой Маячки, которая совсем не малое, а большое село. Я утром походила по хатам, чтобы посмотреть наших больных. Они очень рады, что имеют от хозяев посуду, из кухни приносят обед на квартиру, и они садятся вокруг стола.
В этот день мы рано приехали на ночлег в Чернавку, 9-й этап от Симферополя. До Берислава переход был небольшой, но по пескам, и мы с большим трудом тащились. Все больные, которые могли только идти, шли пешком, из жалости к лошадям, которые едва передвигали ноги. И вот мы еле-еле подвигались под туманом и снежком, так что и небо, и земля, и вода, и деревья, и люди — все было серо, все в одном тоне.
Но, слава Богу, довольно рано мы достигли Берислава. Там, на другое утро, могли напоить всех больных в последний раз чаем. Чай пожертвовал дистанционный офицер, и нам приготовили два котла и ведро кипятку.
Мы спешили выехать обратно, чтобы еще засветло проехать пески, и при луне, но тоже под облаками и туманом, доехали ночевать в Черную Долину, а на другой день вечером добрались до Перекопа, где пробыли еще один день; я обошла все госпитали и пустилась в Симферополь.
Когда я вернулась из Берислава, то нашла все приготовленным для меня уже не в Тарановской богадельне, а в доме общины, в одной комнате с Е. А. Хитрово. Нас разделяют ширмы, и у меня, и у нее по окошку, стол, этажерка, три кресла. Это такая роскошь, от которой мы давно отвыкли. Я могла быть одна и писать письма не под несмолкаемый говор сестер! А писать было надо. Помню, как было мне затруднительно объявить сестре, что я не вернусь в годовой срок и останусь еще.
В ноябре кончался срок и 2-го отделения. Из первого осталось очень немного, да и из 2-го не больше: были и прежде уехавшие из него, и по нездоровью, и по другим причинам.
Срок нашего 3-го отделения кончался 10 декабря. И я, и сестры моего отделения почти уже собирались уехать.
Хотя я очень привязалась к общине и к нашему делу, но как обмануть ожидания сестры, которая считает дни до моего возвращения!
В это время Николай Иванович совершенно предался занятиям по устройству общины, устройству службы сестер в бараках и всего, что касалось общины. Я помню, как я пришла спрашивать у него, что он желает — чтобы я шла дежурить в бараки или опять ехала с транспортом? Он мне сказал, что очень рад, что я пришла, и что ему надо со мной переговорить. И тут же прочитал все изменения и перемены и всю реорганизацию, которую он хочет сделать. И долго, долго мы с ним говорили, а когда пришла Екатерина Александровна, то они опять (так как об этом было говорено уже несколько раз) принялись приступать ко мне вдвоем, говоря, что они на меня надеются, что невозможно в эту минуту оставить общину. Я возражала и то, и другое, говорила, что я не нахожу себя способной им содействовать. Тут Николай Иванович сказал мне:
— Что же вы хотите, чтобы я вас в глаза хвалил?
— Что вы это говорите!.. — Ия обещалась не уезжать в срок, если мое присутствие полезно, но не связывала себя никакими обетами.
Трудно было приняться за письмо к сестре. Письмо было очень длинно; много, много разговоров и рассуждений было в нем написано…
Так как бараки были наполнены больными, то дела у нас тогда было много. В них скромно начали так блестяще потом пройденную карьеру Сергей Петрович Боткин, как доктор, и Елизавета Петровна Карцева, как сестра милосердия. В общине все это время Екатерина Александровна и Николай Иванович много хлопотали о том, чтобы ввести разные перемены, но как-то это плохо принималось. И вот было у нас раз совещание: Николай Иванович, Екатерина Александровна, сестра Карцева, священник отец Арсений и я. Много толковали об устройстве общины, а потом был суд над сестрою за один проступок. Позвали обвиняемую и еще пять сестер. Им предложили решить: сделать ли провинившейся только выговор или записать в протокол. Подавали голоса, разумеется, как водится, начиная с меньшой. Ей был только сделан выговор по просьбе сестер, да и, по правде, это так и следовало. Я думаю, что она по своей простоте и не понимала, что сделала. Но я вспомнила об этом потому, что сестрам такой суд не понравился, и я напрасно долго, долго толковала им, что так гораздо лучше, гораздо правильнее, чем зависеть от одной, которая скорее может быть несправедлива, может иметь досаду или быть особенно нерасположенной к провинившейся. Но сколько я ни говорила до потери голоса, все было впустую, и я никого не убедила… Почти все предпочитали во всяком деле деспотическое управление одной, хотя бы с капризами и несправедливое, общему участию многих. Да, много надо времени, чтобы все устроилось, как следует! Я с сестрами дежурила в бараках; но вот на одном дежурстве получила записку от Тарасова, что Николай Иванович желает, чтобы я догнала транспорт, который уже выехал, потому что там много ампутированных. Было мне это очень не по сердцу: ехать с транспортом еще ничего, но догонять… Да и выехать я сейчас не могла: надо было справить теплую одежду для сестер, добыть форейтора и пару лошадей, чтобы ехать пятериком — грязь невылазная.
Только 22 ноября, утром, мы могли выехать. И всегда довольно безобразный экипаж и упряжь на этот раз были еще безобразнее; у нас же внутри тарантаса уложены рубашки, чулки, рукавицы, самовар, чайники и пр. Со мной на этот раз едут только две сестры. Путь дальний. Если мы догоним транспорт, то поедем с ним до Екатеринослава; это 460 верст; а так как мы не будем ехать прямой дорогой, а по деревням, то выйдет и больше. В тарантас заложено пять лошадей, три из Карловки и кучер оттуда же, хохол Осип Бирюк, в своей свитке, и форейтор на фурштадтских лошадях, в военной шинели и фуражке, с ужасно глупым лицом, неуклюжий и плохо управлявший лошадьми: а сзади тарантаса — мешки с угольями, щепками, овсом, и над всем этим еще огромный пук сена с бурьяном! — да и может ли быть иначе, ведь сено казенное!
Погода серая, мрачная, дождь льет, и нам положили доску с верхней ступеньки лестницы на верхнюю подножку тарантаса.
Простились мы очень нежно с Екатериной Александровной. Жаль мне было с нею расстаться, так хорошо мне с нею жилось, но не думала я, крича ей из тарантаса: «До свидания!» — что этого свидания никогда не будет и что я вижу ее в последний раз!..
И так мы ехали или, лучше сказать, с трудом тащились по грязи; а к вечеру, когда стало темнеть, все становилось холоднее и холоднее, точно дождь замерзал на лету; грязь прилипала к колесам, лошади останавливались на каждом шагу и наконец совсем стали. Тарантас — ни с места, точно пустил корни. А кругом — степь, ночь, холод! Стоим мы так час — темно и пусто. И еще проходит больше часа, и никто не едет, все тихо… Но вот что-то скрипнуло… Ближе… слышно, что это немазаные татарские маджары, но чего ждать от татар! Вот слышны голоса. Это не татарский говор. Какое счастье! Это ведут пленных французов из Керчи в Одессу. Я прошу офицера позволить им нам помочь. Он только затрудняется тем, как им растолковать, что нам надо. А я сейчас же заговорила с ними по-французски, и они с удовольствием подбежали к тарантасу, а мы уселись в него. И вот — крики по-французски, по-татарски, по-русски, по-малороссийски, и вместе с тем усилия двадцати с лишком рук, которые поднимают и пихают тарантас, заставляют лошадей идти вперед. Но ненадолго, опять стали, и опять нам помогают, а одного из них, который всеми управляет и через меня учит нашего несчастного форейтора, как ему ладить и управлять лошадьми, я занимаю разговором. Узнав, что он был охотник и 12 лет провел в Африке, я вспоминаю, что читала в «Revue des deux Mondes» о зефирах и «Жерар — великий охотник на львов», и стала его расспрашивать о них. Он был очень рад встрече с нами и долго нас провожал; а так как, прежде чем быть солдатом в Африке, он был кондуктором дилижансов, то мог давать хорошие и полезные советы нашим возницам.
23-го мы ехали потихоньку и без всяких приключений. С 23-го на 24-е целый день лил дождь. Что за ужасная грязь! все на станции сидели со свечами. Я вышла в коридор; станционный смотритель стоит навытяжку против двери комнаты, которую занимает генерал Ушаков.
— А куда едет генерал? — спрашиваю я его. — В отпуск?
— Никак нет-с. Его превосходительство изволят ехать осматривать госпитали в Перекопе и Бериславе.
— А, госпитали! — И с этими словами я быстро отворяю двери и вхожу в комнату генерала, а смотритель остается с разинутым ртом от удивления, что его превосходительство так хорошо принял сестру. Неважное обстоятельство — выпить стакан жидкого чаю с генералом — вывело нас в этот день из ужасного положения.
Рассвело. Генерал уехал, и адъютанты тоже. И наши лошади весело и бойко побежали по дороге; перед нами небольшая балочка, но она вся наполнена водой. Въехал туда тарантас очень бойко, но на средине лошади упрямятся, останавливаются, прыгают на одном месте, бьют задними ногами, рвут постромки, гужи; дуга падает в воду, а вода так глубока и при сильном ветре так волнуется, что часто перебегает через грядки тарантаса.
Видный наш кучер Осип с возгласом: «За что Господь меня карает!» — прыгает в воду и по пояс в воде завязывает постромки и поправляет дугу, На наше счастье, к нам навстречу едет легонький экипаж и счастливо переезжает через воду. Мы просим сказать смотрителю, чтобы он прислал ямщиков нам помочь, и вот что значит напиться чаю с его превосходительством: не только смотритель присылает ямщиков, но сам является верхом, хлопочет вокруг экипажа, закладывает почтовых лошадей на унос, и был до того снисходителен, что дал лишнюю пару до следующей станции и ничего не хотел взять, кроме законных прогонов. Мы очень ему были благодарны и спокойно и хорошо доехали до следующей станции на семерике. Смотритель же той станции, на которую мы приехали, никак не хотел дать нам опять лошадей, и хотя мы приехали рано, но дни короткие, лошади измучены, и надо их кормить по крайней мере три часа, а пускаться в путь на ночь невозможно.
Грустно и тяжело было сидеть тут с мучительной мыслью о транспорте! Он должен сегодня пройти мимо этой станции в Армянский Базар, а завтра, может быть, поедет и дальше! Что же мы тогда сделаем? И вот сидим мы с сестрой Никитиной и печально об этом разговариваем. Мы обе с ней в этот день были именинницы и грустно проводили этот день. Сестра Антипова лежит, у нее начинается тиф, а мы сидим у окошка и смотрим на дорогу. Вот показалось несколько неуклюжих закрытых телег. Вот и офицер. Я быстро выбежала на дорогу и спрашиваю:
— Это какой транспорт?
— Ах, сестрица, как мы рады!
Тут я увидала, что это все юнкера.
— Нет, господа, вы не наш транспорт. Наш выехал девятнадцатого.
— А мы выехали пятнадцатого и с тех пор все бедствуем.
И вот их человек десять входят со мной на станцию, и тут я увидала, что половина из них — подвыпивши; они начинают ссориться, браниться; я стала стараться их остановить, угрожала, что все это будет известно генералу Богушевскому, как они на станции срамят русский мундир. Но они не унимаются, а один высокий юнкер, с георгиевским крестом на шинели, начинает драку, — и пошла такая кутерьма, что мы схватили свои мешки и убежали в комнату смотрителя. Но, однако, шум скоро прекратился, и один из юнкеров, не участвовавший в этом побоище, приходил умолять нас простить его товарищей. Я ему говорю, что мы их прощаем и в доказательство, что не будем жаловаться, не спрашиваем их фамилий. Является потом другой, а наконец и тот, который начал схватку, просит прощенья, и в знак прощенья просит дать ему поцеловать руку. Я поспешила исполнить его желание, лишь бы только он поскорее ушел. Тут началась истинная комедия. Он просит и другую сестру, чтобы она дала ему поцеловать ее «прелестную ручку», а она прячет руки и говорит, что она не архиерей, чтоб у нее руки целовали (она из духовного звания), так что мне, наконец, пришлось ей почти приказать дать руку, только чтоб он ушел.
В лазарете
Наконец они уехали, и мы опять пошли в комнату для проезжающих, и затем проезжие менялись один за другим. Вот ополченец из орловской губернии кричит и горячится, точно в виду неприятеля, а вот другой жалуется, что слишком скоро заложили, не дали ни согреться, ни отдохнуть (у него курьерская подорожная), а третий жалуется, что его целые сутки держат на станции (у него подорожная частная).
Ночевать нас позвали в маленький домик — возле станции, где мы всегда пили чай; нам там было очень покойно; оставалась одна еврейка с девочкой, а евреи, содержатели станции, так и проплутали всю ночь до утра, несмотря на то, что у них был лучший ямщик и от Армянского Базара всего 18 верст, — такова была темнота и грязь.
Когда я встала и взглянула в окошко, мне вспомнились слова Наполеона, о том, что он нашел пятый элемент в Польше — грязь. И мне так и представилось, что наши лошади станут на этих 24 верстах, которые нам надо проехать до Перекопа, а потому я решилась лучше ехать на волах и послала к становому свое открытое предписание от губернатора, графа Адлерберга, с просьбой двух пар волов. Привели пару каких-то замученных телят. Заложили. Еле-еле они оттащили тарантас от станции при криках татарина «айда!» и Осипа «цоб, цо-об!». И волы идут-ней-дут, так что чувствуешь, что они не стоят, но и неприметно, чтобы мы подвигались. Так ехать 24 версты невозможно: мы заморозим больную сестру. И вот мы решаемся отпустить волов и заложить своих лошадей. Авось мы и доедем. Но с каким страхом мы глядим на всякое место, покрытое водой! Всякая большая лужа представляется нам местом нашего постоянного пребывания. Вот лощина вокруг колодцев — целое море! Въехали туда; широко и глубоко, но, слава Богу, земля под водою твердая. Наконец и Армянский Базар; в нем грязь невылазная, но проехали благополучно, а тут опять степь, и ехать лучше.
Вот и Перекоп. У заставы Соляного Правленья госпиталь № 8. Тут стоят транспортные телеги. Ну, если это наш транспорт и он едет сегодня же в Чаплинку! Как мы поедем за ним! Мы проехали 24 версты, а туда — еще 27!..
Я увидала доктора на крыльце, выскочила из тарантаса прямо в грязь и, не поклонившись ему, спрашиваю:
— Когда вы выехали из Симферополя? Есть с вами ампутированные?
— Мы выехали из Симферополя 18-го; с нами нет раненых.
Слава Богу! это не наш транспорт.
— А есть еще транспорт в Армянском Базаре?
— Есть, только тот, который выехал из Симферополя 15-го.
Итак, мы, успокоившись, поехали к беленькому домику сестер, которые нас радушно и весело встретили.
Самое утешительное было то, что мы могли уложить спокойно больную сестру и позвать к ней доктора.
В это время в Перекопе старшей сестрой была очень хорошая сестра из нашего третьего отделения, Александра Ивановна Травина; но я тотчас заметила, что одесские сестры, которые были здесь прежде, как-то от нее отстранялись. Это очень грустно, а главное то грустно, что это почти везде так.
Чтобы узнать о судьбе нашего транспорта, я немедленно после обеда, с сестрой Травиной, поехала к генералу Богушевскому. Но и он тоже ничего не знает о судьбе нашего транспорта. На другой день, утром, в телеге на одной лошадке, по страшной грязи, мы с сестрой Травиной поехали в Армянский Базар. Там только нашли транспорт, вышедший 15-го, а о нашем — ни слуху, ни духу. Наконец 27-го пришел писарь из конторы с бумагой, только что полученной из Симферополя, что транспорт, состоящий из 450 человек, выехал 19-го. Должен быть 24-го в Перекопе, а извещение об этом получено 27-го! Какова распорядительность!.. Вечером этого же дня я поехала к коменданту, и там, наконец, узнала, что наш транспорт — в Армянском Базаре. Много труда было по узким и топким от грязи переулочкам отыскать квартиру доктора и офицера.
Наконец мы их отыскали и прямо сказали им, что, по приказанию Н. Ив. Пирогова, мы должны им сопутствовать. Они отвечали, что очень рады, что авось их больные будут смирнее, так как все солдаты очень уважают сестер. И тут офицер стал рассказывать, как они все время бедствовали с подводчиками, и, кажется, всю дорогу будет так продолжаться; да оно почти так и было. Потом я разговорилась с доктором и, наконец, спрашиваю у него:
— С кем имею удовольствие говорить?
— Я Алекс. Алекс. X…
Я не могла удержаться от восклицания, у меня сердце замерло.
— Вы знаете мою фамилию?
— Да, вы были в Боговутском госпитале.
— А вы слышали о сухой корпии? Это моя метода. Цинга оттого у нас развилась, что это было ужасное помещение в котарах (то есть овчарнях) без света и воздуха.
Потом он предложил мне съездить с ним посмотреть ампутированных. Слава Богу: если все больные такие же, то есть надежда, что они все благополучно доедут, но, увы! — у многих раны портились, особливо при сильных холодах. На другой день транспорт должен был выступить. Я просила офицера или доктора заехать к нам, когда они поедут через Перекоп, чтобы мы могли к ним присоединиться.
Боговутский госпиталь, который меня так испугал, в это время был уже закрыт. Но больные рассказывали мне, что иных докторов они и в глаза не видали, а один носил с собой десять аршин бинта и, подходя к раненому, говорил: «Я бы тебя перевязал им, да ты не стоишь, ты пропьешь». Так и уехал с этим бинтом. Больные хотели писать жалобу государю. Все это я слышала, но за верность не могу поручиться.
Как только мы пообедали, тотчас все уложили и стали ждать проезда транспорта. И что это было за бесконечное жданье! Совсем стемнело, а транспорта все нет и нет.
Наконец, только в половине десятого, вошел к нам доктор и сказал, что транспорт прошел Перекоп; а он заезжал за лекарствами и ждет теперь их. Он так перезяб, что пришлось его напоить чаем. Наш тарантас сейчас принялись закладывать при фонарях, и наконец в одиннадцатом часу мы выехали.
Нас поехало только две. Больной сестре было лучше, но она еще лежала в постели, а в Екатеринослав должны были к нам приехать из Петербурга десять сестер.
В это время между Перекопом и Бериславом вместо прежних четырех этапов было их устроено восемь. Шло ужасно много транспортов, и транспорты пропускали иные этапы и шли в те, которые были свободны.
На этот раз мы остановились у самого близкого, маленькой деревни Любомировки, и то мы до нее добрались далеко за полночь. Так было темно, что подводчики по замерзлой земле ощупью отыскивали дорогу. Каково это больным!
Только утром я пошла посмотреть больных. У нашего крыльца стоял офицер; тут же собрались наши подводчики да еще дворники из Армянска — требовать денег за сено, за овес. Брань, крик ужасный! Я пошла дальше. Вдруг обгоняет меня солдат на деревяшке и говорит мне: «А когда же мы в Москву?» — «В Москву? Так ты меня знаешь?» — «Да, как же. Я из Кузьминок кн. С. М. Голицына». — «Ах, Андрей Куликов! Очень рада; не именинник ли ты сегодня?» — «Да, именинник. Да вот, жаль, и молебна-то нельзя отслужить».
Я подошла к нескольким солдатам. Один из них без руки весело кричит: «Здравствуйте, Катерина Михайловна! А где моя маменька Борщевская?» (он так звал сестру Борщевскую оттого, что она ему дала крест).
А другой говорит: «Вы меня не узнаете? Я Лукьян Чепчух. Мои семь рублей были у вас на Николаевской, и вы уже с Бельбека прислали мне их в Северный лагерь».
Потом я вошла в избу, битком набитую нашими больными. Я принесла чулки, вязаные варежки, и вот со всех сторон начали кричать: «Дай, матушка, один чулок, у меня ведь только одна нога!» — «А мне на обе, да у меня одна рука, в портянки в два часа не обулся». — «Дай мне на правую руку!» — «Вот кстати, а мне на левую!» — «И мне на левую!» — «И мне тоже!»
— Да неужто не найдется кому на правую? — кричит один, смеясь. — У кого правая рука? Говорите!
Раздав безруким, я пошла отыскивать по телегам безногих. В нашем транспорте 80 ампутированных и 20 со сложными переломами…
То по грязи, то по замерзлой дороге, 3-го мы доехали до Берислава; но не только в этом маленьком городке, но и подъезжая к нему, в степи, было тесно: два транспорта, кадры полков второго корпуса. Тут и полуфурки, и маджары, и дилижансы, и таратайки офицеров, и все это едет и на лошадях, и на волах; едут в пять, в шесть рядов, а мокрый песок так замерз, что дорога, всегда тяжелая, на этот раз была прекрасная. С трудом, на измученных лошадях, подымались мы на крутую и бесконечную гору Берислава. Я тотчас пошла в госпиталь узнать, не тут ли Николай Иванович. Но его не было. Потом — на кухню, но вот горе! Нам объявили, что для нашего транспорта не готовят ужина; кое-как разместят людей, но сестрам нет квартиры, — а мороз очень большой. В ту же минуту подходит к нам плац-адъютант Берислава и очень любезно предлагает нам свою собственную квартиру. Я помню, как мы были благодарны г-ну Петровскому и прекрасно отдохнули в его теплой и чистой комнатке, тем более что и насчет больных были спокойны. Видела доктора бериславского госпиталя, и он мне сказал, что все 30 человек слабых нашего транспорта приняты уже им в больницу.
Довольно поздно выехали мы из Берислава, но переход был короткий, всего десять верст до немецкой колонии. Напрасно хвалили мне немецкие колонии: ничего я не нашла хорошего — ни особенной опрятности, ни чистоты; дома довольно большие, но зато народу в них много, детей куча и преплаксивые. То ли дело маленькие беленькие хатки и всегда особая — для сестер.
Ночь была пребесконечная и пребеспокойная. На рассвете мы пошли посетить больных по домам. Тут уже нет этапов, а людям дают на руки сырую говядину и крупы, а они сами себе готовят. Иные этим очень довольны, другие ропщут.
Выехали мы в десять часов, и опять оба транспорта вместе. Что за ужасная была дорога! — вся покрыта одной сплошной, донельзя скользкой льдиной, и лошади беспрестанно падают; так и видишь, как шесть, десять и даже больше лошадей лежат распростертые, и усиленные удары и помощь нескольких людей заставляют их с трудом подняться на ноги. И по этой-то узкой и скользкой дороге надо то спускаться, то подниматься на гору. Мы беспрестанно должны были отстегивать уносных лошадей, чтобы наш неловкий форейтор не попал под них.
И вот, таким образом и мы, и транспорт бьемся до четырех часов. Начинает смеркаться, но утешают: всего, говорят, осталось пять верст. Однако опять беда: гора, спуск прекрутой и предлинный, с косогором и размоинами. Транспорт — в самом жалком положении. Вот одна подвода попала в рытвину, и подводчик не знает, как ее оттуда вытащить. Вот другой отпряг лошадь и сам везет свою телегу; а этот тормозит за два колеса свою и осторожно спускает; а тут лошадь села на задние ноги и опускается, скользя по горе. А там дальше телега на паре: коренная бежит и тащит пристяжную, которая давно упала; все больные, которые могли идти, бредут пешком. Мы тоже вышли. Осип, осмотрев дорогу, бежит и кричит: «Погоняй спуск! Что мене робить?» — «А есть другой шлях, чтоб объехать?» — «Нема». — «Ну так надо как-нибудь спустить тарантас».
Я зову казака, служителей и какого-то мужика, который, к нашему счастью, стоял тут с веревками. Доктор тоже пришел. Отложили всех лошадей, кроме коренной; все четыре колеса подтормозили, и пять человек держат тарантас, а лошадь тоже не шагает, а съезжает на задних ногах. Но, слава Богу, все спустились благополучно. Опять беда — ручей. Сначала проезжали его по льду, но потом его проломили, а подъем от ручья крутой. Мы обошли дальше, чтобы пройти по льду. Поднялись, сели в экипаж — опять пригорок. Лошади еле нас тащат.
Слава Богу, вот деревня; но это не Меловая, куда мы едем, — до нее еще верста. Никоторые подводчики и больные бегут к офицеру, прося его остаться тут, так как лошади совершенно пристали. Опять горки и косогоры, но, слава Богу, доехали.
Сотский проводил нас на квартиру, и вот, выехав в десять часов, мы только в восемь часов стали на ночлег. Хозяин только удивляется, как мы могли проехать по этой дороге, да еще по гололедице. И должна я признаться, к своему стыду, что в этот вечер я не в состоянии была идти к больным по избам.
На другой день опять то же, только переход был в 18 верст, и мы приехали в пять часов. Тут была дневка. Боже мой, как мучительны, как томительны дневки! Уж я не говорю о том, что на этот раз мы стояли в небольшой хатке с хозяевами, что тут же хозяйка варила кушанье, да тут же было еще два артиллериста, да наш кучер и форейтор спали на полу. Но вот что было ужасно: больные помещены тесно; кроме того, почти во всякой хате по нескольку человек больных хозяев. Грустно, тяжело! Мы пошли ходить из хаты в хату. Скользко, холодно! (Я потом узнала, что в этот день было 26° мороза.) В одной хате больные жалуются, что померзли, а в другой — что отбились от своего десятка и не знают, как бы пообедать.
Тут встретился нам подводчик, рослый мужчина; он горько плачет: у него из восьми лошадей осталось только четыре.
Взошли мы в хату, где собрались самые слабые. Глядя на них, ясно было видно, что вряд ли мы довезем их до следующей станции. Ужасно видеть умирающего и на постели, но знать, что в последние минуты его будут трясти на подводе в мороз — страшная, ужасная необходимость! Умерших мы можем оставлять, но умирающих должны везти. Сердце ноет, как об этом подумаешь, и молишь Бога, чтобы скорей до отъезда прекратились их страдания!..
Пошли мы дальше. Несколько подрядчиков бегают с 50-рублевой бумажкой, которую им дал офицер, и никак не могут ее разменять. Но что же делать? Офицерам всегда дают крупные ассигнации, и они не знают потом, как и рассчитываться.
А тут старик подводчик стонет и плачет. Он нам говорит, рыдая: «Со вчерашнего дня я не знаю, где мой сын. Может, он замерз эту ночь в степи».
Мороз ужасный, земля потрескалась. Но, слава Богу, сын его оказался жив и здоров.
Наконец пошли мы к доктору и офицеру. Первый в горе, говорит нам: «Мы всех людей переморозим!».
А офицер совсем растерялся. «Что я буду делать, — говорит он, — у меня хлеба для людей только на один день. И лошади нейдут, надо их перековать, а у подводчиков не достанет денег, если будем дневать часто. Боже мой! лучше бы я лежал в жестокой горячке, чем быть с этим транспортом! Мы ведь не доедем до Екатеринослава!» А у самого слезы на глазах.
— Полноте так унывать! Авось Бог поможет! — а я сама готова была расплакаться.
Потом мы опять идем по больным, и так проходит длинный, бесконечный день. Хоть то хорошо, что люди довольны тем, что была дневка.
На другой день легкая морозная погода, и после долгих толков решили, что можно доехать до Золотой Балки. Транспорт выехал, а мы остались, чтобы перековать лошадей, и то только могли подковать одну.
Как поднялись мы в гору, так и ужаснулись: такой был холод и ветер и тоже мученье — по льду падают лошади. Хотя мы выехали гораздо позднее, но мы всех обогнали. Транспорт растянулся на все 24 версты; так и видишь, что то у одной, то у двух или трех подвод упали лошади и лежат. И что еще мучительнее: мы не можем послать нашего кучера им помогать; он совсем измучился, подымая своих лошадей; а за форейтора сердце замирает, так часто под ним падает лошадь. Месяц уже давно взошел, когда, наконец, мы увидали церковь. Но спуск с горы был опять очень трудный. Мы с сестрой пошли пешком, и только с помощью наших безруких больных, которые тоже предпочли идти пешком, мы благополучно спустились по этой скользкой горе. Хатки в деревне маленькие, тесные, и я прямо отправилась к священнику, прося его пустить нас переночевать. И он, и жена его приняли нас очень радушно, только совестились, что у них очень холодно.
Военная дорога между Севастополем и Симферополем во время Крымской войны. Художник К. Филиппов. 1858 г.
Мы пили с ними чай, разговаривали со священником о Державине, о Глинке, об Авдотье Павловне Глинке, которою он восхищается; справлялся о Погодине, о Шевыреве. В этих разговорах я как-то морально отдохнула, а потом и физически. Хотя было и холодно и наше все белье сильно промерзло в наших мешках, но мы были одни и могли лечь по-европейски, а не по-азиатски, как все эти дни, то есть в полном одеянии.
Под шубой я проспала и отдохнула прекрасно и встала совсем здорова, несмотря на то что вода, которая стояла в стакане возле меня, совсем замерзла. Сестра улеглась около самой печки и от этого угорела.
Только утром собрались все больные. Опять пошла я с доктором по больным. Право, сердце надрывается! В этот день у нас умерло трое, да четвертый — подводчик. Делать тут опять дневку было невозможно. Решились ехать только семь верст до Осокоровки — авось туда все съедутся. И вот транспорт съезжает на Днепр, лед крепкий, славный, дорога гладкая и не скользкая.
Какие живописные берега! Камни, скалы, деревья, беленькие домики по склонам, а иные лепятся к скалам. Как славно скакал наш пятерик мимо двух больших мачтовых барок!
В этот день все доехали благополучно. Офицер достал хлеба; мы поместились в порядочной, чистенькой хатке. В переднем углу много образов, и между ними Богородица Трех радостей.
Тут была только одна старушка, которая сидела, молчала и глядела на нас; а когда я ей стала говорить, что же она не спит, она отвечала: «Дайте мене вас побачить».
Это имение кн. Воронцова, и, слава Богу, народ тут живет хорошо; а то страдаешь, глядя на больных, да и на хозяев, которые шесть дней ходят на панщину. И что это за тяжелая у них жизнь! Боже мой, сколько страданья везде и всем!..
Утром мы разглядели, какое хорошее местоположение этой небольшой деревни. По скату горы большие деревья, сады и плавни Днепра, который тут образует целый залив.
А наша старушка уже у печки, печет пампушки для своего правнука, который босыми ножками бегает по холодному земляному полу.
Вот вошел седой старик; борода и волосы его покрыты инеем. Он сел и стал развязывать ремешки, которыми к его ногам привязаны подковы. Только что он вошел, старушка принялась бранить его: «Який дурень! А что если б тебя силой посылали, ты бы говорил: стар я, слаб, где мне! Вот уж можно сказать: охота пуще неволи! Прости Господи, точно не в уме!».
— А где же ты был, дедушка? — спрашиваю я.
— Да на охоте, матушка, всю ночь в поле.
— В этот мороз!
— Так что ж, ничего. Только, жаль, лисичка ушла, а зайчика поймал.
Старушка опять принимается его бранить; он — ее муж, прадед мальчика.
— А сколько ему лет? — спрашиваю я.
— Да, вот, мне семьдесят семь, а он годом меня старше.
Каков старик! И он давно не ест мяса, а тут жаловался только, что глаза горят.
Было у меня все это время сильное, пламенное желание: 10 декабря — день, в который я надела крест, год тому назад, — быть в церкви и отслужить благодарственный молебен. Я никак не надеялась, что это желание исполнится, но решили, что по такому холоду и по такой скользкой дороге надо делать маленькие переходы.
До села Марьина, где был назначен наш ночлег, надо было ехать через Новую Воронцовку, где мы встречали новый год. Итак, я решилась заехать к управляющему Солнцеву. Нас встретили так же радушно, как и тогда, но вот что меня очень огорчило: три часа до нашего приезда проехал Николай Иванович.
Вот если б я имела малодушие, вместо того, чтобы оставаться в Осокоровке, уехать к Анне Давыдовне Солнцевой, чтоб лучше отдохнуть, я бы его видела; а как мне это было нужно!
Мы отправили своего верного Осипа в Марьино и остались обедать, а после обеда вместе с Анной Давидовной в больших санях четверкой, по-городски, с форейтором и сзади слуга, мы поехали в церковь.
Как мне ясно и теперь видится эта маленькая церковь без купола и колокольни, а над тесовой крышей только крест блестит розовым сиянием заката… Когда мы вошли, шла вечерня. Потом я просила священника отслужить благодарственный молебен. Как я молилась, как благодарила Господа за то, что могла хоть не лепту, а миллионную часть лепты вложить в великое общее дело! Как я просила Бога простить мне все, что я сделала в продолжение этого года против данного мной обета, благодарила за свои силы, за свое здоровье!..
Анна Давыдовна Солнцева довезла нас до священника, где мы ночевали очень покойно. И на другой день мы не спешили, пообедали у него. Переход был всего семь верст до Грушовки, имения барона Штиглица. Душа отдыхает в таком имении. Хаты славные; волов, коров, овец и особливо свиней — бездна! Куры, утки, гуси — во всяком дворе. Видно, что крестьянам жить хорошо, что об них есть попечение. Больница, доктор и все пособия. Мы очень рано приехали, а вечером я пошла в дом управителя; там собралась большая компания, больше немецкая, но хорошо говорящая по-русски. Они с большим любопытством расспрашивали про Севастополь, а мне показывали издание Тимме с портретом Павла Степановича Нахимова.
Я вспомнила, что мне рассказывали про этот портрет: когда Тимме хотел нарисовать П. С. Нахимова, то он сказал: «Зачем? За то, что я исполняю свой долг-с? За это нечего-с. Это пусть с Кошки (Кошка — известный тогда казак) да с Асланбекова (первый севастопольский красавец) рисуют портреты, а с меня не нужно-с».
А когда ему показали его портрет, нарисованный Тимме в церкви, то он сказал: «Да это-с просто разбой-с! Если б я знал-с, велел бы его вывести-с! Ну, а теперь Бог с ним, отдайте ему, если нравится, а мне не нужно-с!».
Хотя у нас была дневка, но мы встали со свечами, и как только начало рассветать, я пошла по больным. Я обещала доктору помочь ему переписать больных, и вот мы с ним пошли, я по одной стороне, он по другой. Однако случалось нам сбиваться и заходить в избу, где уже был другой; ведь здесь не одна прямая улица наших русских сел, а несколько, с переулочками и закоулочками.
Вечер мы провели у вдовы прежнего управляющего; у нее четыре дочери — старшая замужем за здешним доктором; милое, добродушное семейство.
На другое утро рано стал собираться транспорт, а я пошла к здешнему доктору — взять нужные нам лекарства. Только что я вернулась, доктор и офицер стали меня просить скорей ехать и догнать слабых больных, которых уже отправили, а они должны остаться, выпроводить прочих. Остановиться надо в Чартамлыке. Ну, уж никогда не забуду я этого Чартамлыка! Уложились мы наскоро и скоро догнали транспорт и поехали за ним. Часто я высовывалась из тарантаса и смотрела, где же этот Чартамлык?
— Боже мой! Поглядите, сестра, ведь тут остановиться нельзя, а это и должен быть Чартамлык!
И перед нами не деревня, а маленькие хатки, разбросанные по балке, одна от другой на четверть или на полверсты. Казак, которого я послала еще вперед узнать и посмотреть, прискакал ко мне и говорит:
— Тут оставить людей невозможно! Тут есть — кто говорит, за три, а кто за пять верст — большая деревня.
Нечего делать, надо решиться ехать туда, но что скажут доктор и офицер? Однако что же делать?
Поехали. Спустились под гору, поднялись. Что же это? Все подводы съехались в одно место и стали. Подъезжаю — шинок. Подводчики и больные, которые ходят, ушли туда, а слабые лежат и зябнут на повозках. И казак ушел туда же. Послала я Осипа, но все не выходят. Я выскочила из тарантаса и прямо в шинок, и так закричала на всех, что они тотчас побежали вон, а высокого чернобородого подводчика я повернула и так повелительно указала ему на дверь, что и заплаченная чарка осталась невыпитой.
Транспорт тронулся. Я всех встречавшихся стала расспрашивать о деревне, куда мы ехали. Мне стали говорить, что нас туда не пустят, что там казенная аптека. Можно легко себе представить, каково было мое положение: я еду одна с самыми слабыми и не знаю, пустят или нет!
Но вот взяли направо, показалось село; я велела повернуть и поехала скорее, хотя было ужасно скользко. Проехала деревню. Слава Богу! Вот наш казак, а с ним сотский, чтобы расставлять людей. Пока больные по скользкой дороге не доехали, он указал нам квартиру: маленькая, темная, сырая хатка. Моя товарка в горе, а Осип говорит, что все, что у нас есть в тарантасе, и не поместится в этой хатке. Я им объявляю, что мне все равно, что мне дела нет до того, как мы проведем ночь, но надо, чтобы сотский шел скорее к больным, и сама пошла за ворота деревни ждать их.
Вдруг приятный голосок раздается подле меня: «Маменька просит вас пожаловать к нам чай пить». И хорошенькая 12-летняя девочка стоит передо мной.
— А кто ваша маменька?
— А папенька мой здесь с аптекой из Херсона.
— С удовольствием! Сестра сейчас пойдет с вами, а мне надо видеть офицера и знать, что весь транспорт приехал.
Я скоро дождалась офицера и потом пошла в большой господский дом. Аптекарь занимает только две комнаты. Он — немец, она — русская. Прием и угощение были самые радушные. Разговорились про Севастополь, и она рассказала, что ее брат лежал в Собрании, что у него была отнята нога. Тогда я вспомнила, что это тот юнкер, которого я 6 июня провожала до баркаса. Он, бедный, через неделю умер. Мы собрались идти ночевать в нашу хатку, но аптекарша просила сделать ей великое одолжение — остаться ночевать у нее. Хотя нам и было совестно, но мы согласились.
Не мудрено дать лишнюю комнату, но аптекарша делилась с нами своей; а комната была хорошая, высокая, теплая, сухая. И после волнений этого дня мы хорошо могли отдохнуть.
На другой день мне необходимо было написать письма в Симферополь к доктору Тарасову и Екатерине Александровне. Так как мы должны были быть в Никополе, от которого Неплюево, где мы ночевали, в восьми верстах, то я имела возможность отдать их на почту. И на этот раз сестра пошла с доктором к больным, а я осталась писать.
Вдруг вошел какой-то господин и вскрикнул: «Вы как здесь!». Я тоже его узнала. Он был смотрителем госпиталя в Севастополе, Яковлев, и я его всякий день видела на Николаевской батарее. Он теперь живет с женой в Никополе, и хотя у них только две комнаты с земляным полом, но он сам уйдет к знакомым, а мы должны приехать ночевать к ним, — и не отставал, пока я ему не дала честное слово, что поеду прямо к нему.
Рано мы приехали в Никополь. Я сейчас пошла в приемную госпиталя, где мы должны оставить наших самых слабых больных и взять на их место других, покрепче. Обошла и госпиталь! Иные — еще слава Богу, а другие!.. Боже мой, лучше и не вспоминать.
От Никополя до Екатеринослава нам остается 115 верст, но это прямой дорогой, а ведь мы едем с деревни на деревню. На другой день, пообедав с нашими хозяевами в 12 часов, мы поехали за транспортом до Красногригорьева, огромной деревни на несколько верст. И меня очень беспокоило, что я не отыщу ни доктора, ни фельдшера. Но так как всех слабых больных мы сдали, то в этом и не было большой нужды.
16 декабря, выехали мы почти вместе с транспортом. Хорошо, что офицер ехал сзади нас; опять начались наши бедствия по балкам. Спуск не длинный, но крутой и кривой, прямо на речку. Хорошо еще, что мы вышли, а то Осипу пришла дикая мысль, что если он спустит скоро, то лучше будет. Но вот тарантас раскатился на бок, на бок — и совсем опрокинулся. Мы и офицер подбежали к тарантасу, стараемся приподнять его очень спокойно, даже со смехом, но я вскрикиваю: «Боже мой! шкворень пополам! Что мы будем делать?». Кое-как связали веревками; но офицер никак не хотел посадить нас в изломанный тарантас и посадил в свой маленький, а сам сел на козлы. Меня это очень беспокоило: хотя он румяный и полный, но был ранен в ногу и от этого в холод страдает. Несколько раз, видя, что наш тарантас бредет помаленьку, я хотела сесть в него, но он никак не допустил, и мы скорее транспорта приехали в Тумановку.
Опять огромная деревня. Нам отвели квартиру очень далеко, но в том конце была кузница, а нам она была необходима для нашего тарантаса, который тоже скоро приехал. Очень трудно в темную ночь в этих огромных селениях отыскать доктора и фельдшера, который всегда находится при слабых больных. Да уж тут с тех пор, как мы проехали Берислав, я не могу ходить одна. Вот и в этой деревне я ходила со старушкой нашей хозяйкой, которая вооружилась огромной палкой: тут держат презлых собак, ради волков, которые во множестве водятся на плавнях.
Но сколько я ни ходила, не отыскала ни фельдшера, ни больных и только утром нашла их.
Выехали мы в десятом часу и решили, чтобы не ездить в сторону, пропустить один этап и ехать прямо на Александровку (Безбородка тож). Туман самый печальный, погода самая грустная; густой иней на все садится. На днях была тут метель; в иных местах много снегу, бурьян весь опушен инеем, все бело и мутно. Скучная, ровная местность — степь.
Но мы на нее радуемся, а то всякая маленькая балочка — беда, с ее раскатами и закатами. Едем тихо и долго, и вот деревня. Проводник объявляет, что дальше он не знает дороги. Взяли другого. Едем еще верст десять. Стало темнеть все больше и больше. От снегу только несколько белеется, но все мутно, неясно.
Люди начинают жаловаться на бесконечный переход, лошади начинают останавливаться. Вот в тумане огонек, другой. Залаяли собаки. Ночлег, отдых. Приехали на господский двор. Офицер прибегает к нам вне себя и говорит, что помещик не позволяет расставлять людей, что нас напрасно привезли сюда, что это Маленькая Безбородка, нам надо в Большую; что он даст проводника, но туда еще четыре версты. И доктор тоже ходил напрасно к помещику.
— Кто помещик? — спрашиваю я.
— Александр Яковлевич Савельев.
— Ах, это тот, с которым я познакомилась в Екатеринославе.
И я пошла к нему, а он говорит, что деревня мала, что много больных, предлагает свой дом (манера говорить); дом нетопленый. Хватает меня за руку, просит обогреться, пить у него чай. Я отвечаю, что ни за что на свете не оставлю теперь транспорта, хоть замерзну с ним! (То же и с моей стороны — манера говорить преувеличенно; я очень хорошо знала, что не замерзну.)
Но ужасно было досадно, тяжело — ночью в ту минуту, как думал, что доехал, согреешься, отдохнешь — опять ехать, опять четыре версты дороги!
Достали проводника, поехали. Боже мой, как долго мы ехали! И опять была балка: пришлось выходить и идти пешком. Наконец, очень поздно, мы дотащились. Это тоже помещичья деревня другого брата Савельева. Мы остановились в первой указанной нам маленькой хатке, вместе с хозяйкой и детьми. Легли одетые на узкие лавки, но так было поздно и так мы умаялись в этот день, что скоро заснули.
На другое утро я ходила с доктором по больным, что в этих больших деревнях очень затруднительно. Доктор мне сказал, что управляющий очень сожалеет, что мы не поехали прямо к нему, и поэтому, вернувшись, я послала попросить у него молока, которого не могли найти во всей деревне. Сам управляющей пришел к нам с извинениями (не понимаю, в чем он извинялся) и прислал нам горшок молока в полведра, а экономка явилась с сливочным маслом и сожалением, что не у нее остановились, — и как бы она нас успокоила и покойно бы уложила!..
Екатеринослав (Днепропетровск, Днепр) — город, областной центр Днепропетровской области Украины, центр Днепровской агломерации. Четвертый город по численности населения на Украине после Киева, Харькова и Одессы
Выехали в 12 часов. Переход маленький, скоро доехали. Опять огромное село, да что еще хуже — так разбросано, что хата от хаты очень далеко, так что от одной хаты я не могла докричаться до другой, возле которой стояла женщина, и надо было идти десять минут, а иногда и более, чтобы услыхать ответ на вопрос, есть ли больные: «Нема!».
Далее мы ехали хорошо и рано приезжали на место. Наконец 20 декабря — транспорт на 32-й, а мы на 29-й день — приехали благополучно в Екатеринослав.
Глава III
Как только мы приехали в Екатеринослав, то прямо направились в контору госпиталей. Там уже был наш транспортный офицер. Сестры из Петербурга еще не приехали, но квартира была нам приготовлена, и комиссар нас туда проводил. Домик хорошенький, несколько комнат, столы, стулья, диваны, кровати с тюфяками, — роскошь, от которой мы отвыкли, но должна признаться, что было очень приятно разложиться и знать, что завтра не надо все это опять пихать по мешкам и садиться в тарантас. Мне иногда казалось, что мы никого не довезем, а наш транспорт представлялся мне вроде той девы-чумы, так поэтически описанной Мицкевичем, которая идет по селеньям, машет красным покрывалом и несет смерть.
Одно меня очень беспокоило и расстраивало: я надеялась, что Н. Ив. Пирогов, осмотрев здешние госпитали, оставит мне инструкцию, которой я могла бы руководиться, но ее не было, а в конторе мне сказали, что госпитали в 23 домах, а нас — две!.. Что тут будешь делать? Я решила, что утро вечера мудренее, и, услыхав звон к вечерне, пошла в церковь, помолилась и легла спать.
На другое же утро я поехала по госпиталям, к главному доктору, а потом познакомилась и со всем начальством. Затем начались мои нескончаемые поездки из госпиталя в госпиталь…
Наконец я получила письмо от своих родных сестер; было очень тяжело целый месяц не знать о них ничего. Николай Иванович был у сестры и поручил ей написать ко мне, чтобы я обратила особое внимание на два госпиталя, которые были в ужасном положении; но они теперь уже совсем не такие, так как, благодаря Бога, транспортов нет несколько дней, а отсюда ушло два, и арестантские казармы к празднику вычищены, вымыты, выбелены, поставлены койки, столики; больные в казенном белье, и их всего с небольшим сто, и нет трудных. Потемкин дом тоже был в лучшем положении; только почти здоровые и готовые ехать дальше спали на полу на тюфяках, а другие имели койки.
Какие превосходные залы в этом здании! Везде висят большие люстры; все напоминает Таврический дворец в Петербурге. Я начала всякое утро объезжать по шесть-семь госпиталей. Побываю на кухнях; их, помнится, было три или четыре, а в прочие госпитали из них разносили. Вернувшись, пообедаем и опять куда-нибудь поедем. Надо побывать и в прачечной, и в покойницких. Слабых в тех госпиталях, что к нам поближе, начали поить чаем. Это исполняет сестра, а я все езжу и езжу из госпиталя в госпиталь.
Наконец, 6 января, когда я вернулась от обедни из богоугодного заведения, я нашла сестер уже приехавшими. Их было девять сестер и одна испытуемая. Старшею была у них монахиня Аполлинария. Я очень старалась устроить их как можно покойнее, удобнее, но уже и то было хорошо, что они привыкли жить в общих комнатах, что сначала очень трудно. Этот отряд был очень хорошо составлен; сестры знали и понимали, на что они идут; некоторые из них получили очень хорошее воспитание; сестра Базина прекрасно играла на фортепиано. Все очень желали поступить скорее на дело, но я предпочла, чтобы они на другой день, то есть 6-го, только разобрались и отдохнули.
Теперь скоро устроилось более правильное служение нашим больным. В ближние к нам четыре госпиталя сестры ходили из нашего дома — поить больных чаем и присмотреть за порядком и обедом. Другие три стали постоянно ходить в дом Остроухова. Дом в три этажа; в нем 200 человек, все перевязочные и большая часть ампутированных; пришлось по сестре на каждый этаж. Две сестры должны были идти еще дальше в три госпиталя, перевязать, поить чаем и посмотреть за порядком. Потом мы устроили так, что в одном из этих госпиталей жила сестра Орехова. Также в арестантские казармы или, проще сказать, в острог, обращенный в госпиталь, была помещена одна сестра; другая приезжает к ней на дежурство и привозит обед и все, что ей нужно.
Снова было нам много хлопот с транспортами, которые опять начали приходить очень часто. Как только мы узнаем, что ждут транспорт, то я с двумя или тремя сестрами отправлялась в Потемкин дом с чаем, с сахаром, с булками, с бельем. Но мы могли переменять только самым слабым и тем, которым это было совершенно необходимо. Можно себе представить, каково было белье на больных, когда более месяца они его не переменяли!
В один день я узнала в девятом часу, что транспорт в 280 человек находится уже здесь. Мы сейчас же поехали.
Иногда кто-нибудь из здешней аристократии или купечества присылал кого-нибудь с чаем, чтобы напоить больных, или отдавали нам. Я познакомилась со всей здешней аристократией, и надо сказать, что они принимали большое участие в нас и в больных, и, несмотря на тяжелое время, к нам все-таки поступали пожертвования, и вообще были очень внимательны и любезны.
В этот день, который я начала описывать, было то хорошо, что сейчас же приехал главный доктор и смотритель. Те, которые были почти здоровы, отправились в слабосильную команду. Это в том же роде, что нынче называют санитарными стоянками, а слабые распределены по госпиталям. В первом часу залы были опять свободны.
В этот же день проезжал у нас флигель-адъютант Воейков, которому было поручено осматривать госпитали. Надо было видеть, как смущался и робел смотритель, когда я говорила с ним по-французски. Он так и думал, что я говорю про него, — а я говорила совсем о другом. Этот же смотритель, как только я еще приехала в Екатеринослав, приезжал ко мне и просил его пожалеть и не писать ничего в Петербург!
Скоро опять нагрянул новый транспорт, около 300 человек, — опять шум, суета. Я очень была рада увидать моего старого знакомого, доктора И. М. Доброва, который сопровождал этот транспорт. Он остался при здешних госпиталях и был доктором сестер, которые уже начинали расхварываться, и моим, так как я потом занемогла крымской лихорадкой. Ездила я также с смотрителем в Мандрыковку, где была расположена слабосильная команда. В санях, по ужасной грязи, насилу мы туда доехали. Селение большое, расположено очень живописно по неровному склону большой горы, которая спускается к Днепру; надо было то спускаться, то подниматься. Были мы на кухне, пробовали хлеб. До просухи туда невозможно ездить, да ведь это и не входит в мои непременные обязанности. Начала я с половины января получать разные письма — три милейших письма от Ек. Ал. Хитрово; еще получила письмо от Эдиты Федоровны Раден, с собственноручной припиской великой княгини, разумеется, по-французски. Вот эти несколько слов:
«Я присовокупляю несколько строк, чтобы сказать, как я благодарна вам за то, что вы остались в Общине, которой вы оказали честь и поддержку вашим усердием, вашею бодростью и вашими разумными заботами. Ваша сестра очень желала вашего возвращения, вот почему я не смела настаивать. Теперь, раз она принимает ваше решение, я в восторге. Да поддержит вас Бог и да сохранит Он вас для того дела, которое я желала бы завещать милосердым и отважным душам на русской земле».
Получила я и письмо от Николая Ивановича — первое с тех пор, как я здесь. Им было оставлено в Екатеринославе мне наставление, но по разным бестолковым стечениям обстоятельств оно попало в Симферополь, и я его только там отыскала в бумагах. Последнее письмо от Екатерины Александровны меня очень обрадовало. Про симферопольские госпитали она пишет, что все у них идет очень хорошо, что сестры из бараков переведены в госпиталь, который в доме губернского правления. Там 500 человек ампутированных и раненых; там же кухня, где готовится стол на 1700 человек. Там сестры дежурят, принимают говядину и наблюдают за всем. И это пошло очень хорошо. Радуется, что больных сестер только две, и те не опасны; пишет, что Вас. Ив. Тарасов скоро поедет в отпуск. А меня просит, как милости, как одолженья, ехать в Николаев, водворить порядок в морском и сухопутном отделениях. «Какое бремя вы сняли бы с моей души!» — писала она.
Там было много сестер, присланных Екатериной Александровной прямо из Одессы. В письме Эдиты Федоровны Раден, с припиской великой княгини, говорится, что великая княгиня желает, чтобы я ехала устроить новое отделение сестер в Бериславе. А вот что писал мне Н. Ив. Пирогов.
Привожу его письмо целиком:
«Почтеннейшая сестра Екатерина Михайловна! Военное начальство желает иметь сестер в различные госпитали южной армии. Великая княгиня решила послать 22 сестры только в следующие 4 госпиталя: в Вознесенск (5 сест.), в Тульчин (5), Новоодесск (5), в Одессу (7). Вы же писали, от 2 января, что есть много желающих вступить в общину. Этим нужно воспользоваться, и ее императорское высочество поручила мне написать вам, чтобы вы принимали сестер на следующих условиях.
Первый месяц они должны оставаться в своем платье и белье. Через месяц получают платье и белье общины. По крайней мере один год они должны оставаться на испытании без креста, занимаясь под руководством старших сестер в госпиталях и живя общиною.
Через год получают крест, а некоторые отличившиеся или же известные досконально своей ревностью, хорошим поведением, образованием и пр., — и прежде того. Желающие поступить из высшего сословия по влечению или по внутреннему призванию составляют, разумеется, исключение из этого правила. Так как трудно найти разом 22 надежных сестры для госпиталей, отдаленных от центра общины, то, очевидно, лучше снабдить их по крайней мере такими женщинами, которые — в случае неудачного выбора — не могли бы запятнать общину, не нося еще на себе ее высокого символа и не будучи еще, следовательно, настоящими сестрами. Наберите таких 10 или 12; остальные будут присланы в Москву из петербургской общины; набрав, оставьте их в екатеринославских госпиталях под надзором тамошней старшей сестры (которую хочет выслать Е. А. Хитрово; это, кажется, будет Башмакова), а сама отправьтесь, по вашему желанию, в Москву, где найдете и остальных 10 или 15 (которые будут посланы из Петербурга туда); повидавшись с вашими почтенными родственниками, отвезите этих 10 или 15 сестер опять в Екатеринослав, возьмите здесь и остальных 10, которые покуда приучатся к госпитальным занятиям, и развезите их в сказанные 4 госпиталя: Тульчин, Новоодесск, Одессу и Вознесенск, и поместите в них, следуя известным вам взглядам о цели и направлении общины. Это, кажется, будет сообразно вашему желанию: вы желали (в письме от 2 января ко мне) отдохнуть немного и повидаться с родственниками вашими в Москве, и вместе с тем побывать с сестрами и в других госпиталях. Ваша опытность, ваш справедливый и высокий взгляд на цель и направление общины служат залогом, что вы поставите и новые отделения на хорошую ногу и будете тем полезны ей; вы же можете определить и выбор старших сестер для этих отделений.
Займитесь этим делом с свойственной вам ревностью: вы видите, что обстоятельства требуют разделения общины на множество отделений, контроль которых делается все труднее и труднее; без содействия опытных и ревностных сестер, как вы, община легко может уклониться от предназначенной цели; итак, примитесь с Богом за дело, вам уже известное; результат будет тогда несомненный, только не оставайтесь долго в Москве.
В Екатеринославе вы верно еще дождетесь кн. Долгорукова, назначенного на место гр. Велигорского, и с ним можете также переговорить о делах общины; он человек благомыслящий и доброжелающий. Прощайте, храни вас Бог!
Вам преданный от души Н. Пирогов.
18 января. 1856. С.-Петербург».
Вот во сколько разных мест меня вдруг посылают. Стоит о чем задуматься! Как решить? Но первое, что я решила, — это оставаться на месте. Хотя Николай Иванович и пишет: «…Вы поставите новые отделения на хорошую ногу», — но я находила, что и мое екатеринославское отделение очень прихрамывает, а браться за новые — куда страшно! К тому же в это время сестры начали болеть; три или четыре, не помню наверное, лежали в тифе. Итак, я решилась ждать с севера кн. Долгорукова, а с юга — доктора Тарасова, поговорить с ними хорошенько и тогда решить, что нужнее и что надо делать. Но пока я так рассуждала, по воле Господа все решилось иначе, к великому нашему горю!
Приехал кн. Долгоруков, был очень любезен, но ничего особенного и положительного от него я не узнала. Еще в 20-х числах января я получила письмо от сестры Медведевой, которая мне писала, что Ек. Алекс, не совсем здорова, но это меня еще не очень испугало; я все думала: она уже давно в сестрах, была при госпиталях, поэтому уже обтерпелась! Но в первых числах февраля я получила от В. И. Тарасова письмо, от 24 января, в котором он мне пишет, что Ек. Алекс, занемогла 12 января, что у нее тиф с поражением мозга; но он дает маленькую надежду, так как пишет, что она в этот день его узнала.
Но обманула нас эта надежда! Я сама в это время слегла в постель от крымской лихорадки и получила, не помню какого числа, в постели несчастное письмо, от 3 февраля, что 2-го, в день Сретения, Екатерина Александровна скончалась. Боже мой! За что Бог лишил общину такой примерной сестры милосердия, умной, воспитанной, доброй, снисходительной, истинной сестры милосердия! Больше я такой не встречала!
Я получила очень короткое письмо от Тарасова; они там все в отчаянии, а ее помощница, Елиз. Петр. Карцева, которая во время ее болезни управляла общиной, лежит в тифе, так что доктор Тарасов по необходимости остался во главе симферопольского отделения. Я ему писала в полной надежде, что Елиз. Петр, поправится; я находила, что она вполне может занять место Екатерины Александровны.
Совсем не помню, что я писала, но вижу по его ответу, что именно я ему писала о ней. Он же мне пишет, что на это будет мне отвечать откровенно и без затруднения. Отдав полную справедливость всем качествам сестры Карцевой, он пишет, что, несмотря на все ее достоинства, она не может и не хочет быть пастырем нашего стада… И кончает так: «Итак, с теплой верой в Бога и упованием на Его всемогущество и милосердие, принимайте тяжелый крест правления. Елизавета Петровна поправляется и просит вас тоже принять эту должность».
Прежде еще этого ответа я получила письмо от Николая Ивановича, такое письмо, какие он умеет писать и на которые ничего не возразишь, и приписку от великой княгини. Вот это письмо.
1856, 9 февраля С.-Петербург.
«Почтеннейшая сестра Екатерина Михайловна. Община, которая столь многим обязана вашему усердию, находится теперь, по смерти нашей незабвенной настоятельницы, опять без руководителя. Сестра Карцева, которая подавала столько надежд, также лежит больная в тифе.
Все, что нашими общими усилиями удалось ввести в общину для направления ее к высокой цели, может легко и невозвратно исчезнуть. Вы остались еще одна в настоящее время из всех, которая может поддержать истинное значение общины и руководить ею предположенным и известным вам путем.
Николай Иванович Пирогов и матрос Петр Кошка. Художник Л. Коштелянчук
От имени ее высочества, высокой покровительницы благого дела, я предлагаю и даже требую от вас, как святого долга: возьмите на себя управление общиною. Не отговаривайтесь и не возражайте; здесь скромность и недоверие неуместны; забудьте на время все ваши частные отношения для общего дела. Я вам ручаюсь, вы теперь необходимы для общины как настоятельница. Вы знаете ее назначение, вы знаете сестер; вы знаете ход дел; у вас есть и благонамерение, и энергия. Ваши недостатки вы знаете лучше меня, а кто хорошо себя знает, для того это знание лучше совершенства. Вы знаете также, как я вас уважаю и люблю, знаете также мою привязанность к общине, и потому я уверен, что мое предложение будет вами принято беспрекословно. Не время много толковать — действуйте. Ее императорское высочество желает, чтобы вы, приняв на себя звание настоятельницы и управление общиною, как можно скорее приехали сначала к нам в С.-Петербург на короткое время, а потом бы уже отправились также для короткого, так вами желанного, отдыха в Москву. Но, ради Бога, не медля и решительнее! Решительности, впрочем, вас учить не мне. Итак, с Богом, почтенная Екатерина Михайловна, приезжайте скорее сюда. Спешите.
Вас искренно уважающий Н. Пирогов».
Собственноручная приписка великой княгини Елены Павловны:
«Моя дорогая Екатерина Михайловна! Хотите утешить меня и Общину в той громадной потере, которую мы понесли? Согласитесь ли взять на себя трудную обязанность настоятельницы на этот год? Вы — единственная, которая может быть призвана на это по вашему характеру, по тем услугам, какие вы оказали, по духу учреждения, который вы знаете и разделяете, знанию, наконец, сестер, властей и всего административного хода дела. Я говорю себе, что если вы исполните мою просьбу, у вас хватит мужества исполнить это призвание во всей его полноте. Задача серьезная, так как дело идет не только о себе, но и о ведении стольких различных элементов в духе единства, смирения, энергии, порядка и христианской любви. Все это вам не чуждо. Я обращаюсь к вашему сердцу, чтобы приложить его к сестрам, к этой Общине, столь испытанной, столь неустрашимой, столь благословляемой. Ответьте мне сейчас и поезжайте в Москву, а оттуда сюда, прежде чем вернуться к своему посту. Да поможет вам Бог, да вдохновит Он вас и да подкрепит. Елена».
У нас уже шли слухи о мире, и я думала, что мне не надолго надо будет принять эту трудную и тяжелую обязанность. Я бы сейчас должна была ехать и очень этого желала. Иные сестры поправились, только была еще в очень опасном положении милейшая сестра Зинаида Крок, которая за мной так усердно ходила, когда я лежала в лихорадке. Ведь крымская лихорадка — не то что наша: пароксизм за пароксизмом следует после 10, 15 минут промежутка.
В это время я уже встала с постели, ходила к больным сестрам, но доктор Добров и слышать не хотел, чтобы я выехала из дому.
Мы уже прежде получили от великой княгини 22 тюка с разным бельем, бинтами и компрессами, так что могли в некоторых госпиталях одеть больных в новое, хорошее белье и тоже переменять тем, которые приезжали в транспортах и очень в нем нуждались, а в это время мы получили белье от Императрицы. Надо было его разобрать и отделить часть, чтобы послать в Никополь, где в госпиталях очень нуждались в белье. Я посылала сестер хлопотать и устроить его отправку туда, а сама только разбирала, отделяла и укладывала у нас в зале. Оттого ли, что вся зала была им завалена и оно было сыро и холодно, или это всегда так бывает, что лихорадка возобновляется через 10,14 дней, но мне опять пришлось пролежать дней десять.
В это время проехали из Симферополя некоторые сестры моего третьего и четвертого отделения, которым годовой срок тоже кончился и которые не пожелали оставаться долее. С ними приехала Дуня Алексеева, которую я оставила у себя, чтобы самой привезти ее в Петербург (она мне была поручена великими князьями в Севастополе), а теперь ее брала к себе в камер-юнгферы великая княгиня Александра Петровна. Сестры сказали мне, что сестра Ел. П. Карцева совсем поправилась, что очень больных сестер нет, что туда должны скоро приехать новые десять сестер из Петербурга.
Наконец 10 марта, несмотря на уговаривания доктора, я выехала. И как я хорошо сделала, что настояла на своем; меня именно пугал Днепр, который уже очень синел, и я должна была переехать его с большими предосторожностями. Тарантас везли на одной лошади, других вели врассыпную. Я с Дуней ехала на маленькой тележке в одну лошадь. Возле шел какой-то полицейский офицер и четыре лоцмана с баграми; они стучали ими по льду и указывали, куда лучше ехать. А полицейский нашел самое лучшее занимать нас такими сообщениями: «Вот осенью лед трещит, а весной он так вдруг и опустится!».
Однако, слава Богу, мы проехали благополучно. К вечеру Днепр прошел. Несмотря на мое сильное желание быть скорей в Москве, мне пришлось провести две ночи в Харькове, во-первых, потому, что я так устала, что, доехав туда, думала, что опять слягу, а во-вторых, мне надо было отыскать одну девочку — сироту, воспитанницу сестры Селивановой, которую великая княгиня помещала в елизаветинский институт. Несмотря на то, что я не имела прямого адреса, я ее скоро отыскала и взяла с собой.
И тут мы ехали безостановочно, хотя и по очень дурной дороге; 10 марта я имела счастье увидать сестер и брата. Всякий может легко себе представить, какая это была блаженная минута — увидаться после такой длинной разлуки (год и три месяца, и семь месяцев из этого времени были проведены в Севастополе)!
Не долго я оставалась в Москве; 24-го, вместе с сестрой, которая и летом жила у великой княгини и в Ораниенбауме, и на Каменном Острове и теперь тоже была приглашена, мы приехали в Михайловский дворец, в те же комнаты, из которых я поехала в Крым.
Великая княгиня сейчас же приняла меня и, прикалывая мне севастопольскую медаль, сказала: «Я очень рада, что могу это сделать».
25-го было объявлено, что мир заключен. Разумеется, еще не знали грустных условий парижского мира; впрочем, не знаю, что касается меня, занимало ли бы меня и чувствовала ли бы я что-нибудь другое, кроме того, что война кончилась, что не будут стоять люди, да еще христиане, друг против друга и стараться как можно более нанести вреда один другому! И как это искажает все чувства! Я и на себе это испытала, и, читая отчет французского доктора, который был в Добрудже: «Наконец мир явился положить конец нашим бедствиям», — я не пожалела, а обрадовалась, что и им было не лучше нашего.
Я вполне согласна с гр. Львом Николаевичем Толстым, что это гадко, безнравственно, не по-христиански; но вот в чем я никогда с ним не соглашусь: я считаю, что я должна была сопротивляться всеми средствами и всем моим уменьем злу, которое разные чиновники, поставщики и пр. причиняли в госпиталях нашим страдальцам; и сражаться, и сопротивляться этому я считала и считаю и теперь священным долгом.
Я почти хотела остановиться на моем приезде в Петербург; но так как, начиная, я хотела именно описать трудное начало и труды общины, то и решаюсь продолжать, хотя теперь мне это будет гораздо труднее. Кроме только моей поездки во все госпитали, во время которой я писала к сестре, эти письма могут мне многое припомнить. Но когда я совсем вернулась в общину в Петербург, то я просила позволения у великой княгини, чтобы сестра моя жила со мной, но на свой собственный счет, и я мало тогда к кому писала. И теперь мне приходится все вспоминать и, может быть, несколько смешать иные события; но буду стараться избегать этого.
Итак, решаюсь, хотя вкратце описать, как устраивалась община, как трудились сестры до самой той минуты, когда я с сокрушенным сердцем, но по собственной воле оставила общину…
Знаю, что там многое переменилось в управлении, но, надеюсь, не в направлении, которое было дано великой княгиней Еленой Павловной и Николаем Ивановичем Пироговым. Знаю, что сестры подвизались и в Черногории, и в Сербии, и в Болгарии, и в Ташкенте, и очень желаю, чтобы кто-нибудь продолжал мой слишком безыскусственный рассказ и описал бы нам живо все действия и труды Крестовоздвиженской общины, в которой я всегда принимала большое участие.
Продолжаю мой рассказ. Не помню, когда именно, но думаю, что на другой день моего приезда, то есть в Благовещение, вдруг в церкви, под конец обедни, не быв предупрежденной, я увидала, что священник вышел и повернулся ко мне, имея в руках крест нашей общины, только несколько поболее. Но у меня было одно чувство: я не хотела расстаться с тем крестом, который был на мне в Севастополе и столько раз был обрызган кровью наших страдальцев. Я громко сказала, что не могу расстаться с моим крестом.
Великая княгиня очень любезно мне отвечала:
— Не снимайте, но наденьте и этот.
Итак, я вышла из церкви в двух крестах: в своем и в более тяжелом и физически, и морально кресте сестры-настоятельницы. Этот последний я оставила в общине, но мой севастопольский крест и теперь всегда на мне — разумеется, под платьем.
Ведь и оставляя общину, я давала себе обещание оставаться сестрой милосердия; но как я часто и тяжело испытала на себе справедливость пословицы: один в поле не воин!
Быстро промелькнул месяц, который я провела в Петербурге; видела своих родных, знакомых; от всех был самый дружеский, радушный прием.
Приехали мы с сестрой к Глинкам; они даже не знали, что я вернулась. Через полчаса Глинка вышел со стихами ко мне.
Вот эти стихи, которые еще не были, кажется, нигде напечатаны:
Привет поэта сестре милосердия Там, где синею волною Омывался виноград, Где под южною луною Склоны каменных громад Осенял чинар и тополь, Где фосфор горит в волнах, Где могучий Севастополь Красовался на скалах, — Загремело вдруг войною, За ударом шел удар, И за дымной пеленою День и ночь кипел пожар; И чугунным градом бомбы Разражались на бойцов!.. Погреба и катакомбы Лишь детей и стариков Ненадежно прикрывали… А родные нам полки, — На стенах, — стеной стояли, Веря в Бога и штыки… Но теперь те стены, — где вы? Смыл все брани ураган!.. Там-то смерти праздник дан. Там хлестала кровь из ран!.. Но дружина жен и девы, Обручась крестом златым С милосердием святым, Шли на гибель, не бледнея, И несли фиал елея И сердечную слезу В неисходную грозу… И вот одна, пройдя тот путь кровавый, Явилась к нам в венце Христовой славы И, отгостив на огненном пиру, Из мира бурь пришла на мир в столицу. Приветим же Бакунину сестрицу И милосердия приветим в ней сестру! Понедельник вечер 26 марта 1856 г.Я часто видала Николая Ивановича; сколько было разговоров, предположений, планов и сколько неосуществившихся грез — по крайней мере для меня!..
Имела я тоже счастье видеть Государя и Государыню: раз, когда я сидела у великой княгини, пришли ей доложить, что Их Величества приехали. Она меня удержала и представила. Государь благодарил меня за мой христианский подвиг, а Государыня с участием спрашивала, как мои нервы могли это выдержать. Тут я имела возможность рассказать Государю о грустном и тяжелом положении наших транспортов.
Он отвечал мне на это: «Успокойтесь, транспортов больше не будет».
А придя в свою комнату, я нашла письмо от доктора Тарасова, в котором он пишет, что опять стали готовить транспорты. Я сейчас отнесла это письмо великой княгине, а она сообщила Императору.
Была я раза два в доме, где живут испытуемые; это не то общие квартиры, не то пансион, но уж никак не община. Еще была в морском Калинкинском госпитале, где уже находятся на службе четыре сестры Крестовоздвиженской общины.
С первого взгляда они мне очень понравились.
Еще мне сказали, что одно отделение в десять сестер со старшей сестрой Марьей Ивановной Алексеевой (это была предобрая и премилая сестра) поехали в Симферополь. Должно быть, мы с ними разъехались ночью. Еще поехал отряд сестер в Тульчин, когда я уже была в Петербурге, и мы с Эдитой Федоровной Раден собирались их проводить, и по очень глупому недоразумению нам это не удалось: карета, которая должна была подъехать к моему подъезду, подъехала и стояла у подъезда великой княгини Екатерины Михайловны. И когда мы все узнали и исправили ошибку, то так опоздали, несмотря на то что очень спешили, что только слышали свист — и поезд умчался. Мне было это очень досадно.
В 1856 году Пасха была 15 апреля, и мы с сестрой могли удобно и спокойно говеть, встретить и вместе провести праздники, а 24-го мы с ней уехали, она — чтобы остаться в Москве, а я — чтобы ехать далее.
Перед отъездом я получила следующий рескрипт от великой княгини Елены Павловны:
«Екатерина Михайловна! Вполне ценя высокие нравственные качества ваши, столь блистательно выказанные во время осады Севастополя, я избрала вас на сей год сестрой-настоятельницей Крестовоздвиженской общины и поручаю вам вступить ныне же в исправление вашей должности. Вместе с сим возлагаю на вас во время самого следования в Крым обревизовать расположенные на пути отделения общины и поручаю вам все замеченное предложить на рассмотрение и обсуждение комитета общины.
Помощь и благословение Господни да будут с вами при исполнении обязанностей новой должности вашей.
Пребываю к вам благосклонная — Елена.
23 апреля 1856 г.»
Из Петербурга я взяла сестру Е. А. Королеву, которая была сестрой в финляндском отряде; они были в Гельсингфорсе и во время бомбардировки Свеаборга отлично там работали. Сестра Королева — прекрасная сестра и до сих пор подвизается на этом поприще, была и в Черногории, и в Болгарии, и, как мне говорили, в ахалтекинском походе.
Еще я взяла испытуемую Беляеву. Пробыв в Москве три дня, я отправилась с ними далее. Мы везли разные вещи, часы, перстни от великой княгини для подарков тем, кто помогал сестрам и оказывал разные услуги в трудных случаях или болезнях.
1 мая мы приехали в Харьков; дорога и погода были великолепные, весна во всей красе. А когда мы выехали из Петербурга, то по краям дороги лежал снег. В Москве уже были маленькие листочки на кустах, но здесь уже все цвело, фруктовые деревья были покрыты белыми цветами, а яркая зелень других деревьев так и блистала на солнце.
Мы остались дня два, посетили все госпитали. И вот мне живо вспомнилось одно отделение, почти за городом, прекрасный зеленый густой сад, свежий, здоровый воздух. Но что за ужасные тут были больные! Это все были цинготные и уже сильно пораженные этой тяжелой и мучительной болезнью. Грустно это вспомнить! Но много таких я находила и в других госпиталях.
Портрет великой княгини Елены Павловны. Художник Ф. Винтерхальтер. 1862 г.
В Екатеринославе я осталась с сестрами дней пять. Мне было очень досадно: я только на дороге на станцию встретила кн. Голицыну, которая и приехала в Екатеринослав после моего отъезда, и уехала прежде, чем я приехала. А я очень желала с ней познакомиться: мне рассказывали, что она была очень усердной сестрой.
Больных в госпиталях было уже менее, а многие были и совсем закрыты.
В Екатеринославе я оставила сестру Беляеву, которую назначила с другой сестрой в Никополь, а взяла с собой Базину в Симферополь.
Мы остановились в Никополе, обошли все эти несчастные домики или, лучше сказать, избушки, в которых помещается четыре или пять больных. Уход при таком размещении очень затруднителен, много ходьбы. Однако, так как все идет к уменьшению больных, то двух сестер будет довольно. Но надо было хлопотать, чтобы и сестрам отвели квартирку.
Потом еще останавливалась в Бериславе, где были четыре сестры, присланные из Херсона; одна из них, Фокина, была очень хорошая и милая сестра; они жили дружно, усердно работали, и ими были очень довольны.
Теперь Днепр мы переехали на баркасе, что было очень приятно.
В Перекопе все было по старому, и было занято еще 12 номеров, но при нас же в этот день выписалось из палаток совсем здоровыми 190 человек.
Наконец 14 мая я приехала в Симферополь. Слава Богу, я нашла сестер в очень хорошем положении. Были некоторые не совсем здоровы, но не в опасности. Близ. Петр. Карцева давно совершенно поправилась и заведовала и распоряжалась служением сестер. Сестры были в лагере, где было до 1600 больных в это время.
В Симферополе, мне говорили, было всего до 5000 больных, и сердобольные оставались без дела. Сестры в городе также занимаются во многих госпиталях, но говорили, что скоро все больные будут переведены в лагерь, а дома будут очищаться, или, как нынче говорят, дезинфицироваться.
Гроб Екатерины Александровны еще не мог быть отправлен в Одессу, так что я поехала сейчас же на кладбище, где он стоял в маленькой часовне, и могла помолиться. Ах, как было грустно и тяжело!..
Но вот можно сказать, что не было времени предаться грусти, так много было теперь дела и хлопот — не того дела, которое я любила, то есть ухаживать и находиться при больных, а дел администрации: то надо писать в Петербург, то в то, то в другое отделение сестер, то получать разные письма и требования, удовлетворять, отвечать всякому и т. п.
В это время сестры были в двенадцати местах, а в Николаеве, как мне помнится, не было общего управления, и каждое отделение при особом госпитале действовало совершенно самостоятельно.
А между тем, хотя я и избегаю говорить о разных мелких неустройствах, но не могу сказать, чтобы их не было. Многие сестры не понимали совершенно, что такое должна быть община и как должны себя держать сестры. Меня очень удивило, как В. И. Тарасов так умел себя поставить и ладить с сестрами, что все отзывались о нем с величайшей похвалой, даже известные сплетницы и рассказчицы ничего против него не говорили.
А ведь были между ними престранные и пренаивные. Например, раз одна сестра, приехавшая только в августе на Бельбек, приходит ко мне, очень таинственно запирает дверь (а это всегда испугает, боишься какой-нибудь истории) и спрашивает: «Ужели нам не дадут медали?».
Я отвечаю: «Нет, дадут; вы ее вполне заслужили. (Это серебряные большие медали, которые давала великая княгиня не для ношения, а на память сестрам и тем, кто содействовал общине.) Ведь там Симферополь и Бельбек поименованы».
— Нет, не эту, а севастопольскую.
— Да ведь вы не были в Севастополе?
— Нет, не была, а очень желала там быть; так это все равно.
И вот я два часа толковала, что быть или желать — две вещи разные, что, может быть, есть и генералы, которые желали быть в Севастополе и не были, и не получат ее; а солдат, который совсем не желал, но был там, получит, хотя, может быть, ничего не делал; это не награда за достоинство, а право.
Не знаю, убедила ли я ее. И это не единственный случай; он повторялся не раз, и все они считали себя несправедливо обиженными…
Опишу теперь лагерь, где работали наши сестры, и день, который я провела в нем, начавшийся тем, что мне ночью пришлось бежать в Симферополь.
В какой безотрадной местности расположен этот грустный лагерь! Не видно ни одного деревца, ни одного кустика; отлогие склоны едва покрыты травой. Верстах в двух виден город: в одной стороне довольно много минаретов и каменных оград или заборов; в другой, которая идет немного под гору, только один купол с крестом.
Лагерь расположен «покоем», но неправильным — один конец длиннее другого. Первые ряды всех внутренних сторон составляют большие суконные, покрытые парусиной госпитальные шатры, а за ними по два ряда маленьких солдатских палаток, и те теперь уже устроены двойные. Посредине широкого пространства этого «покоя» стоят тоже палатки, и большие, и маленькие, очень большой намет для цейхгауза и еще три шатра больничные. Тут живут наши сестры-хозяйки, тут и койки для приезжающих дежурить сестер, и палатка, где живет Близ. Петр. Карцева. А в одной — наши запасы, белье для больных, питье, яйца, чай, сахар и все, что нужно для перевязки.
И вот возле этих трех палаток беспрестанно видишь входящих или выходящих сестер: то одна несет миску с супом для слабых больных, другая лимоны, а третья бежит очень скоро с нужной для перевязки корпией и ватой, и еще одна проходит тихо и осторожно, неся склянки с лекарствами.
И этот обширный лагерь совсем уж не военный. Не слышно ни музыки, ни песен, не слышно команды, даже зорю не пробьют!.. Но вот вдруг раздается команда: «Стой! равняйся! Скорым шагом, марш!». И что ж? Вот марширует семь человек, но ужасно смотреть на них: у них, у семи — семь ног и четырнадцать костылей!
Безрукие сидели на лавочках, устроенных из досок, положенных на козлы, командуют тем — и те, и другие смеются. Здесь сошлись и доктора; они тоже смеются, и я улыбаюсь со слезами на глазах, но все-таки, хотя это очень грустно, но все же отраднее видеть их марширующими со смехом, чем, бывало, видеть, как, пройдя через Гущин дом, их отправляют хоронить на Северную.
Пошла я потом в палатки к только что привезенным из города 150 человекам. В этот лагерь свозили отовсюду; иногда тут бывало и очень много, но, слава Богу, зато очень часто выписывалось от 100 до 200 человек. Я привела к этим раненым старушку, которую они звали бабушкой и очень ее любили. Они очень обрадовались, увидав ее, очень меня благодарили, что я ее к ним привела; их пугала мысль, что они ее больше не увидят, и они все повторяли: «Ну, спасибо, что ты ее привела, а то без бабушки скучно! Она славно перевязывает, да еще прежде чем перевязать, насмешит нас!».
Скоро жаркий день сменился приятным, прохладным вечером; солнце село за розовые, золотистые облака; молодой месяц ярко заблистал в высоте. И все более и более стихало. Больные ушли со скамеек в палатки, зажглись везде огоньки, и блестящие облака превратились в тяжелую тучу, которая беспрестанно закрывала месяц. Завыл ветер; в иных палатках погасли огоньки и замолкло, а в других слышны еще сказки и рассказы о походах. Но вот и это постепенно умолкло, только кое-где раздается оханье или кашель, да промелькнет огонек: это сестра идет с фонарем между рядов палаток, порученных ей, и старается прислушаться, где не спят, чтобы взойти туда. Тихо и в палатках сестер, но вот к ним вошел служитель и сказал, что мясо и хлеб привезли.
Сейчас же две сестры пошли на кухню для приема.
Когда они возвратились, я тоже пошла в палатку сестры Близ. Петр., которая была в это время у Гротеновых в Генисале, куда ездили отдыхать и поправляться после болезни наши сестры. Нестор Филиппович и его жена были очень внимательны к сестрам, и мы многим им обязаны.
Поговорив некоторое время с сестрой, которая жила в этой палатке, я стала сладко засыпать под заунывное завывание ветра и легкое качание палатки… Вдруг слышу голоса, восклицания: «Боже мой! Какой ужас! Все небо в огне! Огонь, пожар, огромный пожар!».
Я вскакиваю и спрашиваю громко: «Где пожар?». Взволнованный голос вне палатки отвечает мне:
— Симферополь горит!
— Как горит?!
— Да, ужасный пожар!
Я поспешно одеваюсь; сестра Королева вбегает ко мне, дрожа от волнения; она поспешно отстегивает несколько петель палатки и говорит:
— Ужас что такое! Посмотрите!
Горит удивительно ярко и светло. Я поспешно накидываю салоп и прошу сестру позвать мне служителя.
— Куда вы?
— Как куда? В Симферополь.
— Что вы, Катерина Михайловна! Ночь, ужасный ветер, темно!
— Но ведь горит в стороне собора, наш дом, где живут сестры, дом Торопова, где больные сестры, где наш цейхгауз, — все там. Ну, а что, если горит близ этих домов, или, упаси Боже, горит какой-нибудь из них! Мне надо быть там; старшая сестра в Генисале, наш доктор на южном берегу. Кто же там?
Выйдя из палатки, я увидала фельдшера, который тоже собирался в город, позвала его, и мы поспешным шагом пустились в путь. Вдруг нам почти не стало видно пожара.
— Что ж это?
— Это оттого, что мы сошли под гору. А пожар должно быть очень большой: верно, горит не один дом, — отвечает мне фельдшер.
Я прибавляю шагу; ветер прямо в лицо и несет в глаза пыль и дым. Вот подошли мы к какому-то забору и палаткам: это бойня. Стая огромных собак окружает нас с страшным лаем; у моего провожатого нет даже палки, но мы благополучно прошли. Всякий раз, что вспыхнет ярче, я иду поспешнее и думаю с тревогой: ключ от кассы у меня, а железный ящик, где она лежит, привинчен к полу; шкатулка с подарками великой княгини, бриллиантами и часами — в шкафу, а ключ от шкафа у меня, и никто не знает, где она стоит…
Впереди очень светло, но зато по сторонам все совершенно черно. Вошли в город. Стали попадаться прохожие.
— Что горит?
— Лавки.
Если те лавки, что у собора, то наш дом прямо под направлением ветра, но горит что-то очень ярко и близко, ближе дома общины.
— Где горит? — спрашиваю вторично.
— На большом базаре, балаганы с дегтем, салом и маслом.
Я пошла тише: нет никакой опасности для наших домов. Прошла мимо пожара — горит очень светло, но низко. Насилу я узнала свою улицу — так странно все было освещено. Мне открыли сейчас, как я позвонила, так как никто не спал. Пошли возгласы, как это я ночью пришла пешком. Письмоводитель, священник тоже пришли к сестрам, так как все сначала очень испугались, но, слава Богу, пожар скоро совсем прекратился, и скоро мы все, и во всем Симферополе, легли спать. Кроме бедных продавцов, пострадавших от пожара, все шло по-прежнему; на другой день другие торговали на том же месте.
Через несколько дней я с сестрой Базиной поехали в Бахчисарай; там больные были уже все переведены в аул, близ станции, так что и сестры туда переехали. Больные находились и в доме, и в палатках; их было 550 человек. Сестры жили тут же очень близко, и это было очень удобно.
На другое утро мы с сестрой Матильдой Осиповной Чупати, которая была здесь старшей, ездили в Бахчисарай к полковнику Ахматову, который заведует госпиталями, и к коменданту. А потом еще на другой день ездили с сестрами на их прежнюю квартиру на горе близ дворца.
Мы поехали туда горой. Что за чудный вид! Весь Бахчисарай под ногами. М. О. Чупати уговаривала меня туда ехать, так как очень беспокоилась об оставленном там цейхгаузе. Но я нашла, что там всего так немного, что нетрудно все это перевезти.
Мы воспользовались этой поездкой, чтобы посетить и дворец; особливо сестра Базина этого очень желала; она первый раз в Крыму. Но дворец был в ужасном положении после устроенного в нем госпиталя. Стены покрыты какой-то сыростью; великолепная зала суда — с подпорками, фонтаны не бьют, — вся поэзия пропала, а грустная, тяжелая действительность являлась во всем!.. И нельзя было повторить: «Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы»…
Мы воспользовались прекрасным вечером и лунной ночью и сходили пешком в Чуфут-Кале и Успенский монастырь. Поздно вернулись домой. Я не могла этот раз остаться дольше, так как надо было 20-го непременно вернуться в Симферополь, чтобы 21-го, в именины великой княгини, быть и справить этот день в общине.
Тут еще нам было очень много хлопот, чтобы отправить гроб Екатерины Александровны в Одессу. Сколько раз я ездила для этого к губернатору Жуковскому, который всегда был к нам очень внимателен и любезен, сколько раз посылал нарочного в Севастополь, чтобы узнать, когда будет такой пароход, на котором, наконец, можно отправить гроб.
До Севастополя провожали Екатерину Александровну доктор Тарасов и Елизавета Петровна. А монах Вениамин, который находился при общине, сестра Медведева (которая находилась при Екатерине Александровне во все время ее болезни), сестра Матковская и пять одесских сестер провожали ее до Одессы, до места вечного ее успокоения. Я опять ездила на кладбище помолиться и поклониться ей в последний раз.
Приведу здесь небольшую выписку из письма сестры Медведевой из Николаева, хотя я, разумеется, получила его позднее:
«Мы снялись с якоря в двенадцать часов дня. Капитан парохода очень о нас заботился. Погода была тихая, к вечеру только начался ветер, и иных укачало… Мы прибыли в Одессу в понедельник, в восемь часов утра. Батюшка сейчас отправился к княгине. Ее не было в городе, послали за ней на хутор. К 12 часам она приехала, и с ней сестра Фекла (которая была с Екатер. Алекс, в Крыму) и ее воспитанница Лиза Яковлева. Они очень плакали. Княгиня немного пробыла и уехала, чтобы всем распорядиться. Немного после нее приехала старшая сестра и с ней еще две сестры и их священник с причтом и хоругвями.
Дроги запряжены парой лошадей, покрытых черным сукном. Капитан парохода просил дозволить проводить кондукторам до кладбища. На дрогах стояло по два по бокам.
Мы все шли пешком до самого заведения общины. Когда мы проходили мимо монастыря, монахини и дети духовного звания, которые тут воспитываются, вышли попарно, встретить и проводить до общины. Там все сестры вышли, отслужили панихиду у крыльца и отправились до кладбища. Некоторые сестры шли пешком, а другие поехали с нами, ибо до кладбища 8 верст. Внесли в церковь, отслужили панихиду, и потом было погребение.
После похорон нас благодарили за наши распоряжения и за порядок, который был им известен, Все были очень ласковы и радушны, и княгиня, и генеральша Стурдза.
Возвратились мы с кладбища в 6 часов в мирное убежище, где и пробыли с понедельника до четверга и уехали в Николаев». (Видно из продолжения письма, что заведение одесских сердобольных очень понравилось сестре Медведевой.)
Баронесса Эдита Федоровна Раден (1823–1885) — фрейлина, камер-фрейлина двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (меньшого креста). Занималась женским высшим образованием и воспитанием. Корреспондентка философа Самарина и других деятелей науки, искусства и государственного управления
А тут начались другие хлопоты. Сестра М. О. Чупати уезжала с шестью сестрами в Петербург, а ее заменять мы назначили Мар. Ив. Алексееву. Тогда я только с ней познакомилась, но скоро полюбила всей душой; это была такая милая, сердечная сестра, любящая и благородная, каких у нас очень мало, к несчастью.
5 июня я поехала в Херсон. С Перекопа, где на несколько часов остановилась у сестер, я решилась ехать на Алешки. Последняя станция к Алешкам, 22 версты — истинное мучение: глубочайший песок, так что я с сестрой часто шла пешком. А в Алешках опять хлопоты: надо ехать на лодке, то есть на дубе, и два часа с половиной едешь точно по каким-то аллеям из ветел, точно они растут прямо из воды; и все это время или на баграх, перевозчики бегают по краю дуба, или на бечеве. Только когда мы выехали прямо против Херсона, то поехали под парусом; а тут еще опять хлопоты — на берегу нанимать лошадей.
В Херсоне старшею, с самого приезда сестер, была сестра Варв. Ив. Щедрина. Хотя здесь много идет не так, как у нас, — наши взгляды во многом расходятся, — но так как это шло уже так год и шесть месяцев и, по-видимому, все шло хорошо и все довольны, то тут изменять нечего, тем более что это был июнь, а все говорили, что осенью все военно-временные госпитали закроются.
8 июня я приехала в Николаев. Что ж я скажу про сестер и про госпитали? Ни вспомнить, ни из моих же писем к сестре, очень коротких по недосугу писать, я ничего не могу сказать положительного. Тех сестер, которые были из Петербурга и продолжали еще свое служение, разумеется, хорошо помню; но тех, которые были из Одессы и из других мест и с закрытием этих госпиталей уехали, совсем не могу вспомнить, — а их было много. Мне все рассказывали, что зимой и ранней весной положение сестер и больных было ужасное.
Когда я приехала, сестры были в трех госпиталях в довольно далеком друг от друга расстоянии. Главный госпиталь был Морской. Мы так прямо и приехали к сестрам, которые были при этом госпитале, где в это время было до 1000 человек. Старшей сестрой была Аверкиева. Я ее почти не помню. Она была из Одессы и очень скоро туда уехала. Из ее же отделения три сестры ходили в Сухопутный госпиталь, который был против них. В нем было 450 человек.
Помню, как эти три сестры мне говорили, что старшая сестра все свое время посвящает Морскому госпиталю, а к ним редко ходит. Помню очень хорошо этот большой Морской госпиталь. Думаю, что он уже больше не существует. Это было что-то престранное. Не знаю, как понятнее описать его. Это были длинные галереи; по двум сторонам стояли койки, а над ними хоры тоже идут вдоль стен, такие широкие, что на них тоже стояли койки и оставался проход между коек и перил. В середине — широкое и высокое пространство. Кажется, таких длинных галерей, разделяемых сенями, было две или три. Но это все очень неудобно; во-первых, совершенно вместе было более 200 человек; во-вторых, что проливали наверху, капало на нижних, а что пахло внизу, несло прямо к верхним.
Еще был в особом доме офицерский госпиталь, куда ходили две сестры. Верстах в двух отсюда жили при госпитале шесть сестер. Сестра Кояндер была старшей. Она, кажется, из Москвы, хорошая сестра и продолжала потом свою службу в Петербурге.
В третьем госпитале, за горами и за песками на берегу Буга, была старшей монахиня, и, как нарочно, в этом госпитале был самый дурной и вспыльчивый смотритель, и у них очень часто бывали неприятности. Я думаю, оба были виноваты.
Однако я все-таки съездила к адмиралу Рагуле, прося его быть покровителем сестер. Он был в Севастополе вторым комендантом, и я его всякий день видала.
Я опять останавливалась на два дня в Херсоне. Боже мой, какую важность все приписывают всякому отчету, и правильному ведению самой мелкой отчетности, и страху не вести его по всем бюрократическим тонкостям! Я это испытала в Херсоне. На этот раз сестра Варв. Ив. Щедрина была со мной очень любезна. Она мне показала свой цейхгауз, в котором я нашла несколько неоткрытых тюков. Я ее спросила:
— Отчего вы не разберете их? Может быть, тут есть и белье, и компрессы, и прочее, в чем вы нуждаетесь.
— Но вот видите, все это надо ввести в отчеты, а потом вести всему и расход. Это так затруднительно.
Мне просто было досадно это слышать, и, вспомнив, какие я видела толстые компрессы на глазах больных, я ей сказала:
— Мы сейчас все тюки раскроем, и если вас это затрудняет, то напишите, что приехала сестра-настоятельница и все растрепала, а уж я буду за это отвечать.
Потом сестры были очень рады, что мы все разобрали и нашли много очень им нужного, между прочим, запас персидской ромашки, в которой они очень нуждались, и которая была им необходима.
Кстати, скажу здесь и про письмоводителя Александра Порфирьевича Рыбалкина. Это была олицетворенная аккуратность! Получила я раз письмо от вице-губернатора Браилки; по ошибке он писал о мальпостах, которые были присланы для сердобольных, а не для нас; но Алекс. Порф. пришел на другой день меня спрашивать: «Вы получили письмо?» — «Да, получила. Да это вздор, ошибка!» — «Что за дело, что вздор! Все же надо соблюсти форму; ведь письмо под номером?» — «Ну, что ж, что под номером?» — «Необходимо надо внести в бумаги». — «Да ведь это заводить пустые бумаги?» — «Так должно. Пожалуйста, дайте его».
Я сыскала письмо на полу и подала ему. Он был очень рад, а я ему говорю: «Право, Александр Порфирьевич, я в другой раз разорву и брошу такой вздор!». А он мне невозмутимо отвечает: «Ну, что ж? Я тогда все-таки обязан написать, что бумага, полученная под таким-то номером, разорвана сестрой-настоятельницей по ненадобности».
Кроме этой страсти все записывать, доведенной до крайности, это был очень хороший человек, и я всегда оставалась с ним в самых лучших отношениях.
А каково же ему было смотреть, как совершенно по-походному происходило заседание нашего комитета! Я сидела на своей кровати, сестра Е. П. Карцева — на шкатулке, привинченной к полу, Тарасов — на столе; только священник сидел на креслах, а письмоводитель — за столом в дверях другой комнаты. А как живо, с каким одушевлением мы совещались! Сколько было предположений, сколько надежд, сколько мечтаний!
Так как я заговорила о каретах для сердобольных, то припомню, что как я приехала в Симферополь, то надо мне было объясниться с начальницей сердобольных, Распоповой: как они располагают — они ли собираются оставаться еще в Симферополе или передадут все госпитали нам?
Я поехала к ней с некоторым опасением, так как мне говорили, что с ней бывает трудно вести дела. Но мои сношения с ней были всегда очень приятны, может быть, и по тому особому обстоятельству, что она с самого начала встретила меня очень любезно, говоря: «Я бывала у вас в доме. Тогда были там две маленькие девочки, Пашенька и Катенька. Которую из них я теперь вижу?».
Когда приехали к нам мальпосты, то все сердобольные собирались уехать. Мне очень хотелось удержать ту, которая была при офицерском госпитале, и которой они были очень довольны. Распопова согласилась ее оставить, и я очень уговаривала ее остаться; она почти согласилась, но потом вдруг отказалась, и мне пришлось послать туда одну из наших сестер. А ведь выбрать сестру для офицерского госпиталя очень трудно; молодую — нельзя, боишься ее компрометировать. Госпиталь же был довольно далеко на даче у Салгира в прекрасном саду. Но, слава Богу, туда попала средних лет сестра, очень добрая, услужливая и которая умела им угодить. Сердобольные уехали, да и наши сестры стали уезжать небольшими партиями. Больные убывают, но в больничный лагерь они прибывают, так как из всех госпиталей их привозят туда.
В Бахчисарай тоже больных прибыло, потому что уходящие полки сдают больных из своих лазаретов. Говорили, что к 24-му все полки должны уйти, и тогда тоже должна быть временная прибыль.
В 20-х числах июня мы проводили доктора Тарасова и нашего священника, а с ними сестру Зельстрем 1-го отделения. Они поедут через Херсон, Вознесенск, Елисаветград и на Киев, так как отец Арсений должен был там остаться у своего брата; он священником в Белой Церкви и желал повидаться со своим семейством, которое жило там с тех пор, как бежало из Севастополя.
В понедельник я поехала в Бахчисарай, но лучше сделать выписки из моего письма к сестре, потому что теперь никак не буду в состоянии написать так, как написала в первую минуту, не скажу — хорошо и складно, но, по крайней мере, живо, под сильным впечатлением. В начале письма я обвиняю себя, что совершила преступление, предав милосердие, но никак не могла преодолеть себя и не побывать в Севастополе. Я знаю, что сестра, а тем более сестра-настоятельница, не должна разъезжать столько времени без дела, но не могла отказаться от этого и была наказана, потому что было ужасно видеть Севастополь.
«Когда я вспомнила 27-е и 28 августа, это пламя, эти ужасные взрывы, этот шум, трескотню, крики толпы, войска, лошадей, волов, я не могу тебе дать понять этих двух картин, как сравнением: представь себе, что ты видела умирающего в последние минуты его агонии, но, несмотря на страдание и смерть, все еще прекрасного, — и после этого на том же месте тебе бы показали груду костей и сказали бы: „Вот тот, которого ты видела хотя умирающего, но еще прекрасного!".
Но лучше расскажу, как я на это решилась и устроила.
Пятницу и субботу я очень усердно занималась то тем, то другим, но, на мою беду, пришел ко мне граф Шанский и сказал, что Севастополь сдают нашим, что он туда едет. И неужели я не увижу Севастополя? Решительно я не хотела туда ехать, пока там были французы, но тут искушение было чересчур велико, тем более что устроить это было так легко.
Мы, пообедав и набрав разных вещей для сестер и больных Бахчисарая, с сестрой Королевой и Рыбалкиным поехали туда. В восьмом часу мы туда приехали. Сестер нашла здоровыми, больных много, но большая часть — выздоравливающие. Обошли палаты, и я объявила, что завтра рано утром я уеду в Севастополь. Признаюсь, что на вопрос: по какому делу? — мне было совестно отвечать: без дела, а только с тем чувством, с каким едут поклониться могиле любимых нами людей.
Вечером нашла ужасная туча, пошел дождь. Я думала, что само небо помешает мне ехать, но, проснувшись утром в пятом часу, увидала ясное солнце и чудное голубое небо. Итак, в шесть часов мы поехали. Было еще довольно прохладно, и какая опять роскошная зелень в Бельбекской долине! Огромные дубы и вязы, у которых сучья были отрублены, опушились длинными, новыми побегами с крупным листом, так что они имели очень странный вид; виноград, перекопанный и обработанный, густо рос в садах долины. Так все было зелено и свежо, точно природа хотела вознаградить за прошлогодние опустошения.
На деревьях тысячи цикад поют без умолку. Но только кое-где увидишь человека, работающего в винограднике или в огороде, — все так тихо и мирно.
Но вот наш тарантас повернул на шоссе; мы переехали Бельбек, проехали то место, где в палатках жили сестры, проехали виноградник, который разделял наш лагерь от лагеря госпиталя. Он славно опушился и ярко зеленеет. Но фруктовые деревья в саду, где был госпиталь, почти все с поблекшими листьями, какого-то красноватого цвета, так что у них какой-то болезненный, страдальческий вид. Вот видно море, а там вдали, против Камышевой бухты — ненавистные английские и французские корабли.
Поднялись на гору. Константиновская и Михайловская батареи стоят как прежде. Но вот там бараки, первый наш приют в Севастополе. У них нет ни рам, ни крыш. А вот и кладбище, где лежат четыре наши сестры; по левую руку другое кладбище у Михайловской батареи, а вот магазин, куда 27 августа я ходила ночью поить больных водкой. Их нельзя узнать: едва стоят полуразвалившиеся стены, а из бухты все так же печально торчат мачты кораблей и трубы пароходов, и там, по ту сторону бухты, какие-то странные строенья, какие-то неясные белые очертания, — как они кажутся далекими! Всегда в строениях резко обозначаются окна черные на белом строении, а тут в окна просвечивает тоже или голубое небо, или блестящие облака. Только недостроенная церковь Св. Владимира стоит как прежде, а насквозь огромного здания Александровских казарм так и сквозит небо.
Но где же наша Николаевская батарея, наш трехмесячный приют от бомб и смерти? А вот эта длинная гряда безобразных обломков на берегу моря — вот она!
Мы наняли лодку с двумя гребцами (теперь уже все русские) и поехали на ту сторону. Не стану тебе дальше описывать… Да и что описывать? Еще с Северной это можно назвать призраком города, а здесь — мерзость запустения!..
Мы проходили три часа в самый полдень, под палящим солнцем, исходили почти весь город, доходили до 4-го бастиона. Там я решительно ничего не поняла: все изрыто, какой-то хаос! От больших домов стоят еще стены, иногда все, иногда две или три, но слободки, которые были ближе к бастионам, не имеют и подобия домов, а только груды белого камня и черепицы…
Были мы и на могилах павших защитников Севастополя, в недостроенной церкви. Тут нет ни монумента, ни плиты, а только груды камней полуосевшихся… Грустно, тяжело!..
Измучившись физически, а еще более морально, мы вернулись на Михайловскую, где у того же священника, который приютил нас, когда мы в первый раз приехали в Севастополь, напились чаю и несколько отдохнули.
Когда мы доехали до сада, где жили сестры, мы пошли пешком, чтобы отыскать могилу сестры Ал. Ив. Айнской (она умерла на Бельбеке зимой) и прямо пришли туда. Она похоронена в саду на кладбище тамошних помещиков, под хорошенькими деревьями белой акации. Память о ней как-то сливается у меня с памятью о Николаевской батарее, где она постоянно подвизалась в продолжение шести месяцев.
Возвратившись вечером в Бахчисарай, я еще раз, для очистки совести, обегала весь госпиталь, прежде чем лечь спать. На другой день, для пополнения моих впечатлений о Севастополе, меня разбудили словами: „Катерина Михайловна, вставайте, раненого привезли!" — „Как раненого?" — „Да, бомбой раздроблена нога". Я вскочила, пошла туда и увидала бедного черноморского казака с совершенно раздробленной ногой. Он был с товарищем на Черной речке, а ведь тут везде валяются бомбы и ядра; его товарищ вздумал бросить ядро на бомбу, от удара бомбу разорвало, того убило, а этому раздробило кость. Ампутация была в верхней трети бедра. Если бы ты была в Севастополе, то знала бы, что это почти равняется смертному приговору, и вряд ли он теперь еще жив…»
Я вернулась в Симферополь в очень грустном настроении. Я, когда Елизавета Петровна сказала мне — она думала, что я пойду в Камыш, то я ей ответила, что после того, что была в Севастополе, ни за что не поехала бы, не хочу их видеть, так тяжело даже надписи французские читать на развалинах Севастополя.
На другой день получила я письмо из Петербурга, которое меня совсем расстроило. Пишут, что посылают, как старшую, в Елисаветград одну красивую молодую вдовушку, которая уже была сестрой в первом отделении и, как мне казалось, очень много занималась своими прекрасными белокурыми локонами. Она родственница мадам Кант, да и какая же это бестолочь посылать теперь сестер, когда мы их постоянно начали отсюда отправлять, так как больные быстро убывают и госпитали постепенно закрываются. Верно, это мадам Кант выдумала. Я тут же подумала, что у нас с ней будет разлад, как я приеду в Петербург. Оно так и вышло.
Церковь Воздвижения Креста Господня при Крестовоздвиженской общине сестер милосердия. Санкт-Петербург
В Петров день приехал в Симферополь Иннокентий. В этот же день я видела его у Браилки. Мне необходимо было его видеть для нашего священника, отца Арсения Лебединского, который с ним разъехался. На другой день я очень рада была, что осталась дома: к нам заехал Иннокентий. Он благословил всех сестер и тех, которые сейчас же должны были уехать на дежурство, а потом пошел в мою комнату и долго оставался, так что сестры сменились с дежурства и приехали домой — тогда он и их благословил.
Чего, чего мы с ним не переговорили! Сначала — о моих родных, которых он знал, о кн. А. А. Шаховском, которого он очень любил, о моей сестре, которой много стихов он читал, хвалил их и их религиозное направление, сказал мне, что он думал, что она пойдет в сестры. Я ему сказала, что ее слабое здоровье не могло бы это выдержать. Говорили о военных действиях, о Севастополе и об общине, чего я и желала. Я его стала просить, чтобы он меня выучил, как внушить религиозность. Он мне ответил на это:
— Вы так легко делаете мне самый трудный вопрос, который мы так часто задаем себе, когда собираемся проповедовать; это так трудно, это, должно быть, благодать Божия. Главное, пример и ваш для этого необходим.
Я ему отвечала, как меня мучит то, что я слишком светская.
— Что же, вы и не должны быть монахиней. И бойтесь того, чтобы частыми чтениями, вместо того чтобы принести пользу, не дать отвращенья от хорошего. Это так трудно, и кроме навыка, как с кем действовать, генеральных правил не могу вам сказать. И самое главное, пусть у них будет почаще Евангелие хоть перед глазами — это всего больше действует на нашу душу.
Этот разговор я тоже выписала из письма к сестре, которое я написала ей немедленно.
5 июля еще уехали сестры, а 7-го — Елизавета Петровна; зато к нам в Симферополь приехала сестра Марья Ивановна Алексеева. Бахчисарайский госпиталь закрыли, а оставшихся там больных перевели к нам.
Еще прежде все сердобольные уехали и передали нам и барак. Что мне в это время было очень скучно и даже тягостно — это писанье бумаг. Надо было писать к сестрам во все отделения, а всего чаще надо было писать в Петербург и надо было непременно писать сначала начерно, не для того, чтобы сделать фразы красивыми — я за этим никогда не гналась, да и не умела, — а чтобы иметь «отпуск». Ведь мы получали ответы недели через две. Получишь какой-нибудь ответ, наскоро написанный, так что вдруг и не поймешь, на что именно отвечают, пока не посмотришь, что тогда спрашивал.
И много времени я употребляла на писанье, так что мало мне его оставалось для больных, что мне было очень грустно; но все-таки я ездила всякий день и в бараки, и в лагерь, а дня через два или три и в офицерскую больницу. Но это больше для отдыха, чтобы подышать свежим воздухом. Там сад или, лучше сказать, почти лес густой, тенистый вдоль Салгира, а в Симферополе душно и пыльно, хотя именно в июле были часто проливные дожди, иногда целый день. Тогда другая беда: такая грязь в лагере, что из палатки в другую палатку рядом насилу пройдешь. Грязь такая липкая, что калоши в ней остаются.
У нас был аукцион лошадей, экипажей и разной медной и чугунной посуды, которой набралось очень много.
Всем этим заведовал Рыбалкин. Собрались жиды, татары, греки и русские; продажа происходила на дворе. Кричали, спорили на разных языках. Кончилось тем, что мы продали на 687 рублей серебром.
В это время, то есть 29 июля, у нас оставалось больных в лагере 680 человек, в бараках 162, и я решила, что могу уехать, так как великая княгиня желала, чтобы я скорее приехала в Петербург, да и по многому это было нужно, а ведь мне еще надо было заехать во многие места, где были сестры. Я взяла с собой сестру Наталью Александровну Базину. Сестры провожали меня со слезами, а добрая и милая Марья Ивановна горько плакала.
Мы выехали из Симферополя в семь часов после обеда. Утром были в Перекопе, и сейчас же, только напившись чаю, поехали в госпиталь. Он довольно далеко — тоже в палатках. Но там мне было очень досадно и даже больно: суп был совершенно жидкий (а если класть крупу по постановлению, то суп должен выйти почти как размазня). Я разохалась, пошла тревога, сделала замечание сестрам, велела дежурить на кухне. Но есть ответ, который меня совершенно выводит из терпения, и сколько раз я его слышала: «Представьте! вот как нарочно, когда вы приехали, а то все было исправно!». Боже мой! Кто же этому поверит?
Как вернулись из госпиталя, так сейчас поехали в Берислав. Туда приехали в семь часов. Сейчас мы обошли госпиталь. Здесь и в Перекопе 170 больных. Сестры здесь очень милые. Их три. Мы с ними поужинали; они легли спать, а мы с Базиной сели в тарантас и поехали в Херсон.
Мы приехали рано утром; напившись чаю, я с Варварой Ивановной Щедриной пошла в госпитали; они в трех разных помещениях, и четвертый, где арестанты, но очень близко один от другого, так что мы в третьем часу вернулись домой. После обеда я поехала к губернатору и к моим севастопольским знакомым Павловским и в лавки, чтобы купить кисеи, закрывать слабых больных: здесь мух очень много.
Я не скажу, чтоб все мне очень нравилось, но все-таки все здесь очень порядочно, сестер любят и уважают, и они живут между собою дружно.
На другой день, 1 августа, мы пошли к обедне и на водосвятие, но у них в этот день не ходят на Днепр, а освящают воду в колодце. Хотя народу было немного, потому что крепость довольно далеко от города, но толкали страшно, оттого что здесь есть такое обыкновение, что у всякой женщины и у всех детей — нельзя сказать, что по букету, а по огромному пуку душистых трав, даже маковых головок, и они кидаются, чтобы их скорей намочить в освященной воде.
Нас эскортировал плац-майор, и нам было хорошо. Обедня кончилась довольно поздно, а после обеда мы выехали из Херсона в Николаев, и Варвара Ивановна Щедрина с нами в другом тарантасе.
Но я велела свернуть с прямой дороги; мне хотелось поклониться Говарду. А когда сестра Базина спросила меня, кто же это такой, то я ей с большой живостью сказала, как она мена самое обидела: «И вам не стыдно? Это просто ужасно, я от вас этого не ожидала!» — «Неужели это такое преступление?» — отвечала мне она. «Разумеется, преступление, а для сестры милосердия и большое преступление его не знать!»
Мы остановились у высокого обелиска, обнесенного каменной оградой, открыли решетчатые ворота и вошли туда. Обелиск стоит на возвышенности в несколько ступеней. На нем медальон с изображением мужского лица, а крутом — надпись: «В темнице бех и посетисте Меня».
Мы поклонились, перекрестились и сорвали несколько травок с гробницы человека, столь известного своею добродетелью.
Садясь в тарантас, я сказала сестре: «Ну, теперь будете знать, кто такой Говард».
В Николаев мы приехали вечером и прямо поехали в Сухопутный. Сестры живут в том же здании, где и госпиталь. Я должна была взять оттуда старшую сестру Кояндер, чтобы оставить ее в Вознесенске у сестры Будберг.
В этот же вечер мы обошли этот госпиталь, а на другое утро были и в прочих госпиталях. Здесь сестер хотя в больницах и хвалят, но в домашней жизни у них много неурядицы, жалобы друг на друга, и я постоянно должна была чинить суд и расправу. Часто жалобы доходят до смешного, так что стараешься растолковать, как это ничтожно, и уговариваешь не обращать внимания. Это сестры, поступившие здесь; как только госпитали закрылись, они оставили общину и не поехали в Петербург.
3 августа я выехала из Николаева в Новую Одессу, и тут начинается мое глупое путешествие.
В прекрасную лунную ночь приехали мы в Новую Одессу и быстро подъехали к беленькому домику, и на мой вопрос еще из тарантаса: «Где сестры?» — я получила в ответ: «Давно уехали».
Нечего делать; поехали на станцию; там даже нет самовара, но хорошо, что были лошади, и мы поехали далее; только на одной хорошенькой станции решились остановиться, несколько отдохнуть и напиться чаю.
Мы рассчитали, что нам нечего спешить, и неудобно приехать ночью в Вознесенск, а лучше поутру.
Очень услужливая старушка принесла нам самовар, мы собираемся с удовольствием напиться чаю — и вдруг вместо воды из крана потекла какая-то черная жидкость. Зовем старушку.
— Ах, они бессовестные! — вскрикивает она. — Матушки! Это ничего, это кофей! У нас брали самовар на крестины. Экие, право! — И она скоро, вымыв его и налив чистой воды, приносить нам опять.
Проехав всю ночь, в грустно-дождливое утро приехали мы в Вознесенск — и опять то же. Подъехали к указанному нам домику и услыхали: «Сестры уехали».
Грустно, досадно и глупо было даром проехать по поселениям!
Отправились дальше по широким улицам города; по обеим сторонам — садики и деревья. Чистый, милый и уныло-стройный городок. Сейчас же со станции послала к генералу нашего унтер-офицера Фрелиха, очень расторопного, просить для меня открытый лист. Тут обыкновенной почты нет, а поселенская, хотя поселения, как они были сначала, упразднены.
Вдруг является полицеймейстер (привожу из письма к сестре его разговор и все мелкие подробности, которые теперь описываю). Он узнал, что приехали сестры, и сейчас же счел за долг узнать, кто и зачем.
— Позвольте узнать, кто вы и зачем вы сюда приехали?
— Я приехала к сестрам. Это мой долг навестить их и видеть все отряды, так как я сестра-настоятельница.
— Следовательно, вы — начальница?
— Да, самая главная начальница.
— Даже выше баронессы Будберг?!
— Выше.
Тут посыпались похвалы сестрам и уверения в готовности сделать все, что угодно ее превосходительству.
Генерал, который тут начальник, прислал за мной карету, прося меня к нему приехать, так как он болен и сам не может приехать.
Пришлось к нему ехать. Тут опять изъявления обоюдной благодарности. Наконец, явился полицеймейстер с открытым листом, и он же хлопотал у нашего экипажа, когда нам закладывали лошадей. И вот мы поехали в Елисаветград. Ехали мы целый день, не останавливаясь, питались только арбузами.
Пасмурный день сменился чудно-ясной ночью. Пришлось ночью в незнакомом городе отыскивать незнакомый дом. Наконец нам указали улицу, но Фрелих постучался в несколько домов, прежде чем, наконец, в одном хорошеньком домике с разноцветными стеклами открылись ворота, и мы вошли — к сестрам.
Что сказать про Елисаветград, про сестер, про госпитали? Но прежде я должна повиниться в моем, как я называла, преступлении против милосердия. Впрочем, на этот раз я не очень считаю себя виноватой, так как думаю, что сестре милосердия нельзя же перестать быть сестрой своего родного брата, а у меня в Елисаветграде жил тогда брат, и его я не видала лет семь. Итак, я здесь и осталась, может быть, несколько лишних дней именно для него, потому что, приехав с 4-го на 5-е, я только 11-го уехала в Тульчин. А дела здесь было мало. Больных всего 230 человек, а сестер много. Были между ними некоторые и из прежних сестер. Признаюсь, не понимаю, для чего только они разъезжали взад и вперед, или, лучше сказать, зачем они заставляли себя возить, что в то время было и дорого, и затруднительно.
Разумеется, мы всякий день ходили в госпиталь, и тут, увы! один раз я была сильно поражена: вдруг увидала на место цыплят, назначенных на слабую порцию, на столе целый ряд пухленьких жирненьких утят! И услыхала те же противные слова: «Представьте себе, ведь это в первый раз, и как нарочно при вас!».
Да и многое было мне не по душе. Мы друг друга не понимаем. Может быть, это и моя вина, но я нахожу — принимают спесь за достоинство и низость за скромность.
Но кроме свидания с братом мои занятия здесь были: ходить к генералам, принимать их и смотрителей, слушать разные рассказы, где всегда местоимение «я» играло большую роль.
Но, впрочем, слава Богу, все здесь было благополучно. Больных мало, сестер много, домик их прехорошенький. Власти к ним хорошо расположены. Между собой они живут дружно и тихо. Одним словом — все хорошо.
Опять мы поехали по бывшим поселеньям с открытым листом. При въезде в селенье вас спрашивают, хотите ли вы тут ночевать или поедете дальше. Если вы хотите остановиться, то вас ведут в Комитет, то есть подвозят к домику, на котором надпись «Комитет», но вам ничего тут не напомнит о каком-нибудь заведении, а вы взойдете в хорошенькую станцию, где можно отдохнуть. Если же вы скажете, что едете дальше, то побегут в поле ловить лошадей. И всегда это продолжается довольно долго, сначала лишь побегут со всех ног, а уже с половины идут очень тихо, да и закладывают очень медленно.
Вот в Умани мы остановились ночевать, но не для того, чтобы отдохнуть, а потому, что соблазн был слишком велик, чтоб рано утром ехать посмотреть известную Софиевку, великолепный сад графов Потоцких. И в седьмом часу, взяв извозчика, мы поехали туда. У меня же было от брата письмо к заведующему там офицеру.
По хорошей дороге мы быстро туда поехали по хорошенькому городку, разбросанному очень живописно по склону гор. Сада не стану описывать; он известен. Скажу только, что все было очаровательно, и мы с наслаждением проходили там более пяти часов. Мне дали несколько горшочков с микроскопическими кактусами (один из них до сих пор ведется у меня и стоит на моем окне).
Вернувшись, мы сейчас поехали дальше. Стало очень жарко, но что за красивые леса или, лучше сказать, рощи! Точно едешь по парку; огромные дубы, ясени, клены — то стоят отдельно, то составляют прекрасные группы, а между ними свежие, зеленые полянки. Дорога проселочная, мягкая, узкая, извивается среди деревьев. Но стало скоро темнеть, надвинулись тучи, заблистала молния, а тут начались такие крутые горы, что пришлось выходить из тарантаса. На одном спуске я спрашиваю: далеко ли до станции?
— Верст восемь, да дорога очень дурна, все горы.
Стало совсем темно, и молния стала еще ослепительнее. Хорошо еще, что мы ехали тихо, а то тарантас начал вдруг склоняться, да совсем и опрокинулся, но так тихо, что все было цело. Но вот беда, надо его подымать. К счастью, тут близко оказался шинок; оттуда мы позвали на помощь. Я нашла, что если шинок и очень вреден для нравственности, то очень полезен для проезжающих. И несколько раз на крутых горах в совершенных потемках приходилось пешком по грязи и спускаться, и подниматься, потому что лошади с трудом тащили тарантас.
Наконец мы въехали в густую аллею. Молния опять засверкала, опять остановка — переправа, паром, но паром прекрасный и уже в деревне.
Ямщик нам говорит: «А зато к какому дому я вас привезу! Где останавливался граф Никитин!».
И скоро мы подъехали к прекрасному дому, и солдат с тремя шевронами отворил нам. Две комнаты, хорошие, большие, изящно меблированные; был и диван, и кровать с великолепным тюфяком, шторы, стеариновые свечи. А Фрелих объявляет очень важно солдату, что, несмотря что полночь, генеральше надо самовар. Я в таких случаях оставляю его так себя величать, зная, что это магически подействует на солдата, который привык, что для генерала нет ничего невозможного. И через полчаса он явился с самоваром, чайником, стаканами и даже с серебряными ложечками.
Лазарет в годы Крымской войны
Когда мы уселись за чай, я спросила сестру:
— А что, Наталья Александровна, ведь этого с нами бы не случилось, если бы, как то следовало, мы не потеряли пяти часов на прогулку. Мы засветло не только были бы здесь, но и в Тульчине у сестер.
— Нет, я не жалею. Все кончилось благополучно, а сад прелестный.
А я тем более не жалею, что мне давно хотелось видеть этот сад.
И, несмотря на паденье, грозу, дождь и грязь, мы, очень довольные, хорошо отдохнули в прекрасной квартире графа Никитина.
На другой день мы рано утром были в Тульчине. Тогда это был грязненький еврейский городок. Тут тоже имение гр. Потоцкого, но из других Потоцких. Именье было тоже под опекой, но не за политические дела, а за глупые и безобразные поступки.
В большом каменном доме с большим, но совершенно запущенным садом жил с семейством какой-то генерал, опекун этого именья. В больших флигелях, окружающих большой двор, помещались и сестры, и госпиталь. Больных было немного. Но что сказать о сестрах? Да лучше ничего не говорить. Это были последние присланные и приготовленные m-me Кант. Сестра, которая была послана ей как старшая, скоро сама отказалась, говоря, что она вполне сознает свою неспособность. Когда я приехала, две сестры исполняли свои обязанности. Они были из прежних сестер, были в Севастополе, и та именно, которая себя считала старшей, была раз прислана с Северной к нам на перевязочный пункт, но мы через неделю, за ее нерасторопность и мешковатость, отправили обратно. Другая, которая считалась ее помощницей, была очень добрая и хорошая сестра, простая, без всякого воспитания, и прочие были в таком же роде. Это меня очень огорчило и испугало за будущее. Что же я найду в Петербурге? Даже страшно было подумать, и я старалась остановить свои мысли на поездке в Москву, где увижу родных и знакомых.
Я недолго оставалась в Тульчине, чувствуя и сознавая совершенную невозможность тут что-нибудь сделать; постаралась только в материальном отношении устроить сестер лучше и, чтоб они имели возможность хоть чем-нибудь утешать больных, пошла, накупила им сахару, чаю. Я помню, как за мной бегали жиды, когда я начала покупать сахар пудами, а чай несколькими фунтами.
И что это были за лавчонки! Рядом с чаем лежали сальные свечи, а возле голов сахару стояли бочки с дегтем.
Очень просила генерала покровительствовать сестрам, и он, и его очень милое семейство были всегда очень внимательны к сестрам. И я у них несколько раз была, а что меня еще несколько успокаивало, это — говорили, что госпиталь очень скоро закроется.
15-го я уехала в Белую Церковь, где у своего брата, тоже священника, находился наш батюшка, отец Арсений, который должен был ехать с нами в Петербург, куда его приглашала великая княгиня. Мы провели тут две ночи, так как священнику надо было собраться в дорогу.
Мы осмотрели все, что было замечательного в этом известном имении князей Браницких, долго гуляли в обширном и тенистом саду, но он не так изящен и не так красив, как причудливо устроенный, с разными затеями и неожиданностями, уманский сад. Там мраморные статуи и бюсты очень хорошо отделяются на густой и разнообразной зелени, а в этом саду статуи бронзовые и их зеленоватый оттенок не так ясно выделяется на окружающей их листве.
Оранжереи большие и великолепные, а высокие деревья были покрыты душистыми, огромными, белыми цветами, что придавало им совершенно тропический вид.
Вечером 17-го мы были в Киеве и остались там две ночи, так как нашему священнику очень хотелось служить в пещерах обедню, а для этого ему надо было ехать к митрополиту, который жил тогда на даче, чтоб получить на это разрешение. Разумеется, он его получил.
Мы остановились в странноприимном доме Лавры, и поэтому нам было удобно ходить на службу в церкви.
И вот рано утром 19-го, чему я была очень рада, так как это день моего рождения, мы слушали обедню в маленькой пещерной церкви. Служил наш отец Арсений с монахами, а в церкви были только мы две и наш унтер-офицер. Было что-то спокойно-таинственное в этой службе…
Поели обеда мы, 19-го, выехали, но, несмотря на то, что нигде не останавливались, мы не скоро добрались до Москвы, так много было проезжих, такой был разгон лошадей, что мы часто ждали на станциях, или нам приводили таких измученных крестьянских лошадей, что жалко было на них смотреть. И только 25-го, при великолепной погоде и блестящем солнце, мы въехали в Москву и сейчас же почувствовали всю торжественность этой минуты: мы встретили герольдов в их великолепной одежде с конвоем; они объявляли народу, что на другой день будет коронация…
Сегодня — 21 мая 1889 года, день именин великой княгини Елены Павловны; мне так живо вспоминается, как мы раз справляли этот день, были в церкви на Каменном Острову, которая рядом с дворцовым садом. Мне помнится, что это и было всего один раз, что великая княгиня проводила в Петербурге этот день. Был Государь, Государыня и прочие члены царской семьи — все проехали в церковь. Я с несколькими сестрами была тоже у обедни. Помню, что погода была великолепная… И вот, вспомнив все это, я решилась опять приняться за оставленные записки и постараться описать, как помаленьку в Петербурге начали служить сестры и как община после скитанья, наконец, устроилась в том доме, где она и теперь находится. Итак, продолжаю.
Я остановилась в моих воспоминаньях на моем приезде в Москву накануне коронации. Помню, что в день коронации я с сестрой и с знакомыми, у которых остановилась, ходила по Тверской до Кремля и потом к одному нашему знакомому, из окон дома которого была видна великолепно иллюминованная Театральная площадь.
Но странно — глядя на эти торжественные огни, мне все вспоминались те ужасные огни, которые я видела ровно год тому назад!..
При всех торжествах коронации я не могла часто бывать у великой княгини. Кажется, была у нее раза два; разумеется, решили, что надо обо всем говорить и все решить, когда великая княгиня приедет в Петербург, по окончании всех празднеств. А я знала, что в конце сентября великая княгиня собирается уехать в чужие края, — и вот в этот-то короткий промежуток надо было устроить общину.
Наш доктор Тарасов, некоторые сестры из прежде уехавших, которые были отпущены повидаться с родными, также или были в Москве, или приехали, чтоб ехать вместе со мной.
4 сентября мы выехали, и моя родная сестра со мной. Поезд был огромный, так что наш вагон, семейный, только на самых больших станциях подъезжал к платформам так, чтобы можно было из него выйти на станцию.
5 мая приехали прямо в дом общины; только доктор, священник и наш письмоводитель поехали на другие квартиры.
Первое, что меня поразило, это слишком маленький размер этого дома. Я не думала об удобствах, но не было никакой возможности поместить ни на койках, ни даже на полу вповалку всех сестер, которые должны были приехать с юга из военно-временных госпиталей. Иные из них выходили из общины, но все-таки они имели полное право приехать в общину отдохнуть и иметь в ней приют хоть на несколько дней.
Дом общины находился на Петербургской, и сначала испытуемые ходили учиться и приготовляться во Второй Сухопутный госпиталь. Теперь же сестры служили в двух чернорабочих больницах; одна помещалась у Сухарного моста в исправительном заведении и занимала в нем средний этаж. Хотя на дверях было написано: «Временное помещение чернорабочей больницы», но, когда мы туда поступили, это «временное», кажется, уже продолжалось 18 лет. Не знаю, сколько времени оно после меня продолжалось. Думаю, что до тех пор, как выстроили Александровскую больницу, на том самом месте, где была другая больница чернорабочих. Она помещалась в доме Синебрюхова. В верхнем этаже были красивые, высокие комнаты и круглые с колоннами, но в нижнем — небольшие, низкие, против всех правил гигиены, как нынче говорят. Итак, в эти два госпиталя ездили сестры всякий день на суточное дежурство, а старшая сестра, Елизавета Петровна Карцева, должна была постоянно ездить то в тот, то в другой; с Петербургской стороны это было очень далеко.
Почти там же, у Калинкина моста — Морской госпиталь, где жили четыре сестры, но все-таки надо было и над ним иметь постоянный надзор.
Николай Иванович Пирогов жил еще в Ораниенбауме, когда я приехала. Мы на другой же день с Тарасовым поехали к нему. Вот как с ним, бывало, поговоришь, то опять и ободришься, и одушевишься!
Ездили мы тоже с Елизаветой Петровной и Тарасовым и в Кронштадт, так как туда просили сестер в госпиталь. Госпиталь огромный, да еще отделение для чернорабочих, помещенное в оборонительной казарме. Решили, что надо будет еще раз приехать, когда установится зимний путь и съедутся все сестры. В это время главною заботою был дом.
Ездили мы с доктором Тарасовым несколько раз с одного конца города на другой, узнавали, посылали, но ничего подходящего не нашли. А великая княгиня приехала из Москвы и собиралась уехать в чужие края на зиму, а может быть, и на год. Сестры начинали собираться, а мы все были в этом несчастном домике.
Вдруг великая княгиня объявила, что она помещает общину в Михайловском дворце; что главное помещение в правом флигеле дворца (левый флигель занимает великая княгиня Екатерина Михайловна) и что будут еще отведены другие помещения для сестер, по мере того как сестры будут собираться. Моей сестре тоже давалась одна из фрейлинских квартир.
С мадам Кант у меня с первых же дней вышла размолвка; она стала мне говорить, что она полноправна во всем домашнем управлении, а я ей сказала, что она — только моя помощница, и просила ее для пояснения того поехать спросить у великой княгини. Результат этой поездки был тот, что ее взяли в кастелянши Михайловского дворца.
Великая княгиня уехала в конце сентября, а мы в начале октября переехали во дворец. Сестер и испытуемых переехало во дворец 39. Были тут из всех отделений, даже из финляндского.
8 октября приехала сестра М. И. Алексеева из Симферополя с 26 сестрами; 11 октября, из Херсона, — В. И. Щедрина с 20 сестрами, а 27 октября, из военных поселений — Е. О. Будберг, Кояндер и с ними 24 сестры. Но тут пошли беспрестанные перемены: иные сейчас же выходили, другие доживали свой годовой срок. В ноябре, декабре и следующих месяцах вступили прежние; вступили и новые, и очень хорошие, и такие, которые сейчас же выходили. Иногда престранные являлись личности. Помню, как одна долго у меня сидела, все расспрашивала, но когда я ей сказала, что сестры не получают жалованья, она быстро вскочила и закричала:
— Как! Я, дворянка, буду ходить за чернорабочими и не получать за это платы? Это слишком унизительно при моем звании!
Вот понятия!
Чтоб кончить вообще о сестрах, я скажу, что я должна была вытребовать 243 бронзовые медали на голубой ленте в память войны и разослать их прежде вышедшим — в Херсон, Одессу и др. места. Умерших же сестер было в Севастополе четыре, в Симферополе четыре или пять (наверное не помню), одна на Бельбеке и одна в Елисаветграде. Точно не могу сказать, но, кажется, ни в Херсоне, ни в Николаеве, слава Богу, не было умерших.
Скоро, однако, и в Петербурге сестры начали хворать; занемогала то та, то другая; умерла только одна испытуемая от воспаления мозга. Мне это очень памятно. Я получила разрешение ехать в Шлиссельбург — повидаться с двоюродным братом Михаилом Бакуниным. Ехать туда со мной было разрешено его родному брату. И вот болезнь и смерть этой молодой и, как мне помнится, хорошенькой девушки задержала меня более чем на неделю. Однако эта задержка нам не помешала видеть М. Бакунина, и я с благодарностью вспоминаю милое семейство коменданта, в котором я провела два дня в Шлиссельбурге.
Смерть этой бедной девушки, которая умерла вовсе не от тифа, а еще более болезнь и смерть мадам Шибель навели на Михайловский дворец совершенную панику. Но, однако, я помню, что в это время за каким-то делом великая княгиня Екатерина Михайловна призывала меня к себе и была очень любезна и внимательна.
В начале 1857 года сестры поступили на служение в Кронштадт. Много было об этом разговоров, хлопот. Нам наняли дом небольшой, в два этажа, но что было хорошо — дом был у самого госпиталя. О нашем устройстве очень любезно и внимательно хлопотал полковник Иван Петрович Комаровский, тот самый, который первый нас приютил по приезде в Севастополь.
Он и там был смотрителем госпиталя, и теперь был тем же при кронштадтском госпитале. Доктора иные были довольны, а другие, и во главе их главный доктор Ланге, делали хорошую мину при плохой игре. Сестры очень усердно принялись за дело. Но мы, рассуждая и толкуя в нашем комитете и посылая наши журналы в чужие края к великой княгине (Николай Иванович в это время уже уехал в Киев), сделали великую ошибку, воображая, что будет очень хорошо послать в Кронштадт двух как старших на равных правах, и думая, что те качества, которых нет у одной, пополнятся теми, которые есть у другой, а недостатки этой будут поправляться качествами, которые есть у той.
И что ж?! Эта комбинация, которая нам казалась очень хороша, вышла совершенно непрактична. Слава Богу, не было у них сильных столкновений, но как-то все не ладилось, были разногласия, и обе были недовольны. Одна из них через несколько месяцев вернулась в общину.
В эту же зиму 1857 года были у нас — не знаю, как назвать — комитеты или совещания у генерала Притвица или у генерала Кнорринга, — не помню, у которого из них на квартире, но оба были тут, и еще был князь Виктор Илларионович Васильчиков, какой-то интендантский генерал Сорока, я и доктор Тарасов.
Толковали мы о том, на каких правах и при каких условиях сестры могут поступить в военные госпитали; они даже говорили, что надо принять во все, в Петербурге, Москве, Варшаве и других городах. Но по числу сестер мы и на один город не имели — и вышло, что толковать собирались несколько раз, да на том и остались.
Привожу письмо Николая Ивановича, писанное по этому поводу. У меня копия была списана сейчас же, а оригинал остался у доктора Тарасова:
Князь Виктор Илларионович Васильчиков (1820–1878) — русский генерал, участник Крымской войны
«Почтеннейший Василий Иванович и почтеннейшая сестра-настоятельница Екатерина Михайловна! Я нарочно пишу к вам обоим вместе одно послание, как к двум самым главным столпам Крестовоздвиженской общины, и, увы! вместе с вами же должен горевать о предстоящей ей будущности. Слишком быстро принимает она громадные размеры; громадное в России быстро деморализуется. Но чем труднее обстоятельство, тем тверже надо противостоять. Я вижу из письма Екатерины Михайловны, что ей подчас невесело бывает, но как же быть? Не бросать же из-за этого все хорошее, не бросать же все будущее вон из окна, потому только, что настоящее не слишком утешительно! Я знаю, вы ответите — и в будущем нет ничего привлекательного! Но будем осторожнее в суждениях о том, что не всегда совершается по неизбежным законам ума и опыта. Как бы с одной стороны ни было грустно, что такое великое дело, как введение женского надзора в наши госпитали, при самом его начале начинает уже хромать и портиться, — все-таки сделан шаг вперед, и как бы ни было сильно противодействие, как бы плохо благая цель ни исполнялась, — твердый характер, благородство души и прямодушие настоятельницы еще много успеют сделать и по крайней мере не допустят заплесневшее перейти в гнилость. Я, впрочем, боюсь теперь не столько противодействия для общины со стороны госпитального начальства, сколько другого — деморализации от лести и интереса. Не все будут так трусливы, как главный доктор московского госпиталя, который уже теперь общину величает тайным обществом и хочет ее передать в руки тайной полиции; найдутся люди поумнее; петербургские госпитальные дипломаты будут иначе действовать; они лучше знакомы со слабостями человеческой натуры.
Если община будет, наконец, введена в военные петербургские госпитали, то я бы советовал поручить их непременно Елизавете Петровне (Карцевой) — никому другому. Напишите мне, ради Бога, что придумает комитет министров и как он определит отношения общины к военным госпиталям; это, конечно, еще не главное (главное — каковы будут сестры), но из этого можно уже будет видеть, разнюхали ли они, в чем состоит дело. Вам надобно было вступить в переговоры с русскими пиэтистками; из этого класса надобно было бы привлечь кандидаток для общины; между ними есть, правда, много гипокритства; но это из всех пороков сестер есть еще самый простительный — слишком строгими в выборе вам теперь уже нельзя быть поневоле! Постарайтесь теперь, по крайней мере, при предстоящих средствах улучшить материальную сторону сестер и хотя через это сделать их менее доступными к деморализации; а то, вы увидите, будут брать взятки!
Ко мне приходят нередко сестры, бывшие в общине у сестры Щедриной, плачутся на горькое их положение, одна из них — знаемая Ек. Ал. Хитрово, фамилии не припомню — особливо жаловалась на Щедрину и говорила, что община ее руинировала совершенно; одну, с лишаем на носу, мы кое-как выпроводили в Киев; одна, которая просила великую княгиню об определении ее сына в школу, была у меня. Я уже два раза писал градоначальнику Алопеусу, чтобы он поместил ее сына в приют; у нас в училище нет вакантных и казенных мест, но ответа еще не получал.
Что касается до Одессы, то в настоящее время ее характеризуют три превосходные качества: грязь, воровство и дороговизна. Первое оттого, что для мощения улиц употребляют вместо камня муку; второе — благодаря усилиям Воронцова и Федорова — населить край беспаспортными, а третье уж Бог знает почему, говорят — будто бы война и жиды.
Сделайте одолжение, похлопочите переслать фрейлине Раден мое письмо; но, пожалуйста, через верные руки, через курьера, и поскорей из придворной конторы.
Надеюсь, что ни Екатерина Михайловна, ни вы меня не забудете и будете оба меня извещать, а я, если не делом, то словом, или чем могу, остаюсь вам верным и готовым для вас.
Вам навсегда преданный — Пирогов.
Одесса. 1857 г. 14 дня».
Увидала я сейчас, разбирая письма Николая Ивановича, что в одном очень коротеньком письме о какой-то сироте, которую надо было поместить (письмо от 5 февраля 1857), он меня спрашивает: «Перестали ли вы грустить о том, что вы настоятельница?». Я никогда не перестала — и от этого и оставила общину.
В начале марта я начала получать очень мучительные письма от Э. Ф. Раден. Паника Михайловского дворца дошла до чужих краев. Великая княгиня Елена Павловна очень волновалась. Письма ко мне были очень длинные, наполненные тем, что слухи о болезнях сестер, о заражении нами дворца распространились по всему Петербургу, дошли до Берлина, до Штутгарта.
Э. Ф. Раден писала: «Великая княгиня совершила поступок необыкновенный, поместив сестер во дворец, — поступок беспримерный, который должен был оказать сильное нравственное влияние на положение Общины».
С этим я совершенно согласна, но все-таки я была сильно поражена, когда г-н Гартман — не помню, какой собственно был его официальный титул, но помню, что он всем заведовал во дворце, — пришел мне сказать, что великая княгиня приказала ему приготовить какую-то квартиру, которая еще прежде была нанята великой княгиней, и что занемогших сестер надо отправлять туда. Это меня поразило. Распоряжение пришло прямо к Гартману, даже не сообщенное мне, и потом — отправлять больную именно тогда, когда ей делается хуже, — ведь это может убить! Мне так и вспомнился дом Гущина!
Я, как это видно по ответу Раден, все это ей живо написала. И она мне пишет длинное письмо, и в нем те слова, которые меня тогда поставили в ужасное положение: «Великая княгиня поручает мне сказать вам, что она далеко не желает применить эти меры к общине. Она высказала вам свои мотивы, свои опасения. Вы поймете материнское чувство, которое делает ее ответственной перед собственным сердцем. Итак, ее высочество предоставляет вам взвесить за и против в случае болезни сестер и полагается вполне на то, что вам внушит ваша совесть».
Я живо и теперь помню, в каком я была ужасном, нерешительном состоянии, прочитав эти слова. Это было вечером; и доктор Тарасов и я, мы сидели друг против друга, повторяя то тот, то другой: что же мы сделаем? на что решиться? В это время одна из сестер екатеринославского отделения была очень больна.
И, наконец, решили: утро вечера мудренее! Что-то будет утром? Но, слава Богу, больной ночью стало лучше, через несколько дней она совсем поправилась, и больных больше во дворце не было.
Зато многие сестры занемогали в Кронштадте и даже две умерли. Я туда ездила очень часто, пока был зимний путь, но потом необходимо было ждать пароходов, и то я помню, что раз я съездила туда на пароходе, но потом, через неделю, опять собралась: погода была холодная, сырая, мы вышли из устья Невы, потолкались, потолкались между льдов и дали заднего ходу, и хорошо, что успели вернуться, так как пошел огромный лед из Ладожского озера.
Лето 1857 года прошло благополучно. О маленьких неприятностях, неважных неурядицах — нечего и вспоминать. Были новые сестры, которые входили и выходили; входили тоже из прежних сестер, но это всегда было и будет.
Но, слава Богу, сестры были здоровы и постоянно и усердно работали в двух чернорабочих больницах. Иные уезжали в отпуск на месяц, на два, чтобы отдохнуть и совсем поправиться. Кронштадтские сестры переехали в морские бараки, Ключинские, куда перевозят больных цинготных с мелкими язвами и хроников, которым нужен хороший воздух для поправления.
Местоположение очень хорошее, на возвышенности, березовая роща; сестры имели небольшой домик. Сестер там могло помещаться только четыре, но они менялись, чтоб всем подышать хорошим воздухом. Это верст восемь от Ораниенбаума по шоссе — красивая дорога. А из Кронштадта в Ораниенбаум также очень удобно и приятно ездить на небольших пароходах, которые тогда тут ходили несколько раз в день.
В чернорабочий, что у Египетского моста, в июле к нам перевели, не помню из какой больницы, 100 женщин. Много из этого было хлопот с ними ладить. Да и иные сестры уверяли, что очень тяжело и неприятно ходить за женщинами, тем более что они были очень избалованы и своевольны. Скоро, однако, это все уладилось, и сестры также привязались к своим больным.
Но это известно всем сестрам всех наций, что завести порядок и чистоту в женском отделении очень трудно. Тут женская «домовитость», как ни трудно, а все же проявляется в том, что многие стараются у себя под кроватью завести что-то вроде хозяйства, и чашечки, и тарелочки, и разное тряпье, которое упорно прячут и сохраняют…
Теперь постараюсь восстановить в моей памяти то, что мною было передумано и перечувствовано в продолжение всего этого времени. Я не думала, что могу теперь это сделать, но, разбирая письма Э. Ф. Раден и Н. И. Пирогова, я нашла несколько листочков и моих черновых писем к ним. Буду этим пользоваться и приводить ответы Николая Ивановича на мои письма. Он тоже, как те, на которых жалуется Тургенев, писал часто без года и числа, а потому очень трудно определить, когда именно было писано то или другое. Думаю, что следующее, приводимое мной письмо, было написано им в 1857 году.
«9 октября (1857?). Одесса.
Почтеннейшая сестра-настоятельница Екатерина Михайловна! Из писем ваших ясно видно, что вы в разладе с вами же самими. Избегайте видеть одну только худую сторону. Я не хочу этим сказать, что от худого должно закрывать глаза. Нет, смотрите худому прямо в глаза, знайте всю его подноготную, но не выбрасывайте из окна и хорошего. Очевидно, что община, которой вы служите настоятельницей, не могла по ее происхождению, развитию и всей обстановке быть тем, чем она должна бы была быть. Но разве она уже действительно так худа и безобразна, и ненормальна, что должна непременно разрушиться? Разве вы сами (вы знаете, я льстить не люблю), разве Елизавета Петровна и еще две-три сестры обязаны не общине обнаружением своих достоинств? Не будь общины, и все эти личности скрывались бы в хаосе общества. Община еще далеко не исполнила всех ее высоких обязанностей, далеко еще не достигает цели, но все-таки она сделала многое нежданное, до ее основания невиданное, и эту хорошую сторону общины надо постоянно иметь в виду и, имея в виду, идти, идти и идти вперед, не скрывая худого, поставляя его всем на вид, с искренним желанием его исправить. Поверьте, при этом прямом и испытанном уже способе смотреть на общественные учреждения рано или поздно все пойдет на лад.
О! если бы все худое можно было разом с корнем вон выкинуть! Когда нельзя, то уцепимся обеими руками, ногами и зубами за хорошее, если бы даже оно так было мало и ломко, как соломинка; будем мучиться, сдерем кожу с рук и ног, искрошим зубы, но не выпустим того, за что раз ухватились. Больше ничего вам не умею сказать в утешение. Мне кажется, что при настоящем развитии общины вам бы можно было учредить, хоть для трех, для четырех сестер, искус, да порядочный, чтобы испытать, не удастся ли образовать еще две, три замечательные и дельные личности. Неужели в целом русском царстве не найдется двух или трех, которые бы со славой выдержали трудное испытание, в которых бы не запала мысль о высокости дела и цели, в которых бы не пробудилось сознание, что можно жить и другой жизнью, не похожей на ежедневную? Я все еще не потерял эту веру и равно верю в зло и в добро, врожденное человеку. А если вам удастся, несмотря на все препятствия, образовать через нравственный искус вашими стараниями и наблюдениями таких двух, трех избранных, то вы уже исполнили ваше призвание и должны будете благодарить только Бога, что он послал вас туда, где вы были нужны. Не предавайтесь отчаянию и безверию в хорошее, это — модная болезнь нашего общества, очень понятная, неизбежная, чисто нервная, и, как все нервные болезни, требующая воли со стороны больных, чтоб ей не совсем поддаться. Пусть же покуда большая часть сестер занимается себе, худо ли, хорошо ли, в госпиталях, но выберите двух, трех, возьмите их под свое крыло, растолкайте, разбудите, испытайте в тиши, но глубоко; может быть, Бог и поможет вам; это будет самая прекрасная сторона вашей деятельности в пользу общины и всего человечества, а вам в утешение на трудном пути.
Еду в Екатеринослав и Таганрог завтра. Надеюсь вернуться через три недели. Не забывайте меня. Жена вам кланяется и скоро соберется сама вам написать; она благодарит вас за Алексееву.
Вам преданный Пирогов».
Это был ответ на мое письмо, писанное 16 сентября, где я писала: «Сегодня год, что я в Петербурге, год, что община здесь. Тяжело тянулся этот год. И что же принес он нам? Подвинулись ли мы вперед? Право, не знаю, даже думаю противное…»
Потом я вспоминаю в письме, как год тому назад я ездила к Николаю Ивановичу в Ораниенбаум; какие тогда были высокие мечты, светлые надежды!..
«Но что ж я делала в этот год! Ничего, а может быть, и хуже, чем ничего. Мучилась, хлопотала, досадовала и горевала. С одной стороны, идеальные, неприменимые к нам теории, с другой — материальная пошлость, жадность, глупость! Все высокие мысли разбились в прах об неумолимую действительность. Только в госпитале, у постели больных, видя сестер, свято исполняющих свои обязанности, и слыша благодарные слова страдальцев, я отдыхаю душой…»
Я уже в этом письме писала, что не считаю себя ни способной, ни достойной устроить такое великое дело. Я привожу теперь эти строки, чтобы показать, как скоро я потеряла мои иллюзии и как мало надеялась на себя.
Привожу еще письмо Николая Ивановича, так как оно было тоже ответом на такие же грустные и тяжелые мысли, которые постоянно меня волновали; оно, должно быть, было писано уже в 1858 году 18 апреля.
«Одесса. 18 апр. (1858?).
Почтеннейшая сестра-настоятельница, Екатерина Михайловна! Я вам давно не писал, потому что был по горло занят и делом, и бездельем. Для чего вы это все грустите? Вы знаете:
Кто все плачет, все вздыхает, Вечно смотрит сентябрем, Тот науки жить не знает…Полноте! если б я вздумал вздыхать обо всем, что у меня делается, я весь превратился бы в один вздох.
Идеал мы никогда не должны выпускать из мысли и из сердца; он должен быть нам постоянными путеводителем; но требовать, чтобы он исполнялся по мере наших горячих желаний, а если не исполняется, то сетовать и грустить — недостойно такого характера, как ваш.
Мы света не переменим, а потому должны его брать как он есть, только не поддаваться ему и ясно видеть, что в нем наше, что чужое. Ясно же видеть можно только тогда, когда сохраним все присутствие духа, не омраченного скорбью и сетованием о несовершенствах света. Вы сами пишете, что у вас есть несколько хороших сестер, — ну и слава Богу! Будьте пока довольны и этим, и того уже довольно. Хорошее с трудом рождается на свет. Будь это хорошее хоть с соломинку величиной, — раздосадовавши на худое, не упустите и эту соломинку из рук. Посмотрите вокруг себя — ведь новое потоком льется к нашему старому. Старые мехи должны лопнуть, наконец, от нового вина. Другое дело — если вы убедитесь совершенно, что вас хотят заставить действовать по началам диаметрально противоположные с вашими. Тогда и я вас не буду удерживать; бросьте все и сохраните душу! Но покуда это еще не решено, подождите и убедитесь хладнокровно, не возмущаясь. Нет сомнения, что при известных условиях вы, с вашими твердыми убеждениями и с вашим искренним желанием делать добро, можете и должны быть полезны на том месте, которое занимаете. Это я знаю как дважды два — четыре. Главное дело состоит в том, узнать — соблюдены ли и существуют ли эти условия; если их вовсе уже нет, если вы убедились единожды и убедились совершенно хладнокровно в невозможности их осуществления, тогда не оставайтесь ни на минуту, но — только тогда. Могли ли вы в самом деле думать, что в общине будет хорошо, когда ее основания еще очевидно так шатко поставлены; поколение, которое перед вами, не годится никуда; оно и в подметки не годится быть настоящим сестрам. Это ясно — и не могло быть иначе. Думайте только о будущем и старайтесь во что бы то ни стало приобрести эти условия, хоть с боя — для лучшего будущего. Не приобретете этих условий — уходите, ваша роль тогда кончена, и Провидению не угодно было предоставить вам жить в будущем.
Кадр из кинофильма «Пирогов». 1947 г.
Подождите, что скажет великая княгиня. Ее сущность содержит в себе много превосходного; она принадлежит не к дюжинным личностям, и если что можно сделать хорошего, то именно через нее. Все зависит теперь от того, как бы из нее извлечь это хорошее. Действуйте осторожнее, не для себя, а для будущего всего дела, следствия которого неисчислимы.
Скажите Василию Ивановичу, чтоб он мне писал и меня не забывал; я всегда с большим удовольствием читаю его письма и всегда, всегда помню его; всегда буду знать и уважать как благородного и честного человека. Прочтите ему и мое письмо. Спешу послать на почту. В другое время напишу вам и больше.
Вас искренно уважающий Пирогов».
Мы во все продолжение весны и лета 1857 года ездили смотреть дома, если слышали или читали в газетах о чем-нибудь подходящем. Но все старания оставались тщетными. В августе тоже были все напрасные поездки за домами, но тут мы как-то успокоились, узнав, что великая княгиня остается зимовать за границей, и мы собирались совсем устроиться во дворце. Хотели нам поставить в какой-нибудь зале особую походную церковь, дали еще кладовые и подвалы для провизии; казалось, нечего больше и хлопотать.
Но приехала Е. П. Эл. и совершенно ошеломила меня, сказав: «Я полагала, что не найду общины здесь. Великая княгиня мне это сказала. Она то же сказала своей дочери». И вот, во что бы то ни стало, надо немедленно найти помещение и переехать. Скоро, чтобы позолотить пилюлю, был прислан похвальный и очень любезный рескрипт сестрам. Наконец, 13 октября, мы наняли дом Самойлова в три этажа, на Фонтанке между Калинкиным и Египетским мостами. Хорошо, что дом был в центре наших госпиталей, но дом каменный и только что выстроенный. Меня очень пугало, что он будет сыр и поэтому нездоров. Но, слава Богу, хотя он и был сыр, мы прожили в нем благополучно, ни одна сестра не умерла, а мы оставались в нем год и восемь месяцев. Надо было, однако, прежде сделать разные мелкие поправки, переделки, и мы переехали только в конце ноября.
Нам предстояло много хлопот устроиться в новом доме. В нем было три этажа, во всяком этаже по две квартиры с кухнями и пр.; так как этот дом был выстроен именно для отдачи в наем небольших квартир и никак не годился под такое заведение, как наше, то только по той крайности, в которую мы были поставлены, мы могли кое-как в нем приютиться.
В самом верхнем этаже, в очень небольшой и невысокой комнате, была поставлена походная церковь, тут же и квартира для священника. В другой половине этого же этажа квартира доктора Тарасова и комнаты для больных сестер и моя комната (моя родная сестра жила в одной комнате со мной), а внизу одна квартира; кажется, ее кто-то занимал эту зиму, сам ли хозяин, или она была с его вещами, не помню наверное, но вторую зиму ее нанимали у нас мои две родные сестры.
На другой половине внизу была наша столовая и жила сестра-хозяйка и ее помощница.
Хорошо, что лестницы были теплые и сообщение этажей — удобное. Но это была настоящая китайская головоломка — разместить и уместить кровати и комоды сестер. Я теперь помню, как мы с этим бились, и кое-как наконец все уладилось.
В начале декабря переехал к нам отец Иоанн Янышев. Хотя мы были и в наемном доме, но все-таки были теперь более у себя, чем во дворце.
Глава IV
Как мне помнется, зима 1857 года прошла довольно благополучно. Сестры по-прежнему служили в двух чернорабочих, в морском Калинкинском и в Кронштадте. Еще в эту же зиму сестры поступили в максимилиановскую лечебницу. Туда поступила Мат. Ос. Чупати; она была урожденная баронесса Будберг, а в этом госпитале понадобилась именно немка, так как знание немецкого языка было там необходимо — очень часто туда попадались немцы. С ней была сестра Башмакова, очень религиозная сестра; ее очень полюбила Ек. Ал. Хитрово.
Не в эту зиму, а несколько позднее, сестры поступили и в детскую Елизаветинскую больницу, которой тоже заведовала великая княгиня. Там жила сестра Татьяна Орехова. Сначала к ней ходили поочередно дежурить сестры, но потом мы увидали, что с детьми, и особливо такими маленькими, нам невозможно справиться, — надо, чтобы они привыкли и к речи, и к лицу той, которая дает им лекарства или перевязывает их. Вот так проходил второй год; мы только письменно сносились с великой княгиней, что было очень тяжело. Ответ и решение приходили тогда, когда уже обстоятельства совсем переменились и требовали другого решения.
В этот год сестры и входили, и выходили из общины. Были, разумеется, и разные мелкие неприятности, неизбежные в таком месте, где сошлись люди совершенно разного воспитания и которые на многое смотрели совершенно разно. Были больные, но не опасно. Только одна несчастная Праведникова была в ужасно страдательном положении, так что она совершенно не могла разогнуться и долго с терпением переносила свои муки.
Собственно в общине ни одна не умерла за все время, что мы жили в этом доме. Только в Кронштадте умерла сестра Додованникова, молодая девушка; она умерла с большой твердостью, причащалась, соборовалась, и когда сестры пришли от светлой заутрени, похристосовалась со всеми и скончалась.
В 1858 году Пасха была 23 марта, и я могла в Кронштадт ехать очень спокойно по льду и очень была рада, что могла навестить сестер. Еще прежде этого я помню, что ездила, кажется, в посту, в Кронштадт с И. Л. Янышевым. Помню, что когда мы с ним ехали, он мне сказал, что оставит нас, так как очень желает опять быть где-нибудь в чужих краях.
Он служил обедню в кронштадтской госпитальной церкви и, несмотря на то, что уже собирался нас оставить, сказал прекрасную проповедь, обращенную к сестрам.
Э. Ф. Раден знала прежде о его желании попасть в Берлин, но она молчала и все надеялась, что разные предложения великой княгини удержат его. Но его ничто не удержало, и в июне месяце он уехал. Видно, что они были очень поражены этим отъездом.
Мадмуазель Раден мне писала: «Отъезд отца Янышева — настоящая трагедия». Потом к нам стал ездить протоиерей Палисадов, для чтения и духовных наставлений. На эти чтения почти всегда приезжала Татьяна Борисовна Потемкина, как большая любительница его. Он читал очень живо и одушевленно.
Хотя это и не очень идет к моей общей речи, но не могу не упомянуть, как любезен был к сестрам Александр Иванович Иванов. Он приехал в июне в Петербург со своей картиной. Не знаю, по какой связи он сейчас же был у Тарасова. Мне кажется, его картина была выставлена во дворце и показывалась в известные дни и часы. Я сейчас же поехала ее посмотреть и познакомилась с ним. Он знал мою старшую сестру, которая тоже занималась живописью в Италии, и стал мне говорить, зачем я не привезла и всех сестер посмотреть его картину. Я ему сказала, что так как половина сестер на дежурстве, то им может показаться обидным, что одни видели, а другие нет. Тогда он мне сказал, что для сестер он два дня сряду будет показывать свою картину.
Как же не воспользоваться таким милым предложением? Но я всякий раз ехала со страхом, зная, что для многих сестер это совершенно неизвестный предмет, и боялась разных неловкостей. Но, слава Богу, все сошло благополучно, и я от души его благодарила.
Но мы, к несчастью, со своей стороны оказали ему грустную услугу, когда он, совершенно одинокий, занемог холерой на маленькой квартире живописца Боткина; сестры постоянно были при нем. Наш доктор, сестра Е. П. Карцева и я, мы тоже часто там бывали. 3 июля он скончался. Живо помню, как из академической церкви мы провожали его пешком до женского монастыря, где он похоронен.
Желая привести одно письмо Николая Ивановича Пирогова, в котором он мне отвечает на много общих вопросов, касающихся устройства общины и которые мы должны были обсудить, как только приедет великая княгиня, я должна привести для ясности и несколько отрывков из моего письма, чтобы лучше объяснить, на что он мне отвечает.
Всю зиму И. Л. Янышев охлаждал во мне понемногу мою пылкую энергию, всю надежду быть полезной, отрицал возможность устройства общины и т. п.
Это все я подробно пишу Николаю Ивановичу и потом прибавляю:
«Перед отъездом у нас был с ним большой разговор: он мне сказал, что я веду все не к добру! Признайтесь — это ужасно слышать. Вы знаете меня, Николай Иванович. Чужие слова на меня бы еще не много подействовали, несмотря даже на то, что это слова человека очень умного и который имеет большую репутацию. Но когда эти слова приходят в подкрепление моих собственных мыслей, тогда они удостоверяюсь меня еще более в том, что уже несколько времени составляет мое мучение…
Извините, что вместо того, чтобы предлагать вам прямо вопросы, на которые прошу разрешения, я не могла не написать вам всего, что чувствую, да и это вам пояснить мой первый вопрос. Я думаю, что долг чести требует, чтобы я, по приезде ее высочества, решительно отказалась от общины. Но, с другой стороны, я не вижу, кто может меня заменить. Разве она решится взять какую-нибудь даму из святош прямо в начальницы. Второй вопрос: хорошо ли это будет? Мне кажется, что это прямо подкопает фундаментально основы общины. Но признайтесь, что мне даже нельзя будет возражать против этого. Что вы думаете? Напишите об этом ваше решительное мнение. Третий вопрос: могут ли быть у нас в общине лютеранки и католички? Я еще сама себе не решила окончательно этот вопрос. Мне кажется — могут».
(Я не знаю, как теперь решен этот вопрос и принимают ли в сестры лютеранок и католичек, то есть именно в общину, потому что в военное время в сестры Красного Креста принимали всех исповеданий. Тогда я ждала, что у нас об этом будут много судить, и я настойчиво спрашиваю в своем письме мнения об этом Николая Ивановича.)
«Четвертый вопрос: расписание дня».
Я кончаю, умоляя его написать его мнение и наставление насчет четырех пунктов.
Написав все это, для объяснения письма Николая Ивановича, привожу теперь весь его ответ вполне:
«Одесса. 5 августа 1857 г.
Почтеннейшая Екатерина Михайловна. На первый ваш вопрос я уже, кажется, несколько раз вам отвечал: если от общины и ее настоятельницы будут требовать того, что, по вашим глубоким убеждениям, невозможно исполнить, или того, что противно идее, составленной вами об устройстве и обязанностях учреждения, — то откажитесь.
Мне, как я думаю, хорошо известны и ваши хорошие качества, и ваши недостатки (у кого их нет); но я никого другого не знаю, кому бы можно поручить нравственное и служебное заведывание общиной. Если же бы нашлось другое лицо, которое, по вашему убеждению, или по убеждению высшего начальства общины, может лучше вашего устроить ее на будущее время и дать ей более прочное жизненное начало, то передайте с радостью этому лицу ваши права.
У вас будет довольно для этого и самоотвержения, и благородства души, и беспристрастия, и истинной любви к начатому делу. Я знаю очень хорошо, что вы не можете сообщить общине характер формально-религиозного учреждения; но вашим примером действий и вашей любовью к делу вы можете, конечно, при благоприятных условиях, сообщить ей известный нравственный характер. Итак, если великой княгине угодно будет сделать из общины религиозный орден, то вы навряд ли успеете способствовать к достижению этой цели; но ваша честность, прямодушие, усердие к делу и опытность более чем достаточны придать истинно-нравственный характер учреждению, если захотят ограничиться только таким направлением именно.
На второй вопрос отвечаю: да. Настоятельницей в настоящее время может быть избрано и лицо, не находившееся до сих пор в общине, а постороннее. На будущее же время, если бы удалось общине укрепиться и духом, и телом, выбор, по моему мнению, должен бы быть непременно ограничен, и кандидатки должны бы быть избираемы из среды общины.
Теперь же очевидно, что статут общины еще недостаточно разработан для того, чтобы доставлять материал, необходимый для образования настоятельницы (вы употребили слово начальницы, которое, как вы знаете, я и Екат. Алекс. Хитрово вычеркнули из прежнего статута общины).
Третий вопрос — о протестантизме и католицизме — тогда только может быть решен положительно, когда окончательно решат, какое направление или какой характер должен быть дан общине. Если религиозно-орденский, то, конечно, должны быть принимаемы одни православные; если же чисто нравственно-филантропический, то странно бы было ограничивать выбор одними православными. Я что-то сомневаюсь, чтобы у нас и в наше время можно было с успехом сделать из общины религиозный орден. Во-первых, наше православие как-то худо клеится с орденскими учреждениями; оно не довольно самостоятельно для этого; во-вторых, вообще в наше время нельзя учредить хорошо того, что так хорошо учреждалось в средние века или за три-четыре столетия до нас. Впрочем, если бы уже пошло на то, чтобы дать общине орденский характер, то, мне кажется, удобнее бы было определить для этой цели один из женских монастырей. Иначе как вы хотите временно посвятивших себя служению больным сделать истинными и ревностными членами религиозно-орденского учреждения?
Во всяком случае, при этом направлены непременно нужно будет требовать, чтобы сестры оставались навсегда сестрами, будут ли они монахини или нет.
Наконец, то же самое должно сказать и о четвертом вопросе (распорядке дня).
При орденском направлении общины необходимо самое точное распределение времени, как служебного, так и внеслужебного. Вся жизнь вступивших в орден должна идти по ниточке; другое дело, если община останется только чисто нравственным филантропическим учреждением; в этом случае я не вижу необходимости слишком вмешиваться во внеслужебное время сестер; это было бы ни к чему не ведущее насилие личности; достаточно, если настоятельница будет вполне убеждена, через точное наблюдение, что внеслужебное время употребляется сестрами с хорошею целью и прилично их званию.
Итак, вы видите, что, по моему мнению, все зависит от того, как решится коренной вопрос о характере общины. Я сам клонюсь более на сторону нравственно-филантропического направления и думаю, что оно более соответствует духу и потребности нашего времени. Впрочем, не мне решать, что у нас должно взять верх: Евангелие во всей его чистоте, или номоканон, четии-минеи и молитвенник. Да приидет Царствие Твое и да будет воля Твоя!
Вам навсегда и всегда преданный, вас искренно уважающий — Н. Пирогов.
Прочтите это письмо и В.И. Поклонитесь ему от меня от души; я ему скоро также надеюсь написать. Жена вас от души обнимает».
Екатерина Александровна Хитрово (?–1856) — начальница Сердобольной общины сестер и Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в Крыму в 1855 г.
В половине сентября 1858 года, после двух лет отсутствия, вернулась великая княгиня в Петербург. Очень отрадно было думать, что наша бесконечная и часто очень неудовлетворительная корреспонденция кончена. А то часто мы так получали ответ, что приходилось, ради перемены обстоятельств, не довольствоваться этим ответом и просить и ждать опять нового.
Но прошло три-четыре дня, и нам ничего не присылали сказать о приезде. Это меня очень беспокоило. Но вдруг, когда мы этого совсем не ожидали, великая княгиня приехала сама с Э. Ф. Раден. Не знаю, может быть, мне так показалось, но я нашла что-то холодное и официальное в великой княгине, и даже в мадмуазель Раден, точно она совсем охладела к этому делу.
И я опять писала длинное-предлинное письмо к Николаю Ивановичу, подробно описывала ему наше положение, недостаток хороших истинных сестер, которые бы входили в общину из любви к делу, из самоотвержения, а не для насущного хлеба. Но пишу тоже, что у меня по временам мелькает утешительная мысль, что, может быть, наше шаткое положение есть результат отсутствия религиозной власти; у нас нет священника, нет госпиталя, нет дома.
«Не может же такое заведение кочевать из одного наемного дома в другой, а вы не можете себе представить, какое ненормальное состояние души, когда все, что нас окружает, непрочно, начиная от денег на башмаки сестер до церкви, где совершаются таинства. Так что и придя в нашу походную церковь, где всякое воскресенье служат разные священники из прихода, не успокаиваешься, а думаешь, что и этого мы можем лишиться… Вы сами мне раз писали, что госпиталь при общине необходим, чтобы в нем приготовлялись и привыкали сестры.
Но ведь все это будет стоить очень дорого, а если я нахожу, что все идет нехорошо, то имею ли я по совести право настаивать на этом? Поможет ли это нашему делу? Будьте моей совестью!»
Я очень долго писала это письмо, так как в это время были у меня разные треволнения, разговоры, переговоры, наговоры — все это я сообщала Н. И. Пирогову.
«Из всего этого я заключила, что великой княгине надоело это дело, что она хочет как-нибудь с нами развязаться и передать общину. И вчера я просто спросила ее, и она мне отвечала:
— Как вы могли думать, что я брошу свое дело!
Я ей отвечала:
— Но, ваше высочество, в общине столько еще несовершенств, что я подумала, что она уже вам наскучила.
Она отвечала мне, что мы лучше, чем можно было надеяться, и я мало ее знаю, если могла подумать, что трудности ее обескураживают; что касается до нее, то раз она начала что, она продолжает».
Это все — отрывки из моего письма к Николаю Ивановичу.
После этого разговора у нас все пошло спокойнее и приятнее, хотя и было много интриг и много хождений по всем задним лестницам дворца. Являлись и лично, и писались письма, но великая княгиня не обращала никакого внимания. Да и надо правду сказать, главное — преобладали в них не злость и клевета, а пошлость и глупость.
И в эту зиму и весну я часто видала великую княгиню и могла обо всем спокойно переговорить. Много говорили и о помощи бедным; сестра В. И. Щедрина была назначена на это дело. Много читали и рассуждали о разных уставах и записках об общинах, и католических, и протестантских, которые были получены великой княгиней еще в чужих краях. Иные мне были присланы, иные только тут переданы. Принялись еще усерднее искать дом для покупки, и на наше счастье дом Доста, где было сначала ортопедическое заведение, стал продаваться. Этот дом был самый подходящий для нас: в два этажа, с мезонином, с большой особенной залой, которая точно готовилась для церкви, хотя я знаю, что она была первоначально строена как бальная зала, с амурами и гениями на потолках. Сад, большое место, и также на Фонтанке, близ наших госпиталей. Но мне нечего его описывать, это — тот дом, в котором и теперь находится община. Разумеется, после стольких лет там много переделано, прибавлено, но и тогда этот дом был очень для нас хорош.
Пошли переговоры, толки, торги. Помню, как раз я и Вас. Ив. Тарасов сидели с Достом и толковали о том, что он дорого просит, должен уступить. Меня вызвали, и я ушла. Дост стал уговаривать Вас. Ив. устроить ему так, чтобы дали ему дороже, а тогда он с удовольствием даст ему самому тысячу рублей. Вот как дела делаются в Петербурге!
Но в этот раз он ошибся — не на такого напал. Вас. Иван, так был предан общине, что готов был свое отдать, а уж никак не пользоваться чем-нибудь ей во вред. Покупка дома была окончательно решена, но не помню, отчего именно, от починок ли, или от чего другого, — хотя все решилось весной 1859 года, — мы не могли перейти в него прежде июля.
В мае великая княгиня переехала в Ораниенбаум. По ее желанию для больных сестер был нанят домик в деревне Венки, верст за пять от Ораниенбаума, место очень высокое, воздух хороший, но много неудобств и для провизии, и оттого, что там как-то постоянно был ветер, холодно и продувал домик, так что в половине августа мы должны были перевезти сестер ниже, в Ораниенбаум.
В том же мае великая княгиня ездила из Ораниенбаума в Кронштадт. Я была там. Эффект этого посещения был прекрасный и на сестер, и на кронштадтское начальство. Я помню, как адмирал Новосильцев, который был тогда главным лицом, очень был недоволен, когда я ему послала сказать, что великая княгиня сейчас приедет сюда, и сказал мне, проводив ее:
— А надо сказать правду, она очень любезна и мила.
Великая княгиня обошла весь огромный кронштадтский госпиталь, была и в оборонительной казарме, где тогда были отделения для чернорабочих и женщин, потом — в доме сестер; все были от нее в восторге. Она была так мила и внимательна, что даже и на меня это подействовало успокоительно.
Живо помню, как мы провожали великую княгиню в чужие края, как до завтрака мы катались с ней в коляске по красивым садам Ораниенбаума, а когда вернулись, был молебен о путешествующих. А потом проводили ее на пароход.
В конце июня, когда я ночевала у больных сестер в Венках, вдруг рано утром я получила записку из Петербурга, где было сказано, что надо, чтоб я сейчас вернулась в Петербург, что есть нужное письмо и телеграмма от великой княгини.
Я сейчас поехала в Петергоф, к счастью, застала пароход, на котором и приехала в Петербург. Я нашла письмо от Эдиты Федоровны Раден. Она мне писала 16-го, что великая княгиня желает, чтобы я 27-го, в субботу, отправилась на пароходе в Берлин, а потом в Париж; великая княгиня устроила так, что мне удобно будет видеть заведение диаконис и сестер и в Берлине, и в Париже. Эдита Федоровна должна будет приехать ко мне в Берлин. Они рассчитывали, что я получу это письмо раньше и успею собраться, но я получила его только 26-го — и то за Ораниенбаумом, в Венках.
Как мне ни было трудно, потому что мне надо было похлопотать даже и о своем туалете, которым я очень неглижировала, но я решила, что уеду на другой же день. И, просидев всю ночь, чтобы привести в порядок свои счета и письменные дела, с двоюродным братом, который мне помогал, я только в субботу 27-го, когда простилась с сестрами и родными, провожавшими меня до Кронштадта, и очутилась на большом пароходе, и мы стали удаляться от Кронштадта, тогда только я опомнилась от всей этой суеты и спеха.
Я не скажу, чтобы я была совершенно недовольна этой поездкой. Напротив того, меня очень интересовало все то, что я должна была увидать, да и сама поездка занимала меня, но она пришлась мне не ко времени. Во-первых, в это время приехала в Петербург с сыновьями больная тетушка, чтобы посоветоваться с докторами, и наняла квартиру в нашем же переулке. А во-вторых, и это главное, сестры должны были без меня переходить в свой новый дом. Но что же делать! И я поехала.
Я не стану подробно описывать моего путешествия. Расскажу все вкратце. Но главное, мне надо рассказать о впечатлении, произведенном на меня всеми заведениями, которые я видела, — это и было целью моей поездки.
Меня проводили до Кронштадта, где с небольшого парохода надо пересесть на другой, и родные, и некоторые крестовоздвиженские сестры, и наш доктор. И тут же еще до Кронштадта Василий Иванович познакомил меня с Василием Петровичем Боткиным, который был тоже давно знаком с моими двоюродными братьями и сестрами. Я очень была благодарна Василию Петровичу за его внимание ко мне.
Когда мы приехали в Берлин, он меня проводил в Hotel Royal, где мне было назначено остановиться, доставил мне мои вещи и, что было мне всего приятнее, на другой день утром приехал ко мне, чтоб сопровождать меня в берлинский музей. Лучшего чичероне нельзя было и желать. И я провела там целое утро очень спокойно и приятно. И это не было, как я называю всякое отступление от обязанностей сестры, преступление против милосердия, потому что я решительно не знала, что мне делать и к кому обратиться.
На другой день вернулся Абаза, который был в отсутствии, и сказал, что надо телеграфировать великой княгине, которая была в Мейнингене. В ответ я получила телеграмму, в которой было сказано, чтобы я отыскала в Берлине доктора Каде и с ним бы ехала в «Вифанию», так называется дом диаконис, устроенный королевой Августой, ныне (1858 г.) вдовствующей императрицей.
Положение мое было критическое, да и несколько комическое. Абаза опять уехал, адреса Каде я не знала, город для меня новый, неизвестный, да и к тому же немецкий, а я по-немецки не знаю. Но надо его отыскать. Пошла я в наше посольство; там только застала двух немцев, ничего от них не добилась, отправилась в полицию и там, посредством смешения разных языков, добилась-таки адреса русского доктора Каде. Сейчас же поехала к нему. Я его знала в Севастополе, но он очень удивился, увидав меня на своей квартире в Берлине. На другой день мы поехали с ним в «Вифанию».
Нам показали все заведение, но, к моей великой досаде, приорши, графини Штернберг, не было. Она уехала на морские купанья; и при нашем посещении с Каде мы не застали пастора, который здесь главное лицо; они — его помощницы. Однако, несмотря на это, я могла на другой же день туда переехать, так как об этом уже было переговорено с великой княгиней. Да и здесь это очень удобно и хорошо устроено, потому что даже в их статуте есть постановление, что кто желает остаться здесь некоторое время и посмотреть, что здесь делается, платит за комнату и стол.
Итак, 4 июля я переехала одна. Раден приехала на другой день, и мы с ней прожили в диаконическом доме «Вифании» четыре дня.
Что же сказать об общем впечатлении, произведенном на меня этим великолепным, богато и прочно устроенным заведением? Первое (как я писала тогда сестре) — большая прочность. Все выстроено для одной цели, выстроено грандиозно, широкой рукой. Церковь большая, красивая; сад и огород. Все от самого большого до самого малого приспособлено к одной цели. Аккуратность и чистота во всем отличные. Но я помню, что на меня точно повеяло холодом. Диаконисы очень аккуратные, очень приветливые, но почти все очень молодые; видно, что неопытные; они могут при строгой дисциплине прекрасно исполнять и свои мелкие обязанности, и серьезно заняться чшцением медных ручек и полов. Но это не те сестры, о которых мы мечтали — о сестрах — утешительницах больных, ходатайницах за них, сестрах, вносящих в чужие госпитали горячие чувства любви и участия, правду и добросовестность!
Для этого высокого занятия не сформируешь сестер чисткой полов и замков. Но чем же? Как же? Эти мысли меня все более и более волновали. Много я говорила с пастором обо всем, что касается направления сестер. Наши мечты он, как мне кажется, считал совершенно неисполнимыми. Он также против смешения всех вероисповеданий, и еще он мне сказал, что самое лучшее, когда поступают молодые деревенские девушки; что хотя они бывают очень грубы, но религиозное развитие очень скоро в них совершается; самые худшие — это городские служанки, которые всегда остаются «ужасно вульгарными». Из этого можно заключить, что из других классов входят очень мало по призванию, а эти — из нужды. И они стали даже избегать вдов, потому что они слишком уже самостоятельны.
Всякий день ходит к больным детям учитель и учит тоже испытуемых; доктор учит два раза в неделю, а пастор — всякий день. А по вечерам он садился за фортепиано, и возле него становилось несколько диаконис.
Помню один вечер. Это было в их столовой, внизу под сводами, в готическом стиле. Заходящее солнце так красиво и живописно освещало розовым светом и залу, и поющих; торжественный напев их голосов — все это так сильно и отрадно действовало на меня…
Но я оглянулась на ряды сидящих сзади меня диаконис и испытуемых — и блеск спиц, быстро двигающихся в их руках, как-то вдруг уничтожил мое религиозно-поэтическое настроение. Я признаюсь, что это глупо, но это вязанье чулок повеяло на меня всей прозой и пошлостью обыденной жизни.
Однако, хотя это и протестантская община, но в ней тоже сильное религиозное направление. И утром, и вечером — общая молитва в церкви, и даже мне говорили, что диаконисы причащаются почти каждый месяц.
Еще вспомнила, что пастор был против избрания начальницы. Вот его собственные слова: «Настоятельница должна быть назначена свыше; нельзя себе избрать начальника, это мать, а мать дается нам Богом». Но ведь тут не Бог, а король назначает.
Что же сказать о службе сестер у больных? Можно сказать, что то же, что и везде: и те же недостатки, и те же качества. Тщательно, прекрасно перевязывают, но иногда сделают ту же ошибку, как и везде: от дурной язвы перейдут к чистой, не умывши рук, или оставят валяться грязный компресс. Я ведь постоянно ходила с ними на перевязку. А раз я была очень поражена: в особой комнате лежал умирающий больной, — гангрена и пиэмия; при нем сидел служитель, а диакониса в другой комнате чистила медный замок! Так бы я их и переменила; да и вообще я находила, что они очень холодно относятся к больным; и их одеянье, черное платье, очень маленькая пелериночка, белые передники с нагрудником, кисейные с мушками чепчики с тюлевым рюшем, придают им скорей вид субреток, чем служительниц страждущим. Да и их очень много. Так что я нахожу, что им мало дела; больных при мне было 217 человек, а диаконис и испытуемых 60. Это очень хорошо тем, что они очень хорошо видят, что не заведение в них нуждается, а они в нем.
Счеты и все записывания, приходы и расходы, которых очень много, так как есть комнаты с платой и абонементы для рабочих, и фабрик, и заводов, — ведутся отлично, и огромных книг, испещренных клетками, много. Но тут есть и двое чиновников или секретарей — не помню, какое их название.
Ездила я тоже с доктором Каде в Charite. Это огромный госпиталь в 3000 человек. В это время было всего 1000, так как много чинилось и поправлялось; тут при детях, помещение которых мне очень не понравилось, есть сестры из Кейзер-Верт; они ухаживают за детьми и за сифилитическими женщинами самого низкого разряда. Это ужасно! Надо быть святыми, чтобы сделать им истинное добро.
Елизавета Петровна Карцева (1823–1898) — сестра милосердия Крестовоздвиженской общины
8-го мы с Раден переехали в католическую общину сестер S-te Hedwig; но это нельзя назвать общиной; это монастырь, при котором больница. Их основатель — S-t Charles de Borromee. La Maison-Mere — в Нанси; там они после довольно продолжительного новициата и постригаются в сестры; после десятидневного молчания, постоянной молитвы, причащения Св. Таинств они произносят вечный обет.
Сюда нельзя придти от нужды, — тем более что испытуемые должны внести за себя 200 талеров, — и не обдумав хорошенько своего вступления, а для этого нужно проникнуться совершенно и покориться всем строгим правилам отречения и покорности, который требуются их строгим уставом.
Вот одна из надписей, которых очень много на всех стенах и коридоров и палат; она совершенно характеризует тот дух, который их направляет: «Все, чтобы угодить Тебе, Господи, ничего — чтобы удовлетворить себя».
Но мне, как православной, стало отраднее и теплее на душе при частом изображении Божией Матери, или в прекрасной мраморной группе снятия с креста Спасителя, или в одиночных статуях и картинах. Но и тут мое чувство русской и православной было огорчено: они нас не приглашали обедать с ними, а приносили обед в комнату, впрочем, всегда очень хороший, и говорили: «Устав это запрещает». Раз они нас свели в свой дортуар. Они все в одной комнате; стоят два ряда кроватей, и дорогая мать, как они называют старшую, с ними вместе. И тут на столе под стеклом — не знаю, как и назвать, в аршин или более — статуя, восковое лицо, так что приходится прямо сказать — точно кукла, одетая в белое атласное платье, тюлевый вуаль и венок из флердоранжа, — и это должно изображать Божию Матерь!
Я не показала сестрам, как это мне не нравится. Они такие милые, такие радушные, в них такое дружелюбие, что нельзя их не полюбить. Все у них гораздо проще и теснее, чем в Bethanie, но надо удивляться и тому, что они сделали. Двенадцать лет тому назад католическое общество их вызвало из Нанси; их приехало четыре. Они ничего не имели и доставали пустые бочонки, чтобы было на чем сидеть. Теперь у них трехэтажный дом, в котором больница на 200 человек, церковь, два садика, один для мужчин, другой для женщин. В старом строении, которое здесь находилось, когда они купили это место, находится приют для мальчиков; они тут живут, а ходят учиться в другие места. Сестра, которая с ними живет, говорила мне, что ей много с ними хлопот.
В этом же доме живут призреваемые ими старики и старухи. Старики кое-что работают, а старушки чинят больничное белье.
Сестры очень усердно, а главное, с большой любовью ухаживают за больными. Вот как они смотрят на служение больным: когда они мне рассказывали о распорядке дня, то сказали, что матери и главная начальница ходят ежедневно в палаты больных; а когда я сказала, что у начальницы много другого дела, она мне отвечала, что они ходят только утром, чтобы иметь счастье послужить больным. Мне этот взгляд на уход за больными очень понравился. Служб церковных у них три и четыре, а иногда даже пять раз в день; но когда сестры идут в церковь, то две, а если нужно, то и три остаются при больных. А потом, когда сестры придут, они идут в церковь, читать те же молитвы. Причащаются они несколько раз в неделю, а исповедываются один раз в неделю, и стараются себя так вести, чтобы можно было причащаться и без исповеди, сохраняя чистоту. Итак, они постоянно находятся в таком состоянии, в каком мы бываем, когда говеем, или даже в таком, в каком мы бываем в день исповеди или причастия. Я у них спрашивала: такое частое повторение не делает ли их равнодушными к этому? Они говорят, что, напротив того, ощущают желание, рвение, которое возрастает все более и более. У них ничего нет своего, нет своей воли, чтобы что-нибудь делать, даже в свободное время. Надо спрашивать позволения у «дорогой матери». Есть часы, назначенные для молчания.
Но они говорят, что это-то и хорошо, что они счастливы, довольны и совершенно спокойны. Нельзя ими не восхищаться, и если б я была католичкой, я бы, кажется, вошла к ним, но не могу понять, как наши православные дамы идут в католички. Я восхищалась этими сестрами, любовалась всеми многочисленными и великолепными заведениями Парижа, тоже основанными католицизмом, но и в Берлине, и в Париже от всей души благодарила св. равноапостольного князя Владимира, что я — православная.
Я писала там же свои заметки о «Вифании» и обо всем строе и порядке этих заведений. И вот чем я кончила то, что записывала в доме св. Гедвиги:
«Здесь душно и физически, и морально. Но что-то сердечное, простое и веселое невольно заставляет примириться с этим бесконечным молением, с этим подавляющим послушанием. Но они так легко все это выполняют, так спокойны, веселы, что это действует и на других.
Прощай, мирный уголок! Ты не можешь не быть благословлен Тем, чьим Именем все здесь делается!»
Приведу, кстати, несколько слов из письма моего к сестре из Берлина; они дадут понятие о том мучительном положении, в котором спутывались мои мысли, обращенные все-таки всего больше на нашу Крестовоздвиженскую общину.
«Монастырь св. Гедвиги — это средневековое начало, которое сохранилось во всей своей целости и непоколебимости. „Вифания" — есть произведение нынешнего века и протестантизма, прекрасная мысль, полезная, устроенная прочно, и спокойно исполняется женщинами, посвятившими себя на это служение; они знают, что это — доброе дело. А ведь делать надо что-нибудь, тем более тем, которым надо работать, чтобы жить… Итак, S-te Hedwig есть произведение экзальтированной религии и мысли о спасении своей души… „Вифания" — можно сказать — есть произведение рассудка и желания жить по-христиански с кой-какими удобствами. Крестовоздвиженская община — произведение патриотического чувства, стремящегося участвовать в общем деле, испытывающего сильное сочувствие к стольким страданиям и готовность разделить общую опасность и труды. Невольный интерес, связанный с войной, — вот начало нашей общины. Что ж из этого выйдет? Не знаю, но понимаю, что надо другие начала. Но что? Какие? Мои мысли здесь еще больше спутались, чем в Петербурге. Грустно, тяжело!..»
11-го мы выехали из Берлина. Тогда в Кельне не было железнодорожного моста через Рейн. Для нас это было очень кстати. Великая княгиня ночевала в Кельне, и мы с Эдитой Федоровной могли воспользоваться этим часом, который полагается на переезд в экипажах, чтобы проехать в Hotel Belle-Vue, который именно достоин этого названия, и видеть великую княгиню. Свидание наше с ней было очень короткое, ни о чем нельзя было поговорить, так как мы боялись опоздать на поезд. Как хороша и красива была дорога! То скалы, то небольшие туннели и потом хорошенькие домики у самого полотна дороги, даже цветники на самых откосах дороги. Не то, что наша Николаевская, — мчится как дикий зверь по мелким лесам и болотам.
Когда мы приехали в Vervier, на французскую границу, то я так была рада, что понимаю все, что вокруг меня говорят; мне даже казалось, что все говорили по-русски. Я надеялась, что мы приедем в Париж часов в семь; мне так хотелось видеть его в полном вечернем освещении. Но, к моей досаде, какой-то несчастный поезд с каменным углем сошел с рельсов. И так досадно! Пройди он еще несколько вперед, мы могли бы его объехать, а тут нам пришлось стоять, телеграфировать и ждать, чтоб нас отвели задним ходом до такого места, где мы могли перейти на другие рельсы.
Итак, мы приехали в Париж, когда он уже не блистал своим освещением. Наши вещи, чтоб нам не было беспокойства на границе, должны были осматриваться в Париже, и хотя нас очень скоро и любезно отпустили, но все-таки это взяло время. Хорошо, что Ф. М. Дмитриев, который был в Париже, приготовил нам номер в гостинице, и мы могли туда прямо приехать.
На другой день мы ждали ответа от отца Etienne, начальника des Lazaristes, которому Раден сейчас же написала: он один мог нам доставить возможность видеть la Maison-Mere des Soeurs de S-t Vincent de Paul.
Ответа в это утро не дождались, а Дмитриев соблазнил нас ехать в Hotel des Invalides, на могилу Наполеона I. Мы ходили по всему зданию, были и в столовых, и в библиотеке, и на кухне; там 3200 солдат и 170 офицеров. Прекрасное заведение. Хоть это и не шло к цели моего путешествия, но для военной сестры было очень кстати. На другой день мы тоже не имели ответа от отца Etienne, и я начинала бояться, что нас никуда не пустят; тогда мы сами решились ехать в дом лазаристов. Но только что мы вышли, нам подали записку, которая давно была готова, но Эдита Федоровна забыла сообщить наш адрес.
Нас проводили в rue du Вас, где дом сестер очень близко от лазаристов. Нас сейчас же ввели в приемную, где было приготовлено очень много священнических и служебных одеяний (названий их я не знаю), так как в этот день была loctavie de S-t Vincent, и в церкви сестер будут служить лазаристы, а в церкви лазаристов выставлены его мощи. Потом нас провели в комнаты начальника и просили подождать. Проходя по галереям, мы видели, что они обедают; за обедом — чтение. Покуда la Mere Superieure к нам не пришла, к нам приходили то одна, то две сестры. Они и меня расспрашивали, и сами нам рассказывали; у них в этом доме 400 новис и от 200 до 300 сестер. Заведения при доме никакого нет, только больница для сестер. Прислуги никакой нет, да и что бы она делала? У них в день только один урок — религия. Пришла la Mere Superieure, очень приветливая, пожилая и серьезная; пришел отец Etienne — тип своего звания, речь спокойная и приятная. Повели нас в сад, и через сад — в то, что они называют семинарией. Там, в длинной, продолговатой зале, уставленной рядами скамеек, очень тесно сидели новисы. Они в черном, и на голове тоже такой же чепчик или, лучше сказать, шляпа, как у сестер, а сверху вуаль из черного гроденапля. Много хорошеньких и молоденьких.
Но это просто был смотр, даже было неловко. Отец Etienne попросил нас взойти на маленькое возвышение в одну ступеньку, и тут нам объясняли, кто из каких нации, и по скольку их. Он начал: «У нас есть итальянки; пусть итальянки встанут!». И так вызывались все нации; дошло и до Соединенных Штатов, и до Бразилии. Тут вставало только по одной. Для новис есть особенный сад, куда они и пошли; но прежде они остановились перед статуей Божией Матери и пели. Потом нам показали часовню для уединения. Все сестры должны это исполнять; вот в чем это состоит: целую неделю они проводят в этой церкви в молчании. Только два раза в день священник приходит их назидать. Гулять они могут, спать уходят к себе, но все эти дни постоянно молчат. Мы просили показать нам весь дом, но нам сказали, что сегодня это невозможно, так как у них большой праздник и службы.
Новис было так много, что они в церкви не помещались. Тут пришли затем и лазаристы. Их было очень много — и много молодых.
От них мы поехали в часовню лазаристов поклониться святому Винсенту. Рака с мощами расположена на большом возвышении, ступеней около 20. Он лежит под стеклом, во всем облачении; видно все очень хорошо. Я усердно помолилась ему, чтобы он нам помог; теперь он не католик, и все должны быть для него равны. У него любовь к ближнему и милосердие были развиты в высшей степени. Да помолит же он о нас Господа, как я его молила!..
Я не знаю, каковы были сестры при св. Винсенте, когда он их сам устроил и когда они носили скромное название «служанки бедных». Но теперь это — чисто произведение католичества, и такие сестры возможны только при братьях-лазаристах. Главная, основная мысль сестер — это пропаганда. Всякая более или менее видит в себе апостольское призвание.
Вот что мне сказала мать-настоятельница: «Да, мы ходим за телом, но наш первый долг — говорить о религии». У них все очень строго, хотя они произносят обет только на один год, после пяти лет de professorat (не знаю, как перевести это слово).
Что же я себе могла сказать после всего виденного и слышанного? Мне кажется, у нас все это совершенно невозможно. Наша православная церковь так строго не требует подобного всепоглощающего повиновения, да и для этого было бы необходимо католическое духовенство. И что же? Я сделалась спокойнее, хотя мне было очень грустно. Я и тут также писала всякий вечер о том, что видела и испытала в этот день. Эти записки очень подробны и позволяют мне теперь вспомнить все самое главное. Выписываю одно очень странное и прозаическое сравнение, которое мне тогда пришло в голову: «Чтоб сделать фарфор, надо необходимо иметь фарфоровую глину; а если имеется только песок, из которого можно сделать только стекло, то нечего стараться делать то, для чего нет нужных элементов…»
Однако для чего же я в Париже? Из сестры милосердия я превращаюсь в туристку и, что еще хуже, в светскую барышню! С каким я удовольствием ходила по Лувру, когда я имела руководителем Ф. М. Дмитриева; но я не удовольствовалась одним разом, и в другой раз провела там целое утро, войдя туда, когда только что открыли музей, и оставалась там до той минуты, когда нас всех, хотя очень любезно, но попросили убираться вон.
Была тоже в Люксембургском дворце, чтобы видеть картины новых современных художников, о которых много слыхала от сестры моей, которая жила некоторое время в Париже и рисовала в ателье известного живописца Делакруа.
А для светской барышни — какие красивые магазины, как в них все учтивы, приветливы, внимательны, даже тогда, когда покупаешь самые мелочи! Разумеется, для себя я ничего не покупала, но как не привезти из Парижа родным и знакомым хотя какие-нибудь безделушки!
Вот и ходишь по магазинам… Но вернусь к сестрам и госпиталям. Прямо от лазаристов мы поехали разыскивать les Petites Soeurs — и с трудом их нашли. Какое это трогательное и симпатичное заведение! Они живут как птицы небесные: Бог дал день, Бог даст и пищу! Они всякий день ходят за подаянием; им дают и старые платья, и остатки от кушаньев. Многие гостиницы, говорят, нарочно припасают для них. Они живут такими подаяниями, но видно, однако, что подаяния были очень велики. У них теперь хорошее гнездышко, свой трехэтажный дом, и у них призревается до 200 стариков и старушек; есть очень старые — 80 и даже 90 лет, все в разных платьях, какие у кого есть, или какие им дали. У них ничего нет положенного, а что Бог послал, тем они и живут. Есть у них и церковь, и при доме огород. Все чисто и опрятно, даже воздух хороший, хотя старушки и старики помещены довольно тесно. Сестры в черном, но платья сшиты или, лучше сказать, перешиты из разных старых платьев. Все сестры — из простых.
На другое утро мы с сестрой Нарышкиной (она русская, выросла в Париже и перешла в католичество) поехали в большой военный госпиталь — Val de Grace. Там 40 сестер. У них все особенное, и своя часовня, и приемная. Так как мы были с сестрой из их же общины, то нас сейчас же приняли. У них все мило, очень чисто.
Мы пошли в большую церковь, выстроенную Anne dAutriche, потом через сад — тут есть и ботанический сад — в школу вроде нашей фельдшерской.
Больных бывает больше 1000 человек, но так же, как и у нас в военных госпиталях, мало слабых. Сестры заведуют всем хозяйством, даже покупают все нужное, кроме хлеба и говядины, которые им ставят, и при приеме должны быть и доктор, и офицер; но это не всегда бывает.
Госпиталь Валь-де-Грас — французский военный госпиталь, расположенный в 5-м округе Парижа. Архитектурный ансамбль состоит из помещений бывшего монастыря, барочной церкви Валь-де-Грас и современных корпусов
Я еще в другой раз провела целый день в Val de Grace, видела весь порядок дня и много с сестрами говорила. Сестра-настоятельница, которая тогда уже вернулась, была очень приветлива и почти весь день была со мной, водила в их дортуары. Видела я сестер и во время рекреации; они занимались разными работами, и некоторые вышивали ризу очень красивую; все были очень веселы и разговорчивы, но обедом, от которого я долго отказывалась, они все-таки кормили меня отдельно, несмотря на то, что говорили мне: уважаемая мать.
Я долго была в кухне, видела весь порядок приготовления и раздачи, слышала от больных те же жалобы, что и у нас, что порция мала, что они голодны. Порции у них гораздо разнообразнее, чем у нас.
Потом пошла с сестрами в госпиталь. За главным доктором они не ходят, потому что за ним идет целая толпа и докторов, и учеников. Перевязкой тоже сестры не занимаются — это должны делать ученики, и они же должны давать лекарства. Но больше лекарства дают сестры, так как он целый день в палатах, и уходят только раза четыре или пять на молитву и обед, но и тогда остаются дежурные. Также и ночью сестры бывают в палатах поочередно. Сестры заведуют и бельем, и стиркой его.
Вот что мне рассказала старшая сестра: еще Луи Филипп хотел поместить сестер в этот госпиталь, так как тут открыли много беспорядков в продовольствии, но февральская революция этому помешала. И только при второй империи, несколько месяцев после Крымской кампании, они сюда поступили (в морских госпиталях они давно уже были). Когда они приехали, никто их не встретил, на них не глядели, и они слышали, как говорили больничным служителям: «Не надо слушать женщин»! Дошло до того, что подделали фальшивые ключи, и у них стало исчезать вино, и тогда стали говорить: «Что ж мудреного? они его пьют…».
Теперь им гораздо лучше, а особливо с тех пор, как у них новый директор, принципиальный, а прежний приходил в таком положении, что должен был держаться за стены, и так напутал дело, что попросился в Италию. Итак, это не у нас одних бывает!
Нынешним они очень довольны; я его тоже тут видела; он хвалил сестер, и сестры его хвалили.
Все у них делается по звуку трубы, которая беспрестанно слышна. Я осталась до раздачи ужина, для которого все варилось снова, а перед этим долго ходила по палатам, слушала их насмешки друг над другом и над самими собой. Только вместо «Пошехонья» говорили, ну, пожалуй, хоть Тараскон. А один парижанин, больше похожий на гамена, чем на солдата, дразнил всех и смеялся над всеми. В этот день во мне опять проснулась «сестра», и это был для меня спокойный и приятный день.
Мы были опять в la Maison-Mere и осмотрели все — от чердака до подвала. В кухне сестра-хозяйка очень полная; она так и сказала мне: «Лица, находящиеся на действительной службе, должны быть хорошо кормлены». Я с ней согласна.
Много говорили о вступлении, о новициате. Все у них так умно рассчитано с целью поглотить и изгладить всякую индивидуальность. Не знаю, добросовестно ли это. Вот что мне говорила одна из сестер. Привожу ее слова по-французски, как я их тогда же записала: «Да, когда придешь в главный дом, он производит странное впечатление; но потом покоришься, сдашься, а раз совсем себя подчинишь, когда воли не остается, становишься покойна и счастлива, как дитя».
А другая мне говорила, что сначала она плакала от их головного убора и уходила к себе на кровать снять хоть на минуту, а потом привыкала. Их головной убор полотняный и очень жестко накрахмаленный.
А это говорили многие: «Хотя мы даем обет на один год, но всякая думает, а может быть, в душе и обещает, что дает на всю жизнь».
Ездили мы с сестрой Нарышкиной в Gros Caillot, тоже военный госпиталь. Разумеется, те же порядки. Но вот что меня удивило: сестры постоянно в палатах, но они уходят пять раз в день, и тогда остается одна сестра, и ей в помощь наемная женщина! Но они находят, что их мало. Их комплект 20. Теперь их 18, так как две уехали. Комплект больных 600, но есть палаты, в которые сестры не ходят; а тут у них больных было 300. Когда я изъявила удивление относительно наемной женщины, то сестры мне сказали:
— Нас так мало, а потому ночное дежурство приходилось бы слишком часто; если сестра еще занеможет, то нам очень затруднительно.
— Да разве вам не заменят больную сестрой из Maison-Mere?
— О, нет! Мы должны сами все устраивать. Мы должны сами о себе заботиться.
Странно, ведь их так много. Еще что меня удивило: когда я спросила, могут ли они готовить что-нибудь особенное из своего для больных, они сказали, что для слабых больных могут, но прибавили, что делают это очень редко, потому что это всегда причиняет неприятности. Не понимаю, отчего?
Больным позволяют курить только в саду. У ворот всякого военного госпиталя есть маританка, у которой больные могут покупать почти все.
Видела я больных, играющих в палате в карты, и спросила:
— Разве это позволено?
— Нет, но мы делаем вид, как будто не видим.
Были мы и в доме, где живет сестра Нарышкина. Это муниципальный дом; я так поняла, что такие дома должны быть во всякой части города, и они устраиваются парижским муниципалитетом. Это очень хорошо, потому что устроено именно для нужд той же местности.
Вот в таком роде заведение желала устроить в Москве кн. Соф. Степ. Щербатова, когда устраивала общество дам-попечительниц в каждой части Москвы. Тогда это пошло очень живо. Всякая устраивала, что могла, и богадельню, и приют, и школу. Не знаю, как это теперь идет.
И здесь, у сестры Нарышкиной, с которой живут еще сестры, все есть: и маленькая богадельня для десяти старушек, и ясли, в которые приносятся дети на день, и сироты, которые учатся и работают, и экстерны, которые приходят только в школу, и аптека для раздачи лекарств бедным по рецептам. Сестры также посещают в квартирах бедных этой части. Дом небольшой, но все хорошо приспособлено, и нет сомнения, что это истинно полезное и доброе дело, и исполняется совершенно добросовестно. Существуют ли в Париже еще такие дома? Жаль, если нет.
Сестра Нарышкина нам все очень мило показывала, и я очень жалела, что на другой день я не с ней должна была ехать, а с другой сестрой, в разные заведения, где служат их же сестры, а сестре Нарышкиной было разрешено с детьми ее заведения ехать за город, так как это день ее именин.
Итак, на другой день я поехала одна с сестрой Barbe. Были мы в детской больнице. Barbe недавно перешла к сестрам обители святого Винсента, да и сама больница не так давно устроена. Мне очень она не понравилась: дом в четыре этажа, но как-то тесно, не особенно чисто, или это, может быть, оттого так кажется, что белье поступает небеленое и по мере употребления выбеливается.
Меня очень удивило то, что в палатах острых болезней, если у ребенка вдруг сделается оспа, круп или скарлатина, он все-таки остается на своем месте. Я видела трех, у которых были прорезаны горлышки и вставлены трубочки; у них был круп. Про одну бедную девочку сестра мне сказала, указывая на нее, что у нее был круп, скарлатина, а теперь оспа. На кухне сестры смотрят и раздают пищу, но не они покупают. Рассказывая про это, они говорили: «Это нас больше устраивает, так как это удобнее». Белье стирается и чинится в прачечной. На дворе сад и хорошенькая церковь. Очень хорошие ванны и особые ванны для приходящих, которых бывает весьма много, до 100 человек в день. Туда сестры не ходят.
Потом были мы в Maison Necker, городской больнице. Это не из очень старых, 1779 года, на 350 кроватей. В это время многое там перестраивалось и делались вентиляции посредством паровой машины. Чисто, красиво; стены отделаны не то штукатуркой, не то фальшивым мрамором, но светлые и несколько даже блестящие. У сестер то же устройство, как и везде, и сестры, как и всегда, были премилые.
Еще посетили мы сиротский приют императрицы. Все выстроено богато и красиво. Сестры здесь всем заведуют и имеют служанок для работ. Тут должны воспитываться бедные девушки от 8 до 21 года. Они учатся читать, писать, закону Божию, а главное — шитью. Дом выстроен на 300 воспитанниц. При моем посещении их было еще только 140. Церковь прекрасная; престол белый мраморный, но над самым престолом картина: Божия Матерь, а над нею — сестры, дети и императрица Евгения, полунаклоненные, в позе благодарности за Божественные дары. Но портрет живого человека прямо над престолом — очень нехорошо.
Но все тут было так чисто, мирно, спокойно и целомудренно, и все это мне так живо вспомнилось, когда я потом с ужасом читала в «Revue des deux Mondes» статью Maxime Ducamp о том, что тут делалось во время коммуны — ужасно!
Еще мы посетили богадельню на 400 стариков; сестры тут тоже всем заведуют. В палатах, где есть слабые, они постоянно бывают, а в другие только заходят посмотреть за порядком. Сестры здесь, кажется, очень сжились со своими стариками; иные здесь по несколько лет, а другие и по несколько десятилетий. Очень хорошо тут все устроено; самые слабые или безногие — в нижнем этаже; у них есть стулья, на которых они выезжают в сад и могут кататься без посторонней помощи. Старикам позволяется уходить из богадельни всякий день от семи часов утра до восьми вечера. Когда мы приехали, они собрались к ужину. Ужин состоит из салата и сыра! Вот бы наших русских стариков так накормить — я думаю, они бы взбунтовались!
Не могу не вспомнить, что в этот же день, когда мы проезжали мимо la Sainte Chapelle, которую мне очень давно хотелось видеть, мы туда вошли. Ах, как она мне понравилась! Что за прелесть!
Вслед за нами вошел аббат; увидав на мне крест и узнав, что я русская, он сейчас обратился ко мне со словами: «Я надеюсь, что вы униатка?». И когда я сказала, что я православная, он начал меня уговаривать поверить в папу, говоря: «Молитесь, сестра, чтобы Бог даровал вам веру в нашего святого отца — папу!».
А когда я отвечала, что молиться об этом не буду, он мне жалобно сказал: «Что вам такого сделал наш бедный папа?».
Когда мы перешли из S-te Chapelle в галерею Дворца правосудия, где расхаживали судьи, адвокаты и нотариусы в шапочках и мантиях, а со мной сестра в чепчике, и вспомнились мне речи аббата — все это перенесло меня в средние века. Я повернулась к своей спутнице, чтобы сделать замечание насчет аббата, — она набожно подняла глаза и руки к небу и проговорила с убеждением: «Это должен быть святой человек!». Я промолчала… Теперь мне остается еще сказать только о сестрах Du bon Secours и об августинках. Начну с первых. Нас позвала туда ехать бывшая сестра Крестовоздвиженской общины Рогачева, у которой была там знакомая сестра Marceline.
Однако, несмотря на это, нас не вдруг туда впустили, и старшая сестра к нам не вышла, а пришла другая сестра и показала больницу для сестер. Очень хорошо устроена; только в одной большой комнате три кровати, а то все по одной. Сестры тоже живут всякая в особенной комнате. Показали нам еще прекрасную и очень щегольскую, элегантную церковь, а потом мы сидели с сестрой в приемной. И вот что я помню из разговора с нею. Эта община устроена тридцать лет тому назад одной дамой под попечительством архиепископа парижского, от которого они зависят и который их начальник и покровитель. Они только ухаживают за больными в домах, куда их приглашают, по пяти франков в день. Если болезнь тяжелая и опасная, они требуют, чтобы брали двух сестер (но она прибавила, что иногда плата убавляется); но, кроме того, вот их условия: чтобы сестер кормили особенно, чтобы каждые сутки они имели шесть часов отдыха и свободное время прочитать все назначенные им молитвы, чтобы они могли уходить всякий день к обедне и причащаться раза два или три. Настоятельница и прочие сестры не посещают сестер в домах, где они ходят за больными, но все сестры должны съезжаться в субботу в общину на несколько часов.
Рассказывая правила поступления их в дома, она очень тривиально прибавила: «Ну, если не принимают наших условий, могут обойтись без нас». Плата за уход отнимает у них священный характер сестры милосердия.
В новисы принимаются со взносом от 200 до 400 франков. Делается исключение только для самых способных. Новисы учатся уходу за больными при больнице сестер; не думаю, чтобы они могли приобрести большую опытность, так как сестер не очень много; их менее 200.
В доме руководятся тем же уставом, как во всех конгрегациях: частые молитвы, часы молчания, причащение несколько раз в неделю. Начальница должна избираться, но с тех пор, как они устроились, у них все одна и та же. Они почти совсем никуда не выходят; их не отпускают даже к больным родным, а если туда будут просить сестру, то посылают чужую, а не родную!
Уж это слишком! Это — идти против человеческих чувств самых натуральных и законных.
Я очень была рада, что нам удалось побывать у этих сестер, и очень жалею, что не видала всех конгрегаций, какие есть в Париже, но это было невозможно и по времени, а главное, потому, что без особой протекции попасть к ним невозможно. Ведь и к сестрам Bon Secours мы попали только оттого, что у Рогачевой была там знакомая.
Теперь перейду к августинкам, но их не называют сестрами, а монахинями. Им говорят: мать и даже: уважаемая мать.
В Hotel Dieu — их Maison-Mere. Мать-настоятельни-ца была очень любезна; она всюду нас сама провожала, но мы все осмотрели очень поверхностно, так как этот госпиталь интересен только своей древностью.
Я знаю, что он теперь совсем перестроен, но я прошу тех, которые будут читать эти несвязные записки, помнить, что я все это видела в 1859 году и записывала все очень подробно, как тогда мне было нужно.
Я думаю, что теперь многое совсем переменилось, а другого, может быть, и совсем уже нет.
Уход в этом госпитале должен быть очень затруднителен, и я даже не понимаю, как только одна сестра, как мне говорили, остается на ночь, когда палат много и они соединены такими оригинальными переходами, как, например, крытый мост через канал или подземный ход под улицей.
Больные мне показались слабыми, но в это время были у больных гости; шум и толкотня были ужасные. Этот Maison-Mere августинок устроен святым Landry, парижским епископом, в 650 году. Их всего только 160, но они, мне кажется, имеют о своем ордене высокое понятие как о самом старинном и о самом аристократическом. И у них такой же строгий устав.
Боже мой! Неужели людей только и можно вести строгой, убивающей дисциплиной? Грустно это для человечества.
Из этих же августинок есть сестры и в госпитале Lariboisiere. Этот госпиталь был тогда только отстроен года три. Все ново, чисто. Вентиляция и топка устроены в подвальном этаже. Прекрасная церковь, сад на дворе. Здание устроено «покоем». Штукатурка разноцветная, блестящая; белые тонкие занавеси на кроватях. На открытой галерее, соединяющей верхние павильоны, — вазы с цветами. Одним словом, — хотя это прилагательное не очень идет к госпиталю, — веселый госпиталь! Какая великолепная прачечная: чистая вода, в которой полощут белье, бежит по широким белым мраморным желобам.
Тут в помощь сестрам, то есть монахиням, есть помощницы, которые должны делать перевязки и давать лекарства. Нас тоже провожал какой-то — не то из помощников, не то чиновник — с красным воротником, и все отлично показывал.
Мы встретили одну монахиню и просили ее сказать уважаемой матери, что мы ее просим нас принять. Она приняла нас очень любезно, и даже русского доктора Реберга, который был с нами, и очень охотно отвечала на наши вопросы. Нового мы ничего не узнали, но живо помню ее строгое лицо и энергию, с которой она сказала: «Да, мы произносим вечные обеты, и при реставрации мы добились на это позволения. И я первая прошла по погребальному покрову».
Госпиталь Ларибуазьер — действующая больница в Париже, расположенная в 10-ом округе, на улице Rue Ambroise-Pare. Госпиталь открыт в 1854 году, с 1975 года зарегистрирован, как историческое здание
Я думаю, на сестер также много влияет соревнование разных конгрегаций.
Может быть, я многое забыла записать из того, что видела и слышала; все мое пребывание в Париже было каким-то калейдоскопом — так все быстро проходило перед глазами! И я должна признаться, что между поездками по общинам и госпиталям я побывала и в Ботаническом саду, и в Hotel Cluny, и в нескольких церквах, но, к моей великой досаде, не видела Notre Dame de Paris! — там производились какие-то починки, и никого не пускали.
Я с удовольствием возвратилась бы в Петербург, но ведь мы должны были ехать через Остенде — видеть великую княгиню. Что же я скажу ей? Какой результат моей поездки? Что я видела? чему научилась?
Много, много я передумала, и вот что написала в своих вечерних заметках, над которыми иногда засыпала. Писала, чтобы прочесть великой княгине, и потому писала по-французски, но я, кажется, в Париже начала и думать по-французски.
«Да, я смело скажу, что относительно службы в госпиталях нам нечего завидовать другим. Но что касается нравственной силы, которая их всегда удерживает при их обязанностях, уверенности, что они не будут болтать, и будут держать себя так, как следует, — мы многому тут можем научиться.
Но скажу ли я, чтобы это был для меня идеал? — Нет. Это все же рабы, работающие в доме господина, а не дети, работающие в доме отца. А между тем Иисус Христос искупил нас из рабства и сделал нас детьми Отца Небесного».
Сестре я писала, что я очень много думала и с грустью, но и со спокойной совестью убеждаюсь, что надо нечто другое для общины, а поэтому надо и другую сестру-настоятельницу.
Из Парижа в Остенде мы приехали 24 июля. Великая княгиня приняла меня очень любезно. Я ей прочитала все, что записывала и в Берлине, и в Париже, — а написано было очень много, так как я входила во все мелочи, касающиеся и сестер, и госпиталей (у меня было исписано крутом 14 листов большой почтовой бумаги), и сказала ей, что писала к сестре, — я с грустью убедилась, что не могу устроить общины вроде католической и что ей надо иметь другую сестру-настоятельницу.
Можно спросить после этого: зачем же я оставалась ею? Да, по-моему, от двух причин: некому было меня заменить, да и не было положительно решено, каков будет окончательный характер нашей общины; ведь у нас и устав, и правила пока сохранялись те же, что и во время войны.
Я осталась на несколько дней в Остенде; всякий день обедала у великой княгини. Помню, как было хорошо, когда мы раз обедали в Pavilion Royal sur la Jetee. Погода была великолепная, что здесь редко бывает. Море было у наших ног, и мне очень хотелось видеть морской прилив.
Я и в Остенде была в госпитале, где видела маленькую и совершенно своеобразную общину. Это посещение мне устроил доктор великой княгини, Арнет, который предупредил доктора госпиталя, и он меня ждал. Тут три доктора; больница небольшая, от 16 до 20 кроватей для мужчин, столько же для женщин; и в богадельне 12 кроватей для мужчин, столько же для женщин. Это устроено городом; тут есть совет; бургомистр — президент. Вот как сестры сюда попали: лет двадцать тому назад нашли, что госпиталь недостаточно обеспечен санитарами и санитарками — это не прислуга, а что-то выше. И стали просить епископа в Bruges прислать сестер в госпиталь; тогда им прислали трех сестер-августинок из тех, которые подвизаются или служат в большом и, как говорят, очень хорошем госпитале в Bruges. Их там 24; сделали такое условие, что если им будет неудобно, то могут уехать. Но они остались, и к ним прислали еще трех. А когда время, положенное для опыта, прошло, то они остались как отдельная община, не зависящая от Maison-Mere, а только имеющая в лице епископа в Bruges высшего духовного начальника.
Они все имеют от госпиталя — зато и все там делают: приготовляют пищу и для себя, и для больных, стирают белье и свое, и больничное. Они могут принимать новис, но сами не могут быть более шести. Многого нельзя было и расспросить, так как с нами сидела их старшая, 79 лет, у которой было несколько апоплексических ударов. Она не говорит, но, по-видимому, все слышит. Как же было при такой дряхлой старушке спросить, как назначается старшая, как замещается умершая? В разговоре они сообщили, что и из их новис могут быть посвящены в монахини-августинки после трех лет испытания. Только надо, чтобы епископ прислал своего делегата для этой церемонии.
У них те же частые молитвы и обедня всякий день, и та же строгость монастырская. Туалет их престранный, совсем не такой, как в Париже: черная юбка, потом сверху плащ белого сукна с очень широкими рукавами, потом — черная, вроде епитрахили, темно-синий фартук, а на голове белый убор, вроде чепчика; на лбу — широко сложенная полоса, сверху накрахмаленный кусок холста, так что торчит по обе стороны головы, и все покрыто прозрачным вуалем из черной шерстяной материи.
Престранный и пренеудобный костюм! Нас они встретили в полном параде, но прямо говорили, что переодеваются позднее, и пока есть дело, одеты иначе, прибавляя: «Да можно ли что делать в этом одеянии?».
Они все из простого звания и мне очень понравились; хотя они живут совершенно самостоятельно, но все-таки гордятся своим орденом, и когда я спросила: «А в доме сирот тоже ваши сестры-августинки?» — мне отвечали с большим пренебрежением: «О, нет, это какие-то новые, — кажется, св. Иосифа».
Э. Ф. Раден осталась в Остенде, а я поехала одна в Берлин, Штеттин, и на пароходе «Владимир» 4 августа приехала в Петербург.
Моя сестра, которая была весь месяц в деревне, приехала меня встретить. Сестры крестовоздвиженские встретили меня так радушно, так весело, что я была очень довольна, и все тяжелые мысли, недоразумения как-то невольно исчезли, и я стала спокойнее.
Материальные мелкие хлопоты при новом помещении, устройство в своем собственном доме — все это очень развлекало и занимало.
Еще из Парижа я писала Николаю Ивановичу о действии, которое произвело на меня все, что я видела.
Сначала, за отсутствием Николая Ивановича на целый месяц, мне отвечала жена его, Александра Антоновна, милым и сердечным письмом, за которое я ей была очень благодарна.
Потом я получила от Николая Ивановича из Киева, от 1 сентября, письмо. Это меня ободрило, утешило и придало решимости продолжать трудиться в общине в пределах возможности.
Привожу это письмо.
«Киев, 1 сентября 1859 г.
Я очень благодарен жене, что она написала вам, почтеннейшая Екатерина Михайловна, вместо меня, пользуясь моим отсутствием.
В письме ее, вы, верно, это и сами заметили, много чувства, а следовательно, и правды, хотя бы и нелогической, но это все равно, лишь бы правда. Я с моей стороны прибавлю к ее посланию немножко и логики. Надобно брать вещи как они есть, это — первое, что, впрочем, нисколько не противоречит и необходимости всякого мыслящего и чувствующего человека — иметь свои идеалы или брать во внимание и идеальную сторону дела. Главное — не пересолить. Я понимаю очень хорошо, как вы теперь смотрите на нашу общину, побывав в Берлине и в Париже; так и наш брат смотрит на доморощенную науку, потолкавшись в западных университетах. Но стену лбом не прошибешь. По одежке протягивай ножки. За морем телушка — полушка, да провозу рубль. Ведь для усовершенствования нашей общины не выписывать же нам католицизм, протестантизм и пиэтизм из-за границы. Будем, по крайней мере, довольны тем, что, тогда как католицизм есть уже дело поконченное, и, кроме того, что он произвел уже, ничего подобного более на свет не произведет, — наше православие еще содержит в себе начало незаконченное и способное к развитию. Будем утешать себя этой мыслью, она пригодится не для нас, но, может быть, для наших внуков. Не все же жить в настоящем, надо уметь жить и в будущем; а без этого умения — беда; не имея его, да имея слишком живое чувство, можно попасть Бог знает куда. Не теряйте терпения — одна попытка не удалась, попробуйте на другой манер, но за сделанное однажды держитесь крепко обеими руками, не упускайте его из отчаяния, что нейдет так, как бы хотелось.
Мысль учреждения общины в критическое время, ее действия — это все факты „Errungenschaft", по-русски — достигнутости, как выражался король прусский, когда ему было жутко; это все-таки прогресс; оставить все это; бросить, кинуть — значило бы сделать, шаг назад. А вы, как истая русская прогрессистка, какою я вас привык всегда видеть, не должны об этом и думать. И, я вас уверяю, если вы покинете общину, то будете сами потом грустить и упрекать себя. Великая княгиня не потеряла участия к общине, это доказывает и ваше путешествие, и приобретенный дом; зачем же натягивать тетиву слишком туго!
Мужайся, стой и дай ответ! Казенщину трудно вытащить из сердца и головы русского человека; она проникла и в сердце женщины со времен Петра, а с ними и в Крестовоздвиженскую общину. Как же быть; не вы одни с этим добром возитесь; с ним и церковь Божия не скоро сладит. Прощайте покуда, уже поздно, и я иду спать, а вы бодрствуйте — за себя и за общину.
Ваш Пирогов».
Еще прежде чем великая княгиня уехала весной в чужие края, я говорила ей, что, может быть, мать Софии Вениаминовны Броневской, которая была у нас сестрой, согласится приехать хоть вместе с дочерью, чтобы заняться испытуемыми.
Я ее лично мало знала, но читала ее письма, в которых так ясно была видна ее доброта, религиозность и полное сочувствие служению сестры милосердия, что и ясно доказывалось тем, что, живши только вдвоем с дочерью, она не противилась ее желанию и отпустила ее; а когда на ту вдруг нашло уныние и желание вернуться домой, то она же ее уговаривала не бросать раз начатого дела и после того, как она надела крест, оставаться, как тогда давала обещание, весь положенный год.
В 1858 году Анастасия Александровна Броневская приезжала за своей дочерью из Смоленской губернии, где она жила в своем имении. Тут я с ней и познакомилась.
Итак, я, с разрешения великой княгини, написала к Анаст. Алекс., и в письме от 3 июля она изъявила полное согласие поступить к нам, чтобы заниматься испытуемыми.
Выписываю несколько слов из ее письма: «Да, я принимаю с благодарностью, так как вы считаете меня достойной, ваше благосклонное предложение, взять на себя долю труда в общине и принять участие, насколько могу и с Божьей помощью, в ее нравственном преуспеянии — дело мира и любви, столь подходящее к моему характеру. Я соглашаюсь на условиях, высказанных в письме г-жи Раден».
Я сделала эту выписку, чтобы было видно, что не я одна ее приглашала. Я это письмо Анаст. Алекс, сообщила великой княгине в Остенде. В конце сентября я получила еще одно письмо от Анаст. Алекс., что год очень хорош, что все можно скоро продать и что они уже делают некоторые приготовления к отъезду. Но ведь надо вспомнить, что это еще было при крепостном положении, поэтому многое лежало на совести, и, оставляя деревню, надо было обо всем подумать и устроить.
Доктор Тарасов уехал в чужие края; сестер приезжал учить анатомии и перевязкам доктор Чартораев, а для больных сестер ездил Конст. Ос. Аапушинский, который теперь главный доктор Александровской больницы, а тогда был ординатором в той чернорабочей больнице, которая тогда была на этом же месте.
Священника у нас не было; служить к нам в общину приходили по очереди священники екатеринославской церкви; их было тогда там трое. А священник Полисадов, о котором я уже прежде говорила, скоро отказался, говоря, что у него очень много дела и что ему очень далеко к нам ездить. Кажется, он или уже был, или вскоре поступил в Петропавловский собор в крепости; так, наши духовные уроки, или, лучше сказать, назидания, прекратились.
13 сентября у нас была торжественная всенощная, и на другой день — обедня и завтрак от великой княгини, и постный, и скоромный. Были тоже ею приглашенные гости. Все шло великолепно и парадно. Великая княгиня была очень любезна, только одно слово меня больно укололо, и можно было тогда же предугадать его последствия. Это было сказано, когда я с великой княгиней поднималась по лестнице: «Что ж! Вот у нас и дом, а сестры все-таки уходят!».
Это было точно предсказание огорчений и неприятностей, которые меня ожидали в новом доме, о покупке которого я так хлопотала!..
С приездом великой княгини пошли разные починки, переправки и устройства в доме. Не помню, в это ли точно время или несколько позднее, великая княгиня пожелала, чтобы в Крестовоздвиженской общине были тоже сестры, которые бы посещали бедных и раздавали пособия. На это дело и поступила сестра Варв. Ив. Щедрина, которая только что вернулась из продолжительного отпуска. Кто была ее помощница — не помню.
Не помню также, когда именно, но в конце ноября великая княгиня мне вдруг сказала, что она берет из женского монастыря одну графиню, полумонахиню, и что она может заниматься с испытуемыми. Это меня совершенно поразило и испугало. Я напомнила великой княгине, что ведь мы для этого ждем Ан. Алекс. Броневскую, которая так устраивает свои дела в имении, чтоб приехать к нам. Не знаю, какая дама, или дамы, имели несчастную мысль рекомендовать великой княгине эту графиню, и верно очень ее расхвалили, потому что Эдита Федоровна сама привезла ее к нам, водила по всему дому и предложила ей выбирать, какую она захочет комнату.
Я должна сознаться, что я ее приняла нелюбезно; но меня так волновала мысль, что Броневская приедет — и вдруг ее место занято! Какое же мое положение будет по отношению к ней? Но, слава Богу, все обошлось хорошо, только… Но лучше буду продолжать рассказывать по порядку.
10 декабря, день, в который пять лет тому назад я поступила в сестры, великая княгиня прислала мне венок лавровый с камелиями и велела сказать, что она вспомнила этот день, а я невольно вспомнила из старинных французских стихов:
«Из всех лавров яд самый основной!..»
13 декабря был у нас Ник. Ив. Пирогов. Он быстро обегал весь дом. Накануне он был у великой княгини. Она ему говорила, что хочет устроить нечто религиозное. Он ей прямо сказал: «Тогда Бакунина не может быть настоятельницей, да и все это кончится ипокритством — что всего хуже».
Он оставался в Петербурге не долго, но помню, что два или три вечера я была с ним вместе у Эдиты Федоровны, и мы до поздней ночи толковали и составляли устав. Николай Иванович говорил, что с уставом спешить нечего, что община существует de facto. Говорили мне, что был тоже проект устава, написанный отцами Васильевым и Янышевым. Я его не видала, но слышала неблагоприятные отзывы о нем.
Еще у нас было много разговоров с великой княгиней о разных переменах. Она и Раден находили, что надо их делать исподволь, а я находила, что лучше вдруг — разумеется, давая полное право всякой желающей выйти сейчас же из общины. А если делать помаленьку, то это будет волновать сестер, все будут ожидать постоянно чего-нибудь нового и толковать об этом. Но это так и осталось открытым вопросом при мне — не знаю, что было после.
Варвара Ивановна Щедрина — старшая сестра Крестовоздвиженской общины
На новый, 60-й год у нас была лотерея для сестер. Я, на деньги от великой княгини, покупала разные безделушки, несессеры для работы или писанья, бювары, чернильницы, пресс-папье. Из дворца были присланы чашки, стаканы и пр.
Лотерея в общине была накануне Нового года, а 2 января я поехала в Кронштадт, чтобы и там устроить тоже лотерею. Все были веселы и довольны.
Но, вернувшись из Кронштадта, я нашла уже в очень дурном положении одну из испытуемых. Она была наша соседка по деревне, и сестра привезла ее с собой. Это была простая, добрейшая девушка — она поступила в общину, чтобы, проведя в ней несколько лет, выучиться ходить хоть несколько за больными, приглядеться к болезням и вернуться в деревню, чтоб ухаживать за больными крестьянами, что она и прежде делала, просиживая ночи в избе над больными. А это гораздо мучительнее, чем в госпитале! Во-первых, нет ничего под руками, чтоб помочь, а во-вторых, семья, дети, которые рыдают, жена, которая причитает: «На кого ты нас, несчастных, покидаешь!.. Будут наши деточки выпрашивать под окошком кусочки!..» Это так ужасно слышать! И вот на этот скрытый и смиренный подвиг она себя готовила. Но Бог ее прежде призвал к себе, и, после двух с лишком недель страдания, она скончалась…
23 января Анаст. Алекс. Броневская с дочерью приехала. Радостно было для меня свидание, но все-таки меня беспокоило, как-то все обойдется. И, как нарочно, великая княгиня была не совсем здорова и десять дней не принимала ее. Но когда она вернулась от великой княгини довольная и с тем, что она должна заниматься испытуемыми, — я была так рада, почувствовав большое облегчение.
В феврале она и начала заниматься испытуемыми, читала им и просила тех, которые плохо читали и писали, заниматься с нею. На четвертой неделе поста некоторые сестры должны были надеть крест. Великая княгиня пожелала, чтобы это происходило у нее во дворце; и после обедни сестры получили кресты, потом был завтрак, великопостный, без рыбы, так как я прежде сказала, что на крестопоклонной неделе мы строго постимся. Софи Броневская тоже опять надела крест.
И как нам хорошо жилось в это время! Анаст. Алекс, была такая добрая, такая снисходительная, с такой любовью, с такой сердечной добротой относилась ко всякому. Отрадно, спокойно было на душе!..
Но недолго это продолжалось. После всенощной в Вербную субботу Анаст. Алекс, почувствовала себя нехорошо. Ночью начались приступы, как в холере, хотя в это время ни в одном нашем госпитале, да и во всем Петербурге не было о ней и слышно. Во вторник она скончалась! Никогда не забуду этой ужасной ночи! Дочь ее была в отчаянии, а для меня это была ужасная потеря — точно я почувствовала, что нет Божьего благословения на моих начинаниях!..
Никогда не забуду службы этой Страстной недели. Когда шла служба 12 Евангелий, Анастасия Александровна лежала в гробу посреди церкви. Слава Богу, тогда не была так развита паника всех микробов и бактерий, и мы спокойно окружали ее гроб (да никто и не занемог). В пятницу мы, после отпевания, проводили ее на кладбище. Я не в состоянии была причащаться в четверг и отложила до субботы. Помню, что меня перед самым Евангелием, когда священник облачается в светлые ризы, позвали к сестре Егоровой. Это была хорошая сестра из тех, которые приехали со мной в Екатеринослав; она уже там имела все признаки чахотки, и можно было удивляться, что она еще так долго прожила. Она меня просила о матери и сестре, которая тоже была в общине, просила, чтобы ее схоронили на Смоленском кладбище, где ее родные, говорила о разных мелочах для сестры, была в полной памяти, говорила спокойно и тут же тихо скончалась!.. И я, перекрестив и поцеловав ее, еще успела придти к концу обедни и принять Св. Таин. Всякий верующий может легко понять, с каким чувством я в этот раз причащалась.
Хотя Святая неделя в этом году была ранняя, но, однако, в день погребения сестры, 6 апреля, солнце ярко блистало, и мы при торжественном пении: «Христос воскресе из мертвых» проводили ее, по ее желанию, на далекое от нас Смоленское кладбище.
7 мая великая княгиня уехала. По всему можно было видеть, что ее отношения ко мне были не те, что прежде, хотя, кажется, теперь графине нечего было быть недовольной; после кончины Броневской ее положение стало совсем определенным: она сделалась вполне сестрой-на-ставницей испытуемых. Но она волновалась из-за всяких пустяков, даже из-за дурно приготовленного для нее супа; а когда приходилось послать испытуемую на дежурство в госпиталь, она говорила, что это козни против нее, делала сцены, которые выводили меня из терпения.
Да, я должна признаться, что не нахожу правильным такое терпение, которое будет смотреть молча на то, что приносит вред. Но все эти булавочные уколы волновали и огорчали меня, и я просила Бога просветить меня. Неужели я одна виновата во всей этой неурядице?
Я имела привычку — «в минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть», ехать помолиться в Казанский собор, который я очень любила. Вот и при этих мучительных вопросах я поехала туда. На крыльце собора я встретила игуменью и казначейшу здешнего монастыря. Я с ней была знакома. Мы стали разговаривать. Она с участием спросила меня: «А графиня у вас?» (она прежде жила в их монастыре). Я отвечала, что у нас. Тогда она, взглянув на меня с участием, повторила два раза: «Дай вам Бог терпенья! Дай вам Бог терпенья!». И это меня несколько успокоило.
В. И. Тарасов вернулся в мае. Ему было поручено устроить в пристройке дома, где у Доста были какие-то странные бассейны для его ортопедических больных, небольшую женскую больницу. Но для этого требовались большие переделки.
Ему отведена была квартира во дворце с тем, чтобы потом нанять квартиру вне общины. Это тоже был знак недоверия, а у нас, в нашей домашней жизни, все шло хуже и хуже и удручающе действовало на умных и развитых сестер, а для любивших сплетни и пустые пересказы это было на руку. Священник, который часто бывал в общине, раз даже в церкви, в проповеди, не говорил просто христианской проповеди, а, стоя перед царскими дверьми, позволил себе говорить разные личности. Я помню, в каком смущении сестры выходили из церкви.
Может быть, я слишком подробно пишу об этом, но мне хотелось показать тот вред, который происходит в общем деле, если занимающиеся им не действуют и не живут в полном согласии.
Я решилась оставить общину. Как мне это ни было грустно и тяжело, но я видела, что более я не была полезна, — напротив того, может быть, против своей воли — вредна!..
Итак, я начала с того, что просила отпуска. Это было записано в журнале комитета. На комитетских протоколах великая княгиня делала на полях собственноручные замечания и написала: «Прошу остаться до моего возвращения».
Тогда я отправила письмо прямо к великой княгине, писала, что я оставалась в общине, пока надеялась, что могу быть полезна, а теперь, видя все неурядицы и ее отношение ко мне, нахожу, как мне это ни грустно и ни тяжело, что я дольше не должна оставаться.
На это письмо Эдита Федоровна, по приказанию великой княгини, официально мне писала, что великая княгиня отпускает меня в отпуск, но она еще не принимает моего решения совсем оставить общину; успокоясь и отдохнув в деревне, я должна написать вторично.
А сама Эдита Федоровна послала мне очень длинное, неприятное и жесткое письмо, на которое я ей тоже, может быть, резко отвечала.
Не могу сказать, чтобы ее письмо заставило меня решиться, потому что я совершенно решилась еще тогда, когда писала к великой княгине, но ее письмо утвердило меня в мысли, что я поступаю как должно.
Итак, покончив разные дела и отдав в детскую больницу белье, которое готовилось у нас, я стала собираться к отъезду. Съездила проститься в Кронштадт с сестрами, как уезжающая в отпуск, а с сестрой М. И. Алексеевой — как оставляющая общину совсем.
Грустное было прощанье! Как она плакала! Но с ней наша дружба продолжалась и в письмах, и в редких свиданиях.
И в доме я прощалась как уезжающая в отпуск — так этого желала великая княгиня. Но тут были сестры, которые знали, что я уезжаю совсем.
В общине был установлен порядок, что сестра, уезжающая в отпуск, снимала и оставляла в общине свой золотой крест, который мы носим на широкой голубой ленте.
Живо помню светло-сумрачную петербургскую летнюю ночь, полумрак красивой общинной церкви, и как я вошла в нее одна, помолилась, заплакала и сняла, с грустью, но с полной решимостью, тяжелый крест сестры-настоятельницы и повесила его на общинский образ Воздвиженья Креста Господня…
На другой день я уехала…
Еще прибавлю несколько слов. Когда в 1879 году исполнилось 25 лет основания общины, я получила от великой княгини Екатерины Михайловны следующую телеграмму:
«В сегодняшний день исполнившегося двадцатипятилетия Крестовоздвиженская община сестер милосердия не может не вспомнить с чувством особой признательности о вашей неутомимой образцовой деятельности в Общине в самые трудные для нее года зарождения и устройства. Екатерина».
Эта телеграмма была мне очень приятна. Она меня удостоверила в том, что мое пребывание в общине не было для нее бесполезно.
С. А. Есенин
В багровом зареве закат шипуч и пенен, Березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих младых царевен И кротость юную в их ласковых сердцах. Где тени бледные и горестные муки, Они тому, кто шел страдать за нас, Протягивают царственные руки, Благословляя их к грядущей жизни час. На ложе белом, в ярком блеске света, Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть… И вздрагивают стены лазарета От жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой Туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, За их судьбу. 1916Эти стихи были написаны в тот период, когда юный поэт (ему исполнился только 21 год) работал санитаром в Лазарете Их Императорских Высочеств Великих Княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны при Феодоровском Государевом соборе для раненых в Царском Селе. Эти стихи Есенин прочел на концерте в день именин великой княжны Марии Николаевны 22 июля 1916 года.
В. И. Чеботарева В дворцовом лазарете в Царском Селе Дневник: 14 июля 1915 – 5 января 1918[1]
1915
21 июля.
<…> 21-го операция Заливского прошла отлично. Шелк подавала Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна[2] инструменты, я[3] — матерьял. Вечером опять приехали чистить инструменты, сидели все в страшной тесноте. Открыли сами окна, сами притащили шелк. О[льга] Николаевна опять сказала: «Мама[4] кланяется вам, Валентина Ивановна, особенно. А хорошо здесь, не было бы войны, мы и вас бы не знали, как странно, правда?». Скребли усердно мыльцем, спиртом, готовые инструменты сами клали в шкап. Офицеры удивлялись: «Ведь есть денщики, отчего вы себе руки портите!».
Императрица Александра Феодоровна с Великими Княжнами Ольгой и Татианой — сестры милосердия в императорском лазарете в Царском Селе
26 июля.
<…> Начали работать императрица и великие княжны в августе. Сначала как они были далеки! Целовали руку, здороваясь с княжнами, и этим дело кончалось. Вера Игнатьевна[5] читала лекции в их комнате с полчаса, там всегда была Анна Александровна, затем шли на перевязки, княжны — солдат, государыня и Анна Александровна[6] — офицеров.
27 июля.
<…> 2-го января я вечер была дома, дежурила графиня. В одиннадцатом часу позвонил М. Л. Слышал о страшной катастрофе — Вырубова тоже пострадала, кажется, ноги отрезаны, «повезли к вам в лазарет». Как стало жутко и первая мысль: «Господи, избавь государыню от этого нового горя потерять близкого, любящего человека!». Кинулась в лазарет. Направо, в конце коридора, на носилках стонал пострадавший художник Стреблов, подле возились Эберт, Мухин; Вера Игнатьевна была налево, в императорской комнате. Оказывается, как только дали знать императрице о несчастьи, она собрала все свои силы и поехала. Присутствие духа поразительное. Помогала выносить всех, сама всем распоряжалась, устроила ей кровать в своей комнате, нашла силы приласкать расплакавшуюся Грекову[7]. По телефону сказали, что ноги уже обе отрезаны. Императрица погладила Грекову по голове, поцеловала и сказала: «До последней минуты я всегда надеюсь и еще не верю, Бог милостив». Около десяти часов привезли. Каким-то чудом Вера Игнатьевна оказалась во встречном поезде, наткнулась на Сабурова, кричавшего: «Аня Вырубова искалечена, не могут вытащить из-под вагона!». Два часа стояла подле нее на снегу и помогала отвезти — к нам. Страдания невероятные. Осмотреть ее не удается — кажется, сломан крестец — при малейшей попытке дотронуться — нечеловеческий стон, вой. Коридоры полны народа, тут и Воейков[8], флигель-адъютант, Комаров[9], масса придворных, старики Танеевы[10] бродят растерянные, не отказались все же закусить. Татьяна Николаевна, нежно взяв под руку старуху Танееву, прошла с ней по коридору, заплаканная.
Послали за Григорием[11]. Жутко мне стало, но осудить никого не могла. Женщина умирает; она верит в Григория, в его святость, в молитвы. Приехал перепуганный, трепаная бороденка трясется, мышиные глазки так и бегают. Схватил Веру Игнатьевну за руку: «Будет жить, будет жить…» Как она сама мне потом говорила, «решила разыграть и я пророка, задумалась и изрекла: „Будет, я ее спасу"». Несмотря на трагизм минуты, государь не мог не улыбнуться, сказав: «Всякий по-своему лечит».
Государь приехал в первом часу ночи, грустный, но, главное, видно, озабоченный за императрицу, С какой лаской он за ней следил и с некоторым беспокойством всматривался в лица офицеров: как-то будет встречено появление наряду с ними этого пресловутого старца. Государь долго говорил с Верой Игнатьевной, подробностей не знаю, но он, безусловно, ни в какую святость и силу Григория не верит, но терпит, как ту соломину, за которую хватается больная исстрадавшаяся душа. Сюда поместил Анну Александровну нарочно, «чтобы и она, и остальные были в здоровой обстановке, если возможно, удаленные от кликушества».
Вера Игнатьевна поставила условием, чтобы Григорий ходил через боковой подъезд, никогда среди офицеров не показывался, чтобы его Акулина-богородица не смела переступать порога, отделяющего коридор, где императорская комната и перевязочные, от остального помещения. Стеклянные двери были закрыты и на следующее утро завешены полотняными портьерами. Но все это были меры страуса, прячущего голову. Все знали о каждом его появлении и большинство мирилось, верно понимая, что нельзя отказать умирающей женщине в ее просьбе. Но невольно какая-то тень бросалась на светлый, обожаемый облик, и что-то было надломлено… Анна Александровна встретила Григория словами: «Где же ты был, я так тебя звала. Вот тебе и ясновидение, не почуял на расстоянии, что с его Аннушкой беда приключилась!». Остался дежурить на всю ночь. Царская семья уехала около часу. У государыни нашлись силы всем нам пожать руки, улыбнуться. Вот несчастная!
30 июля.
<…> Среди операции перенесли ужасную минуту. Вера Игнатьевна говорит: «дренаж», а о нем никто и не подумал. Счастье, что я, по своей мании все стерилизовать, прокипятила жгут и спрятала его в стеклянную банку. Мигом выхватила и подала, но час еще после все внутри прыгало и дрожало. Княжны мне шепнули: «После отъезда мама мы останемся, поможем вам чистить инструменты». И милые детки работали до восьмого часу. Татьяна Николаевна скальпелем обрезала палец, кровь текла довольно сильно и лучше, пожалуй, хотя нож был чист, но мог попасть грязный порошок в ранку. Подле сидели Мел. Адам и Шах Багов. Сколько поэтической ласки вносит Татьяна Николаевна! Как она горячо отзывалась, когда вызывала по телефону и прочла телеграмму о его ранении. Какая она хорошая, чистая и глубокая девочка! Молодость тянет к молодости, и как светятся ее глазки! Ужасно хорошая!
<…> Вспомнилась сценка из безмятежных дней, когда с фронта шли радостные вести, и в лазарете царил тихий, счастливый покой. В конце апреля или в начале, не помню точно, государыня бывала каждый день, бодрая, чудная, ласковая. После перевязок часами сидела у постели Варвары Афанасьевны[12], туда приходили и раненые. Государыня и княжны работали, шутили, смеялись.
1 августа.
<…> Как тяжела была смерть Корвин-Пиотровского! Я была ночной дежурной и всю ночь сидела подле бедняги, и ему грозила ежесекундная смерть. С правой стороны вздулась опухоль в кулак. Каждые пять минут он менял положение. Гладила его по руке… Казалось, немного забывался и спал с перерывами. Наутро бодро поехал на операцию. Начало было недурно, но как-то щемящим предчувствием сжималось сердце, как увидела Деревенько[13], этот злой дух наш, a porte malheur[14]. Артерии Вера Игнатьевна перевязала, дала держать Эберману[15] и вдруг артерия перервалась, кровь хлынула рекой, и тут Вера Игнатьевна проявила чудеса ловкости, мигом отшвырнула Эбермана и одним движением зажала бьющий фонтан. Но легкие уже насытились кровью и всем слышен был роковой свист. Наркоз прекратили, но пульс стал падать, лицо посинело, остановившиеся стеклянные глаза не реагировали ни на свет, ни на прикосновение. Все попытки вызвать искусственное дыхание, опрокидывание головы вниз — ничто не помогало. В жизни не забуду этой первой смерти, что пришлось видеть. Два-три каких-то беспомощных всплескивания губами — и все кончено. Человека не стало. Какая мертвая тишина наступила… Сестры, и Ольга, и Татьяна, плакали. Государыня, как скорбный ангел, закрыла ему глаза, постояла несколько секунд и тихо вышла. Бедная Вера Игнатьевна моментально ушла к себе. До чего ей было тяжело; у всех врачей был сконфуженный, но виноватый вид. Драматично еще то, что жена его не получила телеграммы, ехала, уверенная, что он легко ранен, и первым делом наткнулась на денщика: «Где барин, проведи меня скорей», а тот по простоте душевной брякнул: «Вот здесь, в часовне».
21 октября.
<…> Занятно, чем кончится история Б. Д. Офицеры-преображенцы переоделись извозчиками и повезли кататься сестер — скандал и шум. Шаховская[16], конечно, не преминула обратиться к Вырубовой. Государыня взглянула очень строго, офицеров перевели в другой лазарет, а сестер, возможно, вышибут. Шаховская свою кузину на их место. Но, говорят, без крупной истории не обойдется, расскажут все эскапады Шаховской, но захотят ли их выслушать!
24-го октября.
Все эти дни государыня приезжает, мила, ласкова и трогательна, говорила и со мной ласково и приветливо. Оказывается, мяса и рыбы не ест по убеждению: «Лет десять-одиннадцать тому назад была в Сарове и решила не есть больше ничего животного, а потом и доктора нашли, что это необходимо по состоянию моего здоровья». Сидела долго с работой в столовой. Одна из княжон играла в пинг-понг, другая в шашки, кто читал, кто болтал, все просто и уютно. Государыня сказала Варваре Афанасьевне: «Посмотрите, как малышки забавляются, как эта простая жизнь позволяет отдохнуть… большие сборища, высшее общество — брр! Я возвращаюсь к себе совершенно разбитой. Я должна себе заставлять говорить, видеться с людьми, которые, я отлично знаю, против меня, работают против меня… Двор, эти интриги, эта злоба, как это мучительно и утомительно. Недавно я, наконец, была избавлена кое от кого, и то лишь когда появились доказательства. Когда я удаляюсь из этого общества, я устраиваю свою жизнь как мне нравится; тогда говорят: „она — экзальтированная особа"; осуждают тех, кого я люблю, а ведь для того, чтобы судить, надо все знать до деталей. Часто я знаю, что за человек передо мной; достаточно на него раз взглянуть, чтобы понять: можно ему доверять или нет» (пер. с франц.).
Бедная, несчастная… Такой она мне и рисовалась всегда — сама чистая и хорошая, цельная и простая, она томится условностью и мишурой большого света, а в грязь Григория она не может поверить. В результате — враги в верхних слоях и недоверие нижних.
<…> Сегодня Татьяна Николаевна сначала приехала одна: «Ведь я еду сюда, как в свой второй дом», и, действительно, такая милая и уютная была. Побежала со мной в кухню, где мы готовили бинты. Государыня посмеялась и сказала, что Татьяна, как хорошая домашняя собачка, привыкла. Бедная Ольга Николаевна совсем больна — развилось сильнейшее малокровие, уложили на неделю в постель, но с разрешением приезжать в лазарет на полчаса для вспрыскивания мышьяка.
4 декабря.
<…> И почем знать, что за драму пережила Ольга Николаевна. Почему она так тает, похудела, побледнела: влюблена в Шах Багова? Есть немножко, но не всерьез. Вообще атмосфера сейчас царит тоже не внушающая спокойствия. Как только конец перевязок, Татьяна Николаевна идет делать вспрыскивание, а затем усаживается вдвоем с К. Последний неотступно пришит, то садится за рояль и, наигрывая одним пальцем что-то, много и горячо болтает с милой деткой. Варвара Афанасьевна в ужасе, что если бы на эту сценку вошла Нарышкина, мадам Зизи, то умерла бы. У Шах Багова жар, лежит. Ольга Николаевна просиживает все время у его постели. Другая парочка туда же перебралась, вчера сидели рядом на кровати и рассматривали альбом. К. так и жмется. Милое детское личико Татьяны Николаевны ничего ведь не скроет, розовое, возбужденное. А не вред ли вся эта близость, прикосновения. Мне жутко становится. Ведь остальные-то завидуют, злятся и, воображаю, что плетут и разносят по городу, а после и дальше. К. Вера Игнатьевна посылает в Евпаторию[17] — и слава Богу. От греха подальше. Вера Игнатьевна говорила мне, будто Шах Багов, нетрезвый, кому-то показывал письма Ольги Николаевны. Только этого еще недоставало! Бедные детки!
Татьяна Николаевна — чудная сестра. 27-го, в день возвращения Веры Игнатьевны, взяли Смирнова в перевязочную. Температура все держалась, пульс скверный, решен был прокол после пробного укола. Игла забилась сгустками гноя, ничего не удавалось высосать, новый укол, и Вера Игнатьевна попадает прямо на гнойник; потек густой, необычайно вонючий гной. Решают немедленно прорез. Забегали мы, я кинулась фильтровать новокаин и кипятить, Татьяна Николаевна самостоятельно собрала и вскипятила все инструменты, перетаскивала столы, готовила белье. Через 25 минут все было готово. Операция прошла благополучно. После разреза сперва с трудом, а потом рекой полился невероятно вонючий гной. Первый раз в жизни у меня был позыв к тошноте, а Татьяна Николаевна ничего, только при жалобе, стонах личико подергивалось, да вся стала пунцовая. К вечеру у Смирнова пульс стал падать, в девять часов приехали Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна чистить инструменты. К. опять на лесенке рядом с Татьяной Николаевной. Детки были веселые, оживленные. В десять часов пошли к Смирнову перед отъездом, и жизнерадостность разом пропала. Глаза закатились, в груди клокотанье, каждый час вспрыскивали то спермит, то камфору. Мы с Варварой Афанасьевной решили остаться, послали за родными, за священником. Исповедался, причастился, глаза оживились, внимательно на всех глядел, совсем ясно говорил, трогательно простился с батюшкой: «Спокойной ночи, батюшка», — но клокотанье не прекращалось, к утру уже никакие вспрыскивания не помогали, пульс пропал, вздохнул два раза и кончился.
На панихиду и отпевание приехала и государыня, ужасно худенькая и грустная. К. приказала оставить санитаром.
7 декабря.
<…> Вчера великие княжны в шесть часов вечера вызвали к себе Варвару Афанасьевну, как всегда мило ее ласкали. Между прочим, Татьяна Николаевна спросила: «Как вы думаете, когда сегодня легла мать? В восемь утра! — Очевидно, всю ночь провела подле постели Алексея Николаевича. — Через полчаса встала и поехала в церковь». Княжны при Варваре Афанасьевне переоделись, выбирали драгоценности. Ольга сказала: «Жаль только, что некому мною наслаждаться, один папа!». Полное отсутствие кокетства. Раз, два — прическа готова (прически нет), в зеркало и не взглянула. Но строгости все же большие. Анастасию[18] не взяли обедать, рано должна ложиться спать, потому обедала вдвоем с няней на своем громадном одиноком «верху». Перед тем, когда Варвара Афанасьевна была у них — Ольга была больна, — Нюта принесла граммофонную пластинку «Прощай, Lou-Lou». Отголоски, очевидно, лазаретных впечатлений. Грустно бедным деткам живется в блестящей клетке.
1916
8 января.
<…> Татьяна Николаевна трогательно-ласкова, помогала даже в заготовке, сидела в уголку, чистила инструменты, а 4-го приезжала вечером переваривать шелк, сидела самостоятельно в парах карболки, расспрашивала про мое детство, есть ли у меня братья и сестры, где брат, как его зовут. Еле уговорила [ее] пойти погадать. Рита[19] устроила в заготовочной. Побежала с интересом. Ольга уверяет, что мечтает остаться старой девой, а по руке ей Шах Багов пророчит двенадцать человек детей. Интересная рука у Татьяны Николаевны: линия судьбы вдруг прерывается и делает резкий поворот в сторону. Уверяют, что должна выкинуть нечто необычайное.
6-го приезжал наследник, бегал по коридору с каталкой. Потом он Рите не хотел показать медали, а стал играть в домино, заинтересовался стеклянной дробью, весь перемазался в чернилах, разложил по углублениям домино и очень был доволен — «бутерброд с икрой». Ему дали пинцет, которым облатки раскладывают. «Ну, это, значит, пилюли от кашля, при кашле, с кашлем, против кашля, для кашля». Напоминал дитя из короленковского рассказа «В дурном обществе» — грустный, бледненький и, как много болевшее дитя, способен заняться тихим пустяком вроде методичного и несложного перекладывания стеклянных дробинок.
16 января.
<…> Сегодня Татьяна Николаевна ходила со мной вместе после перевязок у нас наверх, на перевязку Попова. Милая детка ужасно только конфузится, когда надо проходить мимо массы сестер; схватит меня за руку: «Ужас, как стыдно и страшно… не знаешь, с кем здороваться, с кем нет». У Ольги как-то грустно вырвалось: «По телефону ведь ничего нельзя говорить, подслушивают, потом донесут, да не так, переврут, как недавно». Что именно было, не удалось выспросить, но Воейков что-то сказал — детали так и не узнала, очевидно, «специальная цензура» процветает вовсю.
27-го января.
Сегодня проведу трудовой день рождения. Никто даже из домашних не знает и не помнит этого дня. Сегодня операция аппендицита, так что работы по горло. Просматривала предыдущие записи. Кажется, пропустила характерную заметку «Мечты о счастьи» Ольги Николаевны: «Выйти замуж, жить всегда в деревне и зиму, и лето, принимать только хороших людей, никакой официальности».
15 февраля.
<…> Сегодня операция, вторая, Павлову[20] — большая, серьезная, но все кончилось вполне благополучно. Татьяна Николаевна допрашивала, что рассказывал О. — вернулся ведь из Евпатории. Все ждала, очевидно, услышать про К.: «Они все ведь на шесть недель поехали?». К., говорят, возвращается на днях. А тут еще пришло письмо от Шах Багова — Ольга Николаевна от восторга поразбросала все вещи, закинула на верхнюю полку подушку. Ей и жарко было, и прыгала: «Может ли быть в двадцать лет удар? По-моему, мне грозит удар». Но Варвара Афанасьевна продекламировала: «Младая кровь играет; лета идут, и стынет кровь».
<…> Цирг и Вера Игнатьевна окончательно разъехались. В. тоже отказался от своего места. По словам Варвары Афанасьевны, государыня сказала: «Mais quest ce quelle veut? C’est une ambition folle, c’est contre moi-meme, contre ma volonte que je cede»[21].
Но Вера Игнатьевна просила тоже аудиенцию и вернулась очень довольная. Государыня приказала принять все подробно, аккуратно, была очень мила, спрашивала про меня, как справляюсь с сестрами, просила мне отдельно поклониться.
Ш. анонимно прислала Варваре Афанасьевне стихи на злобу дня:
Порой случается на свете, Чего никто никак не ждал. Пример: в Дворцовом лазарете Произошел большой скандал. Кто ж виноват иль виновата? Как вспыхнуть мог такой пожар? Ответ: бутыль денатурата И неуклюжий санитар. Княжна Гедройц, хирург прекрасный, Но любит почести и лесть, И нрав имеет грозно властный — Ведь и на солнце пятна есть! А Цирг, начальник безупречный, Но лесть ему невмоготу, Он предпочел покой беспечный Сему высокому посту. Счета, скандалы, перетраты… На пункт родной он мчится вновь. Прощайте, белые палаты, Там милый Фролик и любовь! Ну, а полковник самый важный? Он тоже ведь замешан был. Ужель и он в борьбе неравной Княжне дорогу уступил? Но разве можно в легком тоне Касаться этаких персон! Я не забуду, что в «районе» Над нами всеми властен он. И легкомысленного слова Я не скажу, не ждите, нет. Взгляните на лицо Фролова И прочитайте в нем ответ!12 марта.
6 часов утра. Вчера новый разрез Павлову и удаление осколка. Вечером Татьяна Николаевна и Ольга приехали помочь чистить инструменты, ужасно были забавны и ласковы. Варвара Афанасьевна, видя, как мы дружно помогали друг другу с Татьяной Николаевной, заявила: «Ну, две подружки, вы бы сели рядом, а то мне в нос два кулака все время». Накануне я позвонила вечером сама, и Татьяна — она не знала, какая же, в сущности, предстоит операция — чрезвычайно обстоятельно рассказала все, что было на перевязках без меня: «Пожалуйста, и впредь так делайте, я ужасно рада». И чувствовалось, что это искренно, детка рада вполне войти в жизнь лазарета, рада, что к ней обращаются за справкой, как к милому члену этой семьи.
4 мая.
Сегодня уезжают в поездку. Уже несколько дней назад Татьяна Николаевна рассказала по секрету о предстоящем отъезде: «К 6-му будем у папа, а затем и еще проедемся». И вот последнее-то и тревожит. Неделю тому назад в специальном поезде повезли в Евпаторию Аню; Сергей Николаевич[22] тоже выехал на ревизию лазаретов в Крыму с этим же поездом. Очень много создалось разговоров. Одно купе было с опущенными шторами. Конечно, все твердят — там был спрятан Григорий. Это бы с полгоря, но теперь из Ставки вместе с папой едут в Одессу, Севастополь и из южнобережных лазаретов заедут только в Евпаторию. Вспоминается, как зимой государыня говорила: «Аня такой ребенок, она плачет и ни за что никуда не хочет ехать без меня… не хочет понять, что у меня другие обязательства». Но ребенок, значит, настоял на своем.
11 июня.
<…> Ольга Николаевна серьезно привязалась к Шах Багову, и так это чисто, наивно и безнадежно. Странная, своеобразная девушка. Ни за что не выдает своего чувства. Оно сказывалось лишь в особой ласковой нотке голоса, с которой давала указания: «Держите выше подушку. Вы не устали? Вам не надоело?». Когда уехал, бедняжка с часок сидела одна, уткнувшись носом в машинку, и шила упорно, настойчиво. Должно быть, натура матери передалась.
Говорила государыня, что «с двенадцати лет влюбилась в государя… и все делала, чтобы этот брак не состоялся. На земле нет счастья, или дорого за него заплатишь». Да она и недешево расплатилась за свое. Неужели и Ольгина такая же судьба? Преусердно искала перочинный ножик, который Шах Багов точил в вечер отъезда — и бороду черту завязывала, целое утро искала и была пресчастлива, когда нашла. Хранит также и листок от календаря, 6 июня, день его отъезда.
Татьяна легче мирится, проще приспособляется, веселится, щебечет все равно с кем. Думает, что никому не известны их ежедневные приезды в лазарет. Звонила по телефону — заказывала 1000 пакетов для предстоящей поездки княжны на фронт: «Знали ли, откуда я говорю?».
30 декабря.
Какое волнение пережили за время с 17-го! Заехала около семи часов в лазарет, дежурная сестра кинулась: «По телефону передали: Григорий убит». Пришли «Биржевые Новости» — подтверждение. Дети звонили: «Вечером быть не можем, служба у нас, должны с мама остаться». В одиннадцать вечера позвонила Елизавета Николаевна, мужу сказал комендант — убил Юсупов, тело не найдено. Интересно, знали уже в два часа о происшествии?
Вечером, говорят, часов около пяти, узнали о пропаже, слезы, отчаяние. В воскресенье она и Татьяна Николаевна причащались. В воскресенье дети совсем не были, приехали в понедельник, заплаканные, подозрительно следящие за всеми. Татьяна вышла среди перевязок, заговорила с Варварой Афанасьевной, расплакалась, пришла обратно в операционную, еле сдерживалась. 20-го вернулся государь, поехали навстречу, долго оставались в вагоне; вышел растерянный, забыл поздороваться с встречавшими, вошел в покои, тогда вспомнил, вернулся, молча пожал руки. Результат — утверждение Протопопова[23], полное торжество реакции, сейчас говорят о возможности объявления регентшей 1-го января, чтобы все министры являлись с докладом. Пожалуй, подтверждение сегодня на замечание Ольги Николаевны: «Мама неважно себя чувствует, да и устает, весь день за бумагами, много дела, утром вся кровать засыпана».
Что же это будет? В первую минуту даже жалели, но когда под сурдинку стало известно, что его привезли сюда на квартиру В., что ночью 21-го похоронили под будущей церковью Серафимовского убежища. На закладке ее были все — Григорий, Боткин и другие — безумно боялись попасть в лестной компании на вид, — новая вспышка безумной ярой ненависти, все классы с пеной у рта о ней говорят. Победила пока она — Трепов[24], Ипатьев уволены. Недаром говорила; «Довольно я страдала, больше не могу. Надо в бараний рог согнуть». Вот, значит, кровь, и с великой целью пролитая, не дает счастья — наоборот — новое озлобление, вспышка реакции. Дмитрий Павлович[25]? выслан в Персию. Даже отцу не дали проститься, Юсупов в Курск. Говорят, поклялись, что их руки не замараны кровью, они — организаторы, палач наемный, они только увозили, Павел Александрович был у государя, протестовал, что сын арестован по повелению ее величества. Государь помялся, но дело сделано.
1917
6 февраля.
Разговорилась с Верой Игнатьевной о былом. Как в начале войны государыня была ей близка. В городе толковали, что подпала совершенно ее влиянию. Злые языки не преминули [сообщить] даже мерзкую окраску. Как советовалась с ней, искала откровенной, сердечной беседы. После одной из лекций сказала: «Хочу вас, княжна, познакомить с Григорием Ефимовичем Распутиным, мы оба с государем очень его ценим» Григорий кликушествовал: «Верь ей, она твой честный рыцарь». А теперь Вера Игнатьевна подчас думает, что не эта ли фраза — ключ к загадке, что, несмотря на Аню, невзирая на голую и горькую правду, что подчас она преподносит, княжну терпят и не выставляют, как других верных, но неприятных слуг — князя Орлова, Дрентельна. После первой встречи старалась доказать всю обыденность, мелочность этого юродивого, каких немало на Руси. В первые же месяцы дружбы говорила: «Англия не многого стоит, верьте мне, кончится все войной с англичанами». Прислала записку — до перевязок приехать на квартиру Ломана[26]. К удивлению, там был Григорий, трясся, волновался, все спрашивал Ломана: «Едет?». Крестился, метался. Приехала. Сказала две-три незначащих фразы Григорию и позвала княжну: «Едемте в церковь».
Это было в пору наибольшего отчуждения от Григория, когда отошла от них и верила Вере Игнатьевне.
6 марта.
Столько впечатлений, что вчера не в силах была взяться за перо. Об отречении узнала только 4-го утром, в Петрограде расклеено было 3-го вечером. Никогда не забуду этой минуты. Сыплется сплошной крупный снег, холодно, навстречу попался мастеровой, в руках листок «Известий». Попросила прочесть. Кругом толпа и пришлось читать не наедине роковые слова; отрекался за себя и за сына. Пять дней, и не стало монархии. Росчерк пера — и вековой уклад рухнул. Кругом тишина. Всех жуть охватила. Россия — и без Царя.
В лазарете гробовая тишина. Все потрясены, подавлены. Вера Игнатьевна рыдала, как дитя беспомощное. Ждали ведь конституционной монархии, и вдруг престол передан народу, впереди — республика. Вчера вышли все газеты, жадно читала все от доски до доски. Правительство выбрано идеальное, но деморализация армии — выборы солдатами начальства, выборы депутатов от врачей и санитаров — и становится опять жутко за наше будущее. Расшатанная дисциплина армии — ведь это государственная смерть страны. Умирать идейно идут горсти, а массу гонит вперед железная организация, дисциплина. Неужели и с этим бичом новое правительство не справится и допустит агитационную заразу на фронте?
20 марта.
<…> В лазарете полное разрушение. На месте был образован хозяйский комитет, Вера Игнатьевна, граф Рентах, сами больные и прочие. Сестры вызвались перейти на солдатский стол, а когда комитет запротестовал, зачем дают сестрам экстра масло, гражданский порыв охладел, и Красный Крест даже, кажется, Вере Игнатьевне сделал замечание: ничего нельзя проводить в жизнь, что не узаконено. Сегодня прошел слух, что санитары и солдаты решили просить об удалении Грековой и Ивановой. На собрании сестер решено бороться. Жутко, как все это будет.
2 апреля.
Хочется подвести итоги этих недель. Вырезками из газет характеризуется все яркое и интересное, тревожное. Буду заносить сюда лишь личные впечатления. О заключенных знаем мало, хотя редкие письма приходят. Два получила Варвара Афанасьевна от Татьяны, также и Рита. В первом Татьяночка писала: «Слышала, что лазарет переведен в новое помещение. Постараемся, чтобы заказанная посуда была вам доставлена (исполнено вчера). Пришлите наши вещи. Письмо будет, вероятно, вскрыто здешней цензурой».
Отправили их халатики, альбомы, аппарат и образ из столовой, купленный всеми нами — последний привет из лазарета. В свое время выбрал Шах Багов. Вчера опять писала Татьяна: «Дорогая Варвара Афанасьевна, посылаем вещи, рубашки, подушки, кое-какие книги. Скажите Биби, душке, что любим ее и крепко целуем. Что поделывают Митя и Володя? Что Валентина Ивановна и Гриша?».
Вечером принесли открытку на мое имя: «Христос Воскресе! Трижды целуем милую Валентину Ивановну. Сестры Александра, Ольга, Татьяна». Вера Игнатьевна находит, что нельзя каждой отвечать, чтобы не создать впечатление «партии». Рита за всех пусть ответит. Комендант говорит, что можно писать. Права ли Вера Игнатьевна? Неужели в такой великий праздник нельзя обменяться христианским приветом? У Ольги ангина, температура 39,9°. Алексей Николаевич лежит, ушиб руку, опять кровоизлияние. Мать все время при детях, отец, видимо, отделен, видится [с ними] изредка. Рассказывали, что когда приезжал Керенский, Алексей Николаевич вышел и на вопрос: «Все ли имеется, что необходимо?» — ответил: «Да, только мне скучно, я так люблю солдатиков». — «А вон сколько их кругом и в саду». — «Нет, эти не такие, эти на фронт не пойдут, я тех люблю». За достоверность не ручаюсь.
Варвара Афанасьевна сама не может писать. Сергей Николаевич арестован по обвинению в близости к Александре Федоровне и в намерении «бежать в Швецию». При допросе очень интересовались отношением к министрам, к Григорию, к Вырубовой. Спрашивали, каким хирургом считает Веру Игнатьевну. Ответил: «Поручил ей оперировать свою жену, если вам это что-нибудь говорит».
7 декабря.
Странное совпадение: любимое детище[27] тобольцев[28] покончило свое существование в годовщину смерти Григория[29]. Сберечь все целиком по их просьбе и сложить в Большой дворец, кажется, не удастся; уже со всех сторон протягиваются жадные лапы, просят инструменты, кровати, белье. Канун закрытия провели очень уютно: четыре ветерана — Таубе[30], Эр[?], Кунов и Сергеев устроили чай с чудным куличом. Засиделись до глубокой ночи. Уютно и грустно было. Сергеев пел, М. чудно декламировал <…> Да, как-никак три года четыре месяца проработали. Буду ходить на часок в солдатское отделение, пока не уедут мои ученики Храминов и Лемякин. Очень они хорошо занимаются, дробь постигли в совершенстве, отлично решают задачи. За работой с ними забываешь ужас пропасти, в которую толкают страну большевики.
Примечания
1
Новый журнал. Кн. 181, 182. Нью-Йорк, 1990.
(обратно)2
Великие княжны Татьяна (1897–1918) и Ольга (1895–1918) Николаевны.
(обратно)3
Чеботарева Валентина Ивановна (ок. 1879–1919) — старшая сестра Дворцового лазарета, жена генерал-майора П. Г. Чеботарева, автор воспоминаний. После отъезда из Царского Села (1918) возобновила работу в лазарете г. Новочеркасска, где после освобождения из немецкого плена ее муж служил директором Донского Кадетского корпуса. Скончалась от тифа.
(обратно)4
Императрица Александра Федоровна (1872–1918).
(обратно)5
Старший врач Дворцового лазарета, доктор медицины, княжна Вера Игнатьевна Гедройц (1870–1932).
(обратно)6
Вырубова (ур. Танеева) Анна Александровна (1884–1964), фрейлина Двора, близкий друг императрицы.
(обратно)7
Грекова Ольга Порфирьевна, сестра милосердия, дочь донского казачьего генерала, после революции вышла замуж за барона Д. Ф. Таубе.
(обратно)8
Владимир Николаевич Воейков, генерал-майор Свиты, последний дворцовый комендант, автор воспоминаний.
(обратно)9
Заведующий Зимним Дворцом.
(обратно)10
Родители А. А. Вырубовой, Александр Сергеевич Танеев, обер-гофмаршал (ум. в 1918 году) и Надежда Илларионовна, ур. Толстая.
(обратно)11
Распутиным.
(обратно)12
Вильчковская Варвара Афанасьевна — сестра милосердия, жена полковника С. Н. Вильчковского, председателя Царскосельского эвакуационного комитета автора путеводителя по Царскому Селу.
(обратно)13
Дядька наследника Алексея.
(обратно)14
Принес несчастье (франц.).
(обратно)15
Эберман Александр Александрович, доктор медицины.
(обратно)16
Княжна Шаховская, фрейлина Великой Княгини Елизаветы Федоровны, подруга А. А. Вырубовой.
(обратно)17
Для дальнейшего лечения раненые из Дворцового лазарета посылались в евпаторийский госпиталь им. императрицы Александры Федоровны (Приморскую санаторию).
(обратно)18
Великая княжна Анастасия Николаевна (1901–1918).
(обратно)19
Хитрово Маргарита Сергеевна (1895–1952), фрейлина, сестра милосердия, последовала за царской семьей в Тобольск. По личному приказу Керенского арестована (22.8.1917) и доставлена под конвоем в Москву. Состояла в переписке с царской семьей во время их заключения. В эмиграции вышла замуж за В. Г. Эрдели. Скончалась в Нью-Йорке.
(обратно)20
Семен Павлович Павлов — во время Великой войны был офицером пулеметной команды 10-го Кубанского пластунского батальона. Будучи раненным, в январе 1916 года попал в Дворцовый лазарет в Царском Селе. Автор мемуаров «Мои воспоминания о царской семье».
(обратно)21
«Чего она хочет? Глупая амбиция. Это против меня самой, против моей воли, что я уступаю» (франц.).
(обратно)22
Начальник Царскосельского эвакуационного пункта полковник (с 1916 года генерал-майор) Сергей Николаевич Вильчковский, автор путеводителя по Царскому Селу.
(обратно)23
Александр Дмитриевич Протопопов, министр внутренних дел.
(обратно)24
А. Ф. Трепов, премьер-министр.
(обратно)25
Вел. кн. Дмитрий Павлович, участник убийства Распутина.
(обратно)26
Полковник Дмитрий Николаевич Ломан, ктитор Феодоровского собора, начальник лазарета № 17, уполномоченный императрицы по военно-санитарному поезду № 143, расстрелян большевиками в 1918 году.
(обратно)27
Имеется в виду Дворцовый лазарет в Царском Селе.
(обратно)28
31 июля (стар, ст.) 1917 года царская семья была отправлена из Александровского дворца в Тобольск. Весной 1918 года была перевезена оттуда в Екатеринбург.
(обратно)29
Распутина.
(обратно)30
Барон Дмитрий Фердинандович Таубе, офицер лейб-гвардии 1-го стрелкового Е. В. полка. Находился на излечении в Дворцовом лазарете. Женился на сестре лазарета О. П. Грековой.
(обратно)



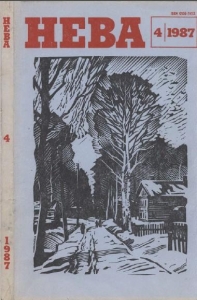

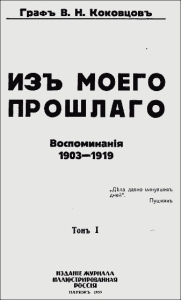


Комментарии к книге «Быть сестрой милосердия. Женский лик войны», Екатерина Михайловна Бакунина
Всего 0 комментариев