Карл Проффер Без купюр
© Ellendea Proffer Teasley, 2017
© В. Бабков (“Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском”) перевод на русский язык, 2017
© В. Голышев (“Литературные вдовы России”), перевод на русский язык, 2017
© ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®
* * *
Эллендея Проффер Тисли Женщины, смерть и русская литература
Позвольте вернуть вас в аналоговую эпоху. Летом 1982 года у Карла Проффера неожиданно обнаружили рак толстой кишки и сказали, что ему осталось жить три месяца. Благодаря пяти операциям и радикальной химиотерапии ему удалось прожить два года. За оставшееся время он решил написать эту книгу.
Ни в характере его, ни в биографии ничто не предвещало будущего интереса к русской литературе. Баскетбольная звезда в школе, он в одночасье сделался интеллектуалом. В семье Карла не было гуманитариев, о литературе он знал только то, что могла дать средняя школа на Среднем Западе. В 1950-х годах, когда он поступил в Мичиганский университет, ему надо было выбрать иностранный язык. Будущее нашло его в восемнадцатилетнем возрасте, когда он стоял перед доской объявлений с образцами языков и впервые увидел русский алфавит. Его внимание привлекла буква “Ж”, похожая на бабочку, и он сказал себе: “Какой интересный алфавит”.
Изучение русского языка, естественно, привело к курсу русской литературы, предмета, о котором он не знал ничего. Карл, до того прочитавший очень мало художественных произведений, соприкоснулся с одной из великих мировых литератур и встретился с Пушкиным, Гоголем, Толстым и Достоевским – все на протяжении одного курса.
Так студент, который с его памятью и великолепной логикой мог бы стать, например, юристом, подпал под обаяние русской литературы и погрузился в нее со страстью. Баскетболист стал интеллектуалом и ученым, но психологически он оставался капитаном команды. Смелость и лидерские качества оказались очень важными в его дальнейших занятиях. Этим объясняется, между прочим, и то, что, не достигнув еще тридцатилетия, Карл вступил в переписку с Набоковым и был уверен в себе настолько, что послал этому известному своей придирчивостью автору рукопись “Ключей к «Лолите»”.
Карл с необычайной быстротой преодолел академическую полосу препятствий: он стал самым молодым доктором философии в университете и в 1972 году – самым молодым профессором. Он был превосходным преподавателем, переводчиком и исследователем. Был требователен и вместе с тем старался, чтобы занятия у него доставляли удовольствие. Однажды, разбирая со старшекурсниками “Записки из подполья”, он дал пресс-конференцию от лица “подпольного человека”; студентам предлагалось задавать вопросы о чем угодно, а его импровизированные ответы – в соответствии с характером персонажа – были мрачными и параноидальными.
Слава Карла как литературоведа была неожиданной, как и многое в нем самом. По прихоти издательских планов три его книги в разных издательствах вышли одновременно. Это были: исследование сравнений в “Мертвых душах”, перевод подборки писем Гоголя и “Ключи к «Лолите»”. В рецензии лондонского The Times Literary Supplement 10 октября 1968 года говорилось, что в русском литературоведении появилось значительное лицо.
Книга Карла о сравнениях у Гоголя, писал рецензент, “явно основана на его докторской диссертации, но диссертация профферизована, т. е. увлекательна, энергична, и сквозь ученый аппарат просвечивает энтузиазм и оживленность самого критика… Публикация трех исследований, двух о Гоголе и одного о Набокове, в течение одного года – поразительное достижение для доселе неизвестного ученого”.
Вначале Карл занимался Гоголем и Пушкиным – подробно и глубоко изучал обоих писателей. Со временем он накопил огромное количество знаний обо всех значительных писателях русского Золотого века. Позже, когда моей темой стал Булгаков, мы вместе переводили его пьесы и рассказы, и он принялся так же подробно изучать русских писателей XX века.
Его работы отличались ясностью, энергией и отсутствием ученого жаргона. И в них видна была уверенность, редкая в молодых исследователях. Он написал “Ключи к «Лолите»”, когда ему не было тридцати, и несмотря на то, что сам Набоков согласился прочесть рукопись, Карл позволил себе в книге такой пассаж:
Есть афоризм, приписываемый знаменитому русскому полководцу Суворову, я процитирую его по записным книжкам князя Вяземского: “Тот уже не хитрый, о котором все говорят, что он хитер”. Его можно метафорически и с полным правом применить к Набокову-художнику. Тайная основа и техническая сторона мастерства Гоголя спрятаны так глубоко, что критику почти невозможно их сколько-нибудь прояснить. Набоков же, кажется иногда, слишком много думает, и поэтому его можно анализировать.
В 1971 году мы основали издательство “Ардис”; об этом я написала в предисловии к книге “Бродский среди нас”, так что распространяться об этом здесь не буду. В мире подобных издательств не было: насколько я знаю, это было единственное издательство, печатавшее литературу другого народа (в оригинале и в переводах) и учрежденное иностранцами, людьми иной культуры.
Одним из первых наших изданий был Russian Literature Triquarterly – это была идея Карла и его любимое детище. Образцом для него послужил пушкинский “Современник”, и этот толстый журнал явился своего рода революцией в славистике. В нем печатались переводы, статьи, библиографии, и особый раздел был посвящен текстам и документам на русском языке.
Мы много раз ездили в Россию и познакомились со многими прекрасными писателями и учеными. Уже в 1972 году “Ардис” представлялся надежным местом для публикации за границей и стал играть активную роль в русском литературном процессе. Мы были совсем американцы, и поэтому нельзя сказать, что всегда понимали советский мир (хотя Карл полагал, что чтение Салтыкова и Гоголя – достаточная подготовка), но я бы сказала, что у нас было сильное чувство к людям и к их стране.
Долгие годы застоя и возобновление репрессий привели к полному гражданскому разочарованию. Тем не менее Карл предвидел конец советской тирании, пусть и в отдаленном будущем. Вот цитата из его речи на конференции “третьей волны” в Лос-Анджелесе в 1981 году, когда лишь немногие могли вообразить конец Советского Союза:
Советская система изменится. Меняется все, и ей этого не избежать, потому что она по сути лжива, посредственна и слаба.
Видеть в советском марксизме почти космическое воплощение зла – значит просто добавлять ей силы. Менее апокалиптический взгляд: СССР – это всего лишь самая большая в мире банановая республика. Как избавляются от диктаторов, присуждающих себе литературные (и разные другие) премии, хорошо известно. Неодостоевские заклинания насчет сил тьмы и опасности чересчур больших свобод для индивидуума не выдерживают критики.
Когда русские вполне это осознают, как поляки, новая революция может случиться чуть ли не вдруг.
Читатели могут удивиться, почему, будучи знаком со многими интересными писателями, Карл решил начать воспоминания с литературных вдов. Ответ будет связан с его отношением к женщинам вообще. Карл провел много времени в обществе соревнующихся мужчин и, может быть, поэтому часто говорил, что женщины лучше мужчин. Он был демократ по своему складу и искренне рассматривал женщин как равных – в то время, когда это признавали отнюдь не все. Его представление о роли женщины в обществе не ограничивалось только русскими делами: в 1982 году, когда у него диагностировали рак, он написал статью о Национальном институте здоровья, единственном месте, где согласились его оперировать. Эту статью перепечатали многие газеты. В ней он утверждал, что самые важные люди в больнице – медсестры.
Вдовы, описанные в этой книге, отважные хрупкие женщины, бились за то, чтобы сохранить наследие писателей, которым грозило забвение в советской системе принудительной амнезии. Они проявляли героическую преданность и упорство в этой борьбе, и Карл относился к ним со всей внимательностью и уважением, какого заслуживают такие люди.
Одной из главных побудительных причин для написания этой книги было знакомство с Надеждой Мандельштам, вдовой великого поэта, автором двух замечательных книг воспоминаний. Чтобы подружиться с нами, ей пришлось преодолеть страх. Русские, не жившие в то время, могут не понять, как важно было доверять иностранцу, чтобы впустить его в свою жизнь. Нашим друзьям приходилось принимать решение, что они нам доверяют, а нам – быть осмотрительными, чтобы их доверие не обмануть. Нам очень повезло, что Надежда Яковлевна решила нам довериться, – повезло не только потому, что она всех знала и эти люди впускали нас в свой дом, но и потому, что, просто разговаривая с ней за чаем, мы приобщались к великой погибшей русской культуре начала ХХ века.
Меня Надежда Яковлевна поняла быстро, а немногословный, не сразу открывавший себя Карл вызывал у нее любопытство. В начале нашего знакомства она спросила его, верит ли он в Бога. Карл ответил, что он агностик, и она была разочарована. Когда мы подарили ей русскую Библию, она была озадачена и спросила Карла, почему он привез ей эту книгу, если сам неверующий. “Потому что для вас она важна”, – сказал он.
За годы поездок мы познакомились со многими русскими литераторами и были огорчены условиями их существования: в лучшем случае под цензурой, в худшем – в тюрьме. Насмотревшись на это вблизи, Карл пришел в ярость. Его трудно было рассердить, но гнев его бывал сильным и действенным: он определенно сыграл роль в нашем решении публиковать то, что не могло быть опубликовано в Советском Союзе, восстановить утраченную библиотеку русской литературы.
Трудно передать, до какой степени была насыщена русской литературой наша жизнь. В Энн-Арборе наши дети на лужайке играли летающей тарелкой с собаками, а в гостиной наши друзья ели пиццу и паковали книги; мысли же наши были заняты Россией и нашей работой для России, такой же реальной для нас, как все в нашем американском существовании. Из Энн-Арбора в Ленинград и Москву 20 лет тянулась невидимая нить, соединявшая нас с советским литературным миром. Русские писатели – и эмигранты, и советские – посещали нас или останавливались на время; с другими мы непрерывно переписывались.
Иногда мы были вынужденно включены в шумно разлаживающиеся частные жизни – большой источник комизма. За работой в поздние ночные часы рождался сумасшедший домашний юмор “Ардиса”: “Конкурс двойников Мариэтты Шагинян” (номинировались и мужчины); конкурс “Найди Книппер на картинке” (“Find the Knipper in the Picture”) – надо было выбрать из множества портретов, живописных и фотографических, портрет долгожительницы – вдовы Чехова.
Карл был остроумным человеком с острым чувством абсурда и склонностью к мистификациям. Это проявлялось и в его ученых занятиях. Через много лет после его смерти молодой датский набоковед прислал мне отчаянное письмо: не может найти цитату из “Поминок по Финнегану”, которую Карл приводит в одном из примечаний в “Ключах к «Лолите»”. Такого отрывка в романе и не было. Карл его сочинил, но не на пустом месте: это был такой джойсовски-набоковский абзац, полный намеков на историю нашего знакомства и его ухаживания. Карл был бы доволен, а Набокова позабавило бы, что молодому бедняге датчанину пришлось два раза прочесть заумный роман Джойса.
В “Ардисе” мы вступили в своего рода общение и с русскими писателями прошлого – не только современниками, – в особенности с акмеистами и футуристами: собирали их фотографии, переиздавали их книги, писали предисловия для американских читателей. Двадцать семь лет Карл жил американцем в русской литературе. Иногда казалось, что наша жизнь и эта литература находятся во взаимодействии.
Карл доживал последние месяцы и знал это; мне, заканчивавшей книгу о Булгакове, мучительно было писать о смерти Булгакова и страданиях Елены Сергеевны – я сама переживала нечто подобное. Карл в это время много думал о смерти Гоголя.
Трудоголик и вдохновенный учитель, Карл и в эти два последних года операций и химиотерапии как-то находил в себе силы преподавать. Одно из последних занятий было посвящено “Смерти Ивана Ильича” Толстого. Я заехала за ним в университет и спросила, как прошло занятие.
“Я сказал им, что Толстой неправ, что я сам умираю и испытываю совсем не то, что у Толстого. Я умираю не одиноким, вокруг мои друзья и родные, и я чувствую их любовь”.
Потом он засмеялся. “Не думаю, что студенты скоро забудут этот семинар”.
Через четыре месяца, 24 сентября 1984 года он умер, оставив горевать четырех детей, своих родителей, брата, меня и наших друзей в России. Ему было сорок шесть лет.
Сам Карл Проффер был бы удивлен, что эту маленькую книгу перевели на русский. Я знаю, что он собирался делать в жизни дальше. Он хотел написать историю цензуры, а затем новую историю русской литературы – но никакого “дальше” не было, никаких историй, только эта книжка, маленькое приношение русскому читателю, которого сам он не предполагал.
2016Примечания к тексту
Многое из собранного здесь написано за восемь месяцев перед смертью Карла в сентябре 1984 года. Основанием послужили наши дневники и записи. Профессор Кристина Райдел слегка отредактировала оригинальные тексты, уважая желание автора, чтобы они не были слишком приглажены. В нужных местах я добавила свои примечания.
“Вдовы России” не та книга, какую задумывал автор. Карл хотел написать еще о многих людях, которые были важны для нас, – о Копелевых, Войновиче, Аксенове, Соколове и других. Летом 1984 года он только еще собирал основной материал об Иосифе Бродском, но остановил работу, когда начались ужасные головные боли. Надо подчеркнуть, что часть о Бродском не только не дописана, но и не выверена: есть очевидные ошибки в рассказе о событиях, свидетелями которых мы не были сами. Несколько важных отрывков из этих заметок я использовала в моей книге “Бродский среди нас”, так что лишь немногое из этой части будет новым для читателя данной книги.
Эллендея Проффер ТислиЛитературные вдовы России
Надежда Мандельштам
Добираться до нее всегда было сложно. Она жила в Новых Черемушках, застроенных новыми уродливыми типовыми домами, выросшими вокруг старой Москвы. Таксисты из центра, хотя и не признавались в этом, лишь смутно представляли себе, как найти Большую Черемушкинскую улицу. Со временем мы запомнили долгую дорогу от Ленинского проспекта до станции метро “Профсоюзная” и дальше, и, по просьбе Н. М. – она боялась слишком заметного визита иностранцев, – высаживались, не доезжая до нее. Перед ее домом, одной из трех одинаковых многоэтажек, “башен” (как она их называла), проходила трамвайная линия, но прямого трамвая или автобуса из центра не было, поэтому мы всегда приезжали на такси. Надо было перейти рельсы и по разбитой дорожке, губительной для автомобилей, обойти дом к ее подъезду. В подъезде было темно, как во всех московских домах, и попахивало мусором и канализацией. Дверь слева от тесного лифта открывалась в коридор, который вел к ее квартире.
Семнадцатого марта 1969 года, днем, в половине четвертого мы впервые позвонили в ее дверь, сильно сомневаясь, что пришли туда, куда надо. Как всегда впоследствии, было долгое ожидание, затем шарканье ног, дверь приоткрылась на цепочке, голос попросил нас назваться, и дверь наконец открылась окончательно. Маленькая пожилая дама впустила нас, отступив в сторону, и провела на кухню.
Квартира состояла из передней – сразу справа дверь в туалет и ванную – и двух комнат: спальни за дверью слева и кухни справа. И кухня, и спальня смотрели окнами на трамвайную линию. Кухня была размером примерно два метра на четыре с небольшим (раскинув руки, я мог почти достать до обеих стен), а спальня – метров пять на три с половиной. Дом был сравнительно новый, но все уже выглядело обшарпанным. В первые посещения мы разговаривали почти исключительно на кухне, позже, когда она слегла, сидели у нее в спальне.
В кухне стояли маленькая газовая плита, холодильник, шаткий стол, пара ненадежных складных стульев из дощечек, пара примитивных трехногих табуреток и в углу у окна жесткий диванчик с высокой спинкой – на нем она обычно и сидела с Эллендеей. (Там ее сфотографировала в тот период Инге Морат.) Спальня тоже была обставлена скудно: кровать, два столика с лампами, низкий комодик и письменный стол с креслом. На стенах холсты Вейсберга и Биргера, повешены высоко по русскому обыкновению. Телефон с вилкой переносится из комнаты в комнату при необходимости, но обычно его место – в спальне. Там же неизменно вазы с сухими цветами – рогозом и другими. Голые лампочки и голые полы тепла не добавляли. Н. М. сознавала, что жилье неуютно, но говорила, что понадобилось проработать всю жизнь, чтобы получить хотя бы это на старости лет. У нее – водопровод и другие удобства, которых она была лишена бóльшую часть жизни, и, относясь к обстановке жилища презрительно, она была рада ему. С тех пор как она покинула отчий кров, у нее не было собственного жилья, настоящего “дома”. Когда она жила с Осипом Мандельштамом, им и комнату трудно было найти, не то что квартиру. А время, когда она преподавала в разных провинциальных заведениях, тоже было кочевым, так что эта квартира стала вершиной ее материальных достижений. По советским меркам квартира была неплоха, но, как и большинство квартир, которые мы повидали в Москве, в американском городе считалась бы бедняцкой.
Н. М. говорила, что у квартиры этой есть еще одно достоинство – здесь обычно тихо, несмотря на трамвай. Правда, пожаловалась, что с наступлением тепла улица становится шумнее. Зимой холод и снег приглушали звуки, это ей нравилось. А Первомай, например, терпеть не могла, не только из-за праздничного шума, но из-за того еще, что он ассоциировался с арестом Мандельштама. Но, по крайней мере, не коммуналка с кухонными склоками и грязью в общем туалете. Главными шумами, которых она, вероятно, не замечала, были здесь ее собственное тяжелое дыхание и тиканье любимых часов с кукушкой, неутомимо отмечавших каждую четверть часа.
Н. М. была неважной домохозяйкой, но чистоту в квартире поддерживала. Мы уже привыкли к относительной бедности большинства русских, и все-таки тяжело было видеть ее в столь стесненных обстоятельствах. Как бы ни были бедны наши знакомые русские, они изо всех сил старались, чтобы для гостей на столе были еда и питье. У Н. М. стол был всегда скуден – по той простой причине, что она была бедна. Она не жаловалась, но не думаю, что ей нравилось ее положение и что она была равнодушна к “хорошим” вещам. В общем, из всех знакомых нам писателей она была самой бедной, и бедной была дольше всех – это было продолжением ее жизни с Осипом Мандельштамом. Вдовы, чьи мужья при жизни не подверглись гонениям, существовали благополучно. А в тот первый день угощение было типичным: в разномастных кружках крепчайший чай с сантиметром чаинок на дне вдобавок к плавающим на поверхности, сахар в сахарнице, немного хлеба, сыра и, может быть, масло.
За чаем – и разговорами – Н. М. беспрерывно курила “Беломор”, папиросы, названные в честь канала, построенного рабским трудом (и с большой помпой) при Сталине, в тридцатые годы. Табак она называла “дерьмом из братских могил” – в память о тех, кто умер на канале. В первый раз она с улыбкой показала на почернелую кастрюлю на полке – это был “исторический архив”, где спаслось от конфискации много стихов Мандельштама. Улыбка была говорящая – не то чтобы гордая, но и не многозначительная.
Рекомендовал нас ей друг, которому она доверяла – Кларенс Браун, известный специалист по Мандельштаму. В первый наш визит Н. М. немного разыгрывала роль вдовы поэта. Но тогда мы слабо представляли себе, кто такой Мандельштам и кто такая она, поэтому не задавали обычных вопросов, и она поняла, что можно держаться с нами менее официально. О. М. мы знали по нескольким стихотворениям, которые прочли в магистратуре, и для нас все писатели того периода (начала ХХ века) были такими же мертвыми классиками, как Достоевский и Толстой. Отчасти из-за нашей молодости и неискушенности нам не приходило в голову, что эти писатели чуть ли не наши современники и что люди, знавшие их – и даже жившие с ними, – еще живы. Дело шло к вечеру, Н. М. рассказывала нам о каждом, кого мы называли, все больше увлекая нас и очаровывая.
Она, казалось, знала всех писателей, кого мы могли вспомнить. Особенно поразило нас, что она знала Блока и бывала на собраниях символистов и футуристов (например, в “Бродячей собаке”). Она вспоминала времена, о которых мы знали только из книг. Мы без конца задавали вопросы, и она без конца нас удивляла – не только самими историями, но и резкостью, независимостью своих суждений о людях и событиях, которые были известны нам только по устаревшим книгам наших славистов. (Надо учесть, что ее книги еще не были напечатаны – а многое из того, что она нам рассказывала, было уже в ее рукописях, – опубликуют их только в 1970 году в Нью-Йорке.)
Она была живая и трогательная, добродушная и озлобленная одновременно. Если она кого-то осуждала, то без горячности, настоящий же гнев пробуждался в ней, когда речь заходила о том, как обращались с О. М. Мы спросили, например, об Исааке Бабеле – на Западе принято было считать, что рассказчик в “Конармии” психологически соответствует автору. Она рассмеялась и сказала, что на самом деле Бабель был совсем не такой, но если читать книгу особенным образом, можно сообразить, каким он был. Он был ярким, умным – и осторожным. Любознательность заводила его на странные дорожки: по приглашению своих друзей-чекистов он наблюдал за допросами в ЧК. Ее это не столько ужасало, сколько печалило. Поскольку Бабель не сделал Мандельштаму ничего плохого, в ее мемуарах об этом не говорится. Несколько раз она заговаривала о том, как революция и гражданская война могут подействовать на людей, которых возбуждает насилие, как в них просыпается кровожадность.
Она и нам задавала много вопросов: об Америке, о том, как мы оказались в Москве, о нашей личной жизни. На нее произвели впечатление внешность Эллендеи и манера. Ей нравились люди, которые говорят что думают, так же, как она сама. Мы с самого начала расположились друг к другу. Ей, по-видимому, понравилось, что мы не русского происхождения, а любим русскую культуру, и что мы не специалисты по Мандельштаму. Ей понравилось, что мы оба пережили разводы, и она утверждала, что вторые браки всегда лучше. Ее настолько интересовали эти подробности личной жизни, что она даже простила нам наше равнодушие к религии – сказала, что “со временем” мы поймем. Поймем важность Бога и религии, сказала она, – “и все, что произошло здесь [в России], произошло из-за этого”. Тогда еще особых признаков религиозности в квартире не было, но православие ее было уже очевидно.
Во второй раз мы привезли ей русскую Библию, которую дал нам Роджер Харрисон, баптистский священник, в то время пастор посольства. У Роджера был большой запас этих запрещенных книг, часто он возил их под старой одеждой в багажнике своего хэтчбека, красной “барракуды”. Роджер рассказал нам, что одного скандинавского студента, учившегося по обмену, выслали из Союза в основном из-за этого. Роджер возил их осмотрительнее. Н. М. не могла понять, почему мы, неверующие, рискуем, везя ей Библию, – но была очень признательна. Из всех полезных подарков, которые мы приносили ей в эти первые посещения, Библиям (мы приносили ей еще) она радовалась больше всего. Она сказала, что первая пошла библеисту, который делал всю работу, не располагая собственной книгой.
В конце нашего двухчасового визита в День святого Патрика в 1969 году она пригласила нас заехать как-нибудь днем еще раз. Она с удовольствием разговаривала по-английски, но жаловалась, что я говорю слишком тихо, а Эллендея слишком быстро. В этот первый раз мы переходили с английского на русский и обратно, и так продолжалось еще несколько лет. Потом здоровье и слух у нее стали сдавать, и большей частью мы беседовали по-русски. Но писала она нам почти всегда на английском и очень ругала себя за ошибки. Самое первое письмо, ноябрьское 1969 года, она закончила так: “Простите за ошибки в правописании… 70 лет – и безграмотная…” Она любила все делать хорошо.
И в 1969 году в ней все еще чувствовалась молодая богемная художница. Можно предположить, что в молодости ее мало заботила материальная сторона жизни и как реагируют люди на ее шокирующий язык и довольно дерзкие высказывания – вкуса к которым она не утратила и теперь. (Большинство знакомых нам пожилых русских женщин – да и не таких уж пожилых – поежились бы или просто сбежали от соленых словечек Н. М.) В ней сохранились еще черты прежней “Наденьки”, начинающей художницы, которая легла с Мандельштамом в постель в первый же день их знакомства.
Интерес к искусству у нее сохранился. Она любила поговорить о Тышлере и художниках десятых и двадцатых годов. Среди особых ее гостей были и современные известные художники, такие, как Владимир Вейсберг и Борис Биргер. У нас создалось впечатление, что ей нравится напускать их друг на друга. В спальне у нее висела картина Вейсберга – белое на белом, и когда мы были у нее в первый раз, она повела нас посмотреть ее. Вскоре мы познакомились с Биргером – позже он написал портрет Н. М., но вряд ли он ей очень нравился: некоторым виделось в нем что-то от ведьмы. Нам же, наоборот, он понравился.
Характерно, что единственным общественным мероприятием, куда она нас пригласила с собой, была первая серьезная выставка Натальи Северцовой – и всего вторая в ее жизни. Северцовой уже было под семьдесят. Выставка занимала зал и коридор Архитектурного музея, поблизости от Ленинской библиотеки. То, что ее устроили здесь, а не в обычной галерее, было знаком, что она не признанный официально художник.
В тот апрельский день 1969 года, когда Н. М. привела нас на выставку, мы поняли, почему ее сделали не в государственной галерее. Работы были выполнены в стиле примитивизма, иногда на грани сюрреалистического в деталях. Ее чудесное чувство юмора едва ли могло порадовать солидных граждан. Много было русских чертей. Советские бани и свадьбы – но большей частью изображенные иронически. Женщины в бане – гротескно толстые и непривлекательные. Адам и Ева под деревом с семью ветвями, на обоих – громадные уродливые советские часы. Портрет советской семьи в том же духе – ближе к сюрреальному миру художника-эмигранта Давида Мирецкого, чем к советской эстетике. Ее старик в шляпе выглядел бы социально опоэтизированным, но он в компании с бутылкой водки. Зрителям живопись нравилась так же, как нам, и в книге отзывов были одни похвалы.
Н. М. предложила нам сказать Северцовой (ее старой подруге), что будь эта выставка в Соединенных Штатах, она бы вызвала большой интерес. Мы считали так же, и сказать это художнице было нетрудно. Наш комплимент и обрадовал ее, и расстроил – она сказала, что такому никогда не бывать. А когда Н. М. сообщила ей о нашем желании что-нибудь купить, она занервничала. “Я не официальная”, – сказала она извиняющимся тоном. Подумав немного, она сказала, что согласна продать, только не такое, что “они” могут счесть “отрицательным” – как портрет семьи. Она не то чтобы выглядела испуганной, но ясно дала понять, что не может делать все, что ей нравится.
По этому случаю Надежда Яковлевна, принимавшая нас в некрасивых домашних платьях, оделась очень хорошо. На ней была длинная темная шерстяная юбка, изящный свитер и щегольски наброшенный на шею шарф. Эллендея сказала, что она элегантна и наряд определенно выдает в ней художницу.
В этот раз Н. М. была очень спокойна и уверена в себе и с удовольствием водила нас по выставке, указывая на интересные особенности холстов. С этой стороны мы мало ее знали и в следующий раз снова увидели вне квартиры, на публике, только в 1977 году.
То, что Н. М. взяла нас на выставку Северцовой, было знаком ее расположения, но мы побывали у нее еще несколько раз, прежде чем она пригласила нас на званый вечер. Среди прочего она сказала, что хочет познакомить нас с художниками Вейсбергом и Биргером.
В тот вечер мы могли наблюдать настоящий “салон” Надежды Яковлевны. Пришло еще не меньше десятка человек, и вскоре уже негде было сесть. Люди бродили между кухней и спальней, принесенные бутылки вина и водки быстро опустели. Позже, вспоминая о вечерах у Н. М., Раиса Орлова говорила, что там собирались лучшие умы, талантливые художники, писатели, богословы, священники и философы. Мы этого не понимали, будучи блаженно непосвященными – хотя Кларенс Браун говорил раньше, что нам понравится ее окружение. В тот первый вечер среди гостей были: Биргер (его полный каталог мы через несколько лет напечатали, а картины его висят в крупнейших европейских собраниях), Андрей Сергеев, переводчик Роберта Фроста, Т. С. Элиота и других, и Лев Копелев с Раисой Орловой, известные литературные критики и участники диссидентского движения.
Вечер был полон “русских разговоров” на темы, из-за которых быстро разгорались страсти. Был ожесточенный спор между Львом Копелевым, который родился и вырос на Украине и горячо защищал украинскую культуру, и Сергеевым, с презрением отзывавшимся о “провинциальных” литературах и высокомерно доказывавшим, что украинский даже нельзя считать настоящим языком. Разговор велся на повышенных тонах и, если бы не блестящее общество, закончился бы как минимум взаимной бранью. Спор оборвался вдруг – оба гневно замолчали. Сергеев выступал в роли бойцового петуха и нападал на харизматичного Копелева просто ради того, чтобы произвести впечатление.
Н. М. любила Сергеева отчасти, думаю, за переводы Элиота; кроме того, он был большим собирателем первоизданий, в том числе Мандельштама. Она сказала нам, что если мы с кем-то еще познакомимся в Москве, то прежде чем вступать с ним в деловые отношения, нужно пойти к Сергееву, и он скажет нам, “хороший” это человек или “плохой”. Мы действительно обращались к нему за помощью, и раз или два он нас предостерег.
Так мы впервые наблюдали советский салон и обнаружили, что в каждом кружке есть кто-то “ответственный” за безопасность, кто убережет от осведомителей. В связи с этим хочу сказать о страхе Н. М. вообще. Этот страх бросился нам в глаза при первой же встрече. Она рассказала нам, что, когда Кларенс Браун пришел познакомиться с ней, она спряталась за дверью у Ахматовой и боялась показаться. Она часто говорила, что ее могут арестовать. Мы пытались ее успокоить, но каждый раз, как и по другим поводам, она отвечала, что мы просто “не понимаем”. Когда мы приезжали к ней, она, бывало, выглядывала в окно – нет ли за нами слежки. С выходом каждой книги страх в ней усиливался. Но ее так и не арестовали до самой смерти.
Н. М. боялась с начала и до конца. Но в этом она не отличалась от соотечественников – и все основания для этого были. Сколько раз за эти шесть месяцев 1969 года, придя в новый дом и спросив о фотографии на стене или на столе, мы получали обескураживающий ответ: это мой отец, расстрелян в 1937 году. (Родственник или год могли быть другими, но шок от услышанного – всегда такой же.)
Да, соглашались мы: такое может поселить страх надолго. Если на то пошло, мы сами постоянно испытывали страх, такой иногда, что у нас по несколько дней болели животы – из-за историй, которые приходилось услышать, и из-за того, что занимались противозаконными делами, в частности добывали и раздавали много книг, в том числе особенно опасных, как “Доктор Живаго” на русском, романы Солженицына, Оруэлла, Библию и т. д. Обычны были аресты иностранных студентов и обыски: одну пару, учившуюся по обмену, выслали из СССР, когда жену взяли прямо на улице. Если наш страх был объясним, то что говорить о Н. М. и многих других, которым выпал на долю хищный век.
В случае Н. М. страх был особенно понятен. В 1969 году отношение властей к Солженицыну быстро менялось, ходили слухи о его наказании. Первая книга воспоминаний Н. М. уже готовилась к печати за границей. В 1970-м и русское, и английское издания вышли в Нью-Йорке. Советским писателям, печатавшимся за границей, угрожало уголовное преследование; с 1929 года до начала шестидесятых на это решались немногие. Истории с Бродским, Синявским, Даниэлем и Солженицыным оптимизма не вселяли. Политическая атмосфера ощутимо менялась, и трудно было предугадать, как отреагируют власти. С одной стороны, старую женщину вряд ли утащат на Лубянку. С другой стороны, у нее вполне могут отнять пенсию, квартиру, что угодно. Могут выслать из Москвы куда-нибудь в глухомань, о чем она думала со страхом и отвращением. К счастью, благодаря разрядке 1970-е годы стали самым безопасным временем для писателей, публиковавшихся за границей, но в 1979 году это снова стало опасным.
То, что, несмотря на страх, Н. М. опубликовала свои книги за границей, говорит о размерах ее отваги. Она предостерегала всех – от Бродского в шестидесятых до Кристины Райдел в конце семидесятых. И мы получали такие же советы: не подъезжайте на такси, не звоните из гостиницы, не разговаривайте по-английски, когда идете к квартире и когда уходите, идите быстро, старайтесь не привлекать внимания к тому, что вы иностранцы и т. д. Когда мы приходили, она почти всякий раз закрывала занавески в обеих комнатах. Мы говорили ей, что вряд ли власти что-то сделают со старым человеком, но она только смеялась: бедные наивные иностранцы. “Они” сделают что угодно, и никакая известность тебя не защитит – “им” плевать на общественное мнение.
В прошлом июле [1983 года. – Э. П. Т.] я спросил Иосифа Бродского, всегда ли Н. М. боялась, и он сказал: “Когда мы с Мариной пришли к ней в первый раз, она испугалась – она не знала, кто мы”. Но она была такой необыкновенной, такой независимой, что трудно было поверить в ее страх. Эта женщина могла сказать что угодно и о ком угодно, невзирая на общепринятое мнение. Но во время нашего первого посещения, когда в споре Эллендея полушутя назвала какое-то высказывание Маркса “глупым”, Н. М. побледнела и шепнула ей: “Никогда не говорите здесь такого!” На протяжении десяти лет мы посещали ее почти ежегодно и всякий раз при расставании слышали в том или ином варианте: “Через год меня здесь не будет”. В последний раз Эллендея увидела ее в 1980 году (мне отказали в визе) и запомнила шаркающие шаги больной Н. М. за дверью и щелчки многочисленных замков. “Она все еще боится… Женщине восемьдесят лет, и она все еще боится”, – с грустью сказала мне Эллендея.
Из ее конкретных страхов один нам казался парадоксальным, хотя говорили о нем и другие интеллектуалы. Она боялась народа. Когда она впервые сказала об этом, я спросил: в каком смысле? Она отодвинула занавеску, показала на улицу и сказала: “Ихтам”. Она имела в виду обыкновенных людей России. После всего пережитого она пришла к мысли, что, если будет дан нужный сигнал, в людях снова проснется кровожадность и любой прохожий будет способен уничтожить ее и ей подобных – евреев и интеллигентов. “Они нас ненавидят, – сказала она, – за то, что у нас есть”. Если бы не власть, сказала Н. М., они с удовольствием убивали бы таких, как она. Парадоксально, заметила она, но в данном случае именно власть – защитница интеллигенции. Низшие классы имеют гораздо меньше, чем “богатые” интеллигенты, и поэтому ненавидят их.
Между прочим, Н. М. чрезвычайно боялась молодых людей, особенно советских. Она постоянно напоминала нам, чтобы мы были осторожны относительно того, кого приводим к ней или присылаем. Поэтому, когда мы пришли к ней вдвоем в феврале 1977 года и сказали, что с нами в поездке трое молодых редакторов “Ардиса”, она удивила меня, попросив привести их с собой. Обычно она в таких случаях возражала. Эллендея давно хотела познакомить Н. М. со своей лучшей московской подругой Таней; Н. М. согласилась с большой неохотой и даже в 1980 году, когда Эллендея привела Таню второй раз, Н. М. была при ней крайне осторожна. Отчасти ее подозрительность сохранилась с тех лет, когда она преподавала молодым английский язык. Преподавание она терпеть не могла, и опыт научил ее, что некоторые из студентов вполне могут оказаться осведомителями.
В книгах Н. М. проявляется другая ее сторона – Н. М. победительницы. Не представляю себе, чтобы какому-нибудь другому русскому достало смелости написать, как она в первой книге: “Мы все пошли на мировую: молчали, надеясь, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знали, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием”. Даже Солженицыну не хватило смелости написать такое; вслед за Достоевским он держался мысли, что страдание предшествует благодати и русские спасут “Запад” от коммунизма.
Оба Мандельштама были живой иллюстрацией трюизма, что тихий и кроткий совершает иногда поступок исключительной храбрости и сам потом не может его объяснить. Общеизвестный пример – нападение Осипа Мандельштама на чекиста Блюмкина. Было такое и у Н. М., и, по-моему, об этом не писали. Она рассказывает об этом на магнитофонной записи, сделанной Кларенсом Брауном в марте 1966 года. В 1930-м, благодаря Бухарину, Мандельштамы прожили два месяца, как ни странно, в цековском санатории на юге. Там же тихо себе жил прославившийся вскоре комиссар Ежов. Хромой Ежов любил танцевать – видимо, была в нем такая эксгибиционистская жилка. В тот вечер Н. М. случайно услышала, как один грузин говорил другому, что, если бы умер великий грузинский поэт, грузинский нарком не танцевал бы. Н. М. подошла к Ежову и в точности повторила услышанное. “И танцы сразу прекратились”, – рассказывает она. Затем в записи короткая пауза, и она добавляет: “Ничего? Это у меня есть, между прочим”. Таким вопросительным комментарием “Ничего?” или “Сильно?” она любила заканчивать какую-нибудь особенно удивительную историю.
Другая интересная черта Н. М. – такого обычно не пишут в воспоминаниях о больших русских писателях – ее отношение к сексу. Учитывая ее собственную мемуарную практику и твердое желание рассказывать обо всем без страха, было бы оскорбительно не записать то, что она говорила. Прямота Н. М. была тем более необычной, что большинство русских – особенно женщин – держатся весьма пуритански в разговорах о сексе и пишут о нем уклончиво до нечестности. Для Н. М. откровенность в речи была естественна, изъяснялась она не только смело, но и смешно. Дело не в том лишь, что приличия ее мало заботили, – не знаю человека, который мог бы так рассмешить меня своими афористическими “непристойностями”.
Сама она никогда не была хорошенькой, но, без сомнения, была привлекательной для мужчин. Во всяком случае, когда мы только познакомились, следы этой привлекательности еще были заметны. Это было в ее глазах и улыбке, в ее откровенности и обаянии – не в теле, которое, вероятно, всегда было худым. Всякие грешки – и Блока, и собственные – могли быть предметом шутки или истории, сообщаемой весело и с удовольствием. Не думаю, что она кого-нибудь когда-нибудь осуждала (кроме О. М.). “Неприличностей нет”, – говорила она. Она рассказала нам, что отправилась с О. М. в постель в первый же вечер их знакомства, а говоря о “бурных двадцатых”, любимом периоде Эллендеи, отмахнулась: “Мы это все придумали”. Здесь тоже слышался вольный дух богемы. Она мирилась почти со всем, что выкидывал О. М., но пишет в воспоминаниях, что, когда он увлекся Ольгой Ваксель, была очень рассержена. Она рассказала об этом Эллендее до того, как мы прочли ее книгу. На магнитофонной записи она говорит, что это был единственный случай, когда дело чуть не дошло до развода. Рая Орлова вспоминает, как она была ошарашена, когда Н. М. увела ее на кухню и спросила: знает ли она, что такое ménage à trois[1]. Рая не знала. Н. М. сказала, что они прожили втроем шесть недель, и это самое стыдное воспоминание в ее жизни.
“Втроем” возникало несколько раз в наших литературных беседах. Одну знаменитую историю – о Маяковском, Лиле и Осипе Бриках – она отмела сразу: судя по всему, они жили целомудренно, в разных комнатах. Объясняя биографическую подоплеку ахматовской “Поэмы без героя”, она сказала, что у Ахматовой, Ольги Судейкиной и Блока была любовь втроем. Одно из писем к нам, написанное Н. М. по-английски, дает представление о том, как она обычно говорила о писателях и литературных героях:
[1971]
Дорогие Эллендея и Карл!
Попытаюсь ответить на ваши вопросы о “Поэме без героя”. Прежде всего: это действительно было – Ольга провела ночь с Блоком. Думаю, “без лица и названья” не цитата, хотя может и быть. Сомневаюсь, что “Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи” адресовано Ольге. Это – строки из стихотворения “В ресторане” – 1910. Роман с Ольгой происходил в 1912/1913 (не помню). Ахматова привела эти слова, чтобы Блока наверняка узнали. У Кузмина был роман с Князевым. У него не могло быть романа с Ольгой, но она бывала у Кузмина. У Ахматовой был роман с Князевым. Никаких подробностей не знаю. Только, что у Ольги и Ахматовой было много общих любовников (Лурье и другие). Гумилев не имел к этому никакого отношения. В то время они жили отдельно. (“Разве мы не встретимся взглядом” обращено к Недоброво, который был первым любовником Ахматовой.) Почему Судейкина отвергла его [Князева]? Кто знает? Женщины не обязаны делать то, о чем их просят… Они могут выбирать, правда? Ольге было лучше знать, почему она кого-то выбрала. Просто Ахматова думает, что в данном случае она предпочла Блока. Почему бы и нет? “И как враг его знаменит”. Это, конечно, Блок. Возможно, Князев был одним из мальчиков Кузмина (как Юркун). Не уверена в этом. Почитайте “Форель разбивает лед”. Там должно быть что-то насчет этой драмы. Может быть, Ольга не любила мальчиков такого рода (как Юркун, Георгий Иванов), которые и так и сяк… У них и женщины, и мужчины (Юркун, Иванов). Не знаю, был ли и Князев из них.
Этот тон, временами игривый, был типичен для ее разговоров о сексуальных предпочтениях.
Несколько человек утверждали, что у самой Н. М. были лесбийские отношения после Мандельштама, и она, упоминая о таких вещах в связи с Ахматовой (“Были девушки”), никогда никого не осуждала. О себе, однако, предпочитала не распространяться. Однажды, когда Н. М. показывала нам фотографии, и на одной из них она была запечатлена в возрасте лет двадцати, Эллендея сказала: “У вас тут очень соблазнительный вид”. “Это тоже было”, – со смехом ответила она. А когда мы разговаривали об их отношениях с О. М., она сказала, что изменяла ему всего несколько раз. И добавила, не совсем в шутку: “Надо было чаще”.
Однажды мы говорили о том, какие книги могли бы ей прислать, и я почему-то затронул тему порнографии. Она сразу заулыбалась и сказала притворно-умоляющим тоном: “Ах, если бы вы прислали мне какую-нибудь порнографию! Обожаю порнографию!” Позже Эллендея принесла ей Cosmopolitan, и они обсудили типичные статьи. Н. М. отнеслась к этому с большим интересом. С журнала разговор переключился на Hite Report[2]. Эллендея рассказала ей о темах, рассмотренных в этой работе (мастурбации, стилях сексуального поведения, лесбийстве). “Правда, – сказала Н. М., – можете прислать мне экземпляр?” Мы прислали. В следующем году (1978) его привезла Кристина Райдел. По ее словам, они с мужем, Уэйном Робартом, преподнесли Н. М. несколько вещей. Прежде всего – разные сорта чая “Твайнинг” и три куска затейливого английского мыла с рельефной короной по случаю серебряного юбилея королевы. “Купаюсь в роскоши”, – сказала Н. М. и, сев в постели, хотя давно уже и тяжело болела, протянула один кусок женщине, которая ухаживала за ней и сейчас собиралась домой. Кристина дала Н. М. Агату Кристи и Ф. Д. Джеймс – Н. М. выразила сомнение, что та будет так же хороша, как Агата Кристи, но обещала попробовать прочесть. Последним Кристина вынула Hite Report и напомнила ей разговор с Эллендеей. Н. М. рассмеялась и сказала что-то в таком смысле: ну, сейчас я ни на что не годна, болею. Но завершила с широкой улыбкой, что тотчас примется за Hite Report, когда они уйдут, – развлекусь, по крайней мере. Немногие русские дамы восьмидесяти лет отреагировали бы так же.
В других отношениях Н. М. была типичной русской. На второй или третий раз она стала живо – а не из вежливости – интересоваться нашей семьей. Еще в первую встречу она с одобрением отнеслась к тому, что мы оба поженились после разводов: сказала, что хороший брак получается только у разведенных. После нашего возвращения из России в 1969 году, когда к нам неожиданно переехали жить три моих сына, она постоянно спрашивала в письмах, как нам живется большой семьей. Мы два раза брали с собой сыновей в Россию и еще раз – одного Криса, нашего среднего. Наши короткие визиты к ней с ребятами были для нее чем-то вроде семейных праздников. Она вспоминала, как трое мальчиков, сидя на полу в ее спальне, играли в карты. “Словно это было вчера”, – писала она в феврале 1973 года. А в 1972-м спросила, не завести ли нам еще девочку; на ее предложение мы откликнулись только в 1978 году – родилась Арабелла. В письмах она спрашивала, не может ли стать бабушкой для мальчиков, и убеждала снова приехать, как только у нас появятся деньги, чтобы привезти с собой ребят. Просила обещать ей, что придем к ней первой: “Я не выпущу вас из кухни”.
Думаю, нежные чувства Н. М. к нашей семье объяснялись еще и ее горьким опытом. У них с О. М. не было детей, и слава богу, что не было. Жизнь была и без того искорежена, чтобы отдавать “им” на обработку еще и невинных детей. Наверное, ее грела мысль, что на свете есть нормальное место, где могут жить нормальные супруги, растить четырех детей (в русской семье теперь обычно один ребенок, исключения редки) и все делать нормально. Вот кем мы были для нее, я думаю – помимо литературы и общих интересов. Теми, на кого она могла излить душевное тепло и доброту. Странным образом, в основе наших отношений были не столько литературные интересы, сколько эти чисто личные связи.
Но Н. М. была не только очаровательной личностью и другом, но еще нашим первым замечательным учителем – такая роль часто выпадала вдовам в России. О своей стране она говорила: “У нас нет общества”, имея в виду, что неофициальные люди не могут объединиться, что они, в первую очередь, лишены средств сообщения. Это верно, собственных средств коммуникации у них не было и нет, но в период 1965–1979 годов такие вечера, как у нее, способствовали существованию культурных кружков России. Кружки эти в большой степени ограничивались двумя столицами – но они существовали. Вечера у Н. М. и у других людей, в том числе писательских вдов, были важными источниками информации, местами, где происходил обмен мнениями, обучение истории. Слова Ахматовой, что это была “догутенберговская” эпоха, справедливы. При наглухо закрытых дверях типографий и копировальных комнат, копировальная бумага была, вероятно, самым действенным оружием в распоряжении свободомыслящих русских. А еще – разговоры.
Вдовы писателей хранили подлинную русскую культуру, которая была заперта, зачеркнута, запрещена и замалчиваема не только в официальной прессе, но и везде, где правит партия: в библиотеках, университетах, театрах и кинотеатрах, консерваториях, художественных институтах, в Союзе писателей, в редакционных советах и на телевидении.
Например, молодой человек, желающий изучать Мандельштама (или Ахматову, или Гумилева, или акмеизм вообще), не мог заниматься этим в университете официально. Сейчас, когда я это пишу, ни в одном высшем учебном заведении Союза нет курса лекций или семинара по Мандельштаму; практически невозможно было бы написать о нем диссертацию. (Можно вообразить исключения: писать в отрицательном ключе, например, разоблачая “модернизм” или, все фальсифицируя, изобразить Мандельштама революционером на каком-то этапе. Или армянин напишет о “Путешествии в Армению”, проигнорировав нападки “Правды” на книгу.) Сейчас ни один советский профессор не решится открыто руководить таким диссертантом. Больше того: собрать библиографию Мандельштама и его произведения было бы труднейшей задачей, по сути, непосильной. Единственное серьезное собрание его сочинений (прежде – три тома, теперь – четыре) вышло на Западе при финансовой поддержке ЦРУ, а в России такие подрывные книги держатся в “спецхране”, в немногих больших библиотеках. Доступ к таким вредным книгам могут получить только заслуженные и политически благонадежные люди – проводники партийной линии. Что до исторических трудов и монографий, способных представить достоверный фактический фон, – такие просто не существуют.
Так что воображаемый молодой исследователь Мандельштама, готовый рискнуть тем, что сами его интересы будут подозрительны, вероятно, обратится к пожилому преподавателю с репутацией либерала, и тот – как следует подумав, можно ли ему доверять, – будет наставлять его в частном порядке, даст книги и библиографию для начала работы. Вторым шагом могло бы быть знакомство с Надеждой Яковлевной Мандельштам, которая в личных беседах, как с нами, стала бы ценнейшим источником сведений – она знала правду о прошлом и поделилась бы ею.
Н. М. нелегко сходилась с такими исследователями. Особенно не доверяла она молодым русским – опасалась их. Но серьезным ученым из многих стран помогала. Среди выдающихся результатов – книги Кларенса Брауна и Дженнифер Бейнс. К иным исследователям она относилась пренебрежительно. Несмотря на презрительное отношение к стандартной литературной критике, сама она тоже ею не побрезговала – в “Воспоминаниях” и “Моцарте и Сальери”. Она помогала многим исследователям Мандельштама всеми возможными способами – от устных рассказов до предисловий. Одного молодого английского исследователя, который посещал ее, она считала очень умным и сказала нам об этом. Мнение ее о современных школах критики было неизменно отрицательным. Она с предубеждением относилась к одному видному западному литературоведу: его просьбу дать официально подтвержденную дату их брака с О. М. она приводила как свидетельство того, что он ничего не знает об О. М. и СССР. И презирала всякие подсчеты слогов. К Кларенсу Брауну она относилась с большой любовью, хотя периодически “ругалась” с ним; в конце концов она распорядилась перевезти весь архив О. М. из Парижа в Принстон. Доверие к Кларенсу было главной причиной этого решения. А вообще ее желание переправить архив из Европы в Америку объяснялось опасением, что Европа, и в особенности Франция, не сможет долго противостоять коммунизму. Она надеялась, что, если наступит день, когда Мандельштама можно будет свободно печатать и изучать в России, архив вернется.
Память Н. М. была одним из важнейших ресурсов для всякого, кто всерьез изучает не только Мандельштама, но и всю его эпоху. Если бы кто-то предпринял попытку реконструировать те стороны Серебряного века, которые не освещены в советских книгах, люди, подобные ей, были бы ценным источником сведений. Ее частные “консультации” и вечерние салоны были тихим, но действенным способом продления и передачи русской культуры. Она была не одна, было много других вдов, уцелевших, в разной степени образованных, умных и памятливых, – и ресурсами они располагали разными. У Н. М., например, в это время практически не было книг и рукописей – маленький архив Мандельштама уже не хранился дома, а в начале 1970-х был отправлен из СССР. Обсуждая “архивный вопрос” с другими вдовами, мы говорили, что копии всего необходимо переслать за границу. Н. М. знала – и другим следовало знать, что государственные архивы были кладбищем множества важных материалов, и часть их была вообще уничтожена. Из всех, о ком мы слышали, Н. М. была единственной в литературном мире, кто отправил оригиналы за границу.
К Н. М. и к другим вдовам приходили и русские, и иностранные специалисты, писавшие статьи и диссертации, – иностранцы официально, а большинство русских в порядке личной инициативы. Впрочем, был прецедент в прошлом веке. Когда Николай I запретил изучать философию в университетах, этим занялись в кружках и знаменитых салонах Станкевича, Панаевой и других. Так что влиятельные писатели, такие, как Пушкин, Герцен или Тургенев, настоящее образование получали не в царских школах, а в философских салонах своего времени. Двум скромным комнатам Н. М. было далеко до аристократических гостиных прошлого века, но тем более впечатляет ее интеллектуальное влияние.
Н. М. неожиданно выпала роль совести нации – в первую очередь, именно это влекло к ней людей и сделало на тихий лад учителем, не только свидетелем из мира поэзии, но и свидетелем небывалого безумия, охватившего Россию после революции. Быть рядом с ней значило прикоснуться к живому поэту Мандельштаму. Салон ее слышал много дискуссий о литературе, но думаю, чаще люди приходили, чтобы услышать прямые слова о психологии и функционировании террора. Никто больше не отваживался сказать о России то, что говорила она, – сардонически, очаровательно тихим голосом.
И когда вышла вторая книга воспоминаний Н. М., где осуждение некоторых “литературных героев” двадцатых и тридцатых годов оказалось чересчур откровенным, те же люди, которые с энтузиазмом приняли ее первую книгу, от нее отшатнулись. Для очень многих русских правде есть предел.
Страсть к агиографии – часть желания оберечь прошлое. Видеть его красивым, справедливым и трагическим.
К несчастью, в ХХ веке литература в СССР стала большим бизнесом. У официальной корпорации собственные традиции, в том числе производство огромной массы серой вторичной литературы, поддерживающей официально одобряемые фигуры: если о писателе написано много статей, книг, диссертаций, мемуаров и библиографий, проводятся конференции и т. д., человек начинает верить, что это значительный писатель. Даже если он стал перворазрядным поденщиком партии, как Федин или Леонов, это, наверное, так. В конце концов все (русские и иностранцы) так и рассуждают: если его черновики, варианты, дневники и восьмитомное собрание сочинений выходят стотысячным тиражом и книг уже нет в магазинах – значит, он важен. В этом советская власть убедила многих иностранцев, от Эрнеста Дж. Симмонса в прошлом до Клауса Менерта в настоящем.
Параллельно существует неофициальная вторичная литература. Как только “центральная пресса” окрестила кого-то писателем, человек начинает хранить свои письма, заводит архив, пишет анкеты, в общем, создает базу данных для будущих историков, склад сырья, по сравнению с которым то, что осталось после Пушкина или Гоголя, покажется горсткой. Писатель – священная фигура и требует почтения. Так подается (или подносится) высшая истина. Не сомневаюсь, будущим историкам потребуется два века, чтобы рассортировать скопившиеся за шестьдесят лет горы писанины, касавшейся сотен русских советских писателей, официальных и неофициальных. А для Н. М. было крайне важно отделить правду от лжи о ее времени.
Для Н. М. 1920-е годы были особой темой. В этой расхваленной эпохе она находила мало хорошего. Для любого специалиста по русской литературе, приезжавшего в Москву в 1960-х и 1970-х, это было неожиданной и обескураживающей ересью. Целое поколение славистов, доминировавших в русистике в 1950-е и 1960-е годы, и почти все эмигранты первой и второй волны рассматривали двадцатые как захватывающий период экспериментов и относительной свободы. Людям моего поколения они объясняли, что свидетельством тому, например, НЭП, без конца цитировали постановление Политбюро о художественной литературе 1925 года (там еще не говорилось о тотальном контроле партии над всем – это придет чуть позже) и ссылались на то, что расстрелы были редки.
Конечно, есть причины смотреть на вещи таким образом: 1) цензура была вяловатая; 2) больше было издательского пиратства и существовали частные издательства; 3) партия даже через свои суррогаты, вроде РАППа, не стремилась контролировать каждое слово; 4) опубликовались несколько новых крупных писателей: появился Бабель, Олеша выступил с “Завистью”, Булгаков – с “Белой гвардией”, в силе был еще Замятин, печатались стихи Пастернака, Маяковского и других поэтов. На эти доказательства можно с уверенностью ответить вот чем: 1) цензоры погубили много произведений и были гораздо строже дореволюционных; 2) роман Булгакова, например, не был напечатан полностью, поскольку публиковавший его журнал закрылся; 3) партия контролировала все, что хотела контролировать – так основательно, что Мандельштама и Ахматову изымали из печати; 4) Бабель постоянно и успешно лгал о начале своей писательской деятельности – мы узнали, что началась она не в 1916-м и не в двадцатые под покровительством Горького, а в 1913-м, в газете, закрытой большевиками; “Мы” и лучшие произведения Замятина были напечатаны либо за границей, либо до революции (в 1931 году он попросил выпустить его из страны; Булгаков обращался с такой же просьбой). Двадцатые были так хороши для Маяковского, что он отметил их окончание самоубийством.
Многих писателей заставили замолчать. ЧК расстреляла Гумилева и арестовывала других. Гораздо больше людей эмигрировали – многие под нажимом – и в дальнейшем печатались только за границей. Набоков, Цветаева, Ходасевич, Бунин и многие другие больше не считались частью русской литературы. Они не только были вычеркнуты из советских учебников – их почти так же игнорировали западные литературоведы и историки литературы. Например, до 1980-х в англоязычных историях русской литературы не находилось места ни Набокову, ни Цветаевой, ни Ходасевичу.
Те, кто не уехал, подвергались запугиванию, обыскам, арестам, шантажу, на них доносили в органы, их осуждали в прессе и на собраниях. И для многих лучших из них публикация в двадцатых годах была скорее исключением, чем правилом. Так было с Мандельштамом, Ахматовой, Булгаковым и десятками других. Список имен и приемов, использованных против них, занял бы несколько томов. Поэтому у Н. М. не просто были основания для такой оценки времени – у нее были все основания. Общее направление ясно обозначилось уже в 1926 году. Только завзятому оптимисту голодные двадцатые годы могут показаться временем художественной свободы и достижений.
Так что когда наш друг Гэйри Керн, тогда еще молодой ученый, пришел к Н. М. и стал расспрашивать о своих любимых “Серапионовых братьях”, она его совершенно раздавила, приговорив и само объединение, и почти все написанное “братьями”. Ей нравится ранний Зощенко, сказала она, и как человек, и как создатель смешного повествователя, олицетворявшего свою эпоху. Но творчество “подлинного” Зощенко продолжалось недолго. Что до остальных “серапионов” – посмотрите, в кого они превратились, те, что уцелели. Большинство из них стали официально признанными советскими писателями: толстый Тихонов, обвешенный орденами, Каверин, не создавший ничего существенного после первых произведений, а только солидную советскую классику, скроенную самоцензурой по надлежащему лекалу; у Слонимского и Иванова были трудности, но они стали выдавать то, что требовалось, и сделались почтенными революционными писателями – Иванов ездил за рубеж и имел комфортабельную дачу рядом с Пастернаком; Федин преуспел больше всех (и больше всех испытывал страх в некоторых отношениях) – он стал главой Союза писателей, громившего Пастернака за “Доктора Живаго”.
С какой бы стати Н. М. относиться к этому периоду иначе? В двадцатые годы Мандельштамы познали голод и бездомность. В “Воспоминаниях” она описывает это с невероятным спокойствием и силой, покоряющими читателя.
В первой книге Н. М. была еще сдержанна, писала достаточно обобщенно, так что удостоилась похвал современников. Во второй же книге она высказалась настолько прямо, что даже либералы и диссиденты, люди, страдавшие вместе с ней, были шокированы. И очень скоро литературная львица стала чуть ли не парией в литературной Москве. Она стала предметом жесточайших споров, в чем мы убеждались всякий раз, когда пытались ее защищать – и решились мы на это только потому, что были иностранцами.
В России – выдающаяся традиция автобиографической прозы с середины прошлого века. В числе важнейших книг – “Замечательное десятилетие” Анненкова, “Былое и думы” Герцена, “Детство, отрочество, юность” Толстого, “История моего современника” Короленко, “Другие берега” Набокова (русский вариант Speak, Memory), “Шум времени” Мандельштама. У Надежды Мандельштам достойное место в этом ряду. “Воспоминания” были опубликованы на русском и на английском (Hope Against Hope) в 1970 году. “Вторая книга” вышла на русском в 1972-м и на английском (Hope Abandoned) в 1974-м. Эти книги показали, что она была не только “свидетельницей поэзии” (ее слова) и свидетельницей истории, но и большим прозаиком, чье место в русской литературе неоспоримо.
Но после выхода второй книги это мнение в Москве оспаривали. Те же, кто восхвалял первую книгу, после второй отказались с ней общаться. В самиздате ходили разные открытые письма. На Рождество 1973 года она показала нам письмо Каверина и попросила его опубликовать в США по-английски, что мы и сделали. Оно продемонстрировало внешнему миру характер российского интеллектуального общества. Каверин – известный “либеральный” писатель. Этот литературный спор – наглядный пример разобщения в том, что западные наблюдатели именуют либеральным лагерем. Какую-то роль играют здесь и личные столкновения, но разрушительнее другие внутренние напряжения. Гневные споры разгорались не только из-за книг Н. М., но также по поводу разрядки, моральных проблем в связи с решением эмигрировать, из-за дела Якира и Красина и так далее.
На книги Н. М. не было сильной официальной реакции – ничего подобного остервенелой травле Солженицына в конце 1969 года, – никаких санкций к ней не применили, но скандал в литературных кругах Москвы и Ленинграда разгорелся нешуточный. Такого шума не было с тех пор, как Страхов, старый друг Достоевского, написал о его “пакостях” и слабостях. Чуть ли не у каждого был друг, любимец или родственник, которого она, по их мнению, оклеветала, – а вдобавок многие ее “жертвы” еще были живы и здравствовали. Хор жалоб зазвучал уже тогда, когда рукопись мемуаров пошла по рукам, и достиг предельной громкости, когда опубликовали перевод второй книги.
Все это напоминало семейную ссору. Мир русских писателей и критиков тесен и централизован, зачастую династичен и, бывает, инцестуозен. Для русских нет ничего странного в том, что три поколения Чуковских – писатели, что сестры выходят замуж за писателей, что жены переходят от одного писателя к другому (в том числе жены-писательницы), что дети одного писателя женятся на детях другого (и сами тоже критики или переводчики). Кроме того, они сосредоточены в двух столицах (и в пригородном московском Переделкине). А в Москве, например, сотни писателей живут в квартале кооперативных домов, специально для них построенных. Мы так и не смогли решить, усложнит ли это тесное соседство будущую историю русской литературы или сильно упростит, но факт этот надо иметь в виду. К тому же в Москве и Ленинграде сосредоточены практически все главные издательства, литературная периодика, институты по изучению литературы и обучению писателей и главные отделения писательского Союза.
Своим решением высказаться откровенно, честно изложить свое мнение о прошлом и его действующих лицах, сказать то, что никто не отваживался сказать о частной и публичной жизни сотен известных людей, Н. М. нажила много врагов в этих “центрах силы”. Некоторые в гневе порвали с ней отношения, другие просто отстранились, чтобы избежать ссоры, третьи поносили ее издали. Ее называли сплетницей, лгуньей, клеветницей, старой ведьмой “Все это вранье!” – с возмущением сказала мне старый литературовед Эмма Герштейн о второй книге воспоминаний и моей одобрительной рецензии на нее. “Все – вранье? – спросил я. – То есть совсем нет правды?” “Все вранье!” – повторила она еще сердитее. Поскольку Н. М. описывает Эмму Герштейн как женщину буржуазную, все путающую и трусоватую, я мог понять ожесточение последней (прорывавшееся каждые двадцать минут). Я слушал терпеливо и испытывал замешательство. В прошлый мой приезд произошел странный случай, связанный с этими двумя женщинами. Эллендея и я пришли к Н. М. и разговаривали о литературе. Н. М. знала, что у нас несколько друзей живут на Красноармейской улице и что рядом живет Эмма Герштейн. Единственно этим я могу объяснить неожиданную реплику Н. М., когда мы стояли в ее маленькой передней, уже готовясь уходить: “И все-таки Эмма сожгла стихи”. И мы ушли. Потом выяснилось, что это относилось к эпизоду из “Второй книги”, где говорится, что Эмма Герштейн в испуге сожгла листок со стихотворением. По чистому совпадению, через несколько дней общая подруга представила меня Эмме Герштейн и оставила нас вдвоем. После часа ученой беседы о Лермонтове я встал, чтобы уйти, и, когда стоял в передней, она вдруг сказала: “И я никогда не жгла ничьих стихотворений”. В моей жизни это самое близкое к тому, что можно назвать парапсихологическим явлением.
Гнев Герштейн объясним. Н. М. утверждала, что, если Герштейн напишет мемуары, они будут полны искажений. (Герштейн написала мемуары; часть была опубликована “Ардисом” в Russian Literature Triquarterly – специально чтобы показать: всякий желающий может оспорить Н. М., если у него достанет смелости напечататься за границей.)
Интересно, что под конец наших встреч в семидесятых Н. М. искренне интересовалась житьем Эммы Герштейн. Безоговорочное отрицание Эммой Герштейн мемуаров Н. М. и нелогичное, но злое письмо Каверина были тогда типичной реакцией на ее книги. Куда бы мы ни пришли, нам всюду приводили примеры того, что люди считали клеветой в ее книгах – обычно на их друзей или родственников. “Х вовсе не ненормальный”, “Y никогда не был стукачом”, “Z не уничтожила стихотворение Мандельштама”. Мы судить об этом не могли, но когда продолжали расспросы об упомянутых людях, все серьезные обвинения, высказанные Н. М., кто-нибудь или несколько человек подтверждали. То есть в одном доме я слышал: “Y никогда не стучал – это клевета”, а в другом – “Всем известно, что Y был стукач”. Самой удивительной для меня была история с уважаемым литературоведом Н. Харджиевым. Н. М. говорит, что он сумасшедший и, когда он составлял с трудом рождавшееся собрание стихотворений Мандельштама, его текстология была абсурдом – он произвольно выбрасывал и переставлял строчки и строфы. Эллендее и мне везде говорили, что называть его сумасшедшим – полная клевета, что его репутация специалиста, влюбленного в поэзию, опровергает все, что рассказала Н. М. К моему изумлению, когда мы в следующий раз приехали в Москву и мне устроили встречу с Харджиевым, те же самые люди, которые уверяли меня в его нормальности, один за другим отзывали меня в сторонку и шепотом инструктировали, как себя с ним вести. Говорили в один голос: “Знаете, он очень странный”, “Если скажете что-то не то, он закатит истерику”, и всячески предупреждали, чтобы я был крайне осторожен, если что-то пойдет не так. (Как выяснилось, предостережения были излишними, но интересно, что общее мнение о нем было именно таким, как осмелилась сказать Н. М.)
Кроме того, в следующий приезд мы познакомились с замечательными Ивичами, современниками Мандельштама, его старинными друзьями. Ивич, которому на вид было хорошо за восемьдесят, рассказывал о своем знакомстве с Гумилевым, о том, что видел Блока, – мы были очарованы и личностью его, и его познаниями. В архиве Ивича были автографы Мандельштама. Он показал мне “Балладу о луне”, которую Харджиев включил в советское издание. Но автограф Ивича совсем другой. Он объяснил, что Харджиев приходил к нему, чтобы посмотреть автограф, и сократил стихотворение, поменял в нем порядок строк, как ему нравилось, и сказал: “Так лучше”. Ивич говорит, что не мог поверить увиденному: Харджиев считался великолепным текстологом, а сейчас у него на глазах переписал стихотворение Мандельштама. Короче говоря, всякий раз, когда мы могли перепроверить слова Н. М., оказывалось, что она была права. Конечно, надо полагать, каждого может подвести память, и злость не была чужда Н. М. Но эти противоречия ставят иностранца в уязвимую позицию, особенно перед русскими друзьями, которые скажут, в конце концов, что X впоследствии загладил свои поступки добротою, а Y – несчастный человек и не надо нападать на него, пусть и справедливо.
Тут я должен заметить вот что: 1) для нерусского читателя имена конкретных личностей мало что говорят. Общая картина и моральная позиция Н. М. для нас гораздо важнее; 2) в большинстве случаев возражения против ее книги, если в них вникнуть, относятся к ее мнениям, а не к фактам. Кроме того, это возражения против отрицательных мнений, высказанных открыто и в сильных выражениях.
Русским литераторам это непривычно – в биографиях писателей они предпочитают агиографический подход. С этим сталкивается всякий, кто задумал написать биографию советского писателя и обратился к важным источникам – друзьям, коллегам, вдове. В России дневники и мемуары несравненно щепетильнее, чем на Западе; русская Анаис Нин вызвала бы столбняк; грубость и язык Гарри Трумэна были бы неприемлемы. Пишется все в возвышенном интеллектуальном духе. Искусство трактуется с большой буквы, секс не существует. Неприятные исторические события замазываются. Хороший пример – объемистые мемуары Эренбурга: они многое открыли молодому советскому читателю и в этом плане важны, но мир, им описываемый, имеет такое же отношение к реальному миру, как Диснейленд к Нью-Йорку. Именно такого рода компромиссные мемуары были предпочтительны – или, по крайней мере, привычны – для многих либералов, критиковавших Н. М. Оптимизм, позитивизм, краснощекое здоровье посредственного соцреализма оставили свой отпечаток в подсознании. Не говоря уже о моральных вопросах, такие критики привязаны к литературным условностям, имеющим давние корни в России.
Поэтому неудивительно, что портрет Анны Ахматовой в воспоминаниях Н. М. шокировал многих поклонников замечательной поэтессы. Такие энтузиасты не могут допустить, что талантливый художник не лишен обычных человеческих качеств – раздражительности, эгоцентризма, мелочности, – не говоря уже о завуалированном намеке, что ее иногда привлекали красивые женщины. Зачем об этом распространяться, спрашивали они, забывая, что каждый мемуар о Пушкине прочесывается в поисках подробностей, за которыми стоит живой человек. Русские охотно судачат о таких вещах, но писать о них – это совсем другое дело. Описание Ахматовой у Н. М. нисколько не принижает (и не имеет целью принизить) ее искусство. Но в России преобладает убеждение, что плохой человек не может написать хорошую книгу, и в результате возникает сговор: отрицать человеческие черты у любимых писателей.
Так что Надежда Мандельштам явилась, как генерал Паттон на смотр, и истрепала нервы литературному сообществу. Естественно, среди ее жертв, друзей жертв и тех, чью роль в литературе она считала нулевой, реакция была негодующая. Некоторые дали выход своей злости в письмах. И в ответ на воспоминания Н. М. были написаны по меньшей мере две книги мемуаров. Одна – либеральной писательницы Лидии Чуковской; ее возражения и многословность оправданы долгой дружбой автора с Ахматовой. О другой – Эммы Герштейн – я уже упоминал. Мы можем читать эти контрмемуары, и если авторы ловят Н. М. на фактических ошибках, за это мы должны быть благодарны; там, где их мнения о людях и взгляд на события расходятся с Н. М., мы должны обдумать их и проверить. В первой категории поправки неизбежны, учитывая, какой временной промежуток охватывают ее воспоминания; однако ясно, что бóльшая часть возражений относится к мнениям Н. М., к ее точке зрения и интерпретации. Так обстоит дело с обвинениями Каверина, к которым мы и обратимся, поскольку они выражают взгляды большинства.
Я опубликовал перевод его письма к Н. М. от 20 марта 1973 года в New York Review of Books.
Вениамин Каверин (р. 1902) начинал в “Серапионовых братьях”. Для его раннего творчества типичны замысловатые фабулы, детективные и приключенческие истории; последующие рассказы и романы менее экспериментальны и укладываются в рамки социалистического реализма. В 1956 году он участвовал в создании “оттепельной” антологии “Литературная Москва”. В целом он был тем, что на Западе назвали бы либералом. Творческий путь его был долгим и невыдающимся. В первой книге воспоминаний Н. М. называет его вполне приличным человеком, но в двух местах можно воспринять упоминания о нем как не очень лестные.
Поскольку многие не прочтут книг Н. М. или не смогут проверить их пункт за пунктом, я думаю, важно рассмотреть главные обвинения Каверина. Цитируя Н. М., Каверин несколько раз слегка меняет слова (и делает пропуски) и пунктуацию и, что еще важнее, вырывает куски из контекста, добавляя свою интерпретацию. Нелепо его утверждение, будто Н. М. задалась целью показать, что, кроме Мандельштама, Ахматовой и ее самой, современной русской литературы не существовало. Так прочесть ее никому не пришло бы в голову за пределами московского и ленинградского литературных кругов. Если рассказывать о том, как обращались коллеги с Мандельштамом, с ней и с другими жертвами сталинского террора, оскорбительно для их достоинства – то да, она оскорбила и осрамила некоторых писателей. И она с полным основанием относится критически к их творчеству.
Каверин спрашивает: “Кто дал вам право судить художников, одаривших блистательными произведениями свою страну и весь мир?” Странный, но симптоматичный вопрос – спрашивать ту, чей муж был убит при участии писателей и чья жизнь, так же, как у ее ближайших друзей, превратилась в постоянный ужас. Но помимо этого – разве не у каждого человека есть право судить? Публично выражать свое мнение? Позиция, о которой я сказал выше, здесь подразумевается: если писатель “одарил весь мир блистательными произведениями”, то нельзя низводить Искусство до житейского уровня, представляя творца в дурном свете. Далее Каверин упрекает Н. М. в том, что у нее нет “литературного образования”. Такая нелепая претензия со стороны почтенного автора могла возникнуть только в обществе, где масса писателей и критиков проходят обучение в официальных литературных заведениях. (Кстати, у Н. М. была ученая степень по филологии.) Каверин приводит список “талантливых писателей и честных людей”, от Горького до Мейерхольда, и подает его так, словно талант и честь всех названных не подлежат сомнению. Я слышал, однако, что честь почти каждого из них в то или иное время вызывала вопросы (начиная с Горького, чье злобное лицемерие признается почти всеми), а по поводу их литературных заслуг мнения расходятся самым решительным образом. И вот что важно: к разным писателям, как к людям и к художникам, Н. М. относится очень по-разному, а вовсе не всегда отрицательно, как утверждает Каверин.
Для Каверина особенно интересен разговор о Юрии Тынянове. Тынянов был его близким другом, и Каверин был женат на сестре Тынянова – так что он был заинтересованный стороной. Тынянова (1894–1943) многие западные слависты считают одним из лучших литературных критиков советского периода. С ними согласны и многие советские критики, но среди иностранцев немногие станут утверждать, что его художественная проза представляет интерес для кого-нибудь, кроме русских.
Я перечел все, что Н. М. говорит о Тынянове, в том числе главу “Литературоведение”, и только в одном случае ее заметки касаются его как человека. В остальном она просто обсуждает его идеи относительно развития литературы. Обвинять ее в том, что она представила Тынянова “главой всех лицемеров в нашей литературе” нет никаких оснований. Она называет Тынянова хорошим человеком, пишет, что “он принадлежал к лучшим и самым чистым людям из наших современников”, и явно симпатизирует ему – при этом считая его критические идеи, к сожалению, ошибочными.
Я думаю, многие специалисты согласятся в основном с ее критикой тыняновских теорий и с замечанием, что он был “сын рационалистической эпохи”, с ее верой в системы. Она не претендует на полную характеристику его трудов, но то, что о них не сказано ничего хорошего, Каверин, конечно, счел несправедливостью и нарушением приличий. Во всяком случае, остается место для сомнений в том, что труды Тынянова знаменуют новый этап в мировом литературоведении, а за гневным упреком, что книга Н. М. продиктована “болезненным самоупоением”, кроются родственные чувства, а не анализ фактов и оценок. Если внимательно рассмотреть один длинный пассаж, подвергаемый разносу, то под вопросом оказывается только один факт – точная длина коридора.
Надежда Мандельштам не вдова Мандельштама, заявляет Каверин, а его тень, а тень должна знать свое место. Я думаю, у нее было некоторое представление о своем месте – и о месте Каверина. Об этом свидетельствует желание Н. М. опубликовать его письмо. Как бы там ни было, это письмо – литературный документ, принадлежащий к распространенному в России жанру (“письмо А к Б”), и оно широко ходило по Москве. И поскольку не имеет смысла искажать слова автора, обращаясь к нему самому, я заключаю, что Каверин рассчитывал на более широкую аудиторию. Если бы Н. М. вела себя смирно, восхваляя кумиров либеральной интеллигенции, с улыбкой изрекала банальности о Мандельштаме, то в последние годы жизни вознаграждена была бы толпами гостей, в том числе тех, которые прежде ее не узнавали. Но она одна позволила себе быть свободной – и думаю, чувство облегчения и справедливости более чем перевесило все нападки типа каверинских, которым она подвергалась всю жизнь. И потому что она была свободной, ее книги будут жить в русской литературе еще долго после того, как забудутся его книги.
В частных разговорах и в письмах литературные мнения Н. М. были так же категоричны, как социально-политические. Сегодня ее иконоборчество не так поражает, как десять лет назад, но ее оценки и вердикты нисколько не потеряли остроты. Она была женой великого писателя, и поэтому для нее жизнь и литература были очень близки, и сама она чутка к традициям, которым следовал О. М. Даже в их трагических проявлениях. Например, рассказывая о том, как О. М. придумал болезнь, требовавшую консультации в Москве, чтобы убедить своих воронежских сторожей дать ему разрешение на поездку, “просто уехать и побыть свободным хотя бы день”, Н. М. сказала, что то же самое было с Пушкиным, когда он под предлогом болезни попросил у полиции разрешения на выезд. Пушкин для нее особенно много значил, и когда я сказал ей, что перевел его критические статьи, она сделалась серьезной и преду предила меня, что это чрезвычайно “ответственное дело”. Поскольку она и О. М. не терпели переводов в принципе, это было удивительное замечание.
О писателях ХХ века она отзывалась остроумно и едко. Иногда казалось, что направление ее мыслей задано каким-то высказыванием Мандельштама.
Мы когда-то сказали ей, что Эллендея решила заняться Булгаковым, и в этом случае Н. М., вероятно, смягчала отзыв; кроме того, на ее мнение не могла не повлиять помощь, мгновенно оказанная Еленой Булгаковой (через Ахматову), когда арестовали О. М. Третьего марта 1970 года она написала нам – по-английски, как обычно:
О Булгакове могу рассказать очень мало. Мы встречались только в издательствах и на улице. И даже прожили год в одном доме. Ахматова очень с ним дружила. Есть даже стихотворение, написанное после его смерти. Мы познакомились в 1921 году в Батуми. Он был в отрепьях (как и мы). При каждой встрече он останавливал нас и спрашивал: как можно получить премию за роман? Я над ним посмеивалась, но Мандельштам сказал, что в этом человеке “что-то есть” – это означало, что он кажется талантливым. В последний раз мы встретились в Союзе писателей в 1938 году. Ему пришлось снять коньки (он катался во дворе). У него был какой-то сердитый разговор с официантками. Когда мы подошли, он перестал ругаться и улыбнулся нам. Я не одобряю ссор с официантами, но Мандельштам сказал: он может делать что хочет, потому что у него умное лицо. Он действительно казался умным и талантливым, но очень нервным и немного огорченным (или грустным). Такое у меня впечатление.
Дальше Н. М. рассказывает, что О. М. и она читали “Белую гвардию”, из-за которой закрыли журнал, где она печаталась, и были на спектакле “Дни Турбиных” по инсценировке романа. Премьера 1926 года в Московском Художественном театре вызвала большой шум. Оценки спектакля она не дала, но прибавила: “Это единственный раз, что мы были в Художественном театре”. Могу предположить, что в этом ее и О. М. вердикт Станиславскому и “классическому” русскому театру. Еще она сообщала, что ее братья и Паустовский учились в той же киевской школе, что и Булгаков – в Первой гимназии, – но, кроме этого, мало что помнит. Булгакова по-настоящему открыли и в России, и за рубежом в 1966–1967 гг., когда был опубликован его роман “Мастер и Маргарита”. Для большинства читателей это была словно вспышка света в темноте, и мы приехали в Москву в самый разгар его популярности. Но Н. М. книга не понравилась. Она считала ее кощунственной (Булгаков пересказывает по-своему евангельскую истории о Христе и Пилате) – говорила это еще до начала своей наиболее религиозной фазы.
О вдове же Булгакова, Елене Сергеевне, она говорила только хорошее. Она сама позвонила Елене Сергеевне, сказала ей о работе Эллендеи, тепло отрекомендовала нас и устроила нам встречу с ней. Это был один из первых случаев, когда мы могли убедиться в действенности “сети вдов”. Помочь Эллендее в булгаковских исследованиях она пыталась и по-другому. Когда мы упомянули о плане поехать в Киев, она оживилась и сказала, что Виктор Некрасов не только честный писатель и чудесный человек, он еще поклонник Булгакова. Она собиралась позвонить Некрасову, как только наши планы определятся, но, к сожалению, мы не смогли втиснуть поездку в наше расписание и познакомились с Некрасовым только в 1981 году, когда вместе очутились в Лос-Анджелесе.
Из других советских прозаиков ее любимцами (с оговорками) были Зощенко и Платонов (последний возник из забвения во время нашего первого приезда в 1969 году). А неопубликованные произведения Платонова были особенно популярны среди тех, кого вскоре назовут диссидентами. Н. М. уже прочла в самиздате “Котлован”. Мрачную картину не такого уж славного нового мира, картину, по пессимизму превосходящую все даже в русской литературе, она назвала чистой правдой, без всякого художественного преувеличения. Н. М. отмечала необыкновенный стиль книги, где словарь и грамматика высокой литературной традиции сочетаются с вывихнутыми лексикой и грамматикой, порожденными большевистским режимом. Она познакомила нас с молодым филологом Е. Терновским, который дал нам машинописный экземпляр, мы переправили его и в 1973 году опубликовали впервые. Двойственное отношение Платонова к новому миру отчасти загадочно (какой-то частью своей он желал быть полезным инженером для “новых людей”), но Н. М. высоко оценивает его во “Второй книге”.
С Зощенко ситуация яснее, поскольку о нем она написала больше. Книги говорят о ее уважении к прозе Зощенко и к его личной храбрости. Но в них и сожаление. Она отмечает душевный упадок “бедного… чистого духом Зощенко” в конце двадцатых годов, настигший его гораздо раньше, чем большинство других. Что ей действительно нравилось и о чем она не написала в книгах – это ранний Зощенко. Она говорила нам, что он был глубоко оригинален, что рассказчик, которого он “придумал” в ранних рассказах, – это подлинный новый советский человек, некультурный, вульгарный человек толпы. Зощенко точно уловил его язык и его интересы и, пока вел рассказ от его лица, создавал оригинальные вещи. Но, как выяснил Зощенко, сатирики и государства разрушительны друг для друга, и мы знаем, что в короткой перспективе перо не ровня штыку.
То же относится к драматургу Николаю Эрдману, для которого Н. М. находит лишь слова похвалы. Она сказала, что всегда наслаждалась смешными историями, которые он рассказывал ей шепотом при всякой встрече. Он был необычайно остроумен, но тоже жил в постоянном страхе и подвергался преследованиям, а под конец жизни больше всего боялся, что всплывет в самиздате. В двадцатых годах “Мандат” играли во многих театрах; “Самоубийцу” репетировали, пока Сталин не объявил пьесу вредной, и ни ту, ни другую пьесу в СССР не печатали. Но в начале 1970-х рукописи пошли по рукам; Эрдман дрожал, но в Германии и Швеции были премьеры. Благодаря энтузиазму Н. М. мы издали обе пьесы на английском (1975) и впервые опубликовали “Самоубийцу” на русском с цитатами Н. М. и Сталина на обложке. Мы послали ей эту книгу с большой радостью, но какова была реакция, не помню. Знаю, однако, что постановка пьесы на Бродвее, с энтузиазмом принятая американской публикой, – результат разговоров Н. М. с нами за десять лет до этого. Старец Зосима у Достоевского прав, когда он говорит о свете. Н. М. излучала свет, и он становился все сильнее, независимо от ее воли.
Ее отношение к поэтам, естественно, было более сложным. Но и тут она кое-чем удивляла. Казалось бы, О. М. и Маяковский – непримиримые оппоненты, и она отвергала теории Маяковского, его политику, ориентировавшееся на партию его лефовское окружение (не говоря уже о небезызвестном салоне Осипа Брика, связанном с органами), но сказала, что он был просто “милым человеком” (произнесла это: “милый чек”).
Пастернак же, на поверхностный взгляд более близкий к О. М., был для нее сложным случаем. Во “Второй книге” она дает довольно подробный “балансовый отчет”. Были периоды, когда они дружили; Н. М. вспоминала, как “безумно любопытный” О. М., Пастернак и она шли по запруженной улице после смерти Ленина. Когда мы с ней общались, у нее были теплые и довольно регулярные отношения с некоторыми членами его семьи.
Но были в прошлом, определенно были, эпизоды, все еще причинявшие боль. Во-первых, среди русских редкость, когда они одинаково любят Пастернака и Мандельштама. Обычно спрашивают: кого вы предпочитаете? (В XIX веке – Толстого или Достоевского.) Вопрос, кто ваш поэт, стоит остро.
Важнее для Н. М. был известный эпизод со звонком Сталина Пастернаку, окончательно не прощенный. Когда О. М. арестовали, Бухарин написал Сталину письмо в его защиту; письмо это, по-видимому, заканчивалось фразой: и Пастернак тоже очень “взволнован”. Как известно, Пастернак переводил грузинских поэтов, так что упоминание о нем вряд ли просто случайное. Н. М. полагала, как и другие, что письмом Бухарина и объясняется звонок Сталина в мае 1934 года, когда он спросил Пастернака, “мастер” ли О. М. Но об этом звонке и предположительной его цели Пастернак ей и наиболее заинтересованным людям не рассказал. Лишь спустя месяцы один друг узнал о звонке и сообщил Н. М. Она сказала, что у нее были “большие разговоры” с Пастернаком на эту тему. Конкретный и подробный отчет о них есть в первой книге, но, по моему впечатлению, она была не вполне удовлетворена объяснениями Пастернака. Его осторожность в отношении к судьбе коллеги-поэта представляется мне характерной. В 1935 году, когда он разговаривал с Мариной Цветаевой в Париже, у него была прекрасная возможность предупредить ее, чтобы она не возвращалась в Россию; он не попытался предостеречь ее от очевидного. Не рассказал ей того, что знал, – и она закончила жизнь в петле. Такие случаи и двойственная, но в основе просталинская его позиция до 1937 года, возможно, объясняют сохранявшуюся у Н. М. враждебность к Пастернаку. Она принимала разные формы. Например, зная о новогоднем хвалебном послании О. М. Пастернаку и имея к нему доступ, она не дала его ни нам, ни другим филологам. Мы получили его из других рук и, опубликовав его в Russian Literature Triquarterly, думали, что Н. М. может не простить нам, что мы поступили ей вопреки. Но она ничего не сказала.
Ее двойственное отношение к Анне Ахматовой теперь хорошо известно, в особенности после того, как неотлакированный портрет Ахматовой во второй книге вызвал большую полемику. (Убрать из книги открытые упоминания о лесбийстве в связи с Ахматовой Н. М. убедил, предположительно, В. В. “Кома” Иванов.) Нам же было совершенно ясно, что Н. М. любила и уважала Анну Ахматову. Но элемент соперничества все же присутствовал, поскольку взаимопонимание между Мандельштамом и Ахматовой было столь глубоким, что Н. М. иногда оставалась как бы в стороне.
Ахматова и Н. М. были очень близки во многих отношениях, их многое объединило в их долгой жизни, и ясно было, что дружба их очень глубока. Но у Н. М. была роль слушательницы, а Ахматова была звездой. Трения, безусловно, случались. Бродский, например, говорит, что впервые узнал о книге Н. М. в 1967 году и что Ахматова, по-видимому, о ней еще не слышала. Поскольку книга была начата в 1964-м, Ахматова точно не была ее первой читательницей.
Как это часто бывает, одно дело, если Н. М. критикует Ахматову, и совсем другое, если это делают посторонние. Если кто-то нападал на Ахматову несправедливо или забывал о том, как Россия обходилась с одним из лучших своих поэтов, Н. М. тут же вставала на ее защиту. Когда Би-би-си сообщила о смерти Ахматовой и что Россия опечалена, Н. М. была в гневе. Это полная ложь, сказала Н. М., и слышать это оскорбительно. На самом деле, только очень узкий круг людей понимал, что значила для России Ахматова: для официального мира она была лишь убоиной Жданова, а для большинства народа, всю жизнь прожив под репрессиями, просто неизвестна.
Когда я переводил “Поэму без героя” Ахматовой, Н. М. мне чрезвычайно помогла, писала удивительные письма, сообщала реалии, которые я включил в примечания (не имея возможности прямо сослаться на нее). В одном письме она призналась, что скрыла свое истинное мнение о поэме, не хотела критиковать подругу. Первого апреля 1971 года она писала: “Несколько слов о поэме. Я ее не люблю и поэтому мало что могу сказать”. Однако сообщает, что третье посвящение – сэру Исайе Берлину, что он же – “гость из будущего”, и объясняет многие загадочные места в поэме. “Не ищите никакого двойного смысла в поэме – только один: самоубийство молодого человека, которого любила Ахматова. У нее было чувство, что она его не спасла”. После всех этих полезных сведений 25 ноября 1971 года она снова написала, что мало знает о поэме!
Никакой другой идеи, кроме того, что ясно с первого взгляда, нет. Но поэма несколько загадочна. “У шкатулки двойное (тройное?) дно” – чистое кокетство автора. (Не ссылайтесь на мое мнение! Она была моим другом, и я не хочу высказываться о ее стихах!) Кокетство – компенсация недостатка идей. Она любила человека, покончившего с собой. Она терпеть не могла поэта, который послал черную розу, и любила женщину, из-за любви к которой произошло самоубийство. Она считала, что десятые годы не были “серебряным веком”, а были очень извращенным и опасным периодом. Виноват ли был поэт, пославший черную розу, в самоубийстве мальчика? Даже эта женщина не виновата… Он был из компании Кузмина… Так же, как Ольга (героиня). Она была “невинный цветок театральных училищ”. Кузмин любил их по-своему. Я не люблю поэму, хотя там есть прекрасные места (“и весь траурный город плыл”).
Она считала, что здесь Ахматова повинна в ложной многозначительности. В другом письме она заключает: “Поэма мне не нравится. Фразы вроде «лишняя тень» ничего не означают и служат для того, чтобы придать поэме «таинственность», отчего она лучше не становится”. Но она знала, что мнения, высказанные в письмах, совсем не то, что запечатлено в мемуарах, – и в них свое мнение смягчила.
Что до современных писателей, и особенно поэтов, Н. М. говорила, что о них у нее только поверхностное мнение, составленное наспех и частично – на основании их гражданской позиции. В случае четырех наиболее известных поэтов, трех официальных и одного “тунеядца” (согласно государственному обвинению против него), ее суждения в целом совпадали с суждениями большинства наших знакомых. Евтушенко и Вознесенский, по общему мнению, переоценены – циничные орудия режима, – их репутация на Западе как либералов и даже диссидентов смешна.
С другой стороны, Беллу Ахмадулину, в прошлом жену Евтушенко, Н. М. назвала “чýдной бабой”, отчасти за ее стихи, а отчасти из-за истории, которую мы тоже слышали повсюду в 1969 году. История была такая: Ахмадулина приехала в Грузию, теплую республику, знаменитую своим гостеприимством и вином – и тем, что там родился Сталин. Статуи его отовсюду убрали, но в Грузии несколько осталось, здесь его еще считали великим человеком, своим. И вот на большом банкете с обычными пышными тостами, когда один грузин предложил поднять бокал за “великого Сталина”, Белла, уже в подпитии, сняла одну туфлю и бросила в него, потом другую и, босая, ушла. Мы всего один раз присутствовали на публичном чтении стихов – это был вечер Беллы Ахмадулиной, и подвигло нас пойти отчасти то, как отзывалась о ней Н. М.
Отношения Н. М. с Бродским были сложными, чтобы не сказать больше. В среде интеллигенции он считался самым лучшим поэтом (не просто лучшим, а вне конкуренции). Неудивительно было услышать это от Ахмадулиной; но с этим соглашались уважаемые поэты и старшего поколения, такие, как Давид Самойлов.
По-видимому, Н. М. познакомилась с Иосифом в 1962-м или 1963-м году, когда он с Анатолием Найманом и Мариной Басмановой посетил ее в Пскове, где она преподавала. Иосиф прочел ее воспоминания в 1968–1969-м, примерно тогда, когда мы с ней познакомились. После ссылки он навещал ее, когда приезжал в Москву. Бродский был известен тогда как один из “ахматовских мальчиков” – группы молодых поэтов, включавшей Наймана, Евгения Рейна и Дмитрия Бобышева (все присутствуют на известной фотографии похорон Ахматовой).
В ту пору Н. М., как и другие, относилась к ахматовским мальчикам с легкой иронией – у Ахматовой был царственный вид, и она принимала как данность, что она великий страдающий поэт, которому должно оказывать почтение. Но Иосиф читал свои стихи у Н. М., и она регулярно их читала. Она считала его истинным поэтом. Но относилась к нему как старший и несколько обеспокоенный критик. Не ментор, но звено между ним и Мандельштамом и прошлой русской поэзией – и потому имеет право на суждение. Она говорила, и не раз, что у него есть действительно прекрасные стихотворения, но есть и вполне плохие. Она всегда относилась скептически к крупным формам, а у Иосифа к этому был особый талант. Она говорила, что у него слишком много “идишизмов” и что ему надо быть осторожнее – бывает неряшлив. Может быть, тут подразумевалось и его поведение, не знаю. Когда она впервые рассказала о нем Эллендее и мне – весной 1969 года, – мы о нем очень мало знали. Она засмеялась и сказала: если он звонит ей, говорит, что он в городе и приедет через два часа, она воспринимает его слова с сомнением. Он может где-то выпивать с друзьями и заявится гораздо позже, или она вообще может лечь спать, потому что он совсем не придет. Тем не менее она считала, что нам важно встретиться с ним, когда приедем в Ленинград, и снабдила рекомендательной запиской. Эта встреча сыграла судьбоносную роль в нашей жизни.
Перед самым отъездом в Ленинград был странный звонок от нее. Она предупредила нас, чтобы мы не знакомились и не имели никаких дел с человеком по фамилии Славинский – он известный наркоман. Как выяснилось, она беспокоилась не зря: одного американца за связь с его компанией забрал КГБ.
С годами мнение Н. М. о Бродском становилось жестче, и во второй книге она судит о нем суровее, чем в первой. Она хвалит его с оговорками. “Среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта – ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась”. Описав его декламацию как “духовой оркестр”, она продолжает: “…но, кроме того, он славный малый, который, боюсь, плохо кончит. Хорош он или плох, нельзя отнять у него, что он поэт. Быть поэтом да еще евреем в нашу эпоху не рекомендуется”. Дальше в связи с мужественным поведением Фриды Вигдоровой (она записала суд над Бродским – первый такой журналистский подвиг в СССР) Н. М. говорит: “Бродский не представляет себе, как ему повезло. Он баловень судьбы, он не понимает этого и иногда тоскует. Пора понять, что человек, который ходит по улицам с ключом к своей квартире в кармане, является помилованным и отпущенным на волю”. В письме нам от „31 февраля” 1973 года, когда Бродского уже не было в России, она писала: “Передайте Бродскому привет и скажите, чтобы не был идиотом. Он хочет снова кормить моль? Для таких, как он, у нас комаров не найдется, потому что дорога ему – только на Север. Пусть радуется тому, где он есть – должен радоваться. И выучит язык, к которому его так тянуло всю жизнь. Он овладел английским? Если нет – он сумасшедший”.
Между прочим, Иосиф, в отличие от многих, очень высоко оценил вторую книгу ее воспоминаний, несмотря на то, что она говорит о нем, и несмотря на неоднозначный портрет Ахматовой. Мы написали Н. М. и сообщили мнение Иосифа. Через месяц (3 февраля 1973 года) нам ответил Хедрик Смит и попросил “сказать Иосифу, что Надежда… была рада услышать о нем и получить его «глубокий поклон». Над., конечно, была польщена его похвалой 2-му тому”. Иосиф в самом деле не раз защищал право Н. М. говорить то, что она думает; он сказал Лидии Чуковской, что, если она огорчена (а она была огорчена), то самое простое – написать свои воспоминания (что она и сделала).
Хотя Н. М. беспокоило то, что казалось ей сумбурным поведением Иосифа (вовсе не свойственным ему в те годы, когда мы его знали), ее отношение к нему было окрашено, по-моему, искренней любовью – даже когда она над ним подшучивала. В 1976 году ему сделали тройное шунтирование, от чего мы все были в ужасе. Вскоре после этого мы прилетели в Москву и, как обычно, посетили Надежду (15 февраля 1977 года). Когда я сказал ей, что у Иосифа был инфаркт, она, не задумавшись ни на секунду, с обычной своей улыбкой сказала: “Переебался?” Она всегда осведомлялась о нем и всегда просила передать ему привет. В те годы, когда Н. М. предпринимала усилия, чтобы архив О. М. был переправлен из Парижа в Америку, она постоянно просила нас передавать ее сообщения Иосифу, считая, что именно он достойно позаботится о том, чтобы это важнейшее ее желание было исполнено.
Разногласия ее с Иосифом длились много лет, еще с тех пор, когда мы не были с ними знакомы. Главный литературный спор был у них, по-видимому, из-за Набокова. Надо иметь в виду, что в эти годы Набоков в СССР был под запретом и его ранние русские книги были чрезвычайной редкостью. Видели их только самые крупные коллекционеры. Русскому мог случайно достаться английский роман Набокова, но не написанный по-русски. (Я знал двух коллекционеров, у которых была первая настоящая книжка Набокова – стихи, опубликованные в России до революции, – но это были исключения.) Советский человек мог узнать Набокова только по случайно доставшейся книжке издательства имени Чехова, а именно – по “Дару” (1952), по репринтам “Приглашения на казнь” и “Защиты Лужина”, напечатанным, как и многие другие русские классические произведения, на деньги из ЦРУ. А когда Набоков перевел “Лолиту” на русский (в 1967 году), его книги снова стали печататься при финансовой поддержке ЦРУ – и эти уже довольно широко ходили в либеральных кругах.
Н. М. читала “Дар” – и только эту книгу признавала. У Иосифа с ней был большой спор из-за Набокова. Иосиф настаивал, что он замечательный писатель: он тоже читал и “Дар”, и “Лолиту”, и “Защиту Лужина”, и “Приглашение не казнь”. Он хвалил Набокова за то, что тот показывает “пошлость века”, и за “безжалостность”. В 1969 году он доказывал, что Набоков понимает “масштаб” вещей и свое место в этом масштабе, как и положено большому писателю. Году в 1970-м он говорил нам, что из прозаиков прошлого для него что-то значат только Набоков и, в последнее время, Платонов. Н. М. бурно не соглашалась, они поссорились и довольно долго не виделись (по его словам, ссора длилась два года). Свою версию она нам не излагала – знала, что я занимаюсь Набоковым и что в 1969 году мы познакомились с ним и его женой. Она не сказала мне, как Иосифу и Голышеву, что в “Лолите” Набоков – “моральный сукин сын”. Но в первый день нашего знакомства она объясняла нам, что ей претит его “холодность” (частое обвинение у русских) и что, на ее взгляд, он не написал бы “Лолиту”, если бы в душе у него не было такой постыдной тяги к девочкам (тоже типично русский взгляд, что под поверхностью прозы всегда – и близко – лежит реальность). Мы могли бы возразить, что для человека, так хорошо понимающего поэзию, это странная недооценка воображения. Но мы пошли по легкому пути и стали возражать, исходя из ее же аргументации. Мы сказали, что это совсем не так, что Набоков – образец респектабельности, что он тридцать лет женат на одной женщине и каждая его книга посвящена ей. Она выслушала нас разочарованно.
Но явно не была переубеждена. Через несколько месяцев, когда мы вернулись из Европы, она прислала нам довольно раздраженное – что было ей свойственно – письмо, где говорилось:
Мне не понравилось то, что написал обо мне [Артур] Миллер. Меня больше интересует виски и детективные романы, чем его идиотские слова. Разве я что-то подобное вам говорила? Никогда! И ему тоже… могу поклясться… Эта свинья Набоков написал письмо в New York Review of Books, где облаял Роберта Лоуэлла за перевод стихов Мандельштама. Это напомнило мне, как мы лаялись из-за переводов… Перевод всегда истолкование (см. Вашу статью о переводах Набокова, в т. ч. “Евгения Онегина”). Издатель прислал мне статью Набокова и попросил написать несколько слов. Я сразу написала – и в очень чинных словах, чего обычно избегаю… В защиту Лоуэлла, конечно.
Мы с Эллендеей не видели нужды доводить до сведения Набокова это оскорбление и были несколько смущены, когда он попросил передать ей экземпляр с его статьей о Лоуэлле. Щекотливость нашего положения усугублялась тем, что Набоков проявлял заботу о Н. М. Мы решили, что благоразумное молчание, а затем кампания с целью ее переубедить будет наилучшим способом действий, особенно ввиду ее ссоры с Бродским, с одной стороны, и великодушия Набокова, с другой.
Может быть, самое любопытное в разногласиях Н. М. и Бродского из-за Набокова то, что за десять лет они почти полностью поменяли свои позиции. Бродский ценил Набокова все меньше и меньше, считал, что его стихи (мы опубликовали их в 1967 году) ниже всякой критики, и находил его все менее значительным. Могу предположить, что происходило это естественным образом, но, с другой стороны, Бродского очень сильно задел уничижительный отзыв Набокова о “Горбунове и Горчакове” в 1972 году. Иосиф сказал, что, закончив поэму, долго сидел, убежденный, что совершил большое дело. Я был согласен. Я послал поэму Набокову, а потом сделал ошибку, передав Иосифу, правда, в смягченной форме, его отзыв (это было в новогодние дни 1973-го). Набоков написал, что поэма бесформенна, грамматика хромает, в языке – “каша” и в целом “Горбунов и Горчаков” “неряшлива”. Иосиф потемнел лицом и ответил: “Этого нет”. Тогда он и рассказал мне о своем споре с Н. М., но после этого не помню, чтобы он хорошо отозвался о Набокове.
А у Н. М. мнение о Набокове стало быстро меняться в другую сторону, и к середине 1970-х я слышал только слова похвалы. Когда мы спрашивали, какие книги она хотела бы, она всегда называла Набокова. Например, когда я послал ей открытку по почте и она ее действительно получила (она всегда говорила, что почта к ней редко доходит), Н. М. передала через одного слависта, что открытка пришла 12 июля, перед ее отъездом на два месяца в Тарусу. Она попросила через него “английские или американские стихи или что-нибудь Набокова”. Помню, вынимая для нее подарки во время книжной ярмарки 1977 года, первым я достал из сумки наш репринт “Дара” на русском. Она страшно обрадовалась и улыбнулась такой улыбкой, от какой растаяло бы сердце любого издателя. Мне хочется думать, что Эллендея и я сыграли роль в этой перемене; в те дни мы были главными западными пропагандистами Набокова в Советском Союзе, его искренними почитателями, а также издателями его русских книг. (В 1969 году я получил в Москве через диппочту сигнальный экземпляр “Ады” по-английски, и мы с Эллендеей сражались за право прочесть ее первыми. Закончив, отдали ее русским друзьям.) Кроме того, мы передали Н. М. добрые слова Набокова о ее муже. Последние несколько раз, что мы с ней виделись, она неизменно просила нас передать поклон Набокову и хвалила его романы. Когда с ней в последний раз увиделась Эллендея – 25 мая 1980 года, – Н. М. попросила ее сказать Вере Набоковой, что он великий писатель, и если она говорила о нем плохо раньше, то исключительно из зависти. Она не знала, что еще в 1972 году Вера Набокова послала деньги, чтобы мы, не говоря об этом, купили одежду для Н. М. или для тех, чью ситуацию мы описывали Набоковым при первой встрече в 1969 году.
Мы много знали о ее жизни в литературе, но повседневной ее жизни не знали, и я даже не буду пытаться ее описывать. За время нашей дружбы наши контакты были специфическими, наши визиты к ней – увлекательными интерлюдиями. Мы писали ей, когда письма можно было через кого-то передать; в отпуске, когда путешествовали, слали ей открытки и несколько раз даже звонили. Около 1 марта 1978 года нам вдруг захотелось ей позвонить. Она разговаривала бодро и сказала, что изучает испанский, “чтобы занять чем-то мозги”.
Было в ее тогдашней жизни одно крайне важное решение, о котором мы кое-что знали, – решение эмигрировать. В начале 1970-х годов, когда появилась реальная возможность уехать из Советского Союза, она, как и многие другие, пребывала в нерешительности. Она колебалась так долго, что мы засомневались: всерьез ли все это или соблазнительные игры с самой собой. Но сама возможность отъезда заставляла всякого, хотя бы отчасти еврея, задуматься об этом. И конечно, разгорались моральные баталии – этично ли покидать родину.
Мы не знаем всех ее соображений, но среди них, наверное, были мысли о том, что она покинет землю, где похоронен Мандельштам (хотя где – неизвестно), покинет старых друзей, лишится заботы людей, которые ее почитают. И сможет ли она, старуха, прожить в чужой стране без близких друзей, просуществовать на потиражные из швейцарского банка и т. д. Она написала нам 14 августа 1972 года: “Вернулась два дня назад (ездила в Псков) и увидела ваше письмо. Я была тронута тем, что вы думаете обо мне. Подавать ли заявление, решу в сентябре. Жара такая, что шевелиться невозможно”. Но, видимо, колебания у нее продолжались еще два года, до 1974-го.
Иосиф Бродский последний раз увиделся с ней в те трое суток, что пробыл в Москве перед отъездом из России и нашей с ним встречей в Вене 5 июня 1972 года. Иосиф и Виктория Швейцер вспоминают, что к предполагаемой эмиграции Н. М. имела отношение ее старая приятельница Наталья Ивановна Столярова. Столярова была секретарем Эренбурга, до 1949 года она сидела в лагере, а в 60-е годы ездила на Запад. Она часто бывала у Н. М. и, естественно, рассказывала о своих впечатлениях от Запада. “Окончательное” решение Н. М. было связано с ее друзьями Хенкиными, собиравшимися уехать. По одной версии, она решила уехать с ними, по другой, противоположной, она потом сказала: “Они хотели уехать в Европу на мне”. Так или иначе, в 1974 году заявление на выезд в ОВИР она подала. Хронология неясна, но Хенкиным было отказано, а ей разрешение дали. Тогда Столярова пошла в ОВИР и забрала заявление Н. М. По одной версии, Столярова сделала это самостоятельно и даже сказала, что поступила умно, потому что Н. М. оказалась бы в полном одиночестве. Версия более правдоподобная: Столярова убедила Н. М., что она совершает серьезную ошибку, и Н. М. попросила ее забрать бумаги. Думаю, это больше похоже на правду, если вспомнить, какой сильный характер был у Н. М.
Так обстояло дело или иначе, Эллендея и я можем засвидетельствовать значительный факт: какое-то время Н. М. очень серьезно думала об отъезде из России на Запад. Она нам об этом писала. До нас доходили слухи, то одни, то другие. Когда мы виделись с ней, она подтверждала, что колеблется, приводя соображения, которые я перечислил выше. Мы не решались давать советы: результат мог быть как плохим, так и хорошим. Мы просто давали ей как можно больше информации. Большинство людей, задумывавшихся об эмиграции, мы отговаривали, потому что они редко предвидели все последствия – особенно если люди были старые. Даже те, кто думал, будто знает все о Соединенных Штатах или Англии, по-настоящему не представляли себе, как обстоит дело с получением работы, жилья и т. д. – я не говорю уже о культурном шоке. Наша линия была такой: жизнь здесь должна быть для них отвратительна и непереносима – тогда надо думать об отъезде.
В случае с Н. М. был один особенный момент. Она была непреклонна в своем отрицательном отношении к третьей волне эмиграции. Однажды она сказала нам, что в первой волне (с 1917-го и позже) был цвет русской культуры, лучшие русские умы, подлинная аристократия и интеллигенция. Вторая волна (после Второй мировой войны) была уже гораздо хуже – просто “ничто”. Что до новой, третьей волны 1970-х, сказала она со злостью, эта состоит из подонков, просто подонков. Этот вердикт она вынесла в начале эмиграции, до того, как в нее влилось так много писателей и художников. Но, учитывая ее умонастроение, сомневаюсь, что и тогда она увидела бы большое различие между известными советскими писателями и ловчилами из Одессы.
С еврейской культурой у нее связи, конечно, не было, хотя она могла говорить о том, что “нас, евреев, всегда преследовали”. Она тяготела к русской православной церкви и, кажется, главнейших иудаистских текстов не знала (так же, как многие наши друзья из интеллигенции). Но должен заметить, что она была настроена решительно произраильски – думаю, скорее в политическом отношении, чем религиозном. Хотя говорила нам, что чудесно было бы увидеть Иерусалим, но вряд ли ей удастся. (Тут есть неоднозначность, поскольку Иерусалим не только еврейский город.) С годами она укреплялась в своем христианстве, оно становилось для нее все важнее.
Н. М. дала нам свой русский мир, а нам нечего было дать взамен, кроме любви и уважения. Мы могли только делать ей маленькие подарки, но иногда они как-то скрашивали ее быт. Что нужно было в 1970-х годах семидесятилетней русской женщине, знаменитой вдове знаменитого поэта и автору небывалых по своему бесстрашию мемуаров?
Она была так бедна, что трудно было сделать плохой подарок, но мы скоро уяснили ее предпочтения. За все годы мы нечасто дарили ей одежду – такие вещи мало ее занимали. Н. М. любила повторять, что она “уже не женщина, а просто человек”. Мы не принимали этого определения – инстинктивно исходя из эмпирических наблюдений. Н. М. без конца интересовалась тем, во что была одета Эллендея. А Эллендея и я намеренно одевались здесь так, как одевались обычно. Сперва по привычке, а потом еще и поняли, что большинству русских это нравится больше, чем старания иностранных студентов одеваться как местные, не выделяться в толпе. Имея дело с настоящим живым американцем, русские предпочитали, чтобы он хотя бы выглядел как американец. Так что Н. М. всегда изучала наряды Эллендеи с чувственным удовольствием, особенно сапоги и пояса. Она с удовольствием щупала ткань, а однажды, потрогав на ней тяжелый пояс из латунных дисков, соединенных цепочками, сказала: “Какая прекрасная штука”.
В один из первых приездов Эллендея привезла ей итальянское пончо. Вначале Н. М. понадобилась помощь, чтобы надеть его правильно, и она полюбила его очень по-женски, а после писала нам: “В пончо мне очень тепло и уютно. Приятельницы от него в восторге. Они никогда не видели такой прелести. Я его обожаю. И полотенца тоже” (27 января 1971). Всякий, кто пользовался советским полотенцем, поймет, какая роскошь здесь пушистые американские полотенца. Эти вещи составляли разительный контраст со всем остальным в ее квартире. Она, конечно, могла твердить, что нужны ей только книги и что она “просто человек”, но Эллендея заметила, что духи и мыло, которые мы ей привозим, скоро кончаются, и, помимо книг, мы привозили ей продукты и такие полезные вещи, как постельное белье и наборы масел для ванны. В Советском Союзе, в ее мире это были маленькие сенсации. Иногда бывали конкретные заказы. В последний приезд Эллендеи – в 1980 году – Н. М. еще чувствовала себя достаточно хорошо и попросила для себя и подруг шерстяное платье и свитера трех размеров – один синий для “молодой дамы”.
В первые годы, когда она принимала гостей и ее еще не чурались, мы и все, кого посылали к ней, сосредотачивались на предметах первой необходимости. Еда и питье – или в обратном порядке. Мы загружались в валютном магазине “Березка” или в валютном гастрономе на Дорогомиловской – прибежище голодных дипломатов. Когда в Москву отправлялся кто-нибудь из хороших друзей, мы снабжали его точными инструкциями, как отыскать это заведение, наглядный пример бездушного отношения России к своему народу – покупать там могли только иностранцы и русские с “сертификатами”. Все, что мы покупали там, было к месту, потому что Н. М. постоянно в чем-то нуждалась. Дешевые безакцизные водка, джин и виски возглавляли список, потому что она принимала много народу, а для русских бутылки – приоритет. Затем сигареты, сахар, чай, сыр, масло, колбаса, разные консервы и так далее – всегда самое необходимое, а не какая-нибудь икра (у Бриков, скажем, обязательное угощение). В первом письме к нам в октябре 1969 года Н. М. сокрушалась: “Моим запасам виски пришел конец, и некому их восполнить”. Когда узнали ее ближе, мы всегда добавляли рубли, чтобы поддержать, а Кларенс Браун присылал ее западные гонорары, чтобы их перевели здесь в рубли. Думаю, вначале какие-то приличные деньги от ее гонораров приходили по разным каналам. Бродский вспоминает, что, получив сертификаты, она была необычайно щедра на них и на чудеса, которые ими оплачивались. Русских, особенно бедных с виду, в дверях останавливала милиция, но Иосиф нагло прорвался и купил американские сигареты.
И все же лучшим подарком была книга. В этом отношении Н. М. не отличалась от большинства наших знакомых русских. Не то чтобы они презирали “мирские блага”, но книжный голод мучил больше. В 1969 году на нас, наивных и несведущих, эта острая потребность произвела чрезвычайное впечатление.
Наверное, были и другие книги, но помню, что раньше всего я дал Н. М. Библию, а после уже – ее собственные на русском и на английском. Она любила разные английские книги и журналы. Часто просила английские и американские стихи; в начале семидесятых особенно интересовалась Т. С. Элиотом – она думала, что у него и Мандельштама есть точки соприкосновения. Попросила стихи Элиота (думаю, читала его эссе), но позже потеряла к нему интерес. Когда я дал ей “Одиссею” Казандзакиса, она прикинула ее объем и сказала просто: “Я не верю в крупные формы поэзии”. Кажется, предложила отдать книгу кому-то, кто ее оценит.
К 1973 году у нас уже было сделано много репринтов, и Н. М. все время просила книги О. М. “Камень”, Tristia и трехтомное собрание О. М., составленное Струве. Мы посылали ей экземпляры так часто, как только могли, и она так же быстро их раздавала. (Не помню, чтобы видел когда-нибудь больше нескольких в ее квартире.) Начиная со Стар Уолтер в начале 1970-х и до Кристины Райдел в 1978-м мы направляли к ней многих смелых друзей, горячо желавших познакомиться с Н. М. и помочь ей. Надо иметь в виду, что бюрократы, распоряжавшиеся американской программой обмена учеными и выпускниками, строго предостерегали их от подобной деятельности, что большинство сотрудников посольства не одобряли их контактов со “смутьянами”, и большинство американских студентов и преподавателей не желали рисковать тем, что в следующий раз им не дадут визы, если они свяжутся с нежелательными людьми, деньгами или книгами. Когда название “Ардис” приобрело известность, американские чиновники в России и дома предупреждали путешественников, чтобы они не имели дела с такими опасными предметами, как книги “Ардиса”. Нам было стыдно, и мы злились, когда услышали об этом. С другой стороны, мы испытывали гордость от того, что каждый год, в каждой группе бывали исключения, и эти люди получали возможность узнать, каково приходится на самом деле российскому интеллектуалу.
Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто Н. М. или другие “высокодуховные” русские проводили все дни, погрузившись в классику. Ее занимало не только возвышенное. Она обожала романы Агаты Кристи – мы посылали их не раз. В одном из первых писем она написала нам: “Получила от вас три книги Агаты Кристи и очень вам благодарна… Вот это писательница!” (15 декабря 1970). Через год она подробнее объяснила, чем важно для нее это развлекательное чтение (в СССР оно было недоступно – детективы считались буржуазным продуктом массового рынка, предназначенным для того, чтобы отвлечь трудящихся от серьезных общественных проблем; теперь, правда, начали производить собственный детектив, идеологически выдержанный): “У меня чудная книга Агаты Кристи про старуху (гага) и детей. Большое вам спасибо. На два дня я забыла обо всем и жила в английском городке среди дворян, священнослужителей и пр. …” (21 октября 1971). Именно такой возможности отвлечься и высвободиться лишены советские читатели. Думаю, в каком-то смысле такие же ассоциации со свободой и другим миром вызывал у Н. М. чай “Твайнингс”: его она особо заказывала, не потому, что предпочитала его крепчайшей заварке, которую научил ее делать О. М., а просто от него веяло ароматом мест, где люди живут без страха, где уважают закон, где жизнь устойчива.
После 1975 года, как я уже сказал, она всегда добавляла Набокова к списку нужных книг. Но мы продолжали слать и книги Мандельштама, в частности наше красивое издание “Воронежских тетрадей”, над которым работала приятельница Н. М. Виктория Швейцер. Мы опубликовали уже три сотни книг, и многое мне приелось, но вечера, когда я набирал эти стихотворения, были увлекательными. “Воронежские тетради” мы хотели прислать ей на день рождения в 1979 году, но получилась типичная советская история. Эллендея написала хорошему знакомому в посольстве убедительное письмо с просьбой доставить Н. М. пакет:
День рождения Н. М. 30 октября, и в этом году ей исполнится 80 лет. Мой муж и я познакомились с ней десять лет назад, как раз, когда она стала знаменитой благодаря своей первой книге и любимицей московской интеллигенции. Через несколько лет, когда вышла ее вторая книга, многие из тех, кто в 1970 году приветствовал ее талант и преданность правде, решили, что она копается в грязном белье, и отступились от нее. Последние годы из-за слабого здоровья она все больше превращается в затворницу.
Мы послали большую кипу – по пять экземпляров каждой книги Мандельштама и еще кое-что Набокова. Наш посольский знакомый проникся нашим настроением, упаковал книги по-праздничному, но совершил ошибку, доверив отвезти пакет шоферу, предоставленному русскими. Либо КГБ, либо черному рынку досталась золотая жила. Н. М., разумеется, не получила книг, и когда Эллендея посетила ее в последний раз в 1980 году, Н. М. ничего не знала об этом подарке. Эллендея принесла экземпляр “Воронежских тетрадей” – Н. М. увидела его впервые и очень радовалась.
В день рождения мы пытались ей позвонить, но безуспешно, и пришлось отправить телеграмму через “Вестерн юнион”: “Поздравляем с восьмидесятилетием самого замечательного живого русского писателя. Десять лет Вы были для нас вдохновением, Вы сделали русскую литературу живой для нас, и все, что мы сами делали с тех пор, было попыткой сделать ее живой для других. Мы читаем и перечитываем Ваши книги и убеждаем других читать обоих Мандельштамов. За Ваш талант и храбрость мы уважаем Вас. За вдохновение – благодарим. Мы очень по Вас скучаем. С любовью, К и Э”. С непривычной для нас сентиментальностью и восторженностью, но все – правда.
Самый важный наш подарок Н. М. нам вернула. К концу нашего пребывания в 1969 году мы приобрели у хорошего русского приятеля, великого собирателя книг (“Все, что в человеческих силах, я могу достать”, – самодовольно говорил он), первое издание первой книги Мандельштама “Камень” (АКМЕ, 1913, 500 экз.). Наш приятель привык иметь дело с редкими книгами, но подчеркнул, что этот “Камень” – действительно что-то особенное, невероятная редкость, и в одном из наших букинистических разговоров – двух в общей сложности – предупредил: “Эту книгу вы больше не увидите”. Мы подумали, что это будет хорошим прощальным подарком Н. М. Когда мы отдали ей книжку в кухне, она улыбнулась, сказала что-то в том смысле, что не видела ее много лет, задумчиво полистала, прочла несколько строк вслух, а затем сказала: “Знаете… я знаю все это наизусть. Заберите ее – вы получите удовольствия больше, чем я”.
Никто из нас троих не знал тогда, что в эту минуту родился “Ардис”. Через полтора года мы решили завести новый журнал русской литературы, а потом решили печатать еще и русские книги. “Камень” был первой книгой с выходными данными “Ардиса”. Мы рассудили, что раз нам дала его Н. М., мы можем отдарить ее не одним экземпляром, а пятьюстами. Так эта тоненькая, но элегантная факсимильная книжка дала начало “Ардису”. Она допечатывалась несколько раз и стала популярной у русских повсеместно.
“Камень” был началом, и после него из Энн-Арбора в разные страны мира, и в особенности в Советский Союз, было отправлено около миллиона книг русской литературы и литературы о ней. Читателям Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Платонова, Эрдмана, Булгакова, Набокова, Бродского, Соколова, Битова, Искандера, Аксенова и десятков других благодарить за это надо как будто бы лишенную всякой власти старую даму с Черемушкинской улицы: она была катализатором многих событий в нашей жизни, ее память – мостом между двумя эпохами, и она открыла нам глаза на многие особенности России.
Во время первой Московской книжной ярмарки в сентябре 1977 года мы несколько раз бывали у Н. М. Ярмарка отличалась непривычной открытостью – результат разрядки. Наш стенд посетили даже Войнович и Копелев, тогда уже гонимые. Конфисковано было всего книг сорок, хотя все нью-йоркские издатели цензурировали себя заранее – это был хороший знак. (Почти все удивлялись, что нас тоже допустили.)
По случаю ярмарки американское посольство устроило для издателей и их гостей прием в доме Мерилин Джонсон, дипломата с серьезным интересом к культуре. Нам предложили привести гостей, и мы подумали, что надо пригласить Н. М., просто из принципа. Мы сомневались, что она согласится, – за все годы нашего знакомства мы вытащили ее из дому всего раз. Однако мы ее спросили, подробно объяснив характер мероприятия, и сказали, что, на наш взгляд, будет хорошо, если она появится – и собственной персоной, и как представительница О. М. и вообще подлинной русской культуры. Во время этого разговора она лежала в постели, но, к нашему удивлению, сказала, что пойдет с удовольствием.
Мы знали, что Копелевы тоже будут на приеме, и поэтому немного тревожились. Хотя мы познакомились с ними у Н. М., после публикации “Второй книги” они, как и многие, перестали ее посещать и с ней разговаривать. (Лев даже хотел потолковать со мной насчет моей печатной “защиты” Н. М., но Рая отнеслась к нашим чувствам с бóльшим пониманием и не дала поднять эту тему.) Мы не знали, кто еще там будет из писателей, обидевшихся на Н. М. за книги или обиженных лично.
В день приема мы позвонили ей, чтобы узнать, не передумала ли она, – она не передумала. Мы обещали за ней заехать. Получилось так, что машину предоставил Василий Аксенов. Он привез нас на Черемушкинскую, мы пересекли трамвайные пути, подъехали к ее дому с тыла и вдвоем пошли за ней. Я позвонил в дверь, никто не отозвался.
Я позвонил еще раз – никакого результата. Я был в ужасе: при ее вообще слабости да еще недавней болезни и при том, что мы договорились о времени всего несколько часов назад, первое, что пришло мне в голову, – умерла. Пока я в панике перебирал другие варианты (перепутали время, где-то задержалась, заснула и т. д.), пришла Эллендея и сказала, что Н. М. ждет на улице. И в самом деле, Н. М. ждала нас на скамье перед маленькой стоянкой. Мы просто не заметили ее, когда входили. Старая дама опять оказалась впереди нас на шаг.
Аксенов привез нас к огороженному дипломатическому дому. Когда мы вошли, квартира была уже полна народа. Н. М. сняла пальто. И опять нас удивила – своим модным видом. На ней был элегантный черный свитер, черная юбка, красивый шарф – вечерний туалет и то же чувство стиля, которое мы отметили семь лет назад на выставке живописи.
Пока мы перемещались среди гостей, стало ясно, что практически никто из издателей и посольских понятия не имеет, кто эта старая дама, даже когда мы ее называем. Кроме хозяйки, единственным исключением был тогдашний культурный атташе Джек Мэтлок. [Позже он стал послом.] Мы отвели ее в более тихую комнату, и там он с ней довольно долго беседовал.
Русские, конечно, знали, кто она, и обходились с ней почтительно. Кроме Аксенова, там были Владимир и Ира Войновичи, Копелевы и много других. К большой нашей радости, обошлось без трений, которых мы опасались. А впоследствии Копелевы согласились, что были неправы, порвав с ней дружбу. За пять лет с 1972 года Н. М. очень сдала и из относительно крепкой и деятельной женщины почти превратилась в призрак и весила килограммов сорок, не больше. Когда мы познакомились, она была худой, но не хилой; годы и болезни сказались на ней, и она сильно потеряла в весе. Осенью 1977 года я был поражен ее хрупким видом, а когда ее увидела Эллендея в 1980-м, она была еще худее. Эти годы не были благополучными для нее, и те, кто встречался с ней в 1977-м, естественно, ее жалели. “Люди важнее убеждений”, – сказала Рая Орлова. Но в тот вечер отношение к ней определялось не жалостью: она была обаятельна, и – не знаю, как это выразить иначе, – от нее шло излучение притягательной личности.
Н. М. быстро уставала, но пробыла больше часа. Затем, как договорились, я проводил ее домой в государственной машине, предоставленной издателям.
Она бы очень испугалась, если бы узнала, что мне придется подписать путевку. Мы считали, что, несмотря на поголовное невежество американцев, вечер пошел ей на пользу. Хотя бы потому, что она победила страх, – и, думаю, ей было приятно почувствовать, что она что-то значит в мире за стенами своей квартиры.
Помимо обычных наших визитов к ней во время ярмарки, я привез к ней познакомиться Уинтропа Ноултона, в ту пору президента “Харпер энд Роу”. Мы решили взять кого-нибудь из издателей, такого, кто выпустил несколько русских книг, действительно этим интересовался, и ознакомить его, в меру наших сил, с культурной Москвой. Уин Ноултон напечатал Солженицына и, в отличие от большинства наших коллег, был больше озабочен тем, чтобы узнавать новое, а не демонстрировать, какой он знаток.
Визит наш оказался печальным: почти сразу после нашего приезда (мы успели поболтать считаные секунды), на Н. М. нашло затмение, чего она сама не сознавала. Я не подозревал, что у нее случаются приступы слабоумия, и просто не знал, что делать. Она перепутала Уина со мной и даже спрашивала его о моих детях. Когда я попытался объяснить, кто из нас кто, она еще больше запуталась; бо́льшую часть пятнадцатиминутного визита она плохо соображала, даже когда улавливала тему. А потом вдруг заговорила нормально, сделалась нашей прежней Н. М. Подобное я наблюдал у деда – и все же не мог оправиться от шока. Мысль о том, что угасает такой ум, была непереносима. Я не знаю, часто ли случались у нее такие эпизоды слабоумия. Но знаю, что при последующих наших контактах ничего столь серьезного мы не отмечали. Например, когда Эллендея посетила ее в последний раз три года спустя, Н. М. помнила необычное имя нашей дочери (Арабелла), хотя видела ее только на фотографиях. Несмотря на физический упадок, она сохраняла ясность мысли и в других отношениях.
В 1977 году я не знал, что вижусь с Н. М. в последний раз: в 1979 году за публикацию альманаха “Метрополь” меня объявили нежелательной персоной и больше не пустили в Россию.
В последние годы нашего общения с Н. М. мы были угнетены почти всем, что происходило с ней. Временами она мыслила вполне ясно, но постепенно становилось все труднее вести с ней разговор о чем-либо серьезном. Так что беседы наши стали более однообразными: мы сообщали ей последние новости о тех эмигрантах, кто ее интересовал, она комментировала наши новости, и случалось, рассказывала одну или две свои. Лежа на кровати, она хрипло сокрушалась о судьбах мира – ничего не понимающего Запада и жестокой родины. Утешением ее был Бог, и православие ее проявлялось все сильнее. Мы регулярно приходили к ней, главным образом, чтобы выразить свою любовь. По мере того как усыхало ее тело, усыхал и ум, пусть и медленнее. Теперь она не смогла бы “вести” салон, как прежде, даже если бы захотела. Счастье, что она написала свои книги тогда, когда написала, когда ее талант был в полной силе. Случались и теперь проблески прежней Надежды, но все реже. Грустно было видеть ее больной. У нее бывали священники и несколько старых друзей, приходили старухи – поухаживать за ней и помочь; мы же большей частью наблюдали мрачные признаки старения. Она говорила нам, что мы тоже должны верить в Бога, что теперь только Он может спасти мир. Она оплакивала убийство царя. Это была тень Надежды Мандельштам. Мы думали, как было бы страшно, если бы она эмигрировала. Скорее всего, она осела бы в Англии, и невозможно себе представить, чтобы там ее окружало столько преданных людей, сколько мы видели здесь. Она приняла правильное решение.
Она не была ни “сильной русской женщиной”, ни жертвенной женой декабриста – в сущности, она была подругой, а не женой. Елена Сергеевна Булгакова могла быть помощницей Булгакову и администратором, она всегда беспокоилась о том, чтобы за квартиру было уплачено вовремя; у Надежды таких возможностей не было. Но все, что могла, она для Мандельштама делала. Она была маленькая и явно еврейского вида – не лучшая рекомендация в России. В своей книге она говорит, что была слабой; никто этому не верил, но во многих отношениях это так. С другой стороны, Н. М. приходилось заниматься разными делами, чтобы как-то поддерживать их повседневную жизнь с Мандельштамом, столь же не приспособленным к решению бытовых задач и к героическим свершениям. Но интеллектуально она была подавлена – вынуждена держаться тихо и слушать, что думает Ахматова о сонетах. Несомненно, она отвечала, но в принципе все держала в себе – в том числе свой гнев и свою гордость. Она дала им выход в старости – и за это претерпела еще много лишений и унижений. После смерти О. М. начались годы попрошайничества (прошений, если хотите выразиться вежливее). Просьб о том или ином, просьбы о месте преподавателя английского, о разрешении защитить диссертацию, о комнате, о дозволении вернуться в Москву (отказано в 1958-м). И наконец, просьбы подействовали, осуществилась мечта – однокомнатная квартира в Москве. Надо отметить, что это было чудо – одна комната для одного человека, с собственной кухней и ванной. Западному человеку, может, и не понять, какое это достижение.
Она не раз говорила, что ненавидела преподавание повсюду, от Читы до Пскова; преподавать – значило сидеть на собраниях и унижать себя, унижать себя и по другим случаям, например, чтобы получить степень. Хотя диссертацию она написала (очень символично – винительный падеж в староанглийском), она была подозрительной личностью, женой сумасшедшего О. М., так что степень далась ценой новых просьб и унижений. Как она говорила, “их шайка” была против нее, но “Жирмунский собрал свою шайку”, и кандидатскую степень она в итоге получила. Ничто не давалось легко. Бо́льшую часть жизни ее недооценивали, места, которое она могла назвать своим, у нее не было, ее держали в покорности – и в страхе. От необходимости постоянно лгать она ожесточилась. В одну из первых наших встреч она сказала: “Мы, русские, большие вруны… Я врала годами”. И ее друзья были вынуждены врать по любому поводу – от своей религии до взглядов на искусство. Я думаю, ее книги в какой-то степени были искуплением за все те годы лжи. Впервые она могла высказать правду, так, как ее понимала – а не вежливую, приглаженную правду, как другие мемуаристы. Именно этот гнев, вызванный годами лжи, годами загнанной под спуд правды, изливается с ее страниц с такой сокрушительной силой. И большая часть его – гнев на себя за то, что поддавалась.
Мы должны быть благодарны за то, что гнев и гордость вырвались на волю в ее мемуарах. Оказалось, что бедная маленькая “Надя”, свидетельница поэзии, была еще свидетельницей того, что сделала ее эпоха из интеллигенции, – лжецов, которые лгали даже себе. Она рассказала о своей жизни столько правды, сколько Эренбург, Паустовский, Катаев или любой другой не решились бы рассказать о своей. Она не сидела в лагере и не соперница Солженицыну в этом отношении, зато лагеря не искривили ее и не сузили ее фокус, и поэтому, мне кажется, ее уроки миру писателей и интеллигенции, в общем, ценнее. И, не в пример Солженицыну, в том, что будет написано на бумаге, она ни на какие компромиссы не шла. Ни одного абзаца она не вычеркнула, ни одного слова не изменила, чтобы напечататься в СССР. (Также, в отличие от него, она не обеспокоилась стать членом Союза писателей и никогда не надеялась получить Ленинскую премию.)
Иногда она называла свои мемуары “просто пропагандой Мандельштама”, но на самом деле прекрасно понимала, что они такое. Она никогда не говорила: посмотрите на меня, посмотрите, что я сделала, – но хорошо знала себе цену. И дав волю гневу, должно быть, почувствовала себя лучше. Мировое признание, пусть где-то вдалеке, и поток посетителей свидетельствовали о ее внешнем успехе, но мы ни разу не слышали от нее упоминания об этом. И ни разу не слышали жалобы – когда столько народу отвернулось от нее после второй книги, – что с ней обошлись несправедливо. Лесть ей нравилась не меньше, чем другим, но она не позволяла себе полностью ей поверить. Больше того, в отличие от многих писателей она ее не требовала. Хотя в ее книгах многое, начиная от стиля и до конкретных деталей, заслуживало похвал, у нас никогда не было чувства, что мы все время должны говорить ей, какие они замечательные. Опять же, в отличие от многих писателей, она не спрашивала, так ли хороши ее переводчики, как она сама, как приняли ее книгу в том или ином переводе, в том или ином кругу, что мы о них думаем, произвели ли они впечатление. Ее гораздо больше заботил успех Мандельштама в мире, а свои книги она рассматривала как приложение к нему. Когда мы опубликовали переводы его поэзии, это ей было интересно. Когда мы выпустили на английском полное собрание его прозы и письма и книга получила Национальную книжную премию, Н. М. была несказанно рада.
В 1976 году ее посетили Уэйн Робарт и Кристина Райдел; Н. М. спросила их, в самом ли деле к О. М. есть интерес в Америке. Они заверили ее в популярности ее мужа, и Кристина привела пример из личного опыта. Один студент попросил Кристину руководить его работой по поэзии О. М., которую он, к сожалению, мог читать только в переводе. После семестра занятий он записался на курсы русского языка, чтобы читать стихи в оригинале. Услышав это, Н. М. заплакала, а потом с улыбкой сквозь слезы сказала: “Ну, значит, мои старания того стоили”.
1984Елена Сергеевна Булгакова
Как измерить власть? Можно ли, в самом деле, верить, что Надежда Мандельштам обладала большой властью? Была ли она типична в каком-то отношении? И, наконец, как сравнить власть российских литературных вдов с властью официальной литературной корпорации – начиная от ЦК до Союза писателей и типографий?
На первый вопрос найти ответ всего труднее, но, поскольку он нужен нам, чтобы ответить на последний, найти его тем более важно. Разумным подходом было бы выяснить, какие авторы – самые читаемые, у каких самая высокая репутация, каких больше всего печатают или больше всего переводят. Но это очень разные мерки – нет никакой гарантии, что количество напечатанных книг соотносится с репутацией поэта. Дальше придется рассуждать о том, все ли читатели равны, спрашивать, не создана ли репутация какими-нибудь влиятельными группами читателей (другими писателями, критиками, филологами, преподавателями, диссертантами), и, конечно, самый большой вопрос – где сравнивают: в Советском Союзе, во всем братском социалистическом лагере, в третьем мире или в том, что мы называем свободным миром – в более или менее передовых странах?
Имея все это в виду, я бы утверждал, что Надежда Мандельштам обладала чрезвычайной властью и что наряду с ней литературные вдовы России оказали сильное и длительное влияние на историю русской литературы. На короткий период колоссальные ресурсы советского истеблишмента позволяют ему обозначить и контролировать свою территорию, но в перспективе этот огромный гриб-дождевик псевдолитературы лопнет, и свое законное место займет подлинная литература.
В конечном счете все определится качеством самой литературы, но даже на своем коротком опыте издателя и доверенного лица писателей я не раз имел случай убедиться, что большие писатели отнюдь не автоматически занимают подобающее им место. Они достигают его со временем, потому что нужные люди (включая всех, от уже авторитетных писателей до издателей) говорят и пишут о них, публикуют их, пропагандируют их, продвигают, ставят их во главе списков, значения которых сами они как бы не признают. История с “раскруткой” “Улисса” Джойса – хорошая иллюстрация. В этом сложном смысле Надежда Мандельштам была значительной силой, и то же самое – в разной степени – относится к другим русским вдовам. Они, разумеется, действуют не в одиночку, но они первичные источники с большим потенциалом влияния.
Несмотря на громадные государственные средства, вкладываемые в публикацию советских поэтов, думаю, можно смело говорить, что в большинстве стран Мандельштам гораздо более известен, чем такие искусственные классики, как Тихонов и Асеев. Роль Надежды Мандельштам в мандельштамовском “буме” последних пятнадцати лет в Америке и Европе доказать легко. Советы отчаянно старались сделать классиков из Леонова и Федина (и так умело, что их линию в точности выдержал Э. Дж. Симмонс), двух их древнейших героев (Леонов живет в Переделкине и только что отпраздновал 85-летие; Федин умер на девятом десятке); но повсеместная популярность (включая СССР) и высокая репутация, например, Михаила Булгакова показывают, как хорошая литература неизбежно вытесняет плохую, – и ниже я попытаюсь доказать, что вдовы Булгакова сыграли отнюдь не ничтожную роль в воскрешении его из фактического небытия на родине и за границей.
Если мы закроем, но не запрем папки с убедительными аргументами Набокова касательно того, почему все хорошие биографии приобретают автобиографический характер, и отставим в сторону такие намеренно прячущиеся в тени фигуры, как Б. Травен или Томас Пинчон, то можно утверждать, что нет более головоломного дела, чем написание биографии советского писателя. Если вдова одна и владеет словом, как Надежда Мандельштам, то по крайней мере с начальным этапом будет просто. Двигаясь дальше, надо по возможности определять, где сведения точные, а где неточные. Но биографий интересных советских писателей, где есть надежная основа для исследователя, – таких биографий мало.
Гораздо более распространенный случай – когда у советского писателя было несколько жен. У жен были разные характеры и память в разной степени беспорядка. Да и сами писатели зачастую лгали беззастенчиво, как своим женам, так и журналистам из “Правды”, “Красной нови” или “Красного перца”. В стране нескольких революций, гражданской войны и террора их вымыслы редко бывали чисто литературной мистификацией. Немногие из них играли в игры, в большинстве они лгали, чтобы спасти свои жизни – или набить себе цену. Родители не из того класса, период службы не в той армии, владение слишком большой конюшней – в то или иное время такого было достаточно, чтобы получить пулю в затылок или чтобы конфисковали твое жилье или родовую землю. И неудивительно, что метрическое свидетельство, образование, прошлая партийная принадлежность могли закрыть человеку дорогу в “правильные” печатные органы. Книга Троцкого “Литература и революция” запустила в широкий обиход термин “попутчик”, и ходить под таким подленьким именем, конечно, никому не нравилось. Так, бесконечно находчивый хамелеон Бабель вычеркнул из своей личной истории весь первый этап творчества (1913–1915) и особенно опасный второй этап (1917–1919), когда он семнадцать раз опубликовался в “Новой жизни” (газете, закрытой по приказу Ленина), и изобразил дело так, будто добрый дедушка Максим Горький был его крестным отцом и напечатал его самые первые рассказы в журнале “Летопись” в ноябре 1916 года. Он лгал так складно, что его выдумку повторяли все специалисты – русские и англоязычные – вплоть до 1978 года! (Ниже еще будет речь о трех женах Бабеля – то есть по крайней мере о трех женщинах, от которых у него были дети; в некотором смысле он и здесь преуспел.)
И Евгений Замятин остается почти полной загадкой, несмотря на трех жен (только одна из них известна широкому кругу филологов) и на то, что Людмилу Николаевну многократно интервьюировали в свободном Париже. Замятин родился в 1884 году – столетний юбилей писателя такого ранга отмечали бы в нынешнем году с большой помпой (собрания сочинений, конференции), но Замятин преуспел в своей скрытности настолько, что личная жизнь его остается тайной.
Две жены и подруга Пастернака были на удивление несхожи во всем, кроме ненадежности своей как свидетелей. Но в случае Пастернака не было хотя бы секрета – все в Москве знали обо всех троих, знали, что в последние годы он открыто жил на две семьи. (Кстати, то, что он сумел обеспечить две семьи жильем, – свидетельство его успеха как советского писателя.) Последняя жена (точнее, подруга) Ивинская рассказала об их жизни (“В плену времени”) в больших и ярких подробностях, но всякий, кому знаком этот московский мир, отнесется к ее воспоминаниям с чрезвычайной осторожностью.
У Булгакова было три хорошие жены. Но, хотя никаких специальных усилий не предпринималось, чтобы держать эту трилогию в секрете, во время нашей первой научной поездки в 1969 году знатоки единодушно держались мнения, что у Булгакова была одна жена, Елена Сергеевна Булгакова, прототип Маргариты в его великолепном романе “Мастер и Маргарита” (написан в 1928–1940 гг., опубликован в 1966–1973 гг.). Сама Елена Сергеевна не стремилась опровергнуть перед нами, несведущими американцами, эту моногамную версию. Да и зачем? Ведущие литературоведы приняли ее искренне и без скепсиса. Понадобилось несколько лет и несколько поездок в СССР, чтобы нам открылся поразительный факт: у Булгакова была жена до Елены Сергеевны, – и открылся он, ко всеобщему замешательству, со сцены. Был “вечер” Булгакова – редкое и волнующее мероприятие. Ведущий экстатически превозносил задушевного друга Булгакова, его единственную жену Елену Сергеевну, питавшую его воображение, послужившую романтическим прототипом, сберегшую его архив. И сегодня вечером она присутствует здесь сама, дабы принять давно полагавшиеся ей почести. Елена Сергеевна была смущена однобокостью представленной картины и сказала, что это не вся правда: в зале находится предыдущая жена Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, которой посвящено такое произведение, как роман “Белая гвардия”, о чем ясно говорят все издания. И, словно этого было мало, после еще одной или двух поездок мы узнали, что у Булгакова была еще одна жена – раньше, в киевские времена, Татьяна Лаппа. И так же, как Елена Сергеевна и Любовь Евгеньевна, она еще жива.
Попробуйте представить себе, как трудно установить хронологию, подробности, действующих лиц, необходимых для биографии, если в стране даже такой фундаментальный и бесспорный факт “заново открывается” только через тридцать пять лет после смерти Булгакова – при том, что все три вдовы живы, две из них по-прежнему в Москве – и по тем же адресам, где с ними жил Булгаков! Вообразите, как трудно было от такого сравнительно нейтрального материала добраться до действительно щекотливых тем, как, например, служба в Белой армии, попытки эмигрировать, короткий период наркотической зависимости (все это было с Булгаковым). Сама история того, как писалась книга Эллендеи Bulgakov: Life and Work, показательна в смысле препятствий, которые приходилось преодолевать биографу: такие же, официального рода или неофициального, стоят перед биографом любого видного советского писателя. В случае Булгакова пришлось двигаться в обратном хронологическом порядке, начав с Елены Сергеевны. Это было главной целью нашей первой поездки в Москву в 1969 году. Остальные наши встречи и публикации были скорее случайными удачами.
Опять-таки, по многим темам исследования на “официальном” уровне были гораздо менее важны, чем проделанные неофициально. Это относится как к Булгакову, так и к Мандельштаму. Конечно, Булгаков не был “незаконно репрессирован и посмертно реабилитирован” (чудесный эвфемизм авторитетной “Краткой литературной энциклопедии” в 9 томах, 1962–1978), для характеристики тех, кто был арестован и убит). Но Булгаков был под подозрением всю жизнь; его обыскивали и допрашивали, его заносили в черные списки, его пьесы запрещали, рукописи конфисковывали. После 1925 года ни одно его крупное произведение не публиковалось. Ни одна пьеса не была напечатана при жизни. До 1960-х годов он был практически несуществующим лицом. И всякое исследование о нем наталкивалось на официальные и естественные препятствия.
Например, я приехал по официальному обмену, а потому имел доступ к отделу рукописей и мог выносить книги Булгакова, но выносить было практически нечего, а журналы с его произведениями были “отцензурованы” – путем выдирки его рассказов.
В отделе рукописей (куда приехавшие по обмену допускаются – если допускаются вообще после долгой канители) я мог подавать столько запросов, на сколько хватало энергии, но, как и большинство иностранцев, получить мог лишь очень малую часть интересующих меня материалов. Хотя надо отдать тамошним работникам должное – они даже сделали фотокопии нескольких материалов (доступ к копировальным машинам был строго ограничен). И все же большинство материалов было недоступно, отчасти из-за официальной политики в отношении такого сомнительного автора, отчасти потому, что большой властью над булгаковским архивом в отделе рукописей пользовалась Мариэтта Чудакова, а она не хотела подпускать исследователей – ни русских, ни американских – к документам первостепенной важности, поскольку сама готовила книгу о Булгакове. Официальным поводом было: “архив приводится в порядок”.
Как и во многих других случаях, работать приходилось в обход закрытых источников информации. Ключи ко многим тайнам были именно в руках у вдов. У них были свои собрания документов, свои воспоминания – и специалисты вынужденно шли к ним. И вот, после десятков лет затишья специалисты стали приходить; в случае Булгакова в их числе были и мы. И, как многие другие, должны были выразить этим женщинам признательность за их долготерпение и веру.
Очень важен был звонок Надежды Мандельштам, отрекомендовавшей нас Елене Сергеевне, – хороший пример того, как работала “вдовья сеть”. Надежда определила начальный уровень доверия к нам – в смысле нашей серьезности и надежности. Но мы были неизвестными величинами – и американцами, – и, может быть, из этих соображений Елена Сергеевна решила для начала пригласить, кроме нас, кого-то еще. Так что, придя на ужин, мы с удивлением увидели, что нам предстоит разделить трапезу с весьма известным “кем-то еще” – Владимиром Лакшиным. Эллендее он был известен как критик, занимающийся Булгаковым, нам обоим – по неприятностям, которые переживала тогда редколлегия “Нового мира” во главе с Твардовским. Всего через несколько лет его прославит, а вернее, ославит Солженицын в книге “Бодался теленок с дубом”. В свете нашего с ним разговора о Солженицыне в тот вечер отношение последнего к нему представляется весьма примечательным.
Разговор наш с ним шел, главным образом, не о Булгакове, а о Солженицыне. Я не представлял себе, насколько вовлечен был Лакшин в историю с публикацией Солженицына (и не узнал до появления “Бодался теленок с дубом”). И понятия не имел, какие битвы разворачивались тогда вокруг его будущего в СССР. Но ранние произведения Солженицына читал, включая “В круге первом”. (И даже написал слависту Демингу Брауну, в ту пору находившемуся в Англии, что попробую переправить Солженицыну в Рязань один из двух имевшихся у меня экземпляров романа – хотя не помню, как рассчитывал это сделать.) В общем, я сказал Лакшину, что “Один день Ивана Денисовича”, по-моему, хорош и оригинален, “Матренин двор” тоже хорош, но “Крохотки” ужасны, что “В круге первом” замечателен в смысле информации, но я не представляю себе, чтобы смог прочесть его романы повторно. Лакшин возражал неторопливо, но настойчиво. Солженицын – великий романист, мы даже вообразить не могли, что такое пишется нашим современником. “Новый Достоевский?” – иронически спросил я. “Поверьте, он не слабее Достоевского, – ответил Лакшин, – и Толстого”. Он сказал это тоном человека, глубоко убежденного и желающего убедить вас самим своим спокойствием, что он прав. К спору о Солженицыне Елена Сергеевна добавила свой рассказ. Солженицын был у нее в гостях, сказала она, и единственное, что она запомнила, – его слова о том, что его поражает воображение Булгакова. Солженицын заметил, что сам он пишет только о том, что видел, – он не умеет выдумывать. А в “Мастере и Маргарите” воображения столько, что он позавидовал способности Булгакова описывать фантастическое. Елена Сергеевна была дамой светской и утонченной. Даже на восьмом десятке она сохранила чисто женскую привлекательность. Она была элегантна, и так же – ее квартира. И никакой чопорности. Она была очаровательной хозяйкой.
А Лакшин еще рассказал нам среднюю часть сюжета, инициаторами которого были как раз мы. В первые месяцы мы посмотрели несколько булгаковских спектаклей, в том числе “Бег” в театре Ермоловой. Там есть знаменитый монолог Корзухина о божественном долларе. Эта речь должна показать его низменность, она укладывается в представление о западных капиталистах как бессовестных стяжателях. Во время монолога, иллюстрируя свою речь, он держит в руке то, что должно изображать доллар. Но “доллар” этот – большая картонка, вдобавок неправильного цвета. Нам с Эллендеей это показалось очень смешным, особенно ввиду того, как советский театр хвастается своим реализмом. Я сел и написал режиссеру комически пышное письмо, что в интересах дружбы между народами и художественного реализма я прилагаю к сему новенькую однодолларовую купюру, которую он может передать бутафорам для использования во время монолога, добавив, что это будет примером того, как доллар не всегда используется в грязных целях. Мы не ожидали отклика, но неделю спустя курьер, прибывший на мотоцикле, доставил к нам в 310-й номер гостиницы “Армения” ответное послание. Мы и так уже были знаменитостями в этом старом отеле (иностранцев, а тем более американцев здесь обычно не селили), и этот эпизод безусловно подтвердил персоналу нашу важность. На официальном бланке театра от 7 марта 1969 года значилось:
Глубокоуважаемый господин профессор!
Я рад, что Вам как специалисту и переводчику Булгакова понравился наш спектакль. Мы тронуты Вашей заботой о правдивости деталей, связанных с монологом о долларе, и передали Ваш подарок в реквизиторский цех. Возможно, если бы Булгаков был жив, он написал бы новый монолог о долларе, который в определенных обстоятельствах и в руках честного художника может превратиться из орудия вражды в символ дружбы.
С наилучшими пожеланиями Вам и Вашей жене, В. Комиссаржевский.
Это выглядело продолжением комедии, которую я затеял, но Лакшин сказал, что все было не так смешно. По его словам, когда открыли конверт, раньше всего из него выпал доллар. Комиссаржевский тут же созвал свидетелей – вдруг это провокация, устроенная американцами (советским гражданам запрещено иметь валюту). Сначала они очень расстроились и, только прочтя письмо, решили, что это не подвох, а именно то, что имелось в виду. Событие было столь незаурядное, что известие о нем быстро распространилось в кругу булгаковской публики. И теперь Лакшин изумлялся: “Так это вы, оказывается, устроили!”
После ужина Елена Сергеевна провела нас по квартире с богатой булгаковской иконографией: посмертная маска в застекленном шкафу, повсюду фотографии и кровать, на которой он спал и умер. Мы были тронуты, но не знали, как реагировать. В конце концов, мы и приехали в Советский Союз прежде всего для того, чтобы увидеть такого рода святилище, и сожалеть можно было только о том, что уже 10 июня и мы мало чего еще успеем. Понимая, что Елена Сергеевна рассказывает не все, что могла бы, мы тоже кое-что от нее утаили – например, что у нас уже есть русский текст “Зойкиной квартиры” 1935 года и сведения о других редких и даже неизвестных булгаковских материалах. Проживи она еще пять лет, у нас установились бы отношения, развернулся бы “Ардис”, и, думаю, дело обстояло бы иначе: она могла бы охотнее выйти за границы осторожности, в которых держалась до 1969 года.
Она, безусловно, была самой эффектной и очаровательной из вдов, но роль исполнила такую же, как многие другие. В 1969 году она была первоисточником: она собрала документы и сохранила книги, у нее был архив. Тот, кто хотел что-либо узнать и узнать прямым путем, обратился бы к ней – в противном случае ему пришлось бы проделать колоссальную работу. Значительную часть своей жизни после 1940 года она посвятила сохранению булгаковского имени – так, как он сам предсказал. Она тщательно хранила важные рукописи под спудом. Знали о них немногие. Рукописи Булгакова почти не ходили в самиздате, и это было решением Елены Сергеевны. В целом она – как и Тамара Иванова – придерживала их, дожидаясь, когда придет “настоящий день”. Как мы убедились, в определенной мере тактика ее была верна – и настоящий день пришел. Роман “Мастер и Маргарита” мгновенно стал классикой в России. Вскоре он был переведен почти на все важнейшие языки, и то, что стал доступен несокращенный вариант, – вполне возможно, ее заслуга.
Супружеская цензура ведет начало как минимум со второй жены Достоевского. В своем дневнике она пользовалась редким и дьявольским видом скорописи и раза два прошлась по тексту, чтобы убрать подробности, которые сочла компрометирующими или интимными. Елена Сергеевна, насколько мы знаем, не уничтожала материалов, отправлявшихся в архивы, но стратегически проливала чернила на отдельные места, считая, что их не надо видеть даже потомкам.
В любом случае Елена Сергеевна была одной из важных литературных вдов России. Согласны мы с ее тактикой или не согласны (иногда, например, она сдавала в архивы письма Булгакова другим родственникам без их разрешения), ясно, что она сыграла важнейшую роль в посмертной литературной жизни Булгакова. Если бы это было полностью предоставлено другим, друзьям, из которых многие вели себя трусливо, или таким, как Ермолинский или Миндлин, которые способны были вспоминать несуществовавшие события и намеренно лгали о многих вещах, наследие Булгакова было бы гораздо беднее. Яркий пример того, насколько сложна “политика знаний” о Булгакове, – его поздняя пьеса о молодом Сталине. Елена Сергеевна, располагавшая экземпляром “Батума”, наверняка не отдала бы ее в печать, потому что (помимо ее возможного участия в создании пьесы), это произведение не красит Булгакова. С ним он попадает в компанию знаменитых писателей, прославлявших Сталина. Так, один мемуарист-агиограф ни за что не хотел выпустить из рук свой экземпляр, и даже человек, добывший в конце концов экземпляр пьесы для Эллендеи, не советовал ее печатать – люди неправильно поймут Булгакова. Эту точку зрения можно понять, и все же, к счастью, правда (то есть текст) в итоге дошла до читателей.
Елена Сергеевна не достигла такой свободы, но достичь ее любому трудно – особенно тому, кто долго пожил при советской власти. Вот почему так замечательна Надежда Мандельштам. Тем не менее никто не потрудился больше Елены Сергеевны, чтобы сберечь булгаковское пламя и сделать привлекательным образ его самого. И когда был снят наконец запрет с Булгакова, пусть осторожно, избирательно, отрывочно, работа, проделанная ею, стала первой ступенью знания, первым источником.
1984Любовь Евгеньевна Белозерская
Узнав, что у Булгакова не одна вдова, а три и все живы, мы стали спешно искать контактов с двумя остальными. С первой женой нам так и не удалось встретиться, но надежный друг сумел прислать нам короткое и содержательное интервью с ней. (Возможно, это правило, что откровенность и место в хронологической цепи находятся в обратной пропорции.) Со временем свидетельство этой вдовы станет общим достоянием. Сейчас, когда я пишу это, на Западе думают о публикации воспоминаний Татьяны Лаппы, записанных на десятках кассет. Копия записи наверняка хранится в советском архиве и другие копии – в других местах. По меньшей мере одна находится вне СССР, и можно не волноваться, что важная информация будет уничтожена или надолго заперта осторожными советскими чиновниками, ответственными за историю литературы.
Между первой женой и последней мы имеем смешанный случай – Любовь Евгеньевну Белозерскую, которой посвящены несколько произведений Булгакова: “Белая гвардия”, “Мольер”, “Собачье сердце”. Хотя ее имя значится в посвящении “Белой гвардии”, о существовании ее было почти неизвестно до того вечера, о котором я рассказал выше. Это типично для русского представления о приличиях, часто подразумевающего нанесение агиографической глазури. К счастью, как только засов отодвинули, количество информации о важном периоде жизни Булгакова (Москва, 1924–1932 гг.) стало расти экспоненциально. И благодаря как раз Любови Евгеньевне, пожелавшей поделиться с миром частью того, что она знала. Можно предположить, что в ее желании помочь не только русским исследователям Булгакова, но и иностранным вроде нас, сыграло роль то, что советские критики и советский официоз годами игнорировали ее существование. К тому времени, когда мы о ней услышали, нашли общего знакомого и договорились о встрече, мы успели сделать кое-что существенное для создания Булгакову имени на английском языке: мы перевели и опубликовали два тома (его ранние пьесы и рассказы), а диссертация Эллендеи (законченная в 1970 году) была на тот момент самым детальным исследованием жизни и творчества Булгакова. Так что, когда мы встретились, было понятно, что у нас с ней большая общность интересов. И Эллендея четко знала, о чем спрашивать, хотя ответы получала не всегда откровенные.
И снова, к нашему удивлению, выяснилось, что Любовь Евгеньевна все еще живет в том же доме (правда, не в той же квартире), где жила с Булгаковым до того, как он ушел от нее к ее подруге Елене Сергеевне при очень сложных обстоятельствах. В смысле обеспеченности она располагалась где-то между Надеждой Мандельштам и Еленой Сергеевной, но ближе к последней – и мы заключили, что квартира свидетельствует об относительном благосостоянии Булгакова в ту пору, когда он жил здесь почти полвека назад. (Нас не переставало изумлять, до какой степени не мобильно общество в России.) Здание и квартира были постарше и менее ухожены, но вполне респектабельны. У Любови Евгеньевны была одна главная комната, где проходили почти все наши разговоры. В центре стоял большой стол, по одной стене книжные шкафы, у противоположной – видавшие виды кушетка. Самой заметной особенностью квартиры – для новичка – было множество кошек. Любовь Евгеньевна любит кошек; мы их так и не сосчитали, но их было столько, что какая-нибудь непременно оказывалась под ногами, и запах в квартире не выветривался. Мы не были уверены, что нам нравятся кошки в таком изобилии, но как-то привыкли к ним, к их запаху и к мухам, заполнявшим комнату в теплое время года.
Любовь Евгеньевна почти не утратила с годами живости ума, и в разговорах с ней не было нужды делать скидку на возраст или с трудом добиваться четкого ответа. Она была умной, гостеприимной хозяйкой (хотя не располагала такими средствами, как Елена Сергеевна или Лиля Брик) и принадлежала к числу тех вдов, которые хорошо понимали, как работают механизмы в Советском Союзе. Не только понимала, а разобралась в этом давно. Хотя воскрешение Булгакова началось, это было частичное воскрешение и во многом фальшивое. Любовь Евгеньевна никак не упоминалась, но она не была намерена опять остаться в тени. Одно дело уступить Булгакова Елене Сергеевне, и совсем другое – сидеть молча, когда идет официальное паломничество к очаровательному прототипу Маргариты и полностью игнорируют умную молодую женщину, прошедшую с Булгаковым тяжелейший период его жизни. По крайней мере о периоде от “Дней Турбиных” до “Мольера” она намерена была высказаться.
Например, Елена Сергеевна не считала нужным писать воспоминания. Она, конечно, могла бы их написать, как написала Тамара Иванова и многие другие. У нее были годы для этого. Но, с одной стороны, интерес ее был не в этом, интерес ее был – Булгаков и его тексты. А с другой стороны, когда дверь открылась, стояла в ней именно Елена Сергеевна. У нее была безукоризненная советская биография, и она могла спокойно выступать официальной представительницей Булгакова. Она обладала умом, остроумием и познаниями, необходимыми для того, чтобы вести дела с консервативной комиссией по творческому наследию М. А. Булгакова. Кроме того, в архивах лежали ее дневники и однажды они откроют ее часть истории. Место за ней было закреплено прочно.
А Любовь Евгеньевна из картины выпала. Сначала ее существование отрицалось. Потом, когда оно обнаружилось, возникло некоторое замешательство. Немногие серьезные исследователи все-таки добрались до Большой Пироговской, чтобы выслушать “другую” женщину, но роль ее оставалась второстепенной. Упоминания о ней были в немногих статьях того времени. Пройдет еще десяток лет, прежде чем ее существование будет признано официально, поэтому нет ничего удивительного, что она охотно разговаривала с иностранными специалистами.
Главным результатом нашего знакомства было издание ее мемуаров. Мы напечатали их на русском и (слегка отредактированные) на английском, и, думаю (саму книгу мы не видели), их напечатали в Югославии по нашему тексту. Эта книга – одна из основных по раннему Булгакову – не только о его биографии, но и о творчестве. Как и в большинстве книг этого жанра, в ней есть и малоинтересные сведения, и явные лакуны, но она содержит много ценной информации о важном периоде его жизни. Информации, которая будет доступна не через 30, 50 или 200 лет, а сейчас Любовь Евгеньевна выбрала другой путь, другую стратегию – не стала ждать, когда опомнится официальный мир, а сделала правду о прошлом общим достоянием при своей жизни, сделала с риском для себя, хотя ее воспоминания не затрагивали политики в отличие от мемуаров Надежды Мандельштам.
И, в отличие от Надежды Мандельштам, Любовь Евгеньевна не говорила о страхе; определенный страх преследования (это могло коснуться ее пенсии или квартиры) она испытывала, но старалась о нем не говорить. Мы сразу сказали, что вряд ли у женщины ее лет будут неприятности с властями из-за этой книги – ведь политики там крайне мало. Интересно все-таки, что в характере Любови Евгеньевны была эта решимость идти вперед. Эта отвага сочеталась в ней с благовоспитанностью. Она, например, избегала высказываться о соперницах – в частности о Елене Сергеевне, но в дальнейшем на правильно заданный провокационный вопрос могла ответить вполне остро. Только так можно было добиться от нее замечаний личного характера или услышать что-либо о ее отношениях с Булгаковым или с ее “подругой”. По ее словам, Елена Сергеевна “явилась в этот дом как моя подруга”. Когда вышла книга А. К. Райта, она была в ужасе от количества “сплетен”. В марте 1980 года в письме к нам она убеждала Эллендею не идти по тому же пути, “не включать [в книгу] все”, что она слышала.
Книга Белозерской “Моя жизнь с Булгаковым” в целом мягкая по тону и, как у многих авторов первой книги, рыхлая по композиции. В ней есть неинтересные подробности, но для внимательного читателя, осведомленного о жизни и творчестве Булгакова, эти воспоминания – ценный источник.
Любовь Евгеньевна тоже сохранила булгаковские материалы. Она постоянно интересовалась заграничной репутацией Булгакова и внимательно следила за советскими публикациями. У нее были семейные фотографии и другой иллюстративный материал (часть его она использовала в книге), накопленный наряду с рукописями и отрывками рукописей за годы жизни с Булгаковым. Мы полагаем, что она сохранила и письма, хотя нам она ничего существенного не показывала. (Это от нее мы узнали, что Лаппа после повторной женитьбы уничтожила все следы своих отношений с Булгаковым, в том числе все его фотографии и письма – поистине катастрофическая потеря для исследователей.) У нее были рукописи посвященных ей произведений. В частности, она показала нам очень важные варианты одной пьесы и настоящий финал другой.
Мы обсуждали с ней весьма щекотливый вопрос о намерениях Булгакова эмигрировать. Об этом она говорила не очень охотно, но у нас были сведения, что он всерьез хотел уехать из страны. В своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна утверждает, что Булгаков не просил разрешения эмигрировать. Строго говоря, это, возможно, так: возможно, он не употребил опасного слова “эмигрировать”, но трудно поверить, что он не повторял аргументации своих предыдущих писем “Правительству СССР”: раз я здесь запрещен и бесполезен, вышлите меня на сколько хотите или дайте какую-нибудь литературную работу. Любовь Евгеньевна не объясняет, о чем он просил Сталина в мартовском письме, и ничего не говорит об опубликованных письмах Горькому от 3 и 29 сентября 1929 года, где Булгаков ясно просит, чтобы его отпустили за границу.
В своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна намеренно не рассказывает всей опасной правды об этом (так же, как “сглаживает” другие болезненные темы – не только развода). Так что, с одной стороны, у нее достало смелости избрать “заграничный” путь, а с другой – подобно большинству русских мемуаристов – она избегала острых вопросов.
Попытка Любови Евгеньевны представить Булгакова в самом благоприятном свете не сильно отличается от стараний других вдов изобразить своих мужей приемлемыми для советской власти – как это было и с Еленой Сергеевной. Сейчас Любовь Евгеньевна, по-видимому, готовится опубликовать второй том воспоминаний в советском издательстве. За первый, говорят, ее не упрекали. Если каким-то чудом второй том все-таки выйдет в СССР, то, несомненно, подвергнувшись цензуре, дабы выдержать ту же линию на оптимизм и лояльность, которой следуют в печатном виде советские классики.
И еще одна типичная черта советского литературного процесса. После смерти Елены Сергеевны, когда она уже не могла “укорить” (а она никогда бы и не укорила) человека за то, что обратился за сведениями к Любови Евгеньевне, официальной вдовой стала последняя. В январе 1979 года она написала Эллендее письмо, из которого явствует, как изменилась ситуация. Ее пригласили на премьеру “Дней Турбиных” 18 декабря 1978 года в орловском театре имени Тургенева. Она пишет, что все актеры “влюблены” в Булгакова. “Театр пригласил меня на премьеру. Встретили меня с исключительной теплотой, даже с восторгом. Это тепло труппы разительно контрастировало с температурой на улице – 30 с лишним градусов мороза”. Важно здесь то, что она почетный гость, вдова на своем законном месте и окружена любовью к Булгакову. Понятно, что это должно изменить в человеке представление о себе и о своей роли в воскрешении похороненного писателя – за границей ли, для двух-трех тысяч библиотек или дома, где театр Тургенева и другие выразят с подмостков свое почтение.
В бытность свою женой Булгакова Любовь Евгеньевна позволяла себе критиковать его произведения; Елена же Сергеевна буквально боготворила его талант. Естественно, такое отношение было приятно писателю. Елена Сергеевна имела высокие связи и, будучи бóльшим реалистом в отношении советских литературных властей, вела свою игру – она выжидала и добилась многих успехов. Любовь Евгеньевна считала такую позицию менее подобающей и в своих воспоминаниях не умолчала о том, что в 1926 году ГПУ провело обыск у Булгакова и конфисковало его рукописи и дневники. Она могла посмеяться над этим, но прекрасно понимала, как это скажется на положении Булгакова в литературе. И она без страха упоминает о запретном – о “Собачьем сердце”, тогда как советские критики не осмеливаются упомянуть о нем и сегодня. С нами Елена Сергеевна об этом не говорила, но она предприняла смелый шаг: отвезла “Собачье сердце” для публикации во Францию. Любовь Евгеньевна тоже бывала за границей и имела возможность воочию увидеть разницу между миром “там” и новым миром “здесь”. Вдовы выбрали – каждая – свой путь; обе не могли сравниться прямотой (не говоря о таланте) с такой сильной личностью, как Надежда Мандельштам, но каждая по-своему сыграла важную роль в воскрешении жизни и творчества Булгакова.
1984Лиля Брик
Упризнанных классиков, конечно, тоже были вдовы, и некоторые представляли собой большую силу. Один из ярких примеров – Лиля Брик, неофициальная жена Маяковского. Ее письмо Сталину в 1935 году волшебным образом превратило сомнительного индивидуалиста-самоубийцу в советского классика. На полях ее письма Сталин начертал магические слова: “Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Равнодушие к его памяти и его произведениям – преступление”.
Определенно это была одна из счастливейших случайностей в истории литературы. Вряд ли Сталин на досуге, для удовольствия, читал двусмысленные стихи бывшего футуриста. Сталин был под впечатлением от самоубийства Маяковского в 1930 году, но едва ли этот поэт сильно занимал его мысли после 30-го года. Письмо Лили Брик, где она выражала опасение, что Маяковского забудут, побудило Сталина удостоверить величие поэта – вслед за чем по всей России стали воздвигать памятники Маяковскому и называть в его честь колхозы и металлургические заводы. Возникла целая индустрия Маяковского – с научными изданиями, критиками-специалистами, школьными декламациями, списками обязательного чтения в институтах, диссертациями, музеями и т. д. Пока Сталин был жив, никто не осмеливался преступно игнорировать Маяковского.
Но после смерти Сталина маяковская индустрия пошла на убыль и усложнилась. Многие годы Лиля Брик была полуофициальным первичным источником информации, и многие истории о Маяковском и направления исследований в СССР и за границей ведут начало от нее. Со смертью Сталина все это отнюдь не кончилось, зато постепенно возникли разночтения.
Когда мы с Эллендеей стали регулярно приезжать в Москву, нас в скором времени привели к Лиле Брик и ее нынешнему мужу (специалисту по Маяковскому) Василию Катаняну. Как и во многих других случаях, встречу нам устроили Лев Копелев и Раиса Орлова; они же и сопровождали нас во время первого визита к Брик (не “Катанян”).
Нас, привыкших к минималистской бедности Надежды Мандельштам и весьма умеренной обеспеченности других знакомых, квартира Брик недалеко от Кутузовского проспекта поразила во многих отношениях. Она была неизмеримо роскошнее даже квартиры Елены Сергеевны. Просторная по советским нормам: настоящая библиотека (естественно, с множеством книг Маяковского, старых и новых), прихожая, холл, гостиная с богатой коллекцией футуристических и конструктивистских картин и плакатов, с работами Малевича, Бурлюка и самого Маяковского, в частности его автопортрет маслом напротив стола. В спальне висел портрет Лили работы Тышлера. Хорошая, но не шикарная мебель, настоящие ковры, повсюду множество предметов, все пространство ими занято – не обязательно оригиналами; обилие таких вещей, каких в жизни не было у Надежды Мандельштам, хотя она начинала как художница. Украшена была даже ванная комната – подобного нам не встречалось, разве что у партийных начальников. У Лили была громадная коллекция китчевых подносов со всей России. На стене висел жуткий ковер с выпуклой уткой – подарок Маяковского, которого, как и Лилю, забавляло дурное искусство.
Тяжелый стол под крахмальной скатертью ломился от съестного и питьевого. Когда мы наелись и решили, что с питанием покончено, Лиля подала знак, и потянулась череда главных блюд, доставляемых из невидимой кухни расторопной прислугой. Хорошо еще, что мы пришли одетыми официально – Лиля, видимо, придавала значение таким вещам и сама была одета элегантно и накрашена. Это стоило усилий – окрасить такую длинную косу нелегко. Мы вспомнили, как одевался и позировал для каждой фотографии Маяковский.
Ко всему этому мы относились с юмором, когда оставались вдвоем. Лиле было под девяносто; в рыжих волосах и нарисованных бровях было что-то гротескное, напоминавшее о графине из “Пиковой дамы” Пушкина. Но энергии у нее и остроты ума было – на зависть.
Наши визиты к Лиле и Василию всегда проходили по одной и той же схеме: сначала основательная трапеза как прелюдия, а потом уже дела. В первый раз Лев и Рая очень помогли наладить общение, а впоследствии кто-то из них часто нас туда сопровождал. В пору нашего первого посещения, когда планировался двойной выпуск Russian Literature Triquarterly, посвященный современной литературе, мы хотели начать его четырьмя или пятью поэтами-классиками недавнего прошлого – одним из них предполагался Маяковский. И старались мы, главным образом, говорить о нем – о его поэзии, о его жизни, о ее жизни с ним и о том, что мы можем сделать в смысле переводов и публикации на русском для пропаганды его в США и Англии.
Для нее, думаю, было важно, что мы уже были издателями русской литературы и могли печатать буквально все, что нам захочется. Важно было и то, что мы сделали репринт “Трагедии” Маяковского и принесли ей экземпляры. Эллендея думает, что Лиле я понравился еще из-за большого роста, но это объяснение я отметаю ввиду повторных приглашений. Во всяком случае близких личных отношений, как с Надеждой Мандельштам и некоторыми другими, здесь не получилось. Но, как ни странно, что-то между нами возникло, несмотря на ее нарциссическую неспособность по-настоящему контактировать с людьми. С каждым из нас она говорила откровенно – особенно когда Катанян выходил из комнаты. Стать друзьями с ней было невозможно – вероятно, потому, что мы слишком много знали о прошлом Лили из разных источников, характеризовавших ее как символ худших сторон истинно “советской” литературы. Разговоры с этой представительницей прошлого были увлекательными, но помимо филологического интереса, удивления и просто любопытства трудно было отделаться от мыслей о том, что нам рассказывали в Москве о салоне Бриков, посещаемом многими чекистами в 1920-х. Все это было давно, и Лиля безусловно верила в революцию. Эллендея прямо спросила ее, как она, и Маяковский, и Брик могли закрывать глаза на происходящее. “Это была свобода, это была революция, мы видели в ней благо; мы знали об убийствах и прочем, но считали это неизбежным; происходили эксцессы, но они были частью великого освобождения. Время было захватывающее, и мы были молоды”. Сказано это было с полным сознанием того, что они оказались неправы в своей слепоте.
Невозможно было не заметить разницу между судьбами Надежды Мандельштам и Лили. Отчасти благодаря своей сестре Эльзе Триоле и влиятельному писателю-коммунисту Луи Арагону Лиля имела возможность ездить за границу. Она и теперь не порывала связи с авангардом – в Италии (Пазолини) и в СССР (Параджанов). В жизни у Лили определенно бывали тяжелые периоды, но по сравнению с Надеждой Мандельштам она прожила жизнь чудесно. Она была на правильной стороне в 1917 году, она запрягла в свой фургон правильную звезду, и в друзьях у нее были могущественные люди из органов. По сравнению с рядовыми русскими, она – благодаря Маяковскому – бóльшую часть жизни была богата и уважаема, а у Надежды Мандельштам – из-за Мандельштама – все было наоборот. По крайней мере так нам это представлялось.
Сравнить хотя бы их ресурсы. У Надежды Мандельштам было мало книг и рукописей – главным ее ресурсом были ум и память. У Лили же – и Катаняна – очень большая библиотека и основательный запас неопубликованных материалов. Насколько мы знаем, самым увлекательным, вероятно, там было неопубликованное Маяковского и стихи и произведения других футуристов и лефовцев. Но там было множество писем, рукописных оригиналов, не воспроизводившихся в печати, фотографий, альбомов и т. д., и, наконец, сама литературоведческая библиотека. У Лили было что рассказать, а Катанян заканчивал собственную большую книгу о Маяковском. Во многих отношениях Лиля была сильнее и смелее Катаняна и поддерживала его, хотя была старше.
Лиля и Катанян дали несколько интересных материалов, и мы опубликовали их в Russian Literature Triquarterly, в частности фотографии (письма Хлебникова и письма Маяковского к ней, стихотворения и кольца, подаренного Маяковским с бесконечно повторяющимся “люблю”), – опубликовали большей частью в выпусках, посвященных футуристам и конструктивистам (№№ 12 и 14). Еще она дала нам фотографии двух неизвестных монтажей Родченко; их намеревались использовать в первом издании “Про это” Маяковского, но не использовали. Так что они впервые появились в нашем репринте книги. Лилю регулярно посещали другие иностранные специалисты, гораздо более сведущие в футуризме, чем мы, и результаты их работы тоже публиковались – по большей части в Скандинавии. Самым интересным из них была, безусловно, обширная переписка Брик и Маяковского, опубликованная в 1983 году после ее смерти. Как ни грустно, она, в общем, довольно скучна. Главный же ее интерес в том, какими бесстрастными и деловыми стали их отношения – ничего отдаленно похожего на раскаленную метафору “Флейты-позвоночника”. Но, подозреваю, самым важным было с точки зрения Лили Брик, чтобы не прерывался поток материалов о Маяковском в печати, если не здесь, то за границей – в особенности материалов, где она предстает первостепенной фигурой, каковой она и в самом деле была. Любопытно, что она не раз повторяла Эллендее: “Знаете, он меня действительно любил”, но ни разу не сказала о взаимности. Когда-то она была очень красива, она была умна, но у Эллендеи было ощущение, что эта женщина никогда никого не любила. В Надежде Мандельштам до сих пор чувствовалась страсть; в Елене Сергеевне – даже сексуальная привлекательность; не то – Лиля. Хорошая муза, но едва ли хорошая возлюбленная. Хотя воспоминания о себе она любила. В квартире было много ее изображений; одну фотографию она подарила мне, с изящной надписью.
Несколько раз мы обсуждали одну особенно злобную атаку на нее как на источник информации о Маяковском. Лиля и Катанян были крайне расстроены и спрашивали у нас совета. Ретивый поэт Смеляков разразился длинной диатрибой, доказывая, что Лиля и “евреи” десятилетиями скрывали от народа подлинного Маяковского. Местами статья была настолько гнусной, что не годилась даже для советской прессы; один известный журнал опубликовал ее в сокращенном виде. Лиля дала нам экземпляр статьи целиком, в надежде, что мы найдем, где ее напечатать, и тогда будет покончено с нападками. Мы отослали статью разным западным специалистам по Маяковскому, но они не сочли нужным на нее отвечать.
С нашей точки зрения, самым интересным в коллекции Бриков был полный рукописный текст замечательной книги Пастернака “Сестра моя – жизнь”. Когда Лиля сказала нам о нем, мы взволновались, и она отвела нас в свою спальню, где хранила в сундучке отборные сокровища. У Пастернака вообще был красивый крупный почерк, а в этой рукописи – особенно. Но, главное, этот вариант, подаренный Лиле, отличался от опубликованного во многих деталях – и эпиграфами, и в самом тексте. Они сразу разрешили сфотографировать рукопись и опубликовать. Они были удивлены, что мы считаем важным представить этот вариант публике. Но фотография – не мой конек, а тут тем более надо было добиться ровного освещения каждой страницы. Дело оказалось трудным для любителя, и я не довел его до конца. (Окончательный вариант, хотя и неполный, все же будет опубликован.)
Лиля убеждала нас опубликовать разные другие вещи. Самым показательным ее предложением было “Что делать?” Чернышевского. Она говорила о романе с энтузиазмом (как будто мы о нем даже не слышали) и утверждала, что, если мы напечатаем его в английском переводе, это будет большой коммерческий успех. Сексуальные нравы, проповедуемые Чернышевским, возможность любви втроем (предположительно осуществленная Маяковским и Бриками) произвели на Лилю сильное впечатление – она сказала Эллендее, что это важная книга в ее жизни.
С чисто человеческой стороны самым интересным был рассказ Лили о неизвестной дочери Маяковского от американки, сочувствовавшей коммунистам, – роман случился во время его поездки по Соединенным Штатам и Мексике в 1925 году. Этот неизвестный сюжет всплыл в разговоре о возлюбленных Маяковского. Начался разговор с Татьяны Яковлевой, и так совпало, что она и ее муж Александр Либерман, арт-директор “Вога”, жили через улицу от наших нью-йоркских друзей Артура и Элейн Коэнов. К этому же сюжету, сказали мы, есть еще один случай, только более таинственный: мы были в Калифорнии с Иосифом Бродским. После приема к нам подошел старый приятель и с заговорщицкой улыбкой сказал: “Вы знаете, что сейчас с вами в зале была любовница Маяковского?” Мы не знали, но он распространяться не стал. Лилю это взволновало, и она спросила, знаем ли мы, что у Маяковского была дочь, зачатая во время поездки в Америку, но о ней мало что известно. У нее же самой сведения только очень старые. Катанян был явно недоволен этим разговором и безуспешно пытался удержать ее от дальнейших подробностей. Но мы продолжали расспросы, Лев и Рая – тоже; Лиля все больше и больше увлекалась загадкой, полагая, что мы сможем ее решить – узнаем нынешнюю фамилию и адрес незаконнорожденной дочери – и что с ней сталось после двадцатых годов. Удивительно было ее глубокое чувство к Маяковскому и чувство ответственности перед его наследниками. Не было никакой ревности к женщинам, о которых шел разговор, – наоборот, казалось, она считает себя частью этого сообщества.
Под воркотню Василия Абгаровича Лиля вышла и вернулась с пакетом открыток и писем матери ребенка Маяковскому, написанных в 1920-е годы, с подписью: “Элли Джонс”; Лиля стала читать их вслух, а я записывал важные адреса и даты, иногда – отрывки текста, пока Василий Абгарович не уговорил ее быть осторожнее и убрать письма. (Несколько штук я подержал в руках и кое-что скопировал в блокнот, пока она говорила.) Мы предположили, что этой дочери могли лгать всю жизнь, и, узнав, кто ее отец, она, наверное, была бы поражена и горда. Лиля решила добавить и показала портрет “Элли Джонс”, нарисованный в 1925 году Давидом Бурлюком, – копия этого рисунка хранится у нас в архиве “Ардиса”.
Изображена на нем “Елизавета Алексеевна”, ниже – надпись: “Миссис Джонс”. Рисунок сделан осенью “В кемпе «Нит гедайге» с Маяковским”. После небольших изысканий, уже в Америке, выяснилось, что это хорошо известный летний лагерь, организованный левой еврейской газетой, и в это время Маяковский был там.
По словам Лили, если верить надписи на рисунке, матерью дочери Маяковского была “Елизавета Алексеевна”, “миссис Джонс”. В открытках и письмах Элли Маяковскому, написанных с лета 1926 года до конца 1929-го, предполагаемая мать подписывается по-разному; можно предположить, что “Джонс” – кодовое имя или псевдоним. Важное сообщение пришло в мае 1926 года: она просит Маяковского послать 600 долларов “в больницу” в течение трех недель. Если Лиля права насчет беременности, это значит, что ребенка ждали в конце мая или начале июня 1926 года. То есть зачат он был во время приезда Маяковского в 1925 году. Обратный адрес на письме: “Нью-Йорк, Джексон-Хайтс, 27-я улица, кв. F32”. Вскоре после этого отправлено еще одно письмо. Обратный адрес на этом, возможно, одном из самых важных, такой: “Нью-Йорк, Западная 45-я улица, 25, полковнику Уолтону Беллу для передачи миссис Элли Джонс”. А 20 июля 1926 года “Элли” отправила еще одно письмо, опять с обратным адресом Джексон-Хайтс. Единственное, что я успел скопировать: “Берт освободится в августе… Уверена, что все мы получим визы”. Далее она пишет: “Пат со мной – она все это время была со мной”. Если ребенок родился около 1 июня, можно думать, что “Пат” помогала ей в уходе за ребенком. И, похоже, что Берт, она сама и, возможно, кто-то еще подали на визы в Россию.
Другие конкретные сведения я скопировал из открыток или писем от ноября 1928 года и апреля 1929-го. Одно написано 8 ноября 1928 года и отправлено 9 ноября с обратным адресом: “Франция, Ницца, авеню Шекспир, 16, кв. 25, Элли Джонс”.
Здесь Элли упоминает о своих подругах Тине Ждановой и Сюзанне Марр. В другом письме того же времени, сказала Лиля, были фотографии. Она нам их показала – в том числе снимок маленькой девочки, дочери Маяковского.
Следующее послание в этой таинственной истории (из которого мне удалось скопировать кусок) датировано 12 апреля 1929 года. Это письмо Маяковскому подписано “Елизаветой Петровной” [не Алексеевной, как на рисунке Бурлюка], и говорится в нем, среди прочего, вот что: “И знаешь, запиши этот адрес в свою записную книжку под заголовком: В случае моей смерти прошу оповестить в числе других – нас”. Дальше – подпись Елизаветы Петровны и тот же адрес полковника Уолтона Белла в Нью-Йорке. Это зловещее письмо написано за год до самоубийства Маяковского, но поскольку он был молод и вполне здоров, надо предположить либо удивительное предчувствие у Елизаветы Петровны, либо что-то сказанное Маяковским о своем настроении и возможном конце.
Последнее письмо, которое мне удалось скопировать, датировано 19 апреля 1929 года, и обратный адрес здесь: “Лондон С3 11, Голдерс-Грин, Ковингем-роуд, мадам Элли Джонс”. Если записи в моем блокноте сделаны в правильном порядке, то в этом письме есть такой текст: “Одному человеку (Берту) компания «Лонгакр констракшн» предложила поехать в Россию”.
Предполагаю, что после смерти Лили все эти документы осели в недрах рукописного отдела либо Ленинской библиотеки, либо ЦГАЛИ. Учитывая решительное сопротивление Катаняна, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь получил более детальные сведения об “Элли Джонс”. И вряд ли в ближайшие десятилетия получат доступ к этим материалам советские исследователи.
Мы с Эллендеей пытались узнать об этом больше, но сталкивались с весьма враждебной реакцией – отчасти потому, что все, исходящее от Лили, считалось сомнительным, а отчасти потому, что среди потенциальных кандидаток могли быть хорошо известные персоны. Дочь существует или существовала – в этом мы не сомневаемся. Растила ее, может быть, мать, а может быть, нет. Возможно, она не знает, кто ее отец.
У меня есть довольно неплохая гипотеза о том, кто такая Элли Джонс, но я не выяснял всех деталей, которые следует проверить, и не знаю, что сталось с самой дочерью. Если я не ошибся, то мать еще жива[3].
И последнее: в России считается более или менее очевидным, что поэты сексуально активнее обыкновенных людей. Раз так, почему не допустить, что Элли Джонс была не единственной, кто родила маленького Маяковского? Но значит, все это не больше, чем похвальба Чехова, что он отметился на Цейлоне. Тем не менее в эпоху, когда значительные поэты не оставляли многочисленного потомства – в некоторых случаях сознательно, поскольку не то было время, чтобы плодить детей, – разыскать ребенка Маяковского было бы интересно.
Интересно также, что Лиля Брик сама поведала нам эту историю – вопреки сильному недовольству Василия Абгаровича, и потому, может быть, поведала, что мы сказали ей, что, возможно, знаем, кто была эта американка Маяковского, о которой шла речь в Калифорнии. У Лили детей не было, и о том, что они были у Маяковского, мы прежде не слышали. Но характерно, что она не скрытничала, не боялась скандальных пересудов и какого-либо соперничества. Эта старая женщина обладала острым умом. Писать такие книги, как Надежда Мандельштам, – это было не для нее, но все умственные способности функционировали у нее исправно, и не думаю, что она могла ошибаться в таких вопросах. Что-то было в этом от романа – сидя со старой дамой в Москве, воображать, как должна выглядеть дочь Маяковского, и гадать, где она сейчас – и жива ли.
Что можно сказать в итоге о Лиле Брик? На нас произвела впечатление ее сила; как и многие другие вдовы, которых мы узнали, она сохранила ясность ума. Одной из причин этого была, несомненно, потребность сохранить живой память о своем поэте (и наряду с этим, конечно, о себе самой). Она не потеряла чувства юмора, ее забавлял китч. Она продолжала интересоваться искусством, решительно защищала режиссера Параджанова (посаженного за гомосексуализм), с удовольствием читала современных поэтов, в частности Соснору. Мы видели много примеров ее щедрости – в числе прочих, к нам. Однажды она показала нам нечто вроде блокнота с эскизами, заполненного примитивными рисунками Каменского (раннего русского авиатора и поэта-футуриста). В авиационной аварии он повредил правую руку, поэтому рисовал левой, и целый альбом с карандашными рисунками подарил Лиле. Рисунки были трогательные, особенно изображения самолетов. Лиля вырвала два листа – один с самолетом – и дала мне. Музей, устроенный ею из своей квартиры, был отлично организован – коллекция важных вещей и вещей, много значащих для нее или для нее и Маяковского, – ее художественный вкус сказывался во многих деталях.
Было понятно, что доступ сюда получают люди из многих стран, включая СССР, и так же понятно, что со времени ее известного письма Сталину она не перестает пропагандировать Маяковского. Для пишущих о Маяковском и о футуристах, может быть, и не было абсолютной необходимости в том, чтобы слушать ее рассказы и пользоваться ее библиотекой, но почерпнуть здесь можно было очень много. Она и другие вдовы, как ее подруга и ближайшая соседка по Переделкину Тамара Иванова, хоть и ладили с властями бóльшую часть жизни, были готовы иногда идти неофициальными путями, дабы расширить аудиторию “своих” писателей. Поддержкой Лиле Брик было слово Сталина, и нет сомнения, что всемирная известность Маяковского во многом определялась этим словом. Но и тогда, когда оно потеряло силу, Лиля продолжала делать все, чтобы Маяковский оставался живым для новых поколений. Ее бессмысленно сравнивать с Надеждой Мандельштам, но она тоже использовала не только официальные, но и неофициальные каналы, чтобы сделать доступными те отрывки русской литературной истории, которые иначе остались бы неизвестными.
1984Тамара Иванова
Поскольку Тамара Иванова и Лиля Брик были самыми “официальными” вдовами из тех, кого мы знали, были подругами, схожими по возрасту и взглядам, и вдобавок занимали одну дачу в Переделкине, в нескольких домах от Пастернака, уместно написать здесь и о ней – удивительной Тамаре Владимировне Ивановой (р. 1900), вдове “серапионова брата”, сибиряка Веволода Иванова. Иванов был одним из тех, кто уцелел, несмотря на “нездоровую” близость с “серапионами” и неортодоксальный взгляд на гражданскую войну в своих рассказах начала и середины двадцатых годов. Он уцелел, приспособившись к новому общественному строю, переписав свои рассказы, и стал более или менее признанным советским классиком. Ранние варианты некоторых его рассказов теперь трудно отыскать даже в библиотеках, но собрание его исправленных сочинений издавалось не один раз. Однако в таком фаворе, как Федин или Леонов, он отнюдь не был. Как и многие другие, он писал вещи, которые не могли быть напечатаны ни при Сталине, ни в последующие десятилетия, – в частности два романа: “У” и “Ужгинский кремль”.
С Тамарой Владимировной мы виделись всего дважды – один раз в приятной семейной обстановке ее городской квартиры и один раз на даче в Переделкине. Быстро выяснилось, что она в принципе придерживается обычной стратегии – добиваясь того, чтобы произведения Иванова, включая неизвестные романы, были напечатаны в Советском Союзе, сколько бы этого ни пришлось ждать. Такая линия поведения находилась в полном согласии с ее давно сформировавшимися левыми взглядами в политике и искусстве. Хотя в 1919 году ее исключили из партии за буржуазное происхождение, она продолжала отстаивать свои ортодоксальные убеждения и в мемуарах замечает, что отходила от них “очень медленно”. Поэтому она не была заинтересована в том, чтобы раньше опубликовать его вещи за границей; целью ее была громадная советская аудитория. С другой стороны, все, что мы сможем сделать для пропаганды творчества Иванова за границей, будет полезно. Она снабдила нас фотографиями, обсудила со мной разные советские издания его вещей и назвала те, которыми не надо пользоваться (из-за сокращений) для переводов.
Мы уже заявили о своем интересе к Иванову, напечатав перевод первоначального варианта его самой знаменитой повести “Бронепоезд 14–69” во втором выпуске Russian Literature Triquarterly в 1972 году. Она принципиально настаивала на легальности, и о переводе крупного произведения, еще не вышедшего в СССР, не могло быть и речи. В 1972 году роман “Ужгинский кремль” был набран в журнале “Простор” с предисловием Константина Федина (старого и влиятельного друга), и только вмешательство каких-то усердных прихлебателей наверху (возможно, в правлении Союза писателей) помешало публикации романа. Весь тираж номера пошел под нож. Это было ударом для нее, но она не сомневалась, что время на ее стороне, и, в общем, не ошиблась, потому что лет через восемь роман все же вышел. Это невероятное терпение – одна из ярких ее черт. А многие вымарки, сделанные цензурой, были незначительны по сравнению с массивом текста.
Для нас, мысленно и в разговорах, Тамара Владимировна всегда была “Тамарой Владимировной”, не “Лилей” и не “Надеждой”. Это была крупная привлекательная, полная жизни женщина, привыкшая распоряжаться. В ней была царственность, что-то львиное – может быть, сохранившееся с двадцатых годов, когда она выступала на сцене. Она вела себя так, как будто делает нам одолжение (как оно и было на самом деле). Мы заметили, что к своим детям она относится тепло, но не без властности.
Как и Лиля, Тамара Владимировна большую часть жизни прожила благополучно (ее отец владел магазином, и после революции она, по крайней мере однажды, потеряла работу как “бывшая буржуазка”). Она была единственной законной наследницей признанного писателя, в браке с которым прожила 36 лет. Поэтому, как и Лиля, она могла показать исследователю Иванова не только книги, но и большой архив документов, в частности писем, восходящий к 1920-м годам. Мы к нему не были допущены, но судя по тем образцам, которые у нас есть в руках, он был существенным. И о нем хорошо заботились, потому хотя бы, что ее сыном был “Кома” (Вячеслав Всеволодович), один из крупнейших филологов в СССР, автор множества трудов в разных областях – трудов, публикующихся и известных и в СССР, и на Западе. Это не та семья, где литературные документы теряются и путаются. За этим проследила бы “Комина мама”, как ее часто и с почтением называли, если бы не озаботились Кома и другие. Она тоже понимала подлинную природу советского режима, но считала нужным работать внутри режима, а не вопреки ему. Об одном исключении я скажу ниже.
Для начала расскажу об одной неожиданности, с которой мы столкнулись при первой встрече с Тамарой Владимировной, – чем-то она напомнила нам историю с дочерью Маяковского. За столом с нами сидел коренастый мальчик, которого нам представили (шепотом) как внука Исаака Бабеля. По-видимому, мальчик сам узнал об этом недавно. В середине двадцатых годов Тамара Владимировна была возлюбленной Бабеля, и, когда она уже была беременна, он, так сказать, препоручил ее заботам Иванова. В этот период Бабель вел в некотором роде жизнь бабника, поскольку в 1925 году отослал законную жену за границу, сам ездил туда и обратно и, вероятно, мог остаться там при желании (о его планах бурно спорили). В 1928 году французская жена забеременела, что усложнило его ситуацию. Между тем в Москве была красивая актриса Тамара. (А впереди – его последняя жена Пирожкова и последний ребенок, который родится в 1930-х.) Короче говоря, первым ребенком Тамары после женитьбы с Ивановым был ребенок Бабеля – факт, долго остававшийся в секрете от публики, а на Западе неизвестный, думаю, до сих пор.
Бабель активно переписывался с Тамарой. Если правильно помню, она сказала, что у нее в коробке около двухсот писем, но никто их не прочтет до ее смерти, а после они отправятся в государственные архивы. (Поскольку важная часть архива Бабеля была арестована вместе с ним в 1939 году и больше не появилась на свет, нам ее решение показалось неудачным – если только не будут сделаны копии и спрятаны в надежных местах.) О Бабеле периода 1925–1939 гг. достоверно известно немногое, и от близости этого богатства у литературоведа, естественно, слюнки текли – но удовлетворения мы не получили. Позже мы, однако, узнали, что письма она все-таки давала читать. И те, кто читал их – Лев и Рая Копелевы, – были шокированы. Не только не было в письмах даже следа любви – простое уважение еле-еле проглядывало. В большинстве Бабель давал ей поручения касательно денег, договоров и т. п. Нигде, сказали Копелевы в 1983 году, не было и намека на то, что это письма творческого человека, это сплошь были письма литературного дельца. Лев и Рая изумлялись, что она вообще хранит эти письма, а тем более дает читать их третьим лицам. В ответ на ее вопрос, что они думают о прочитанном, они спросили, как она осмелилась хранить письма казненного “врага народа”. На это она ответила – разумно в какой-то степени, – что ничего преступного Бабель не совершил, что обвинения были вымышленные и, в любом случае, сами письма не содержат ничего опасного или наказуемого.
Теперь мы переходим к последнему эпизоду. Для начала надо отметить, что один неопубликованный роман – “У” – попал в самиздат и был напечатан за границей (издательством L’Age d’Homme, 1982). Была ли это утечка или Тамара Владимировна дала рукопись иностранному исследователю для изучения или даже публикации – с уверенностью говорить мы не можем, хотя по крайней мере один экземпляр был в руках у американского филолога, которому мы дали адрес Тамары Владимировны и объяснили, как с ней связаться. Мемуары Тамары Владимировны, начатые еще в 1963 году, должны скоро выйти в Советском Союзе. [Они и были изданы – с сокращениями и без той части, которая касалась Катаева. – Э. П. Т.]
Она не обладала независимым интеллектом, не была такой, как Надежда Мандельштам. Главные воспоминания – о Федине, Катаеве и Пастернаке. В книге мемуаров Тамары Владимировны, объявленной на 1984 год, выйти в нецензурированном виде могут только воспоминания о первом из трех. У нее, как и у многих других, вызвали гнев напечатанные в конце семидесятых “беллетризованные” мемуары Катаева “Алмазный мой венец”, где он выставляет себя в благоприятном свете за счет почти всех остальных, в особенности покойных. Определив мемуары как беллетристику, но сделав прозвища героев прозрачными, он хотел избежать обвинений в неточности и клевете. Тем не менее он нажил десятки врагов; в их числе была и Тамара Владимировна. В ее опубликованные мемуары не войдет замечательная диатриба против Катаева “Не могу молчать”. Летом 1979 года она твердо решила издать свои “непечатные” воспоминания за границей. Это был большой шаг для человека ортодоксальных убеждений. Она подготовила текст и приложила написанное собственной рукой объяснительное письмо. “Ардис” получил копию этих материалов около 1980 года – от кого, мы не знаем, и она не подтверждала, что отправила их сама. Как это объяснить, мы не знаем. Мы не в первый раз были свидетелями трудных и неоднократных перемен решения.
В опубликованных мемуарах Тамара Владимировна, несомненно, будет защищать Федина. Он был другом Иванова с первых серапионовских дней, с 1921 года, и всегда с теплотой вспоминал это время. Соседи по Переделкину, Ивановы и Федин сохранили дружбу на всю жизнь. Федин известен миру как председатель правления Союза писателей, отступившийся от своего соседа и друга Пастернака и возглавивший кампанию за его исключение из Союза, а позже – и Солженицына. Тамара Владимировна настаивает, что Федин – человек, органически не способный нарушить слово, что в случае Пастернака он разрывался между дружбой и долгом. Долгу он присягнул и не мог изменить ему ради дружбы. Истории с Солженицыным она не касается вовсе.
Две части воспоминаний Тамары Владимировны, которые могут быть напечатаны только за границей, посвящены книге Катаева “Алмазный мой венец” и Пастернаку – не только истории с “Живаго”, но дружбе его с Ивановым. Катаева она разносит за то, что он лжет с начала и до конца, изображает таких людей, как Хлебников, своими знакомыми, хотя на самом деле ни разу с ним не встречался, сочиняет о других людях, в особенности о еще одном “серапионе” Михаиле Зощенко, сохранившем дружбу с Ивановыми до самой смерти. Защищает она и других – начиная с Маяковского и до Мандельштама – и пишет, что в тридцатые годы, когда русские писатели были еще маленькой семьей, Катаев почти не бывал в их обществе и не бывал приглашаем на их чтения. Его отвратительная роль в травле Пастернака известна, и Тамара Владимировна рассказывает о том, как Пастернак отказался пожать ему руку. Занятное отступление: Корней Чуковский, постоянно выступавший в роли друга Пастернака, в разгар скандала из-за “Живаго” пришел к Ивановым и сказал, что они должны вместе публично осудить Пастернака!
Воспоминания Тамары Владимировны о Пастернаке захватывают весь период с 1928 года до его смерти, в особенности то время, когда они были соседями по Переделкину (после того, как Пастернаку отдали дачу Малышкина). Она сообщает интересные подробности о жизни и мнениях Пастернака в годы войны, среди прочего – о том, как он осуждал за безнравственность А. Н. Толстого, Эренбурга и Маршака. Ивановы были в числе тех немногих, кому начиная с 1952 года Пастернак читал главы “Доктора Живаго”, только что вынутые из пишущей машинки. В 1956-м Иванов предложил отредактировать роман, чтобы сделать его “проходным”, и Пастернак дал ему карт-бланш. Она приводит доказательства того, что Пастернак не порвал отношений с Фединым, несмотря на известное письмо 1956 года, и пишет, что в какой-нибудь форме “Доктор Живаго” все-таки будет опубликован – вполне возможно, в “Литературной Москве”.
Неподцензурные части воспоминаний Ивановой будут опубликованы “Ардисом”. Вновь правда станет общим достоянием, и последнее слово останется за вдовой. Вероятно, Тамара Владимировна планировала дело не совсем так, но этот пример еще раз показывает, как трудно помешать тем, кто был близок к русским писателям, собрать свои воспоминания, устроить свой музей – и в конце концов вынести все это на свет божий. Мемуарист обычно хочет, чтобы его работа увидела свет. Несомненно, власти разрешили ей рассказать о том, каким чудесным человеком был Федин, но убедили ее, что Катаева нельзя обижать открыто и рассказывать миру всю историю скандала с Пастернаком, – а она была добропорядочной советской женой, матерью и бабушкой. К сожалению для советского литературного начальства, оно десятилетиями вело себя так злобно, что даже женщины, изначально – и на протяжении долгого времени – бывшие упорными защитницами нового режима, как Тамара Владимировна, в конце концов пришли к тому, что больше не могли держать правду под спудом. Тамаре Владимировне было почти восемьдесят, когда книга Катаева стала для нее последней каплей. И вновь мы убедились в силе русских вдов.
1984Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском
Вначале 1969 года мы впервые приехали в Советский Союз, мало что зная о его тогдашних писателях, поэтому рассказы Надежды Мандельштам об Иосифе Бродском и ее желание познакомить нас с ним во время нашего пребывания в Ленинграде выглядели не важнее, чем сотни других намеченных для нас встреч. Однако рекомендательное письмо Надежды изменило как наши судьбы, так и судьбу самого Иосифа. Между нами завязались долгие и сложные отношения, не прерывавшиеся всю мою жизнь.
Теперь, летом 1984 года, я собираюсь рассказать все, что помню о русском периоде жизни Бродского, о его отъезде из России и о первом годе, который он провел в США. Во многих смыслах это период, представляющий значительный литературный интерес, и, как ни странно, именно о нем у меня осталось больше всего документальных свидетельств. Вообще-то мы с Эллендеей ведем записи от случая к случаю, но, по всей видимости, Иосиф с самого начала показался нам необычной и в каком-то смысле важной для нас личностью. Этим и объясняется то, что у меня сохранилось столько заметок, могущих послужить подспорьем для памяти.
Даже способ, каким мы тогда добирались в Ленинград, был весьма необычен. Мы ехали с пастором Роджером Харрисоном на его ярко-красном “плимуте барракуда”, самом заметном автомобиле во всей стране, который, как я записал тогда, промчался “по десяти тысячам одинаково унылых деревушек” между Москвой и Ленинградом, словно золотая карета по бедным городкам из “Мертвых душ”, провожаемый взглядами изумленных крестьян. Разумеется, у нас не было разрешения ехать в Ленинград на машине, поэтому любое дорожное происшествие нагоняло на нас беспросветный ужас. Гаишники контролировали все движение, особенно на междугородних трассах; первый пост ГАИ находился уже в 40 км от центра Москвы, и дальше иностранцам без соответствующих бумаг ехать не дозволялось. Кажется, этот пост мы миновали благополучно, но позже, когда нам попался другой, Роджер не понял, что означают жесты стоящего на обочине полицейского, и промчался мимо красным вихрем. У следующего пункта дорогу нам преградила цепочка его товарищей, вооруженных автоматами. Мы остановились, Роджер вышел, и мы услышали его обычное полуразборчивое кудахтанье (на самом деле он очень бегло говорил по-русски); особенно он напирал на свои дипломатические номера и на то, что мы не кто-нибудь, а настоящие американцы. Гаишник со скучающим видом заглянул в его документы, в наши (где значилось, что с сегодняшнего вечера нам разрешается пребывать в Ленинграде), после чего, утомленный жизнерадостным слабоумием Роджера, отпустил нас с миром.
Позвонив Бродским в первый раз, я принял за Иосифа его отца, но затем перезвонил, исправил недоразумение и договорился о встрече. Она состоялась 22 апреля 1969 года.
В тот день нас поразило несколько обстоятельств. Во-первых, жилище Иосифа – его семья занимала две комнаты в коммунальной квартире. Переступив порог, вы попадали в длинный коридор – сразу направо кухня и туалет, а дальше комнаты жильцов. Иосиф провел нас мимо нескольких из них, расположенных по левую руку, и свернул во тьму. Там находилась бывшая фотолаборатория его отца (некоторое время он работал фотографом), а когда наши глаза привыкли к темноте, мы увидели впереди гигантскую баррикаду из сундуков, тумбочек, чемоданов и каких-то громоздких ящиков. Эта баррикада тянулась от стены к стене и от пола до потолка, очень высокого: в прежние времена здесь обитал какой-то аристократ, и потолок до сих пор украшали изысканные лепные карнизы. Иосиф отдернул маленькую занавеску и пригласил нас нырнуть в открывшуюся дыру. Последовав его приглашению, мы очутились в крошечной комнатке с окном на улицу – слева виднелся Литейный проспект, справа церковь. Кровать Иосифа стояла под окном, у батареи, о которую он много лет тушил окурки. Справа был его письменный стол, над ним – пять-шесть полок, где почти не осталось места для новых книг (как мы вскоре убедились, во всем городе едва ли можно было найти лучшую поэтическую коллекцию); слева стоял небольшой кожаный диванчик, перед ним новенький на вид столик с инкрустациями из слоновой кости сверху и по бокам, а чуть дальше, в изголовье кровати – потертое кресло. У левой стены, за столиком, был проход, перегороженный еще несколькими книжными полками, в щели между которыми по вечерам проникал свет и независимо от времени суток – даже умеренно громкие голоса. Как мы узнали позже, этот проход вел на другую половину жилища Бродских, в комнату его родителей, служившую им единовременно спальней, гостиной и кухней. Иосиф обособился от своих родителей, но не слишком. Несмотря на такое близкое их соседство, его комната выглядела очень поэтично. Она была уютна – этакое гнездышко, насквозь пропитанное духом Иосифа (Гоголь пришел бы в восторг, увидев здесь идеальное подтверждение своей теории о том, что раковина отражает характер ее обитателя).
В течение нескольких следующих лет какие-то мелочи менялись, но в целом обстановка оставалась прежней. На большом столе красовались два канделябра, каждый на пять свечей, а маленький латунный подсвечник с чудесной резьбой Иосиф подарил нам – он и сейчас стоит у меня в кабинете. Средоточием комнаты были книжные полки с богатым разнокалиберным грузом иностранных изданий, в основном поэтических – хозяин получал их со всего света в дар от своих поклонников, количество которых неуклонно росло, – и томиками, раздобытыми Иосифом на мероприятиях вроде Американской выставки в Москве. Знакомые часто брали у Иосифа что-нибудь почитать, но он переводил без устали, так что многие книги и словари постоянно находились в работе.
Комната изобиловала сувенирами западного происхождения. Абажур настольной лампы был оклеен этикетками “Кэмел”, и мы спросили, когда он впервые увидел эти сигареты. Иосиф сказал, что в 1945-м его отец привез с фронта несколько пачек, и с тех пор они ему дороже Рембрандта или любого другого художника. С тех пор мы всегда привозили ему блок сигарет “Кэмел”, но обычно оказывалось, что они у него уже есть. На одной из полок мы заметили бутылку “Курвуазье” (пустую), а на стене висела вырезанная из газеты (или составленная в шутку) надпись на английском: “I AM AN ENEMY OF THE STATE”[4]. Еще там были постеры “SEX MANIAC”, “WORK IS THE CURSE OF THE DRINKING CLASS” и “WANTED J. B.”[5]. Они и через несколько лет никуда не делись, но призыв “STAMP OUT REALITY”[6] исчез. Одно время Иосиф даже хранил часы с изображением Спиро Агню[7]. По всей комнате – в частности, над столом – были расклеены журнальные иллюстрации с видами Америки и Европы (в основном с замками), а также открытки и фотографии, в том числе снимок его жены и сына и два портрета Ахматовой.
В ящике напротив письменного стола помещалась энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Еще наличествовали словарь Даля, словарь американского сленга в трех или четырех томах, Оксфордский словарь, русско-английский словарь Лангеншейдта, а позже мы добавили к ним и словарь Random House. Над столом выстроились книги всех известных английских и американских поэтов: Йейтс, Элиот, Дилан Томас, Уилбер и т. д. Позже к ним добавилось много Кавафиса, которого Иосиф без устали рекламировал (преуспев только в случае с Эллендеей), и Набокова, которого мы регулярно ему привозили.
Магнитофон на столе обычно играл Моцарта (когда Иосиф вернулся из ссылки, он, по его словам, две недели пролежал, слушая Моцарта). Позднее здесь звучали “My Lady d’Arbanville” Кэта Стивенса, “Битлз” (“Revolution” и “Abbey Road”), Джоан Баэз, Бах, джаз и так далее. Кровать с плюшевыми подушками (коричневыми и красными, гобеленовыми) была застлана армейским одеялом.
В ту первую встречу мы не знали, чего ожидать, и он тоже, но очень быстро почувствовали взаимное расположение. Меня тронули его обаятельная улыбка и смущение – он явно старался сказать или сделать что-нибудь такое, чтобы развлечь нас, как полагается хорошему хозяину. Он был симпатичный, с ярко-голубыми глазами и редеющими рыжими волосами. Его движения были энергичны и порывисты, речь сбивчива: начиная что-нибудь объяснять, он часто поправлял себя или начинал фразу заново, а то и вовсе говорил “нет, не то”, “дело просто в том, что…” – в его стихах, хоть, разумеется, и прошедших литературную обработку, тоже мелькают подобные словечки, характерные для его речи и манеры мышления. Он постоянно вскакивал, чтобы что-нибудь найти, хватался за голову и ерошил волосы. Поначалу он держался несколько официально, желая по какой-то причине произвести на нас впечатление. Нас удивило, что он говорит по-русски с сильным еврейским акцентом – он и сам подчеркнул это, схватив себя за горло. Когда он принялся разыгрывать роль поэта для гостей, мы стали подшучивать над ним, и он не обиделся, довольный тем, что мы заметили его притворство. Он умел смеяться практически над чем угодно, включая себя. По крайней мере, когда он бывал один или с кем-то наедине, за поэтическими рассуждениями о добре и зле, жизни и смерти всегда ощущалась глубокая скептическая подкладка. Нам это понравилось, и он показался нам весьма привлекательным, этаким модно-современным в хорошем смысле. Очень скоро мы почувствовали к нему настоящее доверие. Надетая им было маска официальности спала, едва он взял телефонную трубку и перешел на свою обычную речь, щедро уснащенную беззлобной нецензурщиной. Мы быстро поняли, что он “свой” – один из нас. Это сродство не имело ничего общего с симпатиями и антипатиями, с дискуссиями о поэзии и политике; оно находилось на совершенно ином психологическом уровне, и при общении с любым другим русским мы не ощущали ничего похожего. Он умел мгновенно расположить человека к себе, стоило ему только захотеть. Что подкупило Иосифа в нас самих (если такое вообще было), я не знаю. В ту пору мы решили, что в моем случае важную роль сыграли сдержанность и ироничность, характерные для американцев моего происхождения, вкупе с серьезным интересом к Пушкину, Гоголю и Набокову, а также высокий рост и откровенно заграничный облик. Ему нравились американцы такого типа. Что касается Эллендеи, то он скорее оценил ее внешность, чем интеллект: Иосифа нередко увлекали самые поверхностные вещи. Он всерьез считал, что о книге можно судить по обложке.
Вскоре после знакомства с Иосифом мы в первый раз явились к нему на вечеринку, где оказались единственными гостями-иностранцами. Присутствовали Евгений Рейн, отрекомендованный Иосифом не только как его друг, но и как учитель, жена Рейна (когда мы потом вышли на улицу, она твердо заявила, что мы сейчас посетили одного из величайших русских поэтов), Леонид Чертков, широко известный литературовед, один из двух авторов статьи о Набокове в Краткой литературной энциклопедии (позже он эмигрировал во Францию), и его жена Татьяна, тоже филолог, интересующаяся в первую очередь футуристами и грузинской литературой. И на этот раз Иосиф был не в своей тарелке, то и дело что-то искал или выходил, чтобы что-нибудь принести – например, коньяк в пандан к захваченному нами джину. Когда я спросил, почему он так суетится, он ответил, что хочет сказать или сделать что-нибудь, чтобы “заполнить пустоту”. Очевидно, это слово было употреблено не в обычном смысле, что явствует из его многочисленных стихов, где доминирует пустота на метафизическом уровне, возникающая из будничной. К примеру, в “Натюрморте” она разрастается, усиливая гнев и неровность стиля, которые слышались особенно ясно, когда он сам читал это стихотворение.
Когда я задал собравшимся свой любимый провокационный вопрос (намеренно туманный по части определений): “Может ли плохой человек написать хорошую книгу?”, Иосиф ответил твердым “нет”. Но к следующему нашему визиту он изменил свое мнение. Он сказал, что причиной тому стали его раздумья о Достоевском: ясно, что он был плохим человеком, но тем не менее написал хорошие книги.
Гости долго обсуждали и другой коварно подкинутый мной вопрос: есть ли какая-нибудь связь между физическими особенностями и образцово ясным стилем (может ли неуклюжий человек, лишенный красоты и грации, писать красиво)? Обсуждение протекало в типично русском духе, причем ответы были самые разнообразные – от решительного “нет” до заявления Рейна, что в стиле отражаются не только физические особенности, но и черты лица автора: чтобы убедиться в этом, говорил он, достаточно посмотреть на портреты всех крупнейших русских писателей, особенно Гоголя и Достоевского.
В 1969-м и еще некоторое время после этого Иосиф утверждал, что самый великий русский поэт – Баратынский (и уж точно не Пушкин, который ему никогда не нравился). Я спрашивал: разве он не один из целой плеяды, имитатор? Иосиф отвечал, что нет: даже там, где у Баратынского встречаются штампы, это на самом деле не штампы, надо просто копнуть чуть глубже. Сначала я подумал, что Баратынский – временная любовь, поскольку нас предупреждали, что Иосиф способен радикально менять свои воззрения, но работа Иосифа над английскими поэтами-метафизиками, не говоря уж о его собственных стихах, явно имеет некоторую связь с характерной для Баратынского поэзией мысли. В то время он регулярно и так же горячо заступался и за Тредиаковского, что нас лишь забавляло. Иосиф настаивал на важности традиций; когда восемнадцатилетний мальчишка рассуждает так, будто двух сотен лет поэзии до него не существовало, это выглядит глупо, говорил он; может, это и неизбежно, однако достойно сожаления. Поэтому он любил неоклассиков и считал, что их заимствования у поляков, французов и так далее несущественны, поскольку они употребляли их с толком.
На той же вечеринке, наполовину в шутку, наполовину всерьез, Иосиф прочел также лекцию о влиянии фильмов про Тарзана, вышедших в Советском Союзе в 1951 году. Он сказал (и остальные согласились), что они были первым шагом в движении к индивидуализму среди молодежи. Появился культ длинных волос, потом индивидуалистическое поведение, потом брюки-дудочки и, наконец, правительственное распоряжение покончить со всем этим безобразием. Потом наступил черед польских журналов, особенно “Пшекруя”, с их переводами Пруста, Джойса, экзистенциалистов и другими запрещенными плодами западного модернизма.
Может быть, потому, что я написал книгу о Набокове, он отзывался о нем весьма уважительно. Он сказал, что, хотя авторский перевод “Лолиты” плох, он читал изначально написанные по-русски “Дар”, “Защиту Лужина” и “Приглашение на казнь”, и что Набоков велик, поскольку он безжалостен, “когда речь идет о современной пошлости, и что он понимает масштаб вещей, как и положено любому великому поэту или прозаику, и свое место в этой иерархии”. Еще Иосиф очень высоко ставил Ходасевича и сказал, что Набоков, возможно, прав, но для него самым любимым поэтом XX века все равно остается Цветаева. В общем, он предпочитал ясных и глубокомысленных поэтов туманным; поэтому он не любил символистов, но хорошо относился к акмеистам, особенно к Ахматовой (Эллендее это показалось подозрительным: очевидно, что Мандельштам был более значителен). Америке повезло, сказал он, потому что у нее есть Фрост – стихов его одного уже хватит на целое столетие.
Что касается современной русской поэзии, сказал он, то “в России поэзия существует только количественно, но не качественно”. Как всегда, мы спросили о двух поэтах, чьи имена были у всех на слуху, и Иосиф сказал, что не стоит читать ни Евтушенко, ни Вознесенского, но в своем роде первый все-таки лучше, потому что Вознесенский привлекает читателя только одним – каламбурами. У него нашлось несколько добрых слов для Еремина (из непечатаемых) и для Кушнера (из печатаемых иногда). Что же до современной русской прозы, то он осудил Солженицына, назвав его сочинения просто-напросто апофеозом социалистического реализма (не первый и не последний раз мы слышали это суждение).
В мае, за месяц до нашего предполагаемого отъезда из России, Иосиф приехал в Москву, и мы провели с ним вечер и еще полдня. Вечер прошел дома у нашего знакомого Андрея Сергеева, который был и хорошим другом Иосифа – кстати сказать, Иосиф, вообще склонный к преувеличениям, называл его самой светлой головой в Москве. После предпринятой нами тщетной попытки раздобыть лед для водки началось поочередное чтение стихов на русском и английском. Мы уже получили представление о манере Иосифа в Ленинграде. Каждый, кто слышал, как он читает стихи, поймет, насколько поразил нас его напевный речитатив, резкие перепады тона, постепенное нарастание высоты и громкости и резкие, неожиданные остановки. Мы спросили, откуда взялась эта манера, и он ответил, что не вырабатывал ее специально, она просто была у него с самого начала. Он не видел тут никакой связи с еврейскими канторами или с церковью. Я исполнил по-русски пушкинский “Зимний вечер”, но не удостоился аплодисментов. Затем, кажется, Андрей прочел какие-то стихи Фроста. И наконец, Иосиф прочел стихотворение Эдвина Робинсона, и само-то по себе маловразумительное, а благодаря его английскому и манере чтения сделавшееся абсолютно непостижимым. Он был крайне обижен, когда мы признались, что ничего не поняли – что для нас это настоящая заумь. Он искренне полагал, что прочел эти стихи не только ясно и по-английски, но и так, чтобы подчеркнуть их смысл.
К сожалению, бóльшая часть вечера ушла на долгий и бесплодный спор о Вьетнаме. В течение нескольких следующих лет мы регулярно спорили с нашими русскими друзьями на эту тему, и они, как правило, не понимали нашей антивоенной позиции. Особенно горячился Андрей: он утверждал, что очень глупо с нашей стороны не уничтожать коммунизм везде, где только можно. Именно этот аргумент нам обычно и доводилось слышать от наших охваченных милитаристским пылом оппонентов, причем не от каких-нибудь невежд, незнакомых с американской культурой и историей, а как раз наоборот, от тех, кто знал о ней больше других (но, за редкими исключениями, все равно ничего в ней не понимал). Иосиф склонялся скорее на его сторону, хотя в тот раз выступал своего рода примирителем (позже, в достопамятной словесной битве в Ленинграде, он был неумолим). Так что худшим, что мы тогда от него услышали, было следующее: мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда и сбросить на них водородную бомбу. “Это очень печально, но они же не люди”, – добавил он. Андрей согласился, и оба сказали: все ведь элементарно, кто это начал? Они искренне считали, что это простой вопрос. Я продолжал задавать им вопросы, я сказал, что хочу как следует понять их позицию и то, как именно они предлагают решать с точки зрения закона, кто в Америке хороший, а кто плохой (то есть противник войны), дабы в соответствии с их планом наказать последних. Иосиф перебил меня, заявив, что если бы у него была рыжая жена (как у меня), ему “было бы наплевать на все остальное”. Мы вспомнили студентов, которые подвергались насилию со стороны властей на съезде Демократической партии США в 1968 году, в Беркли и других местах. Андрей заявил, что так им и надо: мол, если студенты собираются на митинги и протестуют, то “они превращаются из студентов в политиков”. Если студенты хотят лезть в политику, пожалуйста, но тогда они уже больше не студенты. “И чего они вообще митингуют – у вас ведь можно голосовать, это у нас нельзя!” Типичным для этой линии поведения были и выпады против чернокожих борцов за свои права. Не так уж плохо они живут, говорил Андрей, чтобы всерьез на что-то жаловаться. Один русский зэк попросил, чтобы его отправили жить в негритянское гетто. Нам не раз повторяли этот анекдот в доказательство того, что русским живется гораздо хуже, чем самым разнесчастным американским неграм.
В конце мы сказали, что переписывать такие законы, как свобода слова, следует с большой осторожностью (Андрей заявил, что свобода слова должна быть “не для всех”, в частности не для маоистов). Стоит переделать один закон, сказали мы, как тут же возникает нужда в переделке следующего. На это Иосиф сказал: “Когда такое слышишь, плакать хочется – ведь у нас-то здесь вовсе ничего нет”. Мы и по сию пору ведем с Иосифом подобные, хотя и более аргументированные споры, и, насколько мне известно, никто из нас никогда не принимал их чересчур близко к сердцу, но Андрей был очень расстроен и через несколько лет разорвал с нами отношения, решив, что у нас, особенно у Эллендеи, слишком уж левые взгляды.
Когда мы вышли от Андрея после этого долгого вечера, полного стихов и политики, Иосиф отдал мне законченную рукопись поэмы “Горбунов и Горчаков”. Нам предлагалось прочесть ее и тайком вывезти за рубеж. С нее и начались наши публикации самиздата в Энн-Арборе. Эта поэма стала первым крупным русским произведением, появившимся в первом выпуске Russian Literature Triquarterly в 1971 году, и ей же была посвящена моя единственная за всю жизнь статья о поэзии Иосифа. Единственная не потому, что его стихи меня не интересовали – как раз наоборот, но я уже давно решил, что при всех естественных сложностях моих дружеских отношений с русскими писателями разных школ и убеждений мне не стоит усугублять имеющиеся разногласия своими опусами об их творчестве.
Иосиф стал для нас таким же важным и близким другом в Ленинграде, каким была Надежда Мандельштам в Москве. В обоих случаях их квартиры служили центром, из которого все расширяющимися кругами расходились наши знакомства с другими русскими, по большей части писателями, переводчиками и учеными.
В ходе наших визитов Иосиф постепенно поведал нам историю своей жизни. К тому времени мы уже прочли полный отчет о скандально известном судебном процессе 1964 года, записанный Фридой Вигдоровой и опубликованный в чудесном альманахе Гринберга “Воздушные пути”. Цитаты из этого отчета были известны каждому, и на его основе писались пьесы и романы повсюду – от Турции до Франции. Нас также втянули в бушующие в московских и ленинградских литературных кругах споры о том, правильно или неправильно поступил Иосиф, отказавшись признать необычайное мужество Фриды и поддержку со стороны многих других людей.
На вопрос, почему его освободили так рано, Иосиф обычно отвечал уклончиво. Он либо говорил, что это было связано с некими конкретными личностями в Ленинграде, как и сам процесс, либо ссылался на некое общее чувство вины. Но факт остается фактом: до, во время и после суда над Иосифом были предприняты очень серьезные усилия, направленные на то, чтобы защитить его и сделать этот суд достоянием гласности, причем подобное случилось впервые за всю историю борьбы за права человека в постсталинской России. Иосиф был не склонен публично признавать важность всей этой деятельности. Более того, от него обычно не слышали и лестных отзывов о самом отчете, появление которого можно считать беспрецедентным. Составляя его, журналистка Фрида Вигдорова пошла на огромный риск и показала всему миру, насколько кафкианским может быть суд в Советском Союзе (ее записи повсеместно переводили и цитировали). Многие считали, что Иосиф так и не отдал ей должного. Мы никогда не задавали ему никаких вопросов касательно этой истории.
Я вкратце изложу здесь детали его ранней биографии – скорее ради того, чтобы зафиксировать слышанное нами из его уст, чем ради того, чтобы запечатлеть истину в последней инстанции. Существуют другие свидетели, которые могут дать более полные отчеты. Я уверен, что возникнет множество разногласий практически по всем поводам, поскольку даже в рассказах самого Иосифа, которыми он потчевал нас на протяжении многих лет, хватает расхождений относительно конкретных обстоятельств и степени важности тех или иных событий. Этому не стоит удивляться, особенно если учесть, что в деле частенько бывали замешаны женщины.
Иосиф говорил, что он почти всегда чувствовал себя белой вороной, и началось это еще в школе, с тех пор как он себя помнил. Отчасти это объяснялось тем, что его презирали как рыжего еврея, но в основном он просто не вписывался в общую картину. В качестве любопытного диссонанса к воспоминаниям самого Иосифа об этом периоде я приведу свидетельство жены его друга Григория Воскова. В 1979-м она сказала нам, что в школе его очень даже любили. Он получал тройки по математике и страшно расстраивался из-за этого. Но когда он решил бросить школу, почти весь класс явился к нему домой, чтобы его отговорить. Нам было ясно, что по крайней мере она сама восхищалась Иосифом всю жизнь.
Как бы мы ни судили о том, насколько счастлив или несчастлив был Иосиф в школьные годы, он признался, что вступил в пионеры (хотя и это тоже он объяснил чувствами, которые питал к пионервожатой, а не желанием быть как все и не отрываться от коллектива). Он бросил школу в пятнадцать лет, потому что влюбился; он сбежал из дому, чтобы устроиться на работу, раздобыть денег и поселиться с любимой девушкой. Конечно, этих намерений хватило ненадолго, и почти все остальные семнадцать лет он прожил в своей комнате, в коммуналке рядом с родителями. Женщины играли в биографии Иосифа существенную роль с начала и до конца, хотя очень немногие из них были важны для него по-настоящему. Я думаю, это понимали все, кто его знал. Мы отправляли к нему с визитами многих своих подруг, заранее предупреждая о возможных последствиях. Иосиф был не просто поэтом, но поэтом в драматической ситуации, почти в беде. Кроме того, он умел быть чрезвычайно обаятельным искусителем. Имеющиеся свидетельства крайне разноречивы (боюсь, что их содержание сильно зависит от внешних данных рассказчицы), но даже при моей вере в необходимость знать всю правду я уступаю право оглашения дополнительных подробностей другим летописцам.
Интересно, с какой мрачной серьезностью Иосиф порой относился к своим женщинам. В наших ранних беседах о безумии и самоубийстве – и то и другое было для меня отнюдь не пустым звуком – он сказал, что когда-то чуть не лишил себя жизни из-за девушки. (Потом он признался, что его довела до этого Марина; когда она была с каким-то другим мужчиной, он несколько раз полоснул себя в туалете по левому запястью то ли бритвой, то ли ножом, а потом вышел оттуда, спрятав окровавленную руку в карман.) А когда я сказал под конец, что это на самом деле не слишком разумно, он возразил, что наоборот, очень разумно, если только не затрагивает других; правда, обычно это бывает к тому же грязным и жалким. Как бы то ни было, он сумел пережить свой самоубийственный порыв.
Бросив школу, Иосиф работал в разных местах. До суда он сменил их не то четырнадцать, не то пятнадцать – был фрезеровщиком на заводе, истопником, дважды работал фотографом (пойдя по стопам отца), рыл землю и ходил с радиометром в геологических экспедициях, и так далее. Особенно важной для него оказалась первая из геологических экспедиций – это были своего рода отдушины для отщепенцев вроде него. Туда брали даже тех, кто никуда больше не мог устроиться, и вдобавок эти путешествия обеспечивали известную степень свободы.
Рассказывая, как ему не терпелось выбраться из СССР, Иосиф привел в пример случай, когда он первым из своих земляков чуть было не угнал самолет. Любопытно, что он поведал нам об этом в своей комнате, хотя был уверен – или почти уверен, – что в ней есть “жучки”. Как и многие другие из наших русских знакомых, он считал главной опасностью телефон и отключал его, когда собирался сказать что-нибудь откровенно антиправительственное. Еще надежнее было зайти в ванную, пустить воду и говорить под ее шум, а вернее всего – отправиться в долгую прогулку по отдаленным и достаточно открытым местам, где подслушивать затруднительно. Конечно, мы знали о направленных микрофонах, которые позволяли записывать на пленку разговоры тех, кто вызывал у КГБ особенный интерес, но с этим риском приходилось мириться. Забавно, что в конце концов многие плевали на свои опасения и высказывали то, что хотели, даже если считали, что помещение прослушивается. Рано или поздно люди уставали от предосторожностей. У Иосифа были особые причины полагать, что у него установлены тайные микрофоны: его прошлое, многочисленные гости из-за рубежа, близость к дому, где находилось ленинградское отделение КГБ, и так далее. Тем не менее он о многом говорил открыто, в том числе об этой истории с самолетом.
Тогда ему было примерно лет восемнадцать. Он путешествовал с другом, разделявшим его антисоветские убеждения, и очутился где-то далеко на юге Советского Союза, поблизости от границы. В том городке, куда они забрались, был маленький аэропорт, и они решили сбежать из страны, украв самолет.
Они сидели, наблюдая за суетой в аэропорту, и строили свои мальчишеские планы. Согласно этим планам, Иосиф должен был оглушить пилота (кажется, его приятель умел управлять самолетом). Он пошел бродить по городу, обдумывая это, потом уселся на скамейку и стал грызть орехи. Когда он грыз орехи (вот она, поэтическая деталь), его поразило сходство ядра ореха с человеческим мозгом, и он понял, что не сможет через это пройти. Однако то был не последний раз, когда угон самолета едва не сыграл в жизни Иосифа роковую роль. Не было это и его единственным юношеским бунтом против власти. Еще он рассказывал, как отправил свои стихи в “Знание”[8], а когда их ему вернули, налил в презер ватив воды с майонезом и, проезжая мимо редакции, в знак презрения швырнул эту бомбочку в открытое окно.
Судя по тому, что рассказывал нам Иосиф тогда и после, в его жизни не было более важной фигуры, чем Марина Басманова. Именно она скрывается под буквами “М. Б.” в первоначальном названии “Новых стансов к Августе” (“Ардис”, 1983) – “Стихи к М. Б.”. Она была его первой и, возможно, единственной любовью. Она мать его сына Андрея, носящего ее фамилию – Басманов, что раздражало Иосифа, как он признавался нам еще в России (он сказал, что в той графе свидетельства о рождении, где должно было стоять имя отца, она просто поставила прочерк). В этой книге собраны все стихи, когда-либо написанные для нее прямо или косвенно (иногда он кривил душой, говоря другим женщинам, что какие-то из этих стихов обращены к ним, хотя на самом деле на уме у него была только М. Б.). С точки зрения Иосифа она всегда была его женой (хотя официально они не состояли в браке), даже несмотря на то, что они расстались, даже несмотря на то, что она, по его мнению, изменяла ему с другими, в частности с его собратом по перу, тоже одним из “ахматовских мальчиков”, соперником из того же круга, а теперь и товарищем по эмиграции – поэтом Дмитрием Бобышевым. Бобышев говорил, что у них с Мариной все началось всерьез лишь после ее окончательного разрыва с Иосифом, поэтому его нельзя обвинять в том, что он предал своего хорошего, если не лучшего, друга.
Иосиф рассказывал, что впервые увидел Марину, когда она вела по ленинградской улице велосипед – высокая, ошеломительно красивая, ни дать ни взять героиня фильма сороковых. Он влюбился в нее с первого взгляда (и с этого самого дня ее тип навсегда остался “его типом”). Она покорила его сердце еще до того, как они познакомились. Как он умудрился добиться этого знакомства и что именно произошло дальше, я не знаю, но известно, что некоторое время они жили вместе как муж и жена и что за этим последовало рождение Андрея. С самого начала у них были сложные отношения. Мы не знаем подробностей этого романа, хотя кое-что друзья нам рассказывали, но мы точно знаем по своему опыту, что Иосиф был органически не способен долго поддерживать по-настоящему близкие отношения с кем бы то ни было, в особенности с женщиной.
Каждый его роман, который нам доводилось наблюдать – а они были весьма многочисленны, – кончался быстро: клаустрофобия Иосифа полностью подавляла все прочие эмоции и порывы.
Когда родился Андрей, Иосиф, по словам очевидцев, был чрезвычайно взволнован и озабочен. Он целиком погрузился в хлопоты, самоотверженно добывал все необходимое вроде молока (что в СССР было непросто) и вообще выглядел гордым отцом, хотя они с Мариной (по крайней мере, на время) разъехались. Но Марина уже и тогда вела себя непоследовательно: то позволяла ему видеться с ребенком, то лишала его этой привилегии. А потом грянул суд и ссылка на Север, в леспромхоз под Архангельском. Там его навещали друзья и Марина.
Мы с Эллендеей встретились с Мариной только однажды. Несмотря на это, с учетом всего, что нам известно, мы готовы утверждать, что ни одна американка в подобных условиях не стала бы вести себя как она, сколь бы трудно ей ни приходилось с Иосифом. Она часто пропадала из виду и в эти периоды жила со своей семьей – людьми, как нам сказали, очень старомодными и чудаковатыми. Они не одобряли даже электричества, не говоря уж о еврейском поэте-тунеядце Иосифе. Лишь немногим друзьям Иосифа дозволялось поддерживать с ней хоть какой-то контакт, и время от времени они рассказывали ему об Андрее – что он похож на отца, такой же рыжий, что у него те же интонации и повадки. Наша единственная встреча с Мариной состоялась на нейтральной почве, в ленинградском парке, где трое наших детей самозабвенно играли в песочнице и на качелях, а русские дети, закутанные в пальто и шарфы, стояли как статуи и изумленно смотрели на неуемных иностранцев. Марина держалась прохладно и настороженно; она оживилась лишь один-единственный раз, когда мы шли по улице и Иосиф принялся учить Эллендею правильно произносить русское ругательство “сволочь”. Это показалось Марине забавным, и она рассмеялась. Она понимала, что мы сыграем свою роль в отъезде Иосифа за границу, мы это чувствовали, а ей, думаю, не хотелось, чтобы он уехал. Она была как собака на сене и очень держалась за свою власть.
Иосиф то и дело повторял нам, какая она замечательная. Она-де не только умна и оригинальна (другие говорили, что она умна и непрактична), но еще и прекрасный художник-график. Он показывал нам сделанные ею журнальные обложки, но мы не нашли в себе сил изобразить восхищение. Он знает, говорил мне Иосиф, что она женщина странная и не похожая на других, но чувствует, что его и ее странность одного рода, поэтому они хорошая пара. Во время нашего новогоднего визита в 1971 году я спросил Иосифа, что самое важное из того, чего он не знает. “Когда будет второе пришествие, – пошутил он. Но затем сказал уже серьезно: – Где сейчас моя первая жена, – и добавил: – Почему это до сих пор меня волнует – вот что самое загадочное”.
Чем бы это ни объяснялось, чувство, которое Иосиф питал к этой женщине, было невероятно сильным и долговечным. Это показывает один из самых странных и поразительных эпизодов его позднейшей жизни в Америке.[9] Однажды вечером в октябре 1981 года мне позвонил Иосиф и сказал, что хочет попробовать жениться! Иосиф был на какой-то важной политической конференции в Канаде и там, 48 часов назад, увидел женщину, точную копию Марины. Он был ошеломлен. Когда она шла к нему в отеле, он подумал, что это сон, – настолько сильным было впечатление реинкарнации. Оказалось, она журналистка, голландка, частично еврейка и хочет взять у него интервью для голландского радио. Он включил все свое обаяние, и, хотя кое в чем было несоответствие, он ее убедил. Я спросил его, сделал ли он предложение, и он ответил: “Я высказал идею. Она не была ужасно против”.
Но она уезжала обратно в Голландию, и он собирался за ней. “Это может произойти, а может – нет”, – сказал он. Он признался ей, почему она его так привлекла? Нет, не признался. Он только твердил: “Карл, ну не странно ли? Кажется, я немного сошел с ума”. Я мог только пожелать ему удачи и рекомендовать осторожность. Он поступал нерационально и понимал это. Он поехал за двойником Марины в Голландию, добился ее благосклонности, как говорили в старину, но столкнулся там с целым рядом мелких и не очень мелких кошмаров, начиная от отвратительных (в его понимании) левых взглядов в политике и искусстве и до прежнего и еще действующего любовника (детали вполне гармонировали с общим сюжетом). По прошествии недолгого времени стало понятно, что брак вряд ли состоится, но Иосифу очень не хотелось расстаться с этой мыслью, и вернулся он изнуренным и злым и, тем не менее, все еще очарованным. Думаю, скорее идеей с Мариной в сердцевине ее, чем реальностью.
Эта история показывает, какую невероятную власть имела над Иосифом даже идея Марины (и как он верил, что один человек может заместить другого). Это стоит иметь в виду всякому, кто возьмется анализировать его книги. Хотя это находится за пределами периода, который интересует меня в первую очередь, стоит вкратце рассказать, что случилось, когда мы опубликовали “Новые стансы к Августе” и один экземпляр книги добрался до Ленинграда. Как-то вечером Иосиф позвонил мне и заявил, что произошло нечто чрезвычайно важное. Он попросил меня угадать, от кого он сейчас получил подробный устный отзыв о своей книге. “От Бобышева”, – немедленно сказал я со смехом. “Близко”, – ответил он. “От Марины?” – недоверчиво спросил я и получил в ответ: “Именно”. Насколько я знал, они не говорили друг с другом уже очень долго – лишь однажды, несколько лет назад, он упомянул, что она предложила ему найти ей американца, за которого она могла бы выйти замуж, чтобы уехать из России. Это было удивительно и само по себе, но неудивительно, что из этого ничего не вышло. Как-то я спросил, что слышно по этому поводу, и он ответил, что, по словам одного приехавшего оттуда знакомого, Марина хранит многозначительное молчание – она сказала только, что Андрея заставили учить немецкий, язык, который Иосиф ненавидел больше любого другого. После этого в ответ на мои расспросы он чаще всего говорил, что нет, он сам ничего не знает, поскольку даже старые друзья, от которых он получал информацию, потеряли с ней связь. И тут вдруг она ему позвонила. Она очень спокойно и дружелюбно выразила свое мнение о его книге, сказав, что ей особенно понравилось, и отметив ошибки, которые он, по ее мнению, допустил. Беседа была долгой и, очевидно, вполне мирной. Полагаю, в истории мировой литературы было очень немного случаев, когда муза, особенно с таким трудным характером, внезапно материализовалась подобным образом, дабы вознаградить воспевшего ее поэта.
Мы с Эллендеей приехали в Россию сразу после Рождества 1970 года, планируя встретить вместе с Иосифом Новый год. Пока мы не виделись, в жизни и окружении Иосифа произошло немало перемен, и теперь мы знали его гораздо лучше. Он успел серьезно поссориться с Евгением Рейном – нам он только туманно сказал, что “не любит гедонистов” (его отношения с Рейном на протяжении многих лет были очень неровными, мы же относились к нему крайне отрицательно после того, как в 1977 году он украл у нас очень важную книгу Цветаевой) – и не переносил бывшую жену Рейна, которую называл жадюгой и карьеристкой. Она должна была прийти к нам на Новый год со своим новым мужем, литовским поэтом Томасом Венцловой, которым Иосиф горячо восхищался.
В один из дней перед праздником мы беседовали с Иосифом в его комнате, и в это время к нему пришел его хороший друг Ромас, физик из одной союзной республики, которому мы весьма симпатизировали. От нечего делать он принялся листать книги и открывать ящики и в какой-то момент выдвинул верхний ящик стола с инкрустациями из слоновой кости, изображающими антилоп и других животных. Он увидел маленькую рукопись и вынул ее. Прочел с ошарашенным видом и передал Эллендее, которая явно пришла в ужас, и наконец прочел я. Ромас забрал бумагу, сделал в ней какую-то поправку, и Иосиф резко сказал ему: “Не ты написал, а я. Я знаю эти дела”, – сказал он и добавил, что это сырой черновик и он провозится с ним еще два дня.
Письмо было адресовано Брежневу. Речь шла о вынесенном после суда над участниками “самолетного дела” смертном приговоре Эдуарду Кузнецову и его сообщнику Дымшицу. Письмо начиналось примерно так: “Как гражданин, как писатель и просто как человек…” Это было ходатайство об отмене смертного приговора. “Кровь – плохой строительный материал”, – писал Иосиф. Он сравнивал нынешнюю советскую власть с другими режимами, в том числе с нацистским и царским. Он проводил параллель между немцами и Советами в их антисемитской направленности. Он рассматривал это как государственную политику и сравнивал с царским режимом, установившим черту оседлости. Он писал, что народ достаточно натерпелся и незачем добавлять еще смертную казнь. Ясно было, что, если Иосиф отправит это письмо, он сильно рискует своей свободой. Размеры этого риска стали предметом яростного спора два дня спустя.
А пока что Ромас заспорил с Иосифом о чисто юридической стороне вопроса. Он сказал, что Иосиф ошибается, полагая, будто в Уголовном кодексе нет ничего о смертной казни только лишь за намерение совершить преступление, и зря пишет, что ни в одной стране намерение не приравнено к совершению преступления. Иосиф возражал и достал книжку Уголовного кодекса. Ромас несколько минут ее листал и наконец нашел раздел, доказывавший, что намерение приравнивается к деянию. Иосиф сдался. Ромас сказал, что так обстоит дело во всех странах, унаследовавших кодекс Наполеона (с любыми вариациями). Иосиф ответил, что обычно не читает Уголовный кодекс (тем более что в глазах власти это пустая формальность), но специально его достал, чтобы проверить. Это было характерно для него – отыскать неправильный вывод в требуемом источнике: настолько тверды его мнения относительно того, как должно все обстоять. Оба они, кажется, были согласны в том, что процесс возник из-за провокатора, поскольку обычно газеты сообщали что-то не раньше, чем после месяца проверок, а тут отрапортовали на следующий день. Они размышляли, кто из двоих, приговоренных к смерти, мог быть провокатором. Пишу об этом как о характерной черте советской психологии, а не как о факте, касающемся подсудимых.
Начиная с этого момента мы стали еще больше тревожиться за будущее Иосифа. Все, похоже, подтверждало впечатление, возникшее у нас уже при первой встрече: мы сразу поняли, что, если Иосиф останется в СССР, он рано или поздно окажется в тюрьме, подтвердив этим правоту тех его земляков, которые говорят, что кто однажды попробовал тюремной похлебки, тот будет есть ее снова.
К нашему громадному облегчению (хотя это не положило конца спорам), почти немедленно выяснилось, что советское правительство “великодушно” заменило смертный приговор тяжелейшими работами в лагерях. (Тогда никто и не догадывался, что результатом этого станут тюремные дневники Кузнецова, которые вывезет из страны жена Сахарова Елена Боннэр, и что в конце концов Кузнецова неожиданно вызовут и вместе с несколькими другими заключенными обменяют на российских шпионов, после чего он будет жить в Израиле.) Несмотря на напряженность, Новый год удался на славу. В первый раз нам довелось как следует рассмотреть “родительскую” часть квартиры Иосифа. Все приготовила его мать. Горела люстра в стиле Тиффани, стол украшали лучшая хозяйская посуда и столовое серебро, в нашем распоряжении были вино, шампанское, виски, джин и самые разнообразные закуски. Пришли Андрей Сергеев, Чертковы, Томас Венцлова и его жена Эра (с которой Иосиф был нарочито вежлив, поскольку недолюбливал ее за ее прошлое). Иосиф не мог говорить ни о чем, кроме своего одиночества и отсутствия прекрасной мисс Икс – почему мы не привели ее с собой? (Ответ состоял в том, что она не хотела связываться.) Позже мы с ним сильно расчувствовались, но Чертков превзошел нас обоих – он обнимал и целовал меня, и все это происходило в алкогольном тумане, рассеявшемся лишь тогда, когда Чертков опрометью кинулся в туалет и его вывернуло в унитаз.
Известие о том, что смертный приговор отменен и ему не надо отправлять письмо Брежневу, Иосиф принял с облегчением. Тем не менее мы вели пьяные споры о “жизни в клетке” и о том, что лучше – быть в клетке живым или мертвым (тут пришлась кстати “Малоун умирает”, которую Иосиф только что прочел и которая произвела на него чересчур сильное впечатление). Я сказал, что лет пять назад она и меня наверняка вогнала бы в депрессию, но теперь, когда в моей жизни появилась Эллендея, ничто не может произвести такой эффект. В 11.55 он поставил Баха, после чего мы слушали записи из Вудстока и “Abbey Road”. Мы налили себе “Матеус”, что было довольно необычно, и чокнулись за Новый год – Иосиф по-прежнему был без пары и очень выразительно сокрушался по этому поводу. Эллендея сдалась и позвонила мисс Икс. Иосиф поговорил с ней в шутливом тоне, но она отказалась прийти. Потом Иосиф отправился с нами в гостиницу, и позже мы звонили ей, когда она была уже у него. Так что в итоге его старания увенчались успехом и он получил полное право утверждать (хотя говорил это и раньше), что у него еще никогда не было такой замечательной встречи Нового года.
На 1 января 1971 года нас пригласили к Ромасу, где вновь собралась примерно та же компания: Чертков, Томас, Ромас и его очаровательная жена из Средней Азии. Они жили очень далеко от центра, и нам пришлось долго ехать на электричке, причем на часть пути Иосиф отказался брать билеты. Мы спросили, что он будет делать, если нас поймают, и он ответил: “Пущу в ход все свое красноречие, чтобы избежать штрафа”. Штраф составлял всего один рубль, но это все равно было плохо, признал он, поскольку он только что принял решение не врать целый год. Когда мы стояли между громыхающими вагонами, в холодном тамбуре с железными дверьми и маленькими заледеневшими окошками, Иосиф сказал: “Типичная для России картина – железные двери, мы их обожаем”.
Первая часть вечера прошла без инцидентов. Однако когда спиртное было выпито и мужчины собрались в спальне, физическая и метафизическая температура стала подниматься. Завязался серьезный разговор, и одной из основных его тем оказалось письмо Иосифа, которое уже не надо было отправлять. Стоило ли ему вообще его писать, и если бы он его отправил, к чему бы это привело? Иосиф сказал, что получил бы за него пятнадцать лет, Томас сказал, что восемь, а Чертков презрительно возразил, что не больше трех, а то и вовсе пожурили бы да отпустили. Иосифа это сильно задело. Он заявил, что даже одна казнь лишила бы его жизнь смысла. Ну и глупо, сказал Ромас. Принялись обсуждать, что лучше – поиск компромиссов или моральная непреклонность, причем Иосиф стоял за единичный честный выплеск абсолютного добра, каковым считал свое письмо. Заговорили о чести – было сказано, что само понятие чести появилось в СССР лишь в последнем десятилетии и до сих пор остается большой экзотикой. Когда Иосифа спросили, что он собирается делать, если не хочет предпринимать мелкие шаги ради улучшения ситуации в СССР а-ля Солженицын, он ответил: “Просто быть честным”.
Чертков сердито сказал, что его не трогают подобные письма и вообще вся так называемая либеральная интеллигенция. Иосиф поставил перед ним вопрос ребром. Если к тебе придут и скажут: “Мы собираемся убить двадцать пять человек – ты с нами или против нас?”, что ты ответишь – что тебя это не трогает? Откажешься принимать чью-то сторону, устранишься? Чертков сказал, что это глупый вопрос. Остальные поддержали Иосифа, согласившись, что это не чисто умозрительная проблема. Когда речь идет о справедливости, сказал Иосиф, ты должен быть за или против, а не воздерживаться. “Пусть я говно, но, с моей точки зрения, жизнь учит нас цинизму, – сказал Иосиф, прижав руки к груди. – И главное – не научиться ему”. “Ну и что ты с ними сделаешь?” – спросил Чертков. “Постараюсь быть честным”. Это напоминало солженицынское “жить не по лжи” и новогоднее решение самого Иосифа.
“На наших либералов жалко смотреть, – сказал Иосиф. – Коммунизм – это кот. Если ты теперь во имя справедливости не выступишь против него активно, он тебя просто съест, сожрет”. Поэтому, сказал он, чертковское безразличие ему не поможет: в конце концов он все равно окажется в пасти кота. Томас поддержал его. Коммунизм – это тоталитаризм; все выразили свое согласие с этой мыслью, не жалея голосовых связок (в какой-то миг Ромас даже тревожно показал на стены и предупредил остальных, что они тонкие). “Здесь вам не Чехословакия”, – сказал кто-то, и все рассмеялись. Чертков сказал, что даже самая худшая диктатура не может держаться вечно – большинства из них хватает максимум лет на двадцать. Иосиф спросил, действительно ли лучше быть мертвым, чем красным, и сам же ответил: “Да”. Все остальные сказали, что нет. Чертков сказал: если ты так уж этого хочешь, пойди возьми пулемет. Ладно, отозвался Иосиф, давай мне его хоть сейчас. Тоже глупо, язвительно сказал Чертков, почему бы в таком случае не сжечь себя на улице, как тот парень, Палах? Тогда хоть твой последний поступок будет что-то значить и окажется полезным. Или лучше убить кого-нибудь из власть имущих? “ Ты имеешь в виду отнять жизнь у другого человека?” – сердито спросил Иосиф.
Кто-то из остальных сказал, что есть разные виды коммунизма. Иосиф не согласился, возразив, что ему известен только один. “Я узнаю его, когда вижу, и лучше быть мертвым”. Чертков: “Зачем нагромождать одну нелепость на другую?” Иосиф: “Иногда нагромождением одной нелепости на другую можно добиться чего-то хорошего”. Чертков: “Искусство важнее; через пятьсот лет вся эта пропаганда и разоблачение зла покажутся читателям глупостями”. Иосиф сказал, что верно как раз противоположное: в искусстве важнее всего идеи. Чертков сказал, что нет, идеи убивают искусство. Иосиф: “А «не убий?»” Чертков: “Эта идея убила больше народу, чем любая другая”. Иосиф спросил, что он имеет в виду. Чертков ответил: “Инквизицию”. “Ну да, конечно, – сказал Иосиф. – Ты еще про крестовые походы вспомни”.
Не помню, как в эту дискуссию вкрались Вьетнам и движение “Власть черным”, но это случилось, и споры стали еще более неистовыми. Явно намекая на какие-то хорошо известные недавние дебаты, Чертков сказал Иосифу, что при его позиции по двум этим вопросам у него вообще нет права распространяться о справедливости. Иосиф возразил, что он просто шутил. Чертков сказал, что для шутки это слишком часто и упорно возникает в их разговорах. И было ясно, что Иосиф не воспринимал это как шутку ни тогда, ни потом. Полушутя Иосиф сказал, что если бы сейчас в комнату вошел негр, он бы его не убил. Однако раньше он цитировал заявление американских правых о том, что превратить Вьетнам в автостоянку было бы лучшим решением для этой страны. Он не соглашался с тем, что китайцы и вьетнамцы – враги от природы; он видел в этом конфликте прямое столкновение между силами добра (США) и зла (коммунизм в Китае и на юге).
Уже ближе к концу этого долгого, горячего, сердитого и принципиального спора, во время которого Иосиф с Чертковым порой буквально рычали друг на друга, Томас – как обычно, воплощение спокойствия и рассудительности – сказал во всеуслышание, что все это “студенческие разговоры”. Он очень хорошо сформулировал точку зрения обеих сторон. А потом, когда мы уезжали, он сказал мне: “Мы такие со времен декабристов, но они, в отличие от нас, отважились на большее”. Затем, когда мы были еще в прихожей, Иосиф сказал мне: “И все равно, справедливость важнее искусства, важнее всех пушкиных и набоковых. Новые пушкины и набоковы обязательно еще родятся, а вот справедливость можно будет найти не всегда”.
На этом дружба между Иосифом и Чертковым не прекратилась, но их отношения стали весьма натянутыми, и они, по всей видимости, еще долго не говорили ни о чем серьезном. Их спор был принципиальным, а мы нередко убеждались, что в России подобные разногласия могут положить конец даже настоящей дружбе. Итог мог быть разным, от полного молчания до решения никогда больше не видеться друг с другом, но мы заметили, что здесь такие ссоры происходят гораздо чаще, чем у нас на родине. В очередной раз нам дали понять, насколько слабо развита у русских идея терпимости и насколько мы, наивные и уверенные американцы, от них отличаемся. Для нас оставшиеся после беседы разногласия так же нормальны, как соль на столе, но для русских неразрешенные противоречия зачастую означают дальнейшее молчание в телефонной трубке и конец взаимной откровенности. На смену терпимости пришло презрение, и хрупкие контуры свободного общества грозили распасться. Русские не хотели согласиться с тем, что самое незначительное в человеке – это его взгляды.
Еще одной причиной частых размолвок Иосифа с друзьями было его хроническое неумение общаться с людьми в группе. Хотя это нельзя назвать правилом без исключений, Иосиф не проявлял – и не проявляет – себя с лучшей стороны, попадая в большие коллективы (выступления на публике не считаются). В пестрой компании он обыкновенно демонстрирует свои худшие качества – бестактность, задиристость и полное неуважение к чувствам и мнениям остальных; этому найдется множество свидетелей по всей Северной Америке. При этом близко сходиться с людьми Иосиф тоже всегда умел как никто. Один или в обществе двух-трех знакомых он обычно бывает очень хорош – спокоен, открыт и красноречив. Отчасти поэтому мы и подружились – в тот раз он был интеллектуально свободен, не стремился ни нападать, ни защищаться. Несомненно, своим успехом у женщин он частично обязан этой способности обращать все внимание собеседницы на что-нибудь одно, концентрируя и притягивая его как магнитом.
Описанное мною выше было, пожалуй, самым насыщенным и важным как в дни того нашего пребывания в России, так и во время других приездов. Как правило, мы продолжали обсуждать самые разнообразные проблемы, вызывающие взаимный интерес. Поскольку я работал над темой советских взглядов на американскую литературу (реальных, а не декларируемых печатно), это часто становилось предметом обсуждения везде, куда бы мы ни поехали, а в России частенько выходило за узкие литературные рамки. На заднем плане всегда смутно маячило сравнение Америки с Россией. И с самого начала, как я писал Демингу Брауну, нас сбивало с толку и раздражало обычное русское отношение к “истинным” американским ценностям в том смысле, в каком понимали их мы, либералы. Именно “либерально” настроенные русские, диссиденты, вынуждали нас отстаивать наше право быть против Вьетнамской войны с таким проамериканским пылом, что мы удивлялись сами себе.
Во время поездок в Россию я сотни раз задавал вопрос “Верите ли вы в абсолютную свободу слова?” и лишь однажды получил в ответ решительное и безоговорочное “да” – от переводчика Фицджеральда. Во всех остальных случаях мне отвечали утвердительно, но затем выдавали перечень оговорок и ограничений, подробно объясняя, почему эти исключения так необходимы для истинной свободы слова. Солженицын все еще занимается этим и сейчас.
По мнению Иосифа (высказанному около 1970 г.), главной особенностью американской литературы можно считать “жажду справедливости”: в ней подразумевается, что каждый человек ответствен за свое прошлое, настоящее и будущее и что он способен повлиять на ход вещей. Поэтому краеугольный камень нашей литературы – “Моби Дик”, его характеры и сюжетные линии просматриваются во всех остальных значительных произведениях, особенно у Фолкнера. В русской же литературе, особенно у Достоевского, главная идея – обретение покоя, а не действие. В отличие от американца, русский движется от сомнений к покою (я спросил: “То есть от Ставрогина к Зосиме?”, и он ответил, что да, вместе с Иовом). Для русских в их литературе важно православие, утверждающее, что беды происходят по Божьей воле, которая должна быть исполнена, и т. д.
Любимым американским писателем Иосифа был Фолкнер (то же самое можно сказать и о Довлатове, Алешковском, Соколове и многих других писателях примерно того же поколения – все они при этом любили Достоевского, кто больше, кто меньше). У Иосифа была особая причина любить Фолкнера, поскольку он часто получал информацию о нем от своих друзей. Некоторые из самых важных произведений Фолкнера переводил его хороший московский друг Мика Голышев. Хотя до конца пятидесятых Фолкнера в России не признавали, ко времени нашего с Иосифом знакомства он приобрел большую популярность – впервые вышли “Свет в августе” и другие романы, оказавшие огромное влияние на многих писателей. Надо заметить, что Иосиф не слишком любил читать длинные прозаические произведения в оригинале, по-английски, а потому во многом полагался на переводы, как в пору своего пребывания в России, так и (насколько это было возможно) в первое время после отъезда. Чаще всего он таскал из нашей библиотеки именно номера журнала “Иностранная литература”.
Как и на многих наших друзей в России, на Иосифа произвел большое впечатление выход в свет “Всей королевской рати” Роберта Пенна Уоррена в переводе Голышева. Иосиф утверждал, что эта книга произвела революцию в современной русскоязычной прозе, что она представляет собой нечто совершенно новое для советской литературы. По его словам, ее трудно было переложить на язык современной прозы, и Голышеву пришлось изобрести свои приемы и выражения. Я спросил, что он имеет в виду – не то же ли самое, о чем говорил Пушкин по отношению к сделанному Вяземским переводу “Адольфа” Констана? Ну да, сказал Иосиф, только тут есть разница: в этот раз надо было не столько восполнить пробелы в своем языке, сколько отобразить истинную современность. Почти то же самое он говорил о стихах Фроста в переводах Сергеева: что это не просто переводы, а строительство целого нового мироощущения, нового сознания для советского читателя (“хотя и со слабыми рифмами”). Пусть о справедливости (и даже смысле) этих высказываний судят другие; нам же с Эллендеей казалось, что причины восторга, вызванного “Всей королевской ратью”, следует искать скорее в политике, чем в языке. Русские немедленно увидели параллель между лицемерием их собственных властей и опасностями, которые кроются в стремлении бороться за победу какой бы то ни было идеи. Всех поразило то, что этот роман пропустила цензура.
Примерно в то же время Иосиф открыл и Кавафиса – его книгу он держал у своей кровати вместе с Уорреном. Очевидно, первым ему привез Кавафиса Тео Ставру. Классические аллюзии, Александрия и так далее отвечали тяге Иосифа к традиции (гомосексуальные мотивы тут ни при чем, ибо Иосиф был решительно гетеросексуален и оставался таким даже позднее, в Англии и Америке, где его нередко пытались соблазнить окружающие поэты, что его чрезвычайно забавляло).
Что касается популярной культуры, то и здесь он был настроен очень проамерикански. Говорил, что “Самый длинный день” – лучший из всех фильмов, которые он видел (конечно, на закрытом просмотре). Идея Сопротивления была важна для него и его сверстников – в Советском Союзе так редко поднималась тема сопротивления злу, что русские очень ценили ее в иностранных фильмах. По той же причине он и многие другие обожали вестерны: ведь в них торжествовала так называемая “мгновенная справедливость”.
В области русской литературы ХХ века фигурой, важной для Иосифа во многих отношениях, была Анна Ахматова. Она связывала его с истинной русской культурой прошлого и была в конечном счете его учительницей – она посвятила его в поэты, назвала связующим звеном с новым поколением, и так далее. Он рассказал, что впервые они встретились 6 августа 1962 года. Тогда он еще не читал практически никаких ее стихов (их познакомил общий друг). Однако она читала написанное им и сказала, что не понимает, как человеку, пишущему такие стихи, может нравиться ее творчество. Он уклонился от постыдного признания. К следующей их встрече он уже исправился, и “на сей раз все прошло как положено”. Впрочем, я не уверен, что он действительно так уж любил ее стихи… Вскоре Иосиф стал одним из “ахматовских мальчиков” – это время он вспоминает с большой гордостью. Подарок Ахматовой, ее книга с надписью (примерно) “Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне прелестными”[10], стала одним из краеугольных камней, на которых зиждется его репутация. Роль таких моментов в построении карьеры трудно переоценить. В биографии многих поэтов бывают подобные события, которые впоследствии выглядят как передача факела – вспомните посвящение Жуковского Пушкину после выхода “Руслана и Людмилы”. Гораздо позже, в Америке, Иосиф признался мне, нескромно пожав плечами: “В конце концов, мы были элитой”. Думаю, для него это было очень важно, особенно с учетом всех перенесенных им страданий, и это страстное желание принадлежать к элите осталось с ним навсегда.
Еще я спрашивал Иосифа о поэтах, писавших прозу, особенно романы. Он не разделял мнения, что русские одинаково талантливы в обеих областях, то есть не считал Белого хорошим поэтом, а Пушкина – хорошим прозаиком (оставляя в стороне “Капитанскую дочку”). Впрочем, для Лермонтова он делал решительное исключение. По его словам, поэты хотят поспеть сразу везде, поэтому и берутся за романы. Стоит им выработать свой поэтический стиль, как у них появляется желание перейти к прозе. Поскольку мы говорили обо всех подряд, я спросил и о Чехове. Иосиф сказал, что для него он абсолютно ничего не значит.
Мы сказали Иосифу, что посетили вечер Беллы Ахмадулиной. Он страшно помрачнел – было очевидно, что он крайне невысокого мнения о нашем вкусе и что его снедает профессиональная ревность. “Кто дал вам билеты?” Мы ответили, что Копелевы. “Ну и зачем было туда ходить?” Потом он пробормотал в адрес Копелевых что-то оскорбительное и отвернулся с саркастическим “поздравляю”. Мы никогда не слышали от него ничего хорошего ни о ней, ни о ее стихах, и в 1977-м, когда в “Воге” появилась его хвалебная статья, это нас крайне изумило. Мы слышали, что, встретившись с ней в Нью-Йорке, он держался чрезвычайно любезно.
Копелевы служили для Иосифа источником постоянного раздражения. Он считал их глупыми либералами, и хотя обычно обходил эту тему молчанием, по крайней мере однажды спросил, есть ли у нас хоть слабое представление о том, какую роль сыграла Раиса в литературе республик. Поскольку в откровенных мемуарах Раисы изложена вся печальная история той поры, когда она искренне верила в правоту коммунизма, здесь нет нужды что-либо объяснять. Позже мы узнали еще и о его долгом споре со Львом насчет превосходства англосаксонской культуры, особенно поэзии, над всеми прочими культурами, в первую очередь немецкой, которую Иосиф почти ни во что не ставил (хотя и признавал, что “неповторимо” в конце его стихотворения “Зимним вечером в Ялте” – парафраз “Фауста”). Очевидно, спор с Копелевым возник в связи со стихотворением Иосифа “Два часа в резервуаре”, пересыпанном немецкими словами. Лев – очень внушительная личность и большой эрудит, и он заставил Иосифа вместе с его другом Сергеевым уйти в оборону. Разумеется, была здесь и доля ревности. Копелев – энергичный активист, у него множество друзей, он провел долгое время в заключении и имел репутацию, которую трудно было подкосить вне зависимости от того, разделяли вы его взгляды или нет.
Как правило, по отношению к бывшим сталинистам и убежденным левым Иосиф был неумолим.
Еще с малолетства он знал по собственному опыту, что все, во что они верили, – огромная ложь, которая привела к порабощению его родины, и полагал, что любой разумный человек должен понять это с самого начала. Он никогда не пытался представить себе, что было бы с ним самим, если бы он родился раньше и прошел через все, выпавшее на долю Копелевых. К членам партии он не питал практически никакого сочувствия. Мне до сих пор кажется, что точку зрения Иосифа можно понять, однако великодушия в ней было мало.
Хотя сам я не видел в этом ничего оригинального, Иосиф сказал, что лучший вопрос, который он слышал от иностранца, – это почему поэты, особенно русские, так любят тему сумасшествия. Сумасшествие, ответил он, равняется анархии. Нельзя карать юродивых (Божьих шутов), сказал он, хотя теперь их уже нет и мы больше не верим, что их устами глаголет Бог. Все равно безумцев наказывать нельзя. Он рассказывал о разных случаях из поры своего пребывания в сумасшедшем доме, где, по его словам, он узнал много интересного. Многие там притворялись или преувеличивали свое безумие. Один из них, которого потом признали здоровым, был жестоко избит санитарами за то, что сунул тарелку с кашей в лицо их товарищу. Других, настоящих больных, тоже избивали и загоняли под холодный душ. То, что самому Иосифу прописывали болезненные уколы, теперь уже общеизвестно.
Весь остаток 1971 года после того новогоднего визита нам приходилось довольствоваться не слишком вдохновенной перепиской. Иосиф никогда не отличался особым талантом в эпистолярном жанре, да и мои письма к нему были по большей части продиктованы стремлением поддержать контакт, заверить его в нашей неизменной симпатии и развлечь шутками, каламбурами и стишками вроде тех, какими мы баловались вместе на досуге. Мы сообщали ему о том, что касалось наших совместных издательских планов, и говорили про общих друзей, к примеру:
А если серьезно, Джордж [Клайн], Э. и я долго и с любовью говорили о тебе. Он показывал твои фотографии – одна, на фоне северного леса, вызвала у Э. слезы, а у меня злость… В письме ты говоришь о недавнем унынии. Ты должен убить “Малоун умирает”. Не могу посоветовать, каким именно оружием, но надо, вообще человеку надо. Если ты можешь отослать от себя часть уныния в письмах, шли нам. Мы вынесем, потому что радостей у нас больше, чем мы заслуживаем.
Этот отрывок моего письма ему сентиментальнее обычного, но причина, очевидно, в тогдашних настроениях Иосифа. Мой черновик не датирован, но письма Иосифа от 24 июня и 6 ноября 1971 г. дают представление о нашей переписке в том году.
[Поскольку правопреемники Бродского дали разрешение лишь на публикацию отрывка из этого письма (которое местами весьма трудно понять, ибо Бродский пишет по-английски смело, но порой очень неправильно), я вкратце изложу его содержание: Иосиф сообщает, что у него взяли анализы крови, соглашается с замечанием Карла относительно строчки, выброшенной из “Горбунова и Горчакова”, говорит нам, у кого в Англии можно взять фотографии Ахматовой; сочиняет неуклюжий, но забавный лимерик; пишет, что не будет сниматься в кино; что завел себе кота, назвал его Иосифом, а затем обнаружил, что это кошка; он заканчивает письмо признанием, что у него депрессия. Вот свидетельство этой депрессии:
Заканчивая это письмо, я снова чувствую грусть… Как бы там ни было, хочу сказать, чтобы вы помнили всегда, так как вижу, что буду все реже и реже пользоваться этим словом: я, правда, люблю вас, всем сердцем, всей душой и всем, что еще осталось от ума… Потому что на ваших лицах написано больше, чем можно написать на бумаге. Простите. Примечание Эллендеи Проффер Тисли]
В эту пору началась еврейская эмиграция из Советского Союза в Израиль, но хотя Иосиф и был евреем, он считал себя русским. Это казалось нам совершенно естественным, поскольку было справедливо почти для всех, кого мы знали, начиная с Надежды Мандельштам. Для нас Иосиф и все остальные были просто русскими – это была их культура, их язык, и нелепая графа в советском паспорте, определяющая их как евреев по национальности, всегда казалась нам дикой и не имеющей никакого отношения к реальной жизни. Эти люди вспоминали, что они евреи, только когда сталкивались с антисемитизмом. И в литературном, и в религиозном смысле взгляды Иосифа формировались в основном под влиянием христианских источников.
В любом случае Иосиф не хотел уезжать из страны как еврей. Это было не для него, а то, что он уже заслужил известность как поэт, лишь усугубляло его неохоту двигаться по этому пути. В начале семидесятых вообще очень бурно обсуждалась проблема этичности эмиграции. К 1972 году и в самиздате, и чуть ли не на каждой кухне в крупных городах успели как следует поспорить о том, хорошо ли это – покидать родину. Иосиф не имел твердого мнения на этот счет, но то, как ты уезжаешь, было важно.
31 декабря 1971 года Иосиф получил официальное приглашение от якобы проживающего в Реховоте “Иври Иакова”, дающее ему разрешение на въезд за № 22894/71. Но он не воспользовался этим приглашением и не стал одним из многих тысяч евреев, уехавших из России на Запад в 1971 году.
В апреле-мае 1972 года (как раз перед визитом Ричарда Никсона, во время которого разрядка напряженности между нашими странами получила окончательное оформление) мы с Эллендеей совершили важную поездку в СССР, занявшую целый месяц. Благодаря этому мы оказались в Ленинграде как раз в самые важные для Иосифа дни, и решения, принятые тогда, повлияли на наши судьбы на много лет вперед.
Непосредственно перед тем, как мы появились в Москве (это случилось 26 апреля), впервые в сопровождении трех моих сыновей, Эндрю, Кристофера и Иэна, произошло несколько важных событий. В октябре Сахаров сделал публичное заявление, суть которого сводилась к призыву дать гражданам право на эмиграцию. В самом конце предыдущего года умер Твардовский, и появление Солженицына на его похоронах наделало много шуму. В январе судили Буковского, и в следующие месяцы по стране прокатилась волна обысков и арестов – это были согласованные действия властей, решивших убрать с дороги всех потенциальных возмутителей спокойствия. Одних арестовали, других призвали в армию, а кому-то заплатили и велели на время приезда Никсона убраться подальше из Москвы и Ленинграда. Я и по сей день считаю, что случившееся с Иосифом объясняется этой чисткой перед никсоновским визитом. Если уж ленинградские власти могли ради Никсона в один присест заасфальтировать заново чуть ли не весь Невский проспект, то избавиться от нескольких “паразитов”, состоящих в контакте с иностранцами, было для них и вовсе плевым делом.
Мы прибыли в Ленинград 9 мая. Наш поезд пришел в восемь вечера, и встречаться с Иосифом было уже поздно. Однако на следующее же утро мы явились к нему, и произошли сразу два важных события: об одном он нам рассказал, а другим был телефонный звонок, прервавший нашу беседу. Сначала он заявил нам, что вот-вот женится на Y., студентке-американке, приехавшей в СССР по обмену. Мы спросили, любит ли он ее. Да нет, это будет фиктивный брак – когда он выберется отсюда, они будут просто друзьями и выполнят лишь то, чего требует закон, чтобы ему остаться в США. Кажется, посреди этого разговора и зазвонил телефон. Мы не могли определить, с кем говорит Иосиф, но трубку он повесил с ошеломленным видом. Это было приглашение от КГБ, то есть из ОВИРа, объяснил он; его вежливо спросили, найдется ли у него время на то, чтобы зайти к ним поговорить сегодня после обеда. Что это значит? Связано ли это с чисткой перед визитом Никсона? А может, с приглашением из Израиля? Или тут пахнет чем-то гораздо более зловещим? Иосиф растерянно повторял: “Так не бывает”. Он предложил нам заглянуть к нему вечером, чтобы узнать, чем кончится дело. Мы вместе пошли на автобусную остановку, продолжая по дороге обсуждать его затею с мисс Y. По случайности мы были с ней немного знакомы и считали, что она совершенно не годится Иосифу в невесты. Откуда он знает, спросили мы, что, выйдя за него замуж, она действительно будет считать этот брак фиктивным и после отпустит его на свободу? Да, согласился он, может и не отпустить. Мы полагали, что вероятность такого исхода весьма высока. Если уж он хочет выбраться из России таким способом, у нас есть другие знакомые американки, более подходящие и для него самого, и для фиктивного брака. Хотя мы скрывали это от Иосифа, его замысел нас чрезвычайно расстроил: мы были уверены, что он приведет к катастрофе. Однако мы опасались, что, если будем чересчур напирать, он решит, что должен настоять на своем. В любом случае было ясно, что, в отличие от его британской подруги Фейт Уигзелл, эта девица ни в коей мере не является горячо любимой дамой сердца и ипостасью поэтической музы.
Когда мы встретились снова, Иосиф был весьма озабочен. “Что мне теперь делать?” – спросил он, когда мы сидели в его комнате (наши фотографии с ним и детьми сделаны в этот день). Все просто, сказал я, будете поэтом при Мичиганском университете. Я понятия не имел, как этого добиться, но решил, что надо поддержать в нем уверенность. Даже Эллендея глядела недоверчиво; она знала то, чего не знал он, – даже на нашем отделении, может быть, только двое-трое прочли стихотворение Бродского, и как они отнесутся к тому, чтобы он стал их коллегой, предугадать было невозможно. Так или иначе, Иосиф все равно был обеспокоен предстоящим и, опасаясь, что комната прослушивается, предложил пройтись.
И вот мы – Иосиф, Эллендея, Эндрю, Кристофер, Иэн и я – отправились на долгую утомительную прогулку от дома Иосифа, через Неву, к Петропавловской крепости, прославленной пушкинским описанием в “Медном всаднике”, а еще тем, что служила тюрьмой для русских писателей (Достоевского, Чернышевского, Рылеева, Кюхельбекера и Горького – если упомянуть хотя бы немногих). Конечно, Ленинград не в первый раз видел фрисби, но все равно, наверное, было странно наблюдать, как столько людей перебрасываются этой штуковиной в разных местах города и внутри крепости, неподалеку от великолепного собора, где похоронены цари начиная с Петра Великого и до Александра III. На нас обращают внимание, а Иосиф, быстро меняя позиции вдогонку за улетающей тарелочкой, проверяет, нет ли хвоста. В конце концов он проводил нас через внутренность тюрьмы на крышу крепости. Мы перебрались через стены и по ветхой крыше к угловому бастиону, где, по словам Иосифа, он провел много часов. Отсюда можно было смотреть на загоравших под стеной у Невы и можно было разговаривать, не опасаясь чужих ушей.
В этом странном месте мы обсудили все проблемы, которые могли возникнуть в ближайшие несколько недель. Десять дней, которые первоначально обещали Иосифу в ОВИРе, растянулись на месяц. Его собирались выпустить в первую неделю июня (после отъезда Никсона), и это делало предложение ОВИРа более подозрительным. Тем не менее мы исходили из того, что оно реально, а потому поговорили о том, что мне надо будет сделать, когда вернемся в Энн-Арбор, и как мы сможем обсуждать результаты по телефону (придумали кодовые слова для ключевых понятий). Эллендея и я пообещали, что с того момента, когда он прибудет в Вену, о нем позаботятся – по всей вероятности, я сам прилечу в Вену, чтобы его встретить. Если повезет, меня официально откомандирует университет, но если нет, я все равно прилечу. Формальности, наверное, будут сложными (насколько долгую и гнусную волокиту устроят наши бюрократы, мы себе тоже не представляли). Мы размышляли о его будущем: тогда да и потом я говорил, что в первый год или два особых проблем не возникнет, бояться русской знаменитости надо того, что будет после, когда притупится новизна, уляжется шум и забудутся его расхождения с властью.
15 мая мы вернулись в Москву ночным поездом, и Иосиф прибыл как раз вовремя для того, чтобы проводить нас и в последний раз сверить наши коды и запланированные звонки (как мы узнали 17-го, в ОВИРе Иосифу сказали, что его виза на выезд будет готова через неделю). Как обычно, при отлете из Шереметьева мы испытывали странную, почти невыносимую смесь печали (за себя и наших друзей) и радостного облегчения (поскольку эти пулеметы оставались позади). Такие моменты всегда были воплощением нашей связи с СССР, в которой сочетались любовь и ненависть. Вместе с нами летела футбольная команда из какой-то европейской страны, так что ответом на стандартное довольно ироническое сообщение из кабины пилота “Сейчас мы покидаем территорию Советского Союза” было более громкое “ура”, чем обычно. Мы не знали, что в тот самый день Иосифу дали выездную визу. Как только мы добрались домой, я немедленно стал убеждать руководителей Мичиганского университета, что они должны принять на работу “приглашенного поэта” из России. Я не знал, что в последний раз это случилось примерно тридцать лет назад и что предшественниками Иосифа были Роберт Фрост и У. Х. Оден.
В аэропорт в Вене я приехал заранее и проверил все выходы, смутно воображая какую-то провокацию со стороны КГБ и желая быть к ней готовым. Прилетающие пассажиры и их багаж отделены от залов ожидания, банков, магазинов и такси высокой стеклянной стеной. Но когда подошло время прибытия рейса из Будапешта, я залез на крышу и подошел к самому ее краю, чтобы лучше видеть большие автобусы, везущие пассажиров из самолетов, совершивших посадку. Было воскресенье, 4 июня, и самолет сел более или менее вовремя, в 5.35. Когда автобус подъехал к зданию, я увидел Иосифа за окном, и он меня увидел. Он показал два пальца буквой V. Внизу произошла десятиминутная задержка – затерялся один из двух его чемоданов – первое из механических препятствий, тормозивших наши дела в последующие дни. Появился Иосиф, мы обнялись. Оказалось, что его встречала еще Элизабет Маркштейн с мужем – венка, имевшая прочные связи с Россией. Я сел с ним в такси, в пути он нервно повторял одну и ту же фразу: “Странно, никаких чувств, ничего…” – немножко как сумасшедший у Гоголя. Изобилие вывесок, говорил он, заставляет крутить головой, его удивляло разнообразие марок машин. Он говорил: так много всего открывается взгляду, что он не успевает видеть (это он повторял несколько дней). И сказал, что сразу почувствовал в Будапеште, что воздух другой. А теперь оказалось, что и в Вене другой. Мы подъехали к скромному отелю “Бельвью”, ему понравилось название – оно ассоциировалось с Цветаевой. Мы прожили там несколько дней.
Наши венские хозяева были озадачены. Конечно, они многое повидали в этом городе, но в “Бельвью” нечасто снимали номер двое мужчин – один с американским паспортом, а второй с какими-то странными, невразумительными русскими документами. С учетом того, как трудно было Иосифу справиться с обилием и разнообразием новых впечатлений, хорошо, что я не выбрал более изысканное место. Это была маленькая, чистая, уютная привокзальная гостиница с маленьким рестораном. И все равно Иосифа приятно удивляли самые обычные мелочи, от кусков мыла до качества подушек.
Как только мы вошли, он позвонил родителям и разговаривал с ними, наверное, полчаса. Рассказал мне немного об отъезде из Ленинграда, его провожали человек сорок. Документы обошлись ему в тысячу долларов, половина – истинно русский выверт – за лишение советского гражданства! После таможенного обыска в Шереметьеве ему разрешили вывезти 104 доллара. Обыск продолжался часа два. Прощупали каждый шов, проверили по всей длине ленту в пишущей машинке, сломав при этом прижимную планку (эту старую машинку, как выяснилось, подарила ему Фрида Вигдорова). Он кричал на них; они отвечали, что имеют право; тогда, сказал он, пусть обзаведутся инструментами, чтобы этим заниматься. Они забрали его стихи, но он оттягивал отъезд сколько мог, чтобы отпечатать копии и сделать микрофильмы, а потом отослать, как он сказал, с корреспондентом “Таймс”. (Позже Иосиф говорил, что они отправились за границу на самолете Никсона, но это, возможно, одна из тех изящных легенд, которые он не совсем бессознательно породил. Теперь, по прочтении солженицынской истории его изгнания и отлета, явной мистификации, я отношусь к подобным деталям с большим подозрением.) Мы не знали тогда, сколько неприятностей причинит собирание и хранение его стихов людям в Ленинграде: Марамзину, Хейфецу, Эткинду – называю тех, кто пострадал.
В первый же вечер мы посетили Маркштейнов. В то время я не знал о ее коммунистическом прошлом и ее дружбе с Копелевыми. С Маркштейном Иосиф обсуждал свое “прощальное” письмо Брежневу, о котором мне мало рассказывал. Сказал, что в нем содержатся те же идеи, что в неотправленном письме о смертном приговоре Кузнецову. Идея была такая: мы оба когда-нибудь умрем, вы и я. Это будет для него новой мыслью, сказал Иосиф. Настало время, когда сильный не всегда побеждает слабого, писал он и просил, чтобы его имя осталось в литературе и чтобы его родители получили те приблизительно тысячу рублей, которые причитаются ему за переводы. Подчеркиваю: я сообщаю здесь то, что он сказал мне тогда и что я записал в дневнике. Целый текст я так и не прочел и сейчас не проверял, точно ли так у него было написано. Важно то, чтó он рассказал о письме тогда, и то, что он думал. Маркштейн сказал, что он должен опубликовать письмо, но Иосиф ответил: “Нет, это касается только Брежнева и меня”. Маркштейн спросил: “А если опубликуете, оно уже не Брежневу?” Иосиф сказал: да, именно так.
Маркштейны были очень любезны и предложили, чтобы их молодые дочери показали нам Вену. Но по большей части мы были одни и, поскольку впервые могли долго побыть наедине, о многом разговаривали, особенно ночью. Здесь я попытаюсь просто пересказать мысли Иосифа, какими они были сразу после его отъезда из России, и обрисовать то первое впечатление, которое он произвел на меня, впервые очутившись на Западе. Мичиганский университет уже дал обещание позаботиться о нем в ближайшем будущем, и это было важно, однако не отменяло необходимости одолеть все обычные барьеры, препятствующие его въезду в Соединенные Штаты.
Иосиф никак не мог привыкнуть к странностям нового мира – они еще долго не переставали его удивлять и потом, в Америке. Он часто крутил пальцем у виска, как бы показывая, что сходит с ума. “Мне кажется, что я умер, – говорил он. – Жизнь – это борьба не хорошего с плохим, а плохого с худшим”. Изобилие товаров в витринах магазинов на главной торговой улице неизменно вызывало у него растерянность. Он заметил, что в Советском Союзе дистанции между предметами больше, поэтому глазу легче воспринимать окружающее. А здесь у него болела голова. Не мог он привыкнуть и к тому, что пешеходы дисциплинированно останавливаются на красный свет, и упорно перебегал дорогу перед едущими машинами. Еще он заметил, что все “одеваются одинаково и даже выглядят одинаково” – он не мог сказать с первого взгляда, кто перед ним (а в России мог). Он постоянно жаловался, что “не успевает видеть”. Вокруг был слишком большой выбор, его избыток. (В этом он походил практически на всех наших знакомых русских, выехавших из своей страны, и многие бесцеремонно заявляли, что мы живем аморально: зачем тратить силы на производство пяти видов зубной пасты, и т. д.) Когда Иосифу становилось совсем невмоготу, он переходил с английского, на котором я нарочно заставлял его говорить ради тренировки, на русский, чтобы отдохнуть и подзарядить батарейки. “Для терапии”, – объяснял он, или чтобы не терять головы, как мы научились говорить в шестидесятые.
Ночью он спал с раскрытыми окнами, невзирая на громкий шум за окном. Еще мы обсуждали дневные впечатления и то, как они соотносятся с его прошлым в России. “Русские не имеют возможности выбирать”, – сказал он. Единственное, что выбирает интеллектуал в самом начале, – это институт, в который он хочет поступить. После этого остаток его жизни и карьеры оказывается в основном предопределен. Он выбирает институт, учится там, отвечает на вопросы, понимая, что говорит неправду, и его сознание портится навсегда (“в него подмешивают говна”). Ему известны лишь редкие исключения, сказал он, – единицы прошли через это и уцелели, как Сергеев. Но для всех прочих примерно после двадцати пяти единственной областью, где можно выбирать, остаются любовные дела, и именно поэтому практически все наши знакомые разводились как минимум однажды. Еще до своего отъезда из России Иосиф как-то сказал нам, что ему стоит уехать хотя бы по одной причине: если он останется, вся его жизнь до конца будет предсказуема. Иосиф любил преодолевать трудности, а эмиграция поставила перед ним такие сложные задачи, с какими ему еще не приходилось сталкиваться.
В России он не только мог распознать человека по первому взгляду, но, по его словам, обычно еще и проникался к людям неприязнью, “потому что обычно я понимал, кто передо мной стоит”. Но потом, добавлял он, его охватывало чувство вины и жалости к ним, и он старался помалкивать. Короче говоря, он не хотел, чтобы его поймали на дурных мыслях. Ради этого он был готов пойти едва ли не на что угодно (в дальнейшем это осталось одной из его главных черт). Одним из примеров, который он назвал, были те, кто приводил к нему безобразных поэтов с гнилыми зубами, явно сумасшедших. А когда я сказал, что устыдился своей мстительности после того, как пожелал смертной казни Серхану Серхану, он ответил, что нет, это не было низким чувством.
Благодаря этому и другим высказываниям Иосифа у меня сложилось твердое убеждение, что по характеру он одиночка, этакий одинокий волк, хотя у него была уйма друзей и знакомых. К примеру, он не принимал участия в борьбе за права человека и гражданские права, он вообще был противником чуть ли не всех и каждого. Те, кто, подобно Литвинову, сознательно шел в тюрьму, дабы сделать из себя мученика, вызывали у него презрение и негодование. Эти люди, говорил он, знают, за что садятся, знают, чем жертвуют. Больше всего, добавлял Иосиф, его бесит привычное (и полное) отсутствие справедливости для обыкновенных людей. В России нет совершенно никакого понятия о законе и порядке на любом уровне. Вердикт за все уголовные преступления выносится заранее, и начальников почти никогда не осуждают. Так что он приберегал свое сочувствие для обычных людей вроде того старика, которого встретил на этапе, – человека, который ударил председателя колхоза и получил за это шесть лет. Примерно по тем же причинам он терпеть не мог московских интеллектуалов “аэропортовского” типа (по названию станции метро, в районе которой они жили) и их дискуссий об идеях и влиянии этих идей на народ. Там живут люди вроде Межирова – круглый дурак, говорил он, и к тому же никакой поэт. В сочинениях советских поэтов, всех без исключения, отсутствует духовный пласт. Говоря о себе как об изгнаннике, Иосиф ничтоже сумняшеся перефразировал знаменитые слова Томаса Манна: “Где я, там и русская литература”.
Изгнание стало для Иосифа потрясением, вызвавшим реакцию – гнев. Почти всех он называл “блядьми” и “кусками говна”, особенно Евтушенко и Вознесенского. Его избрание в Баварскую академию изящных искусств, газеты, телевидение – все это было говно и неважно. В своей работе человек не должен зависеть от других, говорил Иосиф; надо быть независимым, как он. Позже его отношение к почестям и зависимостям претерпело существенный сдвиг. Он весьма гордился своими разнообразными научными и поэтическими титулами и знаками признания, от членства в “Фи-Бета-Каппа” Мичиганского университета и почетной докторской степени в Йеле (ее организовал Строуб Талботт) до стипендии Макартура и членства в Обществе Гуггенхайма. По меньшей мере дважды – один раз речь шла о журнале “Вог”, другой раз о “Вэнити фэйр” – он хвастался мне размерами своего гонорара, не замечая того, что обе статьи (о поэтессах) чрезвычайно слабы.
Мы обсуждали мнение, высказанное мной во введении в “Советскую критику американской литературы”: главным, что бросилось мне в глаза, когда я переводил русские статьи, были отсутствие логики, неспособность к связному изложению и неумение удержаться в рамках заданной темы. Иосиф согласился, добавив, что русские критики ведут себя как дети – отчасти это наследие советской газетной риторики. Пафос сам по себе приятен, и они с удовольствием в него погружаются. Русскому человеку, сказал он, свойственно верить в то, что его взгляды истинны (особенно это верно для нынешнего поколения интеллигентов, ибо они действительно пришли к некоторым элементарным идеям самостоятельно), и он готов сражаться за них не на жизнь, а на смерть. Русские критики не терпят амбивалентности. В каждом предисловии к каждой книге они отходят от своей темы и принимаются объяснять, на чем стоит мир.
Но он отдыхал душой на классиках – как-то вечером (9 июня) он читал Tristia Мандельштама (один из ардисовских экземпляров, привезенных мной для местных славистов) и не переставая им восхищался. Позже, когда я уезжал, он попросил меня оставить очень разные книги – “Счастливую проститутку” (потом он сказал, что она “забавная”) и “Женщину французского лейтенанта” (которую, я уверен, он так и не прочел ни тогда, ни потом).
Я впервые получил возможность показать Запад одному из своих русских друзей, так что по вечерам, когда заканчивались наши ежедневные баталии, связанные с добыванием визы, я с удовольствием шокировал Иосифа роскошью и пороками прогнившего Запада. Для изучения кулинарных изысков я повел его в отчаянно дорогой ресторан отеля “Бристоль”; чтобы описать поведение Иосифа от вырезки до бренди, не хватит даже известной метафоры “слон в посудной лавке”. Один вечер был посвящен “порно-киноконцерту”, настолько грубому, насколько только может быть грубой поддельная любовь. В другой раз мы отправились на вечернее представление в “Мулен Руж”. Поскольку я уже бывал там лет десять назад, а такие вещи никогда не меняются, я взял столик в главном зале очень близко к выступающим – мимам, фокусникам, акробатам и т. д. Мой замысел сработал блестяще: Иосиф оказался ближе всех к сцене, и фокусник принялся доставать из его куртки и ушей всякие штуковины, включая цыплят, к вящему его изумлению. Он и на следующий день все пытался сообразить, как же это возможно. Акробаты тоже вовлекли его в действие – вытащили на эстраду и заставили сделать стойку на руках на головах двоих из них, а потом один сделал такую стойку у Иосифа на коленях.
Еще мы купили ему сандалии, вельветовые брюки и синюю рубашку с коротким рукавом, что совершенно его осчастливило. Я не записал, в каком хронологическом отношении это находится к фантазии, спонтанно возникшей у него во время нашей прогулки: он хотел покорить всех женщин на улице сию же минуту. Они все должны быть голыми, шутил он; зачем люди вообще носят одежду, тем более если вокруг столько высоких девушек? В Вене Иосиф не мог пройти мимо нищего, не дав ему что-нибудь. Он сказал, что так всегда было и раньше, даже в России. Ни тогда, ни потом мы с ним особенно не обсуждали богословские темы, но для тех, кто интересуется, христианином он был или иудеем, сообщу: он сказал, что Бог ни плох, ни хорош, и повторил вслед за Ахматовой, что христианство на Руси еще даже не проповедано.
Если не считать приключений, связанных с визой, единственными важными событиями в пору нашего совместного пребывания в Вене были наши визиты к Одену. Во вторник я взял напрокат “фольксваген” (весь процесс аренды автомобиля был для Иосифа чудом, так же как и лицезрение меня за рулем, особенно в чужой стране). Мы поехали по автобану в Кирхштеттен, чтобы найти Одена. По дороге мы заплутали и чуть не свалились в лесное ущелье, но потом все-таки отыскали дом Одена – пустой. Мы подождали и наконец увидели, как через поле со стороны железнодорожной станции неторопливо шагает пожилой человек.
Подойдя к Одену, я увидел на его лице испуг – ясно, что немало охотников до знаменитостей осаждало его в жизни, даже в этом отдаленном убежище. Отгоняя меня взмахом ладони, он сказал: “Нет, я занят сейчас”. Насколько мог сжато я объяснил ему, кто я такой, и кто такой этот рыжий поэт позади меня, и какие необычайные обстоятельства привели сюда русского. Он не слушал или не понял, продолжая отмахиваться от нас, как от назойливых насекомых, и Иосиф, покраснев, тянул меня прочь. Я, однако, повторил объяснение на языке “я Тарзан, ты Джейн”. В конце концов Оден понял, что это Бродский из России, которого он переводил и более или менее хвалил. Тогда он все-таки пригласил нас в дом. Но тут не знал, что делать дальше. После некоторого бормотания он угостил нас вермутом (Иосиф своего не допил). Потом стал болтать о “гении Вознесенском”, не слушая реплик Иосифа и предупреждений, что не надо обманываться на его счет. В конце концов Иосиф не мог просто сказать: “Вознесенский – говно”, как обычно. Иосиф был очень расстроен, и, хотя Оден пригласил нас в субботу на обед (его компаньон тоже должен был присутствовать), когда мы отъехали по ухабистой дорожке, Иосиф проворчал, что возвращаться сюда вообще незачем: Оден ничего не понял. Я должен был вернуться в Мичиган, поэтому поехать не мог; что до Иосифа, он, конечно, не захотел бы проявить неуважение к человеку такого калибра, как Оден. Он в самом деле поехал, очевидно понимая, что Оденом нельзя пренебрегать, даже если тот любит стихи Вознесенского. Во всяком случае, вторая встреча, как некогда с Ахматовой, видимо, удалась лучше: в итоге Иосиф и Оден полетели в Англию одним рейсом, и во многих отношениях покровительство Одена было чрезвычайно важно для Иосифа, искренне восхищавшегося английским поэтом.
После неудачной первой встречи с Оденом мы поехали в Линц, где осмотрели самую большую церковь и, сидя под кленом, перекусили невыносимо сладким тортом. На обратном пути Иосиф сказал, что Австрия ему уже надоела. Именно тем вечером я и повел его в “Бристоль” и “Мулен Руж”, но не думаю, что это заставило его изменить свое мнение.
Мне в точности неизвестно, как Иосиф получил официальное разрешение отправиться прямиком в Соединенные Штаты, но я полагаю, что решение сделать для него исключение из правил было принято в Госдепартаменте на более высоком уровне, чем обычно. Однако там старались скрыть этот факт, поскольку не хотели делать ничего такого, что открыто противоречило бы соглашениям, заключенным Никсоном в мае в рамках политики разрядки. Я имею в виду, что присвоение Иосифу статуса изгнанника или политического беженца выглядело бы чересчур вызывающе. Как бы то ни было, я могу довольно точно рассказать, как с нами обошлись в консульской службе американского посольства в Вене, потому что у меня есть сделанные в то время записи.
Утром в понедельник, 5 июня, мы пришли в консульскую службу в первый раз. Дежурная, немка, решительно пресекла наши попытки попасть на прием к кому бы то ни было, занимающему более высокое положение, чем она сама; она ничего не знала ни о каком Бродском, и, по ее мнению, он должен был пройти через все обычные процедуры, установленные для желающих эмигрировать, будь то русские евреи или лица другой национальности, а именно: несколько месяцев ожидания и обмена документами. Я проявил настойчивость, и она предложила нам вернуться после обеда – тогда мы сможем поговорить с вице-консулом. Мы так и сделали. Мистер Джон Сегарс сказал, что они ничего не знают о Бродском. Однако после двадцатиминутных поисков в неведомых сферах он нашел конфиденциальное письмо из Москвы, где сообщалось о скором прибытии Иосифа. Точное содержание письма мне неизвестно, но Иосиф сказал мне, что в середине июня, примерно числа 15-го, в Вену были отправлены дипломатической почтой какие-то бумаги с запросом разрешения на его эмиграцию. К сожалению, в том же документе, по всей видимости, говорилось что-то (не знаю, что именно) и о попытках Иосифа жениться на студентке-американке, приехавшей в СССР по обмену. Сегарс держался весьма осторожно, был неразговорчив и вообще не слишком любезен; он сказал, что должен будет связаться с Москвой непосредственно. Нам придется подождать ответа, каким бы он ни был, как минимум до среды. Мы с Иосифом продемонстрировали ответное недружелюбие, причем Иосифа несколько озадачило то, что Сегарс – чернокожий; видимо, он никак не ожидал очутиться в подобной ситуации лицом к лицу с негром. Оказалось, что в московском посольстве не желали осуществления матримониальных планов Иосифа; так или иначе, теперь, когда он появился здесь другим путем, к нему отнеслись настороженно. Его репутация поэта мало их интересовала. Вдобавок журналисты пока еще молчали, а это делало его притязания на славу сомнительными.
В среду мы явились снова и снова не выяснили ничего полезного. Тем временем я позвонил домой и сказал Эллендее, чтобы она попросила университетское начальство позвонить этому мистеру Сегарсу и сообщить ему, что осенью Иосиф должен занять место приглашенного поэта и в связи с этим для него желательно сделать исключение. Не знаю, удалось ли им пробиться туда напрямую, но в конечном счете усилия университетских руководителей сыграли в переезде Иосифа из Вены в Энн-Арбор ключевую роль.
Тем временем пресса наконец взялась за дело. 8-го числа в “Нью-Йорк таймс” появилась статья Хедрика Смита под заголовком: “Главному поэту Советов велено убираться в США”. В частности, там говорилось, что “по сообщениям источников, незадолго до визита президента Никсона 22 мая господина Бродского, который пытался эмигрировать, поскольку не мог опубликовать на родине свои труды, вызвали в тайную полицию и предложили ему выездную визу в Израиль” (ОВИР уже превратился здесь в тайную полицию). Эта статья, переданная по телетайпу, стала причиной прибытия в Вену съемочной группы CBS и Питера Калишера, однако их опередил репортер журнала “Тайм” Строуб Талботт, прибывший из Белграда. У нас дома, в Энн-Арборе, Эллендее названивали и из “Тайм”, и из “Таймс” с просьбами предоставить им снимки и дополнительную информацию. Талботт появился первым, и его помощь оказалась крайне полезной. Строуб позвонил нам в среду, после того как мы с Иосифом побывали в австрийском Союзе писателей на встрече с его главой Вольфгангом Краусом. Ни Иосиф, ни я еще не понимали, насколько важно в такой ситуации, как наша, иметь прессу на своей стороне; Иосиф вообще уехал, не поднимая шума и почти ничего не сделав для того, чтобы предать огласке необычные подробности своей высылки. Мы согласились встретиться с Талботтом в “Бристоле” в тот же день. Он приехал с фотографом по фамилии Гесс, и первое интервью состоялось в кафе рядом с “Бристолем”. Позже Строуб признался, что пускал в ход все ухищрения, какие только мог придумать, ради того, чтобы Иосиф продолжал говорить и не оборвал беседу. Он преуспел в своих стараниях и отвез нас всех домой к Гессу. Оттуда он позвонил в посольство, говорил с теми же людьми, с которыми говорили мы, и очень умело заставлял их отвечать на свои вопросы прямо: “да” или “нет”. Он сказал, что научился этому благодаря своему общению с правительственными чиновниками: он просто всегда заранее предполагал, что они врут. Уже одно то, что нашей историей заинтересовалась мировая пресса, вынудило работников посольства отнестись к нашему случаю с бóльшим вниманием.
В четверг мы впервые посетили Британский совет: по дороге в Соединенные Штаты Иосиф хотел заглянуть в Англию. После часа ожидания его попросили прийти снова с фотографиями. На следующее утро (опять час ждали, что нас порядком рассердило) в Британском совете сказали, что он получит визу в среду или четверг. Еще нам пришлось сходить в австрийскую полицию, чтобы зарегистрироваться – сцена была бестолковая и комичная, но мы одолели это испытание. Позже в тот день прибыли Калишер и его группа.
Телерепортеры поразили меня своей поверхностностью. Съемки наскучили Иосифу, еще не успев начаться, но декорации, по крайней мере, были величественны: роскошный отель во дворце Шварценберг. Нам сказали, что князь разрешает отелю пользоваться только правой половиной своей лужайки. В начале съемок Иосиф должен был идти по поэтической тропинке, декламируя стихи на никому не понятном русском. Эта сцена повторялась потом несколько раз – ничего банальнее нельзя было себе и представить. Потом мы узнали, что отснятый материал так и не пошел в эфир, поскольку его по ошибке отправили – куда бы вы думали? – в Кабул.
За день до съемок Калишер пригодился нам по крайней мере в одном отношении. Он и вся его группа составили нам компанию в нашем очередном походе к вице-консулу – по всей видимости, тогда мы надеялись получить уже какой-то определенный ответ касательно судьбы Иосифа. Хорошо бы, откровенно сказал мне Калишер, этот ответ оказался отрицательным, “поскольку тогда вся передача получится интереснее”. Нам снова ответили уклончиво, туманным обещанием, но присутствие камер опять чрезвычайно оживило обычно индифферентных посольских служащих. Все мои встречи с иммиграционной службой США от Вены до Детройта вызвали у меня глубокое отвращение к этой публике и желание, чтобы кто-нибудь откровенно рассказал о мерзостях, которые там творятся.
В какой-то момент камнем преткновения стало отсутствие нужных документов о трудоустройстве. Чтобы попасть в США, человек обязан представить подписанное Министерством труда сообщение от компании, нанимающей иностранца, с объяснением, почему это место не может быть занято кем-то другим, уже находящимся там. Поскольку Иосиф должен был стать русским приглашенным поэтом, объяснять вроде бы ничего не требовалось, однако дело не обошлось без колоссальной бумажной волокиты. Эллендея, университетское руководство и я сам (я вернулся 10 июня) вынуждены были предпринять в этой связи множество усилий, включая добывание таких идиотских документов, как свидетельства из других университетов, что они обычно назначают русским приглашенным поэтам годичное жалованье, и т. д.
И все-таки я до сих пор думаю, что в конце концов Иосиф получил нужные бумаги потому, что по его делу было принято решение в Вашингтоне, причем на относительно высоком уровне. Тем временем мы сделали все возможное, включая обращение за помощью в Фонд Толстого в Вене с хорошими результатами. Так или иначе, 15 июня прошение о выдаче визы было удовлетворено и нужные бумаги о трудоустройстве в Детройте, Чикаго, Вашингтоне и Вене получены.
Июнь 1984 г.[Карл предполагал описать следующие несколько лет, но завершил лишь эту часть, после чего у него начались головные боли и продолжение работы стало невозможным. Это было последнее, что он написал; его кончина наступила через три месяца. Примечание Эллендеи Проффер Тисли.]
Карл и Эллендея Проффер в “Ардисе”. 1979 г.
Осип и Надежда Мандельштам. Воронеж, 1937 г.
Надежда Мандельштам. Ок. 1974 г. Фото Уэйна Робарта.
Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич Булгаковы. 1930-е гг. Фото Б. В. Шапошникова.
Елена Сергеевна Булгакова. 1961
Любовь Белозерская и Михаил Булгаков. Конец 1920-х гг. Фото Н. А. Ушаковой.
Любовь Белозерская. 1984 г. Любовь Белозерская в своей московской квартире, 1970-е годы. Фото Уэйна Робарта.
Лиля Брик и Маяковский на фотографии, подаренной ею Профферам. Ялта, 1926 г.
Лиля Брик, Лев Копелев и Эллендея Проффер в квартире Лили Брик. Москва, ок. 1975 г.
Лиля Брик и Василий Катанян, там же.
Тамара Иванова с сыном Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Начало 1930-х гг.
Они же. 1980-е гг.
Иосиф Бродский, Эллендея Проффер и Андрей Сергеев. Ленинград, недалеко от дома Бродского, декабрь 1970 г. Фото Карла Проффера.
В комнате Бродского в Ленинграде. Карл, Кристофер, Иосиф, Эндрю, Иэн, Эллендея. Ленинград, декабрь 1970 г. Фото А. И. Бродского.
Первые дни Бродского в Америке. Энн-Арбор, 1972 г.
Карл Проффер и Иосиф Бродский. Первое занятие в университете. Энн-Арбор, сентябрь 1972 г.
Бродский в тулупе Карла у дверей “Ардиса”. Энн-Арбор, 1970-е.
Карл Проффер около своего дома. Энн-Арбор, начало 1980-х гг.
Сноски
1
Семья втроем (фр.).
(обратно)2
Шир Хайт (р. 1942), американская феминистка и сексолог, опубликовала несколько трудов по сексологии. Здесь речь идет о первом, с подзаголовком “Общенациональное исследование женской сексуальности” (1976). Книга была бестселлером.
(обратно)3
Мы ошибались насчет того, кто дочь Маяковского. Действительность, как и следовало ожидать, оказалась гораздо интереснее. Дочь Элли Джонс, Патриция Дж. Томпсон, как известно теперь русским читателям из ее интервью, была профессором феминологии в Городском колледже Нью-Йорка. Она была шести футов ростом, похожа на отца и опубликовала много работ, в основном о феминизме и о Гестии, богине домашнего очага. Из воспоминаний матери она составила книгу под названием “Маяковский на Манхэттене” и, кажется, в самом деле верит, что отношения ее родителей расстроила Лиля Брик. (Прим. Э. Проффер Тисли).
(обратно)4
“Я враг государства” (англ.).
(обратно)5
“Сексуальный маньяк”, “Работа – проклятие пьющего класса” (афоризм Оскара Уайльда), “Разыскивается И. Б.” (англ.).
(обратно)6
“Истребляй реальность” (англ.).
(обратно)7
Вице-президент США при Никсоне.
(обратно)8
В Ленинграде не было журнала под названием “Знание”. По-видимому, речь идет о журнале “Звезда”.
(обратно)9
Здесь и далее отрывки, отмеченные астерисками, цитируются по книге Э. Проффер Тисли “Бродский среди нас” в переводе В. Голышева.
(обратно)10
Надпись гласила: “Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными”.
(обратно)



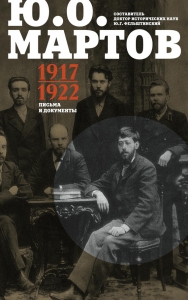

Комментарии к книге «Без купюр», Карл Проффер
Всего 0 комментариев