Аннотация:
Вторая часть. Окружение под Харьковом в 1943-м, плен и побег. Текст местами дерганный, так как отец писал долго, иногда возвращался мыслями к уже написанному и не всегда следил за плавностью повествования. Я немного привел в читаемый вид оцифровку. По хорошему надо бы плотно править текст, но возможно займусь этим в будущем, когда, сам не знаю.
Часть 2
Весна медленно, но упорно входила в свои права, оттесняя на задний план остатки суровой зимы. На разбухших от грязи дорогах с трудом передвигались машины. На обочинах еще с зимы валялись убитые лошади. Санная дорога иcчезла, летняя еще не наладилась. Те редкие машины, которые с трудом продвигались по непролазной грязи, часто попадали под бомбежки и не возвращались. Солдаты были голодны. Интенданты где-то доставали пшеницу, которую выдавали по норме вместо пайка. Участились случаи мародерства. Некоторые красноармейцы вырезали куски мяса у еще не сгнивших, убитых зимой лошадей, варили потихоньку и ели. Трибунал строго судил таких.
Однако несмотря ни на что, еды не было. Кушать хотелось. Собственно, дохлыми лошадьми питались те, кому религия разрешала кушать конину. Да и сами лошади выглядели не так уж отвратительно. Они были убиты, а зимние морозы сохранили их как в холодильнике. Сытно и безвредно. Другие же, которые не находили ничего лучше, ходили на неубранные подсолнечные поля. Набивали целые вещмешки подсолнухами и бесконечно грызли. Мы же с Мишкой придумали ловить на петли больших как кошки крыс. Они в изобилии водились в сарае, в котором мы жили. Ночью они дрались, прыгали через нас и здорово пищали. Мишка был более прожорлив, а потому и соблазн у него был большим. Он их жарил на вертеле и уверял, что на вкус они похожи на зайчатину. Я же робел перед таким сомнительным лакомством. Так мы жили, пока вдоль дорог не появилась травка. Зажелтели одуванчики. Стало теплее. Из занавоженных сараев перебрались в землянки. Повеяло свежим и теплым весенним ветерком. Просохли дороги. Питание стало нормальным. Солдатам стали выдавать даже водку. Однако по старой привычке, все еще ходили в поле и грызли подсолнухи. Солдаты приободрились. На фронте стояла тишина и несколько дней подряд не было слышно даже отдельных разрывов снарядов и бомб. Будто все дело решили покончить миром. Однако армия была занята своим солдатским делом и готовилась к бою: пехота, как ей всегда положено, маршировала, а связисты тянули связь. Минометчики без конца разбирали и чистили свои минометы. В свободное от занятий время, солдаты предавались своим мирным воспоминаниям. Разговоры велись о прошедшем детстве, вспоминали юность и свои любовные похождения. Всего чаще разговор шел о еде. Кто чего кушал, сколько и что он сам умеет приготовить. О ней могли говорить сколько угодно.
Каждое утро нам обязательно читали политинформацию. Сводки с фронтов. Мы выслушивали весьма внимательно. Потом политрук, обещая нам скорую победу, приводил благоприятные для нас примеры. Он говорил это ежедневно и мы знали наизусть, что немцы уже выдохлись, им нечего кушать. Мы, поэтому, хорошо знали, что наши враги немцы едят на фронте крыс, а их самих заедают вши. Один чудак, по этим признакам, брался предсказывать окончание войны. Он говорил, что война кончится сразу, как только у немцев не останется крыс. Шутки тоже были разные. Ежедневно мы слышали, что немец разут, раздет и голова его одурачена. Немецкий солдат не знает, за что он воюет. И это есть главное отличие нашего солдата от немецкого. Наш солдат сознателен и он знает, за что воюет. На политзанятиях это говорили ежедневно, а потому все это было страшно скучно и многие солдаты втихомолку дремали. Однажды нам выдали винтовки. Радости было больше чем надо. Особенно радовались молодые солдаты. Пожилые оставались равнодушны.
Винтовки были военного изготовления. Деревянные части их были не отшлифованы и корявы. На руках у некоторых от винтовок появлялись занозы. При стрельбе у многих винтовок не открывался затвор. Особенно много хлопот доставлял русский трехгранный штык. На поясе носить штык не приспособлен. Носили его на винтовке, было неудобно. Он часто терялся. Солдаты были людьми современными и отлично понимали, что воевать штыком против танка, самолета или автомата глупо. Некоторые были рады избавиться от него. Патроны выдали по 15 штук на солдата. Некоторые рассказывали, что при царе им давали по 180 патронов на винтовку, а теперь так мало. Охотники уверяли, что на самую плохую охоту они брали по 25 патронов. Мы возмущались. Но что стоят наши возмущения, кому скажешь обо всем? И поймут ли тебя? Вероятнее всего, такого жалобщика обвинят в подстрекательстве, в антигосударственных действиях. Что поделаешь… Каски стальные первое время нам нравились. Позже, а особенно на фронте их как-то незаметно растеряли. Пользы в них мы не заметили, а носить лишний груз для солдата слишком обременительно. Пожалуй, следует предположить, что солдаты избавлялись от касок умышленно. Верно ли они поступили - вопрос другой.
Уже в мае сменили зимнюю одежду на летнюю. Обмундирование было новое и доставляло удовольствие. Вместо шапок-ушанок наши головы украсили пилотки. Звездочек почему-то не было. И мы по этому случаю проявили солдатскую находчивость. Звездочки вырезали из консервных банок и приделывали их к пилоткам проволочками. Заменили нам также хлопчатобумажные гимнастерки цвета хаки и такие же галифе. От всего зимнего остались одни ботинки, да еще неудобные обмотки. В такой одежде мы сами себе казались худыми и смешными. Быть может смешными потому, что обмундирование выдавалось не по росту, а по принципу массовости. Бери то, что дают, иначе и этого не получишь. Мне кажется, что индивидуальный подход к делу всегда целесообразней. И дает он лучший эффект.
Наступление наших войск началось для нас совершенно незаметно и неожиданно. О нем мы узнали через два дня из газет. В газете писалось, что наши войска 12 мая начали наступательные операции на юго-западном направлении по освобождению нашей территории от немецко-фашистских захватчиков. Наступательные операции проходят успешно и перечислялись населенные пункты, освобожденные от врага. Неожиданностью было то обстоятельство, что в этом наступлении самое активное участие принимали мы, наши воинские части. А мы, солдаты этих наступающих частей, совершенно ничего не знали об этом. Не знали до тех пор, пока не прочитали в газете. Наверное, это называется сохранение тайны. Интересно было знать! Знали ли об этом тогда сами командиры? Все ли им было известно о планах предстоящего наступления? А может быть и они об этом знали только в общих чертах и по собственному предположению. Неожиданно утром 12.05 на фронте загрохотало более интенсивно, чем прежде. Через наши головы летало много самолетов. Земля содрогалась от взрывов. С передовой потянулись наши раненные, и пленные немцы. Между собой из разговоров солдаты решили, что началось то самое наступление, к которому мы готовились. Наверное было бы лучше, если бы наши командиры боялись немцев меньше, а своих солдат предупредили заранее о наступлении. Логично было бы своих солдат заранее подготовить к этому, вдохновить. На деле все выглядело иначе. Наши командиры боялись выдать тайну наступления немцам, а потому, даже в последний момент, наше наступление оставалось тайной также и для самих себя.
Мы- то, конечно, видели, что идет наше наступление. Видели это и немцы.
Однако, модная в то время шпионобоязнь и пристрастие к секретности во всем не позволили нам знать то, участниками чего мы являлись. Наш штаб дивизии двигался непосредственно за передовыми наступающими частями. При отступлении немцы бросали разное военное имущество. Встречалось оружие, разного назначения пушки, топоры, пилы, автомашины.
Нам, связистам, досталось много цветного отличного немецкого кабеля, коммутаторы, телефоны. Все это было добротным, рациональным для нужд войны, удобным для пользования. Про себя и вслух мы удивлялись. Как же это так получается. Нам говорили, что немцы выдохлись. У них нет продуктов, а их военное имущество истощено. Мы надеялись увидеть забитых, голодных и оборванных немецких солдат. Вместо этого нам встречались здоровые, красивые немецкие парни. Их нижнее былье было шелковое. Форма отлично подогнана по фигуре. Сами солдаты носили многомесячные завивки на голове, надушены и выбриты. Их же оснащение вызывало у нас зависть и раздражение.
Немцы бросили огромное количество оружия и продовольствия. И все это заметно отличалось не в нашу пользу. Приходилось раздумывать почему же это немцы бегут от нас. Ведь у них есть все для обороны. В любой момент они могли бы нас опрокинуть. Они, наверное, не знают, что на каждого нашего солдата было выдано по 30 патронов, а нам, связистам, только по 15. Наши пушки и танки также имели некомплект боеприпасов. На вооружении армии было много тихоходных английских танков зеленого цвета.
Когда мы задавали подобные вопросы своему начальству о своих сомнениях, то получали примерно такой ответ: нами командует очень опытный генерал Гамышев. Он воевал еще в 1905 г. с японцами и в 1914 г. с немцами. Условия тогда были худшими и он показал себя отличным полководцем. Общим же наступлением руководит маршал Тимошенко. Он-то знает, что делает. Кроме всего, подобные вопросы задавать было опасно. Могли приписать клеймо провокатора или какого-либо другого чуждого элемента. Войска наши продвигались по территории, где находились немцы, а потому нас строго предупреждали, чтобы мы держали ухо востро, если попадутся какие-нибудь сомнительные элементы. И мы, на самом деле, этих сомнительных элементов из населения боялись больше, чем самих немцев.
Однажды под вечер, мне было нужно заступать на дежурство в узел связи по дивизии. Идти было близко, пароль еще не сообщали и я вышел из своей землянки не дожидаясь. По дороге пришлось задержаться. Возле самого узла связи меня остановил патруль, спросили пароль. Пароля я не знал.
- Ага! - сказали патрульные. - Пароль он не знает, а шляется возле штаба дивизии. Руки вверх! - Они быстро и ловко стащили с меня винтовку. - Шагом, марш! - скомандовали.
- Да куда шагом марш, я же здесь работаю при штабе дивизии!
- Иди, иди! Потом узнаем, где ты работаешь! - Парни были непреклонны. Наконец пришли в другой конец деревни. Ввели меня в избу. У телефона сидел старший лейтенант с красной повязкой дежурного на рукаве.
- Ну, кого привели? - Спросил он.
- Да вот, тов. старший лейтенант. Пароля не знает, а задержали его возле самого штаба дивизии.
Начался допрос. Фамилия, откуда взялся, чего там делал. В какой части служишь, кто командир, кто комиссар. На все вопросы я отвечал как будто без запинки. Что-то дежурному показалось не так и допрос повторился сначала. Кто ты сам, да кто у тебя комиссар и т.д. Мне стало надоедать все это.
- Слушайте! - Сказал я, - Ведь вы же меня знаете. Сколько раз вы бывали в штабе дивизии, неужели не запомнили меня?
- Это к делу не относится, - холодно сказал дежурный, - Ппароля-то вы не знаете.
- Ладно, - сказал я, - если вам мало моей красноармейской книжки и вы не верите тому, что я - это я, согласен остаться у вас. Только знайте. По вашей вине сегодня ночью штаб дивизии останется без связи.
Немного подумав, дежурный взял трубку и позвонил в штаб дивизии. Из трубки было слышно как кто-то из дежурных по узлу связи громко ругался и грозил мне наказанием за то, что я где-то шляюсь и не прихожу вовремя на дежурство.
- Ну ладно, - сказал дежурный, положив трубку, - я и сам тебя знаю. Другой раз не разгуливай без пароля.
Мне сообщили пароль на ночь, обругали всякими нелестными словами и выпроводили за дверь.
Наше наступление на Харьков длилось дней 7-8. Солдаты были бодры. Шутили. Хотя трудности наступления были большие, спать почти не приходилось. Всякое наступление очень воодушевляет солдат, а нас тем более. Ведь мы наступали после трудного периода отступления.
Если раньше стрельба была редкой, непродолжительной и всегда как-то откатывалась в сторону, то в это утро 20.05.42 все было наоборот. Стрельба была частой и все время приближалась в нашу сторону. Если раньше немцы уходили не принимая боя и едва отстреливались, то теперь они не только не уходили без боя, но и сами его навязывали. Если до сегодня с немецкой стороны мы встречали отдельные слабые соединения войск, то теперь по силе стрельбы и количеству немецкой авиации можно было догадываться, что нам противостоит большая армия и армия хорошо вооруженная. Наш узел связи штаба дивизии находился у края села на склоне оврага. Где находилось наше командование дивизией и ее комдив Ганышев, никто не знал. Я находился на коммутаторе узла связи 103 дивизии, держал связь с тремя пехотными полками и 1 артполком. Полки носили номера 586, 383, 683, если не ошибаюсь. Держа связь с ними, я ясно представлял, что происходит в этих полках и вокруг.
Мне все время приходилось кому-то отвечать или самому запрашивать полки. Никого из начальства нигде не было. В полках не было полковников, в дивизии не было генералов.
В узле связи нас было 5-6 связистов, которые обслуживали коммутатор, радиостанцию и телеграф. Возглавлял нас старший лейтенант, которого я раньше почему-то считал связистом не из нашего батальона связи. Поддерживали связь с полками, и соседней дивизией. Но кто распоряжался этими полками, кто командовал боем, понять было невозможно. Несмотря на то, что с нами не было наших командиров, связисты, солдаты до конца находились на своем посту. В каждом полку был наш телефонист, который давал о себе знать запросами в штаб дивизии. Беспрерывно, то из одного полка, то из другого телефонисты сообщали обстановку и сами спрашивали что им делать, так как в полках никого из начальства не было. Поскольку мы сами не знали, наши ответы были неопределенными. Бой с каждой минутой все более нарастал. Совсем рядом, за оврагом, стояла страшная стрельба. Рычали моторы, приглушенно сотрясали землю взрывы. В нашу сторону залетали пока отдельные снаряды которые с резким звуком рвались возле нас. Каждый близкий взрыв снаряда сотрясал стены землянки. Казалось, что стены оживают и движутся. Сверху летела земля, солома, песок, ветки, а мелкая микроскопическая пыль проникала в нос, в рот и противно скрипела на зубах. В воздухе пахло сладковатым пороховым дымом. В ушах звенело. Люди с бледно-серыми заостренными лицами глупо вздрагивали, делали неопределенные защитные движения, переглядывались. Население блиндажа было разношерстно как по возрасту, так и по образованию. Были здесь и юноши лет по 17-18, были также и взрослые мужчины лет по 40 и более. На каждый очередной взрыв все реагировали по-разному, согласно своего возраста и темперамента. Молодые парни вылезали из блиндажа, разглядывали места взрывов и их последствия. Старички же наоборот, смирнехонько прижимались к земле и здорово ругались на молодых, чтобы те не вылезали. Сидеть в блиндаже под обстрелом вещь не совсем приятная, хотя и не скучная. Сидишь и ждешь, попадет в тебя или пролетит мимо. Такую монотонность тоненько нарушали телефонные зуммеры. Нет-нет, да и позвонит кто-нибудь из полков. Здесь разговор вели между собой только связисты. Начальства-то нет. Спросят, живы? И опять замолчат. Вроде бы и им на том конце провода становится не так страшно.
Вот Мишка Ивановский воинственно докладывает по телефону: связь в опасности. Никого поблизости нет. Все куда-то разбежались и к нему держит путь небольшая группа немцев. Спрашивает, что ему делать? И связь сразу прекращается. Через некоторое время снова звонит Мишка. Он говорит, что из карабина застрелил двух фашистов, а остальные не стали подходить ближе и прошли стороной. Через несколько минут он еще звонит. Говорит, что фронт прошел мимо него, а он сам сидит в окопчике уже в тылу врага и не знает, что ему делать. Я посоветовал возвращаться и после этого Мишкин телефон больше никого не беспокоил. Фронт пододвинулся совсем близко. Стреляло впереди, с боков. Трудно было разобраться, что происходит. Горели дома, кричали люди. Никто ничего не знал, что делать. Мы продолжали дрожать от страха и одновременно скучать от бездействия. Ждали каких-то указаний. Связь уже совсем не работала. Проголодались. Утром где-то рядом стояла кухня. Рассудили, что если дано умереть, то уж пусть лучше сытыми. Разыскали пару котелков, дали мне их как самому младшему и я отправился на кухню за обедом. Все-таки время было уже послеобеденное.
10.07.68.
Я вылез из блиндажа. На воздухе находиться конечно опаснее. Здесь всегда могут чем-нибудь зацепить умышленно или случайно. Зато в блиндаже одолевает такой страх неизвестности, что будто тебя подталкивает кто-то вылезти из него. Если не вылезешь, а бомбежка будет продолжаться, то обязательно уснешь. Особенно это сказывается на людях со слабой нервной системой. Во время длительных бомбежек дети и старики засыпали как правило. Со мной также случался такой грех. Не выдерживали нервы. Теперь же, когда я вылез из душного и темного блиндажа на воздух, то почувствовал себя так, будто я вылез из душной бани. Кроме всего, я на некоторое время освободился от проклятой связи, которая все равно бездействовала и неизвестно для чего существовала. Неопределенность изматывала больше, чем немецкие бомбы и снаряды. Еще только сделал десятка два шагов, как сразу бросилась в глаза картина, которая резко отличалась от утреннего положения. Утром по дну оврага солдаты шли строем. Слышались команды. Чувствовалась какая-то деловитость. Теперь же, люди двигались в обратную сторону. Навстречу мне, в село, шли раненые, бежали напуганные солдаты или просто дезертиры. Масса бегущих людей с каждой минутой все нарастала. На мои вопросы никто ничего не отвечал, и только безнадежно махали рукой и бежали прочь. Ко мне подошел бегущий кавказец. Его ранило в рот, и он что-то говорил. Показывал мне красноармейскую книжку. Кровь лилась из рта на подбородок, шею. Вся грудь гимнастерки пропиталась кровью. Его речь было невозможно понять и я, только махнув рукой, побежал со своими котелками разыскивать кухню. Кавказцу, наверное, оторвало язык. Люди в военной форме бежали по оврагу уже не группами или поодиночке, а сотнями. Дно оврага спасало от пуль, сюда реже залетали снаряды. Уже было трудно идти вперед, навстречу бегущим. Солдат стало столько много, что мне вспомнились демонстрации, когда они расходятся в конце. Идти долго не пришлось. Неожиданно для самого себя я увидел свою кухню. Извозчик пытался выехать из оврага. Дорога была забита людьми, проехать было невозможно и возчик направил лошадь по склону оврага. Склон был крутой, лошадь напрягала силы и не могла вытянуть кухню. Ей помогали люди. Я тоже было решил подтолкнуть. Однако не успел. В кустах что-то громко разорвалось, наверное, снаряд, лошадь подпрыгнула задними ногами, дико заржала, остановилась и как-то неестественно стала потягиваться. Из бедра задней ноги толстой струей била кровь. Лошадь медленно опустилась на передние ноги, шумно выдохнула воздух и начала биться. Возчики бросились выпрягать лошадь. Возвратиться назад стало невозможно. Плотная, тысячная масса людей бежала по дну оврага, увлекая за собой все встречное. Я вылез из оврага, пытаясь через село добраться до своего блиндажа. Здесь сверху свистели пули. Люди прятались в укрытия, снова сбегали вниз в овраг. С противоположной стороны оврага метрах в двухстах появился немецкий танк. Когда я еще раз обернулся, то на краю оврага стояло уже несколько танков. Теперь началось избиение потерявших волю и рассудок людей. Солдаты позабыли, что они воины, а страх превратил их в скот. Все старались как можно быстрее выбраться из оврага. Все бежали, давя друг друга. Крик каких-то команд, дикие вопли и стрельба, слились в единое. Внизу овраг превратился в ад. Вверху, над всем этим стоят безжалостные стальные чудища и хладнокровно, а может быть с удовольствием посылают вниз на людей смерть.
Я вырвался в деревню. Во дворе крестьянского дома бегали офицеры и солдаты. Один, видимо, старший из них, энергично распоряжался. Потом раздался взрыв, соломенная крыша дома поднялась вверх, в стороны полетели бревна, солома. За грохотом было слышно, как страшно закричал старший распоряжавшийся офицер. Из груди фонтаном била кровь. Офицер, наверное, машинально старался держаться на ногах. Колени его стали медленно подгибаться, но в этот момент двое других подхватили офицера за руки молча смотрели на него и не знали, что делать. Видно, растерялись. Офицер еще что-то говорил. Однако рана была смертельной и он медленно, но с видимым достоинством, обмяк. Повис на руках, голова беспомощно упала на грудь.
Деревня горела. Повсюду рвались снаряды. В стороны летели бревна, земля, солома. Дым застилал дорогу, дома. Плохо стало ориентироваться. Прежние знакомые предметы стали выглядеть совсем иначе. Я тщетно пытался отыскать свой блиндаж.
Так как многие дома уже горели и картина изменилась, я долго блуждал. Наконец я нашел свой блиндаж и влез в него, где сидели в растерянности с серыми лицами мои напарники по связи. За время моего отсутствия в блиндаже произошли изменения. Забрав с собой телеграф и радиостанцию ушли радист и телеграфист. Куда они ушли и по чьему приказу, было неизвестно. Оставшиеся в блиндаже связисты, тоже собирались уходить. Видя бегущих мимо толпы отчаявшихся, полусумасшедших от страха солдат, каждый понимал, что произошло непоправимое, страшное. Надо было что-то предпринимать. Но что делать? Как выбраться из этого страшного места? Уйдешь без приказа - поступишь как дезертир и предатель, за что понесешь наказание. Оставаться здесь дальше невозможно. Попадешь к немцам. Те, которые были посообразительней, потихоньку, будто бы между прочим выходили из землянки, смешивались с бегущими солдатами и больше не возвращались. Осталось нас двое. Один старый украинец из-под Полтавы, который вместо слова телефон говорил телехвон и я. Что было делать? Стреляли где-то совсем рядом, вокруг блиндажа. Связи ни с кем не было, спросить не у кого. Вокруг все бегут и никто ничего не знает. Тогда я пустился на маленькую военную хитрость. Я сказал, что имущество в такой обстановке может пропасть. Его надо спасти. Не долго думая, ножом перерезал провода, которые соединяли коммутатор с полками дивизии. Взвалил себе на плечо и вылез из блиндажа. Следом за мной бежал тот самый связист, что телефон называл телехвоном.
Чтобы разобраться, куда лучше бежать и немного отдышаться, спрятались в глубокую воронку. Мой попутчик в руках нес телефон. Он, указывая на него, сказал:
- Давно бы надо было так. Те хлопцы, еще когда все тикали.
- Как тикали? - удивился я.
- Да так, вот так как мы с тобой. Взяли свое имущество и бегом понесли спасать его.
- Без приказа? - снова спросил я.
- А кто ж его даст, этот приказ? Видал, что творится? Мабуть еще и награды получат за это. Они же не просто от страху, як скажем ты и я, а по порядку. От немца свое имущество спасли. Понял теперь? А мы с тобой самые герои. Герои потому, что мы с тобой ушли самые последние и ничего не оставили. Багаж, что у нас в руках, це ж наше оружие. В нашем деле это важнее винтовки.
Немного отдышавшись и сориентировавшись в обстановке, решили бежать в село. Туда же, в село, подальше от страшного оврага, бежали толпы пехоты. Село горело во многих местах. Отдельные люди, военные и гражданские, бегали возле домов, что-то выносили. Войска группами и в одиночку, без команд, покидали село. Трудно было понять, что произошло. Стрельба, крики, дым. Никакого порядка. Солдаты перепуганы, многие без оружия. У всех на уме было только одно. Скорее бы убежать из этого страшного места. И все бегут. Бегут ничего не видя и ни о чем не раздумывая. Настоящее стадо, только людское. В водовороте событий затерялся мой попутчик. Наконец я выбежал из села. Здесь уже стреляли не так сильно. Исчез страх смерти. Появилось легкое приподнятое настроение. Настроение, которое бывает после сдачи трудных экзаменов или чего-то необычного. Здесь, на окраине села, беглецов было как-то меньше. Они куда-то рассосались. То ли попрятались по домам и огородам, а может быть, некоторые снова вернулись туда, где стреляло больше. За деревней, при спуске с горки, в узком месте дороги, стояли, бегали и что-то кричали люди в военной форме. Стоило только приблизиться поближе, как сразу все стало понятным. Заградительный отряд сдерживал натиск бегущих. Здесь же, на дороге, валялось несколько застреленных солдат. По-видимому вынужденная мера по наведению порядка, в этом бегущем сброде обезумевших воителей. Солдаты лежали в разных неестественных позах, их гимнастерки были пропитаны кровью, запачканы землей, пылью, травой. Смотреть на них было страшно. Каждый из бегущих, видя это впечатляющее зрелище, мгновенно как бы трезвел, останавливался и делал вид будто бы это не он сюда прибежал в страхе. Некоторые сразу останавливались и виновато ждали, что будет дальше. Другие пытались свернуть в сторону или уйти назад. Однако всех их задерживали. В стороне дороги выстраивали и весьма быстро приводили в боевой порядок.
В центре дороги с пистолетом в руках стоял энергичный и по-видимому, очень смелый майор Бельченко. Я знал его как комиссара и никогда не думал, чтобы комиссар вот так энергично, один, на дороге, смог организовать заградительный отряд и повернуть бегущих. Среди паникеров встречались такие нахалы. Они, невзирая ни на что, пытались всеми способами прорваться через цепь солдат. Однако, здесь долго ни с кем не разговаривали. Немедленно становились в строй или прямо на дороге смерть. Застреленных за ноги оттаскивали с дороги в сторону. Меры были весьма эффективными. Позже, бегущие солдаты и сами не пытались бежать. Видя строй, они без команды выстраивались. Среди дезертиров находились и офицеры разных рангов. Под их началом боеспособный отряд солдат уже сам рвался в бой. Может быть, это обычный психологический момент на войне. Нет вожака - нет армии. Без него люди тоже бывают стадом.
Пока я стоял и размышлял, что мне делать с моим коммутатором и с самим собой, кто-то сверху позвал меня по фамилии. Я поднял голову. На полуторке, доверху груженой каким-то имуществом, сидел Мишка Ивановский. В одной руке он держал обглоданную селедку, а другой энергично махал мне, чтобы я лез на машину. Меня долго приглашать не пришлось. Впереди нас, на легковой штабной машине ехал заместитель начальника связи дивизии. Он переговорил с заград-отрядом и нас пропустили. Машины выехали из села. Впереди, на легковой, ехало начальство, сзади мы с Мишкой. Полуторка везла штабное имущество. В кузове лежали какие-то ящики, столы, стулья и еще чего-то такое непонятное. В кабине сидел ст. лейтенант, который командовал полуторкой. Из села выехали относительно спокойно, без примочек.
Мишка выбросил обглоданную селедку и из-за пазухи достал новую.
- На вот, поешь, у меня много. - Сказал он и поведал мне подробности сегодняшнего боя.
Немцы, неожиданно танками смяли пехоту. Прорвались к деревне. Началась паника, полки потеряли управление, побежали. Поскольку отбиваться от немцев было нечем, да и некому, все бросились бежать. Многих поубивали. Сам он оказался за линией фронта, в тылу немцев. Но так как немцев было мало и они были не везде, Мишка легко добрался до деревни. В деревне он вышел к горящему продовольственному складу. Склад растаскивали солдаты. Соблазнившись, Мишка забежал внутрь и набрал селедки.
- Вот сколько. - Показал он на карман и на пазуху.
Когда он выбежал из склада, то натолкнулся на эту машину. Старший лейтенант бегал возле склада и ругал солдат за мародерство. Он помог ему. Потом рядом с машиной и складом стали рваться снаряды. Они, вскочив в машину, едва унесли ноги. В итоге, Мишка, улыбаясь, спросил меня:
- А ты знаешь на чем мы едем?
- На чем?
- На подарках.
В мешках, на которых мы сидели, находились подарки бойцам, присланные из Средней Азии. Урюк, кишмиш. В бутылках вино. Сидеть наверху и ехать подальше от фронта было весело. На радостях мы залезли в ящики с фруктами. Так как мы были достаточно голодны, то и кушали наспех едва прожевывая. Чтобы еда легче проходила, Мишка вытащил из ящика бутылку вина. Вместе с нами наверху ехал пожилой небритый солдат. Предложили ему вина и фрукты. Тот отказался и посмотрел на нас с нескрываемым неудовольствием.
- Бери, - сказал Мишка, - уж если убьют, то, по крайней мере, перед смертью наедимся.
Солдат отвернулся и перестал нас замечать. Вот здорово, у нас как праздник.
- А ты знаешь, Мишка, ведь у меня сегодня в самом деле праздник.
- Какой? - спросил он.
- Сегодня мне исполнилось 19 лет. Я сегодня именинник.
- Вот это да! - Сказал он. - Двадцатого мая?"
- Да.
- Тогда давай еще выпьем!
Мы выпили еще. Небритый солдат отказался выпить и на этот раз. За селом мимо проехали артиллерийские пазики. С десяток длинноствольных пушек беспрерывно куда-то стреляли.
- Тяжелые, - сказал Мишка.
Никто не ответил. Вокруг машины, то далеко то близко рвались снаряды. Над головой, не слишком высоко, пролетели 3 юнкерса. Никто на них не обратил внимания и только они отлетели от нас, как вокруг с грохотом вверх полетела земля. Нас с Мишкой взрывной волной сдуло с машины. Вниз вместе с нами упали стулья, ящики. Движение остановилось. Когда прекратились взрывы и улеглась пыль, стали считать потери. Мы все уцелели, если не считать испуга и легких ушибов. Решили узнать, как дела в легковой машине. Но где же она? Нигде не видно. На том месте, где она была, дымилась огромная воронка величиной с машину. Не было ни машины, ни людей. Прямое попадание бомбы превратило машину и ее пассажиров в ничто. Все куда-то улетело. Позже рассказывали, что нашли модный сапог с оторванной ногой. Поскольку такие модные сапоги в нашей дивизии были только у одного человека, то и решили, что сапог и нога были зам. нач. связи дивизии. Не тратя времени на поиски исчезнувшей под бомбой машины и ее пассажиров, мы быстро вскочили на свою полуторку и объехали воронку. Сверху, с погруженного на машину имущества, далеко вокруг виднелись поля, села и бесчисленные фигуры бегущих солдат. Слева от дороги в пшеничном поле кто-то с кем-то воевал. Людей было не видно. Зато стояла такая ружейная стрельба, что наш шофер даже объехал это место. Стоило нам только выехать на пригорок, как сразу перед нами метрах в двухстах появилась цепь немецких солдат. Они шли стоя, не пригибаясь. На ходу в кого-то стреляли из автоматов. Отдельные пули долетали до нас. Когда пуля попадала в ящик или ножку стула, то мелкие обломки мебели били больно в лицо и заставляли держаться противоположной стороны машины. На полном ходу пролетели и этот опасный участок дороги. Через некоторое время въехали в широкую и блинную балку, где преспокойно щипали зеленую травку несколько лошадей и корова. Здесь ничто даже приблизительно не напоминало войну. Стреляли где-то далеко от нас. Решили отдохнуть, осмотреться. Все как по команде выпрыгнули из машины и собрались вокруг нашего лейтенанта. Тот посмотрел вверх на небо и произнес вдохновляющую нас речь.
- Товарищи! - Сказал он. - Мы спасли штабную автомашину и имущество. Теперь наша задача состоит в том, чтобы сохранить все это и снова доставить куда надо.
Еще он сказал, что вся заслуга в спасении этого имущества принадлежит ему и его умелому руководству. А поскольку это так и он среди нас самый старший, то и впредь все должны подчиняться его распоряжениям. Нам было приятно слышать хорошие слова. Все-таки не обругал нас за бегство и не обозвал трусами и дезертирами, как мы сами про себя думали. Из беглецов мы сразу превратились в спасителей штабного имущества. Все-таки наш мир не без чудес. Хорошие слова хорошо и слушать. Однако поживем-увидим, что будет дальше, размышляли мы про себя. Наш лейтенант нам не понравился в своих действиях. Казалось, что с таким прытким на ноги командиром много не навоюешь. Боялись попасть в еще более дурацкое положение. Однако он был все-таки лейтенант и за его спиной можно было себя чувствовать безопаснее. Все-таки мы сбежали от передовой и нас начинала мучить совесть. Лошади в овраге мирно щипали траву, корова иногда позванивала колокольчиком, который висел у нее на шее. Над травой летали бабочки. А где-то далеко за оврагом шла неумолкаемая стрельба. Взрывы тяжелых бомб и снарядов сотрясали землю. Было неприятно созерцать мирную картину оврага и одновременно слушать взрывы бомб и сознавать, что там, где стреляют, недостает тебя. Чтобы осмотреться, лейтенант вылез из оврага. Стоило ему подняться наверх, как он неожиданно что-то закричал, замахал руками и упал.
Вслед за этим из-за оврага на бреющем полете выскочили два тонких и длинных как стрекозы немецких самолета. Они, не обращая внимания на машину, стали гоняться за лошадьми. Потом один из самолетов, пикируя чуть ли не до самой земли, сбросил на лошадь небольшую бомбу. Не попал. Лошадь, отбежав несколько метров, продолжала пастись. Самолет, набрав высоту, снова пошел в пике на лошадь. Зачем она ему была нужна? Я сидел на краю воронки и наблюдал, чем кончится охота самолета на лошадь. Пока самолет шел в пике и выходил из него, я быстро снял с плеча свою СВТ и выпустил в него всю обойму. Самолет сбросил бомбу и, выходя из пике, еще обстрелял кого-то. Лошадь прыгала на трех ногах. Одной передней ноги не было. Оторвало. Наконец летчику надоело гоняться за лошадьми. В следующий момент самолет стал пикировать на мою воронку. Сразу я даже не понял, что это касается меня. Уже в последний момент я быстро бросился на дно. Небольшая бомба взорвалась на краю воронки, оглушив и обдав меня землей. При выходе из пике, самолет обстрелял меня из пулемета. Было видно, как по отлогому краю воронки поднимались вверх и звонко щелкали фонтанчики земли, поднимаемые пулями. Так, пользуясь безнаказанностью, самолет спикировал несколько раз. Бомб он уже не бросал. И только при пикировании и выходе из пике обстреливал мою воронку из пулемета. Каждый раз мне приходилось плотно прижиматься то в одному краю воронки, то к другому. Пули били в противоположный край воронки, не задевая меня. Другой самолет летал по кругу и обстреливал из пулемета все, во что можно было попасть. Потом, игра с живыми и беззащитными мишенями летчикам надоела, они улетели также внезапно, как и появились. Не веря, что самолеты улетели окончательно, мы еще не решались выходить из своих убежищ. Первый расхрабрился лейтенант. Он встал на край оврага и крикнул:
- Отбой, улетели!
Ему- то сверху было видно, что они улетели. Убедившись, что самолетов действительно нет, мы, как перепуганные мыши, по одному стали собираться к машине. Все были живы и невредимы. Шумно обсудили хулиганские выходки немецких летчиков. Обругали их самыми страшными ругательствами и утешили себя тем, что это были недисциплинированные и неопытные мальчишки, с которых и спросить-то нечего. Что с них спросишь. И все-таки было радостно. Как немцы ни старались попасть в нас, а победителями остались мы. Стреляли, бомбили нас и ни в кого не попали. Вот был бы у нас хоть пулемет, мы бы им еще показали. "А то что?" -рассуждали мы. Машина тоже оказалась невредимой. Собственно, летчики почему-то сами ей не интересовались. Наверное и в самом деле летчики были хулиганы. Пугали нас, людей. Обсудив наше положение, решили заехать в одно из сел, где, по нашим предположениям, должен был находиться штаб армии. Сели в машину и без всяких приключений приехали в село. Село было большим. Я говорю "было" потому что сейчас его уже не было. Оно еще до нас было разрушено бомбами и теперь догорало. Некоторые дома уцелели. На каждом шагу попадались следы бомбежки: разрушения, пожары. Повсюду воронки от бомб или сожженные дома. Неубранные убитые обожженные тела красноармейцев и гражданских лиц. Всевозможный скот. Не дороге и в сгоревших сараях валялись с выпущенными кишками коровы, свиньи, овцы, лошади. В воздухе носился пряный запах жаренного и гари. Картина являла весьма печальный вид. Мне, человеку, раньше не видавшему подобного зрелища, сделалось немного страшновато, да еще черный и синий дым густо стелется вдоль земли. Сверху на людей падает пепел от горящих соломенных крыш. Между воронок от взрывов и разрушений в некрасивых и страшных позах валяются убитые и обгоревшие люди. Некоторые еще живы. Они ворочаются и стонут. К ним никто не подходит. Некому. Если кто остался в живых, то они заняты своим горем. Мы остановились прямо на дороге, не маскируясь и не зная, что нам делать. Мимо, через дорогу, прошли женщина и старик с лопатой. Женщина на руках несла маленького ребенка. Руками она крепко старалась прижимать его к своей груди, однако ей это не удавалось. Голова ребенка и его конечности безжизненно болтались, и она все время старалась их держать так, чтобы хоть внешне казалось, что ребенок не мертв. Кто-то из наших спросил их о чем-то. Однако они прошли мимо, ничего не ответив.
Возле уцелевшего дерева стояла обгорелая санитарная машина. Возле нее шевелился человек в красноармейской форме. Мы подошли. Из открытой дверцы приторно пахло жареным человеческим мясом.
На железном полу машины и на обгоревших носилках лежали скорченные тела. Кожа на них черная как уголь с длинными и широкими трещинами. Из глаз, носа, рта и ушей сочится пена. Страшно.
16.08.68
Шагах в 10 от машины лежал живой красноармеец. Это был раненый юноша лет 17. Одежда на нем обгорела, лицо бледно-серое и выражало оно безропотность и обреченность. Рядом лежала солдатская каска с водой. Кто-то пожалел, позаботился, наполнил каску водой.
Из разговора с раненым выяснилось, что санитарная машина везла его и еще несколько тяжелораненых в госпиталь. В этом селе они попали под сильную бомбежку, которая длилась несколько часов. Шофер и санитары были убиты. Машина загорелась. У красноармейца были перебиты обе ноги. Когда машина стала гореть, он на руках смог выползти и отползти подальше. Другие же были тяжело ранены и они все сгорели живыми. Впечатление было тяжелое. Кто-то неуместно спросил:
- Кричали, наверное?
- Кричали, - ответил красноармеец.
С опущенными головами стали отходить от машины. Раненый юноша поднялся на локте и с мольбой заговорил.
- Братцы, не уходите, не бойтесь. Я же живой. Оставьте покушать. Вода у меня есть, - он указал на каску, - а вот кушать нечего.
Оставив раненому кое-что из еды, мы ушли. Настроение было подавленное. Темнело, наступал вечер. Нам же самим надо было где-то остановится, замаскировать машину, устроиться на ночь. Неподалеку вокруг сгоревшего дома были разбросаны какие-то бумажки. Наверное, листовки, - подумали мы и когда же подошли поближе, то оказалось, что это не листовки, а настоящие советские деньги. Их было много-много. Я никогда сразу не видел столько денег. Они лежали отдельными бумажками, попадались целые нераспечатанные пачки. Кто-то сказал:
- Наверное, в начфина бомбой угодило.
Деньги подействовали на всех опьяняюще. Даже самые флегматичные проявляли особую прыть. Вначале деньги клали в карманы, потом сняли вещмешки и стали набивать деньгами. Наш лейтенант сказал, что мы их сдадим по назначению. После его слов интерес к деньгам сразу исчез.
Спустя некоторое время Мишка развязал свой вещмешок и вытряхнул из него все до бумажки.
- Берите кому надо. - Сказал он. - Они тяжелые. Без них легче.
Глядя на него, то же самое сделали и другие. В конце концов интересно таскать на себе свое имущество. А чужие деньги, которые тебе придется сдавать к чему носить, да еще сколько. Хорошо, если тебя не обвинят в ограблении. Деньги мы побросали без сожаления, а, может быть, и с радостью. Даже стало как-то легче без них. "Вот так история" - рассуждали мы, - "Если кому рассказать потом в тылу - не поверят. Чтобы бросить столько денег! Может быть и до нас их кто-нибудь носил, но потом, перепугавшись, выбросил как и мы".
После дневных переживаний здесь, в тихой деревне, как-то сразу захотелось кушать. Решили пообедать шашлыком. Предложение всем понравилось. Неподалеку от сгоревшего сарая, где еще тлели толстые бревна, валялась убитая корова. Быстро нарезали крупные куски мяса, нанизали их на трехгранные русские штыки, что в изобилии валялись тут же примкнутыми к винтовкам. Подержали над тлеющими угольями и шашлык готов. Только почему-то вкус у нашего шашлыка был не шашлычный. Настоящий шашлык пахнет вкусно, аппетитно. Наш же имел запах неприятный и от него тянуло рвать. Я сразу отказался от такой еды. Мне казалось, что мы едим мертвечину и я отошел в сторону.
Ночь застала нас здесь же, в сгоревшем селе. Сами мы были растеряны, перепуганы, надеялись на нашего лейтенанта, а он сам не знал, что нужно делать и что предпринимать. Решили ночью не испытывать нашего счастья и переночевать в селе. Утром же, судя по обстановке будет видно, что делать. Стрельба с наступлением темноты прекратилась и только где-то далеко то чаще, то реже рвались бомбы. По-видимому, бомбили железную дорогу. Машину загнали в кустарник за селом. Надеясь, что здесь мы будем незаметны, без охраны и предосторожностей все сразу, уснули глубоким сном праведников.
Утром проснулись все сразу, как по команде. Рядом ходила лошадь. Увидев нас или еще что-то, лошадь заржала и разбудила всех. Солнце еще не взошло, но было уже светло. Прислушались. Стрельба была обычная, монотонная, без подъема и ожесточения. Стреляли, как и вчера вечером, на прежнем месте. Эта обычная перестрелка ни у кого не вызывала никаких чувств. Фронт был где-то километрах в 10-12. Так далеко загнал нас страх, а, может быть, и общее положение бегства и общей паники. Страшное дело эта всеобщая паника. Очень заразное явление. Этот страх смерти может остановить тоже страх смерти. Только более сильный и неотвратимый.
По- видимому, заградительные отряды в некоторых случаях вполне целесообразны и себя оправдывают. Решительные и суровые меры могут предотвратить тяжелые и далеко идущие последствия. Я вспомнил комиссара Бельченко с пистолетом в руках, убитых паникеров, цепь солдат и пулемет на пригорке. Воспоминания о страшном вчерашнем дне и мужественном Бельченко на меня подействовали благотворно. Я решительно настроился вернутся туда, где стреляют. На кой черт сдались мне эта штабная машина и ее дурацкое барахло. Пусть ее охраняет лейтенант. Ведь вчера-то я не собирался ездить на этой машине и не моя вина, что обстоятельства сроднили меня с этой машиной и ее пассажирами. Своими сомнениями я поделился с Мишкой. Он согласился со мной и сказал, что лучше всего будет, если мы вернемся все вместе с лейтенантом. Находясь под начальством лейтенанта мы чувствовали себя увереннее. Никто не смог бы заподозрить нас в дурном. Кроме всего, наличие при нас столь важной штабной машины с имуществом придавало нам определенный вес и смысл наших поступков. Лейтенант тоже все это понимал не хуже нас, а может быть, еще и получше. Но что мог он сделать! Мы были в полном неведении событий. Где сейчас находятся наши части, куда нам ехать? Что делать? Вскоре выяснилось, что все мы одинаково мучаемся одними и теми же сомнениями. Ведь другие-то еще дерутся. Значит, не все еще пропало. А кроме всего, если в панику ударились только мы, значит, мы трусы и дезертиры. Сами убежали, да еще и подвели других. Ведь мы связь штаба дивизии. Что нам делать?
Все сидели молча, смотрели вниз, изредка переговариваясь. Наш лейтенант тоже молчал и чего-то ждал. Нас-то конечно легко было понять, чего мы ждали. Мы ждали распоряжения своего лейтенанта. А он чего ждал и молчал?! Выждав подходящий момент, я, ни к кому определенно не обращаясь, сказал:
- Ну что, поехали?
- Куда? - Спросил лейтенант.
- Домой! - ответил я. Все засмеялись.
- А что, братцы-славяне, поехали на старое место. Может быть, фронт еще там! - сказал Мишка.
- Мое дело шоферное. Куда прикажете, - ответил шофер, - машина готова. Прикажете подать? - снова все засмеялись.
- Ладно, - сказал лейтенант, - поехали обратно, своих будем искать.
Агитировать никого не пришлось. Выехали из кустарника. Мимо тлеющих пожарищ, воронок от бомб и уже дурнопахнущих убитых людей и животных выехали на главную улицу бывшего села. Остановились. Дальше ехать было нельзя. На дороге нескончаемой вереницей в строю шел пехотный полк. Полк был еще не обстрелянный, подтягивался откуда-то из резерва и спешил на выручку, на передовую. Из разговоров с солдатами выяснилось, что полк идет своим ходом откуда-то издалека. Шли ночами. Днем прятались от авиации по лесам и оврагам. И вот, за эту ночь полк, проделав километров 40-50 пути, еще утром надеется занять позиции на передовой. Точного расположения фронта они не знали. Солдаты выглядели сильно уставшими. Видимо, беспрерывные ночные марши сильно измотали их. Они выглядели как уставшие невольники. Солдатские каски, противогазы, лопаты и все, что казалось тяжелым и за что не сильно наказывали, все было выброшено. Лишь у немногих на винтовках виднелись штыки. Другие либо утеряли их, а может быть, просто выбросили. Штыки нам всем, солдатам, иногда казались необъяснимым анахронизмом. Мы считали, поскольку нам не дали патронов, то и надежды наше командование возлагает на штыки. Казалось глупо, да куда денешься. Ты солдат и делай то, что тебе приказано. Не всем дано право размышлять, тем более высказывать свое мнение.
Движущийся к фронту полк был явно небоеспособен. Некоторых солдат, больных или уставших, везли на телегах или, как мешки, несли на руках. Лошади в повозках были классические клячи из карикатурных картинок. До встречи с этим полком мы, солдаты, считали себя плохо укомплектованными и небоеспособными. Теперь же, глядя на этот несчастный, заживо погибающий без боя полк, в нас появилось двоякое чувство. С одной стороны перед солдатами проходящего полка у нас появилось к самим себе чувство эдакого сытого барского превосходства перед ними. С другой же стороны, глядя на них, мы видели свой жуткий, ничем не оправданный и не объяснимый конец. Зрелище было ужасное и оно действовало на сознание. Стрельба только разгоралась. Самолеты еще не летали. День только начинался. Усталый полк во что бы то ни стало спешил еще утром занять свои позиции. Глядя на них мы никак не могли понять, как это такая масса людей храбро идет, не боясь самолетов. Ведь уже день на дворе и не ровен час появятся самолеты. Шофер через дверцу машины начал было предупреждать солдат.
- Братцы! - Крикнул он. - А вы разве самолетов не боитесь?
Никто ничего не ответил, солдаты продолжали движение. Шли они то неровным строем, то отдельными большими толпами. Уставший организм, чтобы хоть как-то сохранить остаток сил, перестал реагировать на окружающее. Наверное им было все равно. Полковник же, так удачно доведший свой полк до фронта, по-видимому, решил, что оставшийся десяток километров до передовой он сумеет проскочить так же без потерь. Солнце еще не взошло. Высоко в небе появились первая "рама". Не обращая никакого внимания на движущуюся колонну войск, пролетела мимо.
- Ну, теперь надо отсюда сматывать удочки, да подальше. - Сказал лейтенант. - Поехали!
- Куда поедешь? Видите, вся дорога забита людьми. Давай лучше назад! - Ответил шофер. Солдаты в колонне тоже начали принимать меры предосторожности. Кто-то подал команду "воздух!"
Колонна вначале было рассыпалась, но, видя, что самолет уже улетел, снова собрались в строй и продолжали свое движение к фронту. Мы же стояли на месте и никак не могли выехать на дорогу. Не прошло и 10 минут, как началось неожиданное.
Откуда- то с большой высоты с душераздирающим воем на солдат посыпались бомбы. Солдаты быстро разбежались, укрылись. Самолеты, сбросив несколько сот, а может быть, и тысяч больших и мелких осколочных бомб, спустились ниже и стали поливать землю и солдат из пулеметов. За первой отбомбившейся партией самолетов сразу же появилась вторая такая же партия. Подходя к цели, самолеты вытянулись в длинную цепочку и по одному по очереди пикировали на колонну, на повозки. Выходя из пике, самолеты обстреливали их из пулеметов. С земли никто им не отвечал. Большие, двухмоторные самолеты с черными крестами на крыльях избивали беззащитных солдат, как хотели.
Потом, сделав холостой круг, как бы осматривая содеянное, выбросили листовки и улетели. Солдаты после бомбежки медленно стягивались к дороге в строй. У некоторых в руках были листовки. Листовки читать было строжайше запрещено. Однако после такого страха, наверное, позабыли выбросить. В листовках немцы хвалились своими победами, предлагали сдаться в плен, ругали жидов и коммунистов.
На одной из листовок была фотография. На ней было снято, как наши военнопленные хорошо живут в плену. Столы, накрытые белой скатертью. На столах в тарелках много хлеба и солдаты чего-то кушают из тарелок. Рядом ходит повар с половником и разливает ковшом в тарелки еду. На одной из таких листовок среди наших военнопленных сидит за столом сын Сталина и тоже кушает из тарелки. Было интересно смотреть такие листовки и фото. Все мы, конечно, понимали, что это все не так на самом деле. Что все это пропаганда, с помощью которой нас, солдат, пытались соблазнить. Однако метод соблазна был интересен. Было интересно знать, во что ценят тебя твои враги и на какую приманку рассчитывают, что ты клюнешь. Некоторые говорили, что, может быть, и в самом деле где-то кормят так, но ведь на фото сидит сын Сталина. А нам все равно одинаково, что здесь, что там плохо. Все-таки как здесь ни плохо, а все равно у себя дома всегда лучше. Себя мы считали людьми надежными, думали, что и вся наша армия такая. Потому иногда возникали споры. Мы рассуждали: на кого рассчитаны данные листовки. Если это враг, то он и без листовки убежит, а если это свой, то маловероятно, чтобы он мог клюнуть на такую дешевую приманку. Однако несмотря на запрет, было интересно читать вражеские листовки и мы их читали. Читали, правда, потихоньку. Другие же демонстративно не читали их и ругали тех, кто читает. Интересно знать, читали ли они сами их наедине, тайно, эти листовки. Рассыпавшийся после бомбежки полк собирался медленно. Солдаты были возбуждены и боялись, что самолеты могут вернуться снова. Потери были небольшие. Что не говори, а солдаты прятаться от бомбежек были обучены достаточно хорошо. Наверное, уже столько раз попадали под них пока дошли до фронта. Действовали они умело. Всю эту картину нам хорошо было видно из нашего убежища в большой воронке. Санитары подобрали раненых. Погрузили на повозки. Некоторых раненых несли на руках или на спине верхом. Кое-как построившись, полк двинулся к передовой. Убитых никто не подбирал. Они были брошены в поле на произвол судьбы и милость кого угодно. Собственно говоря, по дорогам и в полях лежало так много убитых и раненых, что они примелькались и никто на них не обращал внимания. Была такая суматоха, что даже живые не знали, куда им деться. Госпитали были переполнены. Под конец, бомбами они же превращены в щепки, а люди побиты. Всякий медперсонал погиб, частью разбежался. Не было ни одного приличного дома в деревнях, который уцелел бы. Бои были тяжелые. С каждой стороны в них участвовало по нескольку современных армий. Грохот был непрерывный и люди так привыкли к стрельбе и бомбам, что перестали обращать на них внимание. Казалось, что все это касается кого-то другого, а не тебя. Рядом с передовой, если туда не часто залетали пули и снаряды, крестьяне пахали землю, старухи пасли коров и ничего. Прятались только тогда, когда опасность угрожала явно. Может быть, в этом был смысл. Ведь села бомбили, в них шла война. В поле или в овраге, кому нужна старушка с коровой или козой. Вот она и сидит в овражке. Спокойно вяжет чулок и посматривает за коровкой. Снаряды-то в овраг не падают, они летят дальше, через овраг. Однако мы после такой бомбежки, которую получили на завтрак, сразу ехать не решились, обороняться от самолетов у нас было нечем. Немцы же, чувствуя безнаказанность, просто издевались над нами. С самолетов они бросали на нас пустые бочки, рельсы, гвозди. Иногда захватят в поле красноармейца, и начнется издевательство. Зная, что днем машина может погубить, лейтенант приказал загнать ее в кусты и замаскировать. Поставили мы ее в вишневом садике возле речки на окраине села. Делать нам самим было нечего, и каждый занялся чем угодно, лишь бы прошло время. Я с Мишкой пошел к раненому юноше-красноармейцу, что лежал возле санитарной машины. Юношу знобило, ему было плохо. Однако в нашем присутствии он приободрился, стал разговорчивым. Красноармеец рассказал нам, что он окончил 10 классов. Началась война и его взяли на фронт. Дома осталась одна мать, о которой он ничего не знает, так как дом попал в оккупацию и что после войны он снова хотел бы попасть домой. Поговорив некоторое время с раненым, Мишка как бы между прочим вспомнил.
- Братцы! - Сказал он. - А я знаю, где стоят ульи. И знаю, как оттуда достать мед.
Рукой Мишка показал на зеленую лужайку, где стояло несколько ульев и на которые никто не обращал внимания.
Решили, что село все равно сгорело, а раз нет села, то нет и хозяев пчел. Не ровен час могут нагрянуть немцы и тогда все достанется им. Чем такие вкусные вещи оставлять немцам, пусть лучше мы их сами съедим. Кроме всего мед хорошо помогает больным и раненым. Раненый паренек ведь наш воин. Ему также неплохо полечиться медом. Дадим ему меда, чтобы он быстрее поправлялся.
По дороге к пчелам Мишка сказал, что лучший способ избавиться от укусов пчел - это стрельнуть им в лоток улья. Пчелы сдохнут от стрельбы и тогда мед свободно, только бери да ешь. Я сказал, что и без тебя знаю. Подошли к улью, из летков постоянно вылетали и залетали пчелы. Сняли шинели. По очереди в леток выпустили из винтовок по обойме патронов. Когда стреляли, то крышки сверху улья подпрыгивали. Теперь-то, каждому было ясно, что пчелы сдохли от такого грохота. Сняли с улья крышку. Впрочем, она сама отскочила еще при стрельбе. Под крышкой лежал тюфячок и холстик. Когда начали отдирать холстик, вспомнили, что у нас нет посуды, куда класть мед. За посудой побежал Мишка. Я остался возле улья. За посудой он бегал долго, из улья пахло вкусным и я, не дождавшись его, содрал с улья холстик. Запахло еще вкуснее. Потянул вверх рамку. Она не поддавалась. Пчелы крепко приклеили ее к корпусу. Я достал штык, поддел на него рамку и быстро без затруднений вытащил ее из улья. На рамке сидело тысячи пчел. Вначале они сидели вроде бы спокойно и, казалось, даже не шевелились, наверное, одурели от стрельбы. Однако, почти сразу, как только я вытащил рамку и пчелы увидели свет, они как по команде все бросились на меня. Жалили они здорово. А главное, я не знал, как от них отвязаться. Без шапки, в одной гимнастерке, я бегал по полянке и руками пытался отмахиваться от целой тучи пчел. Пчелы жалили меся десятками. Я бегал и кричал, чтобы Мишка чем-нибудь помог мне. Он же, увидев такое страшное дело, бросил ведро, которое нес для меда, а сам побежал к сгоревшей санитарной машине. Раненый в ноги красноармеец на руках пополз под машину. Кто-то издали крикнул: "Лезь в речку". Недолго раздумывая, я подбежал в берегу и с головой погрузился в воду. Пчелы жалили так старательно, что даже под водой от лица я их отдирал пальцами. Пришлось несколько раз окунуться в воду с головой. Пчелы покружили над речкой и над моей головой и медленно разлетелись. Все то зло, которое пчелы хотели выместить на нескольких разорителях улья, они отплатили одному мне. Даже когда пчелы улетели и я вылез из воды, одиночные пчелы появлялись откуда-то и опять жалили.
Прошло часа два. Я успел высушить свое обмундирование. В кабине машины сам отогрелся, однако вид у меня был весьма жалкий. Лицо мое распухло, глаза закрылись и я ничего не видел. чтобы посмотреть, приходилось руками раздвигать веки… Всем по этой причине было очень весело и они смеялись надо мной сколько хотели. Потом, при встрече с другими красноармейцами, Мишка показывал меня и говорил, что мы попали в такую страшную бомбежку, что приходится удивляться, как только мы остались живы. Меня якобы контузило, отчего я весь распух. Все качали головой, жалели меня и тоже удивлялись. Все-таки такую контузию не всем приходилось встречать. Мне оставалось только молчать и ждать своего исцеления. Стрельба к середине дня усилилась. День 21 мая с самого утра отличался особенно сильными налетами немецкой авиации. Это был день полного и очень эффективного господства немцев в воздухе. Казалось, все небо занято немецкими самолетами. Они беспрерывно летали, то поодиночке, то большими группами. К нашему еще большему огорчению, мы совсем не видели своих самолетов. Стоило только заслышать звук самолета, как раздавалась команда "воздух" и все разбегались прятаться. Это отнимало много времени, замедляло передвижение войск и вселяло неуверенность. Поле, которое мы пытались быстро проскочить на машине, было заполнено разным людом. По нему куда-то шли солдаты, и люди в гражданской одежде. На плечах несли свои медные трубы музыканты. Все это мешало быстро ехать. Ко всему на низкой высоте откуда-то вылетел однокрылый, небольшой немецкий самолет. Машина остановилась, мы выпрыгнули прятаться. Самолет нашей машины не тронул. Я лежал в густой пшенице и мне хорошо было видно как он все время крутился вокруг телеграфного столба и иногда стрелял из пулемета. Я приподнялся и увидел метрах в 40-50 от меня телеграфный столб, за которым прятался музыкант с большой блестящей трубой на плечах. Летчик летал вокруг столба и пытался попасть в музыканта. Тот же, видя, что ему спрятаться негде, тоже ходил вокруг столба и прятался от самолета. Поединок закончился вничью. Самолет подлетел поближе к столбу, летчик открыл стеклянную кабину и весьма энергично погрозил музыканту пулеметом. Музыкант не остался в долгу. Сняв штаны, он низко нагнулся и поприветствовал летчика голым задом. Посрамленный самолет улетел не оглядываясь.
Наконец, собравшись, мы быстро проскочили поле и спрятались в лесистом овраге. В овраге в отдельных углублениях лежали штабеля снарядов, их было очень много. Здесь же, между складами снарядов прятались солдаты разгромленных частей. К нашему удивлению, там же оказался чуть ли не весь наш батальон связи. Здесь было 1/3 часть нашего людского состава. Среди связистов находился и старшина батальона. Увидев нас, он принял начальствующий вид и с усмешкой спросил:
- Ну что, герои?! И далеко забежали?
Можно было подумать, что он лучше нас. Связисты из батальона были рады встретить нас. Они смеялись и наперебой со смехом рассказывали кто как и куда убежал в страхе. Лишь по совершенно случайным обстоятельствам многие из батальона неожиданно для самих себя встретились в этом лесочке в овраге. Все они были линейными связистами и им было немудрено отбиться от части. Но то, что мы, самые что ни на есть штабники, потерялись от части, для них это было неожиданностью. Причем, по некоторым причинам, неожиданностью приятной. Меньше страха перед начальством. Судя по всему, наше старшее начальство само сейчас где-нибудь подобно нам ищет свою часть. Вскоре все прояснилось и встало на свои места. Наш старшина, собрав возле себя солидную группу связистов, организовал поиски своей части. В разные направления он послал на разведку людей и к нашему приходу она уже возвращались и докладывали. Один из связистов набрел на штаб дивизии и оттуда с ним откомандировали за нами офицера. Обрадованные удачей, с хорошим настроением, строем мы двинулись в свою часть на передовую.
В дороге, поиграв с немецкими самолетами в прятки, без потерь, примерно через час ходьбы мы вышли на пригорок, где располагался наш штаб дивизии. Из бункера во все стороны шли провода. Значит, связь действует. Интересно было знать, кто же все-таки держит связь? Землянок было несколько. Солдат вблизи не видно. И только из землянки в землянку было заметно движение генералов, полковников и других высоких чинов. Позже мы узнали, что на этой небольшой возвышенности, окруженной мелколесьем и оврагом со стороны передовой, расположились наш штаб дивизии и штаб шестой армии. Во всем чувствовалась подтянутость, солидность. Всех связистов расположили в пустой зигзагообразной щели. Мы с Мишкой пошли на узел связи в землянке, где располагался узел связи штаба дивизии, нас встретили словами: "А! Вот и они явились". Мы с Мишкой делали вид людей, сильно пострадавших и не знали, что нам делать. У коммутатора сидел ст. лейтенант Лереинов. У рации свой постоянный радист, а у телеграфа Восков. Боем по телефону командовал полковник Яковлев. Улучив момент, полковник сказал:
- Вот и хорошо. Откуда вас Бог послал? Садитесь за работу. Подмените напарников. Они уже третьи сутки не спят.
Мы сразу принялись за дело. Мишка сел за коммутатор, а я рядом возле нескольких телефонов, по которым отдавал распоряжения полковник. Он был спокоен. Распоряжения по телефону отдавал ровным голосом и это на нас хорошо действовало. Метрах в 30 от нас находилась землянка штаба армии. Они имели связь непосредственно с Москвой. Говорили, связь телеграфная. Каким образом она сохранилась в этом хаосе, понять трудно.
Стрельба на передовой не прерывалась, но была какой-то вялой и лишь иногда с небольшими подъемами, истеричной. Бой шел примерно в одном километре от нас. Правильно будет сказать, что село, которое мы пытались взять с боем, находилось в километре от нас. А полем боя являлось пространство от наших землянок до самого села. Немецкие снаряды рвались и у села и вокруг наших землянок и в поле. Село называлось Михайловка, а может быть и Лозовое. Сел с названием Лозовое, хутор Лозовой и т.п. там было много. Через много лет названия мест и имена людей, с которыми чем-то был связан, забываются. Такое село с названием Михайловка наша пехота штурмовала со вчерашнего дня. Однако все наши попытки легко отбивались немцами. Со слов связистов, немцы отбили с утра уже четыре атаки наших войск. С каждым разом штурмующие войска несли потери. Появилась острая нужда в патронах и снарядах. Взять их было негде.
Вокруг было очень много разных снарядов, но к нашим пушкам они не подходили. Снаряды были английские, очень много немецких и кое-где советские. Все они нам не подходили. Артиллеристы сидели на голодном пайке.
Когда на минутку удавалось выйти из землянки, хорошо было видно все поле боя: село с горящими домами, разрывы снарядов и движение людей. Мимо нас в обе стороны беспрерывно шли красноармейцы раненые, санитары, вестовые, а иногда организованно куда-то спешили целые подразделения войск.
Из лесочка и длинного оврага, где укрывались основные части наших войск, периодически выходили пехотные цепи красноармейцев. Вначале эти цепи были ровные, как в кино. Солдаты шли медленно и, казалось, неохотно. По ровным цепям начинала бить немецкая артиллерия. Цепи расстраивались, редели. Ближе к деревне цепей уже было не видно. Солдаты шли вразброд и кто как мог. Перед самым селом вообще никого не было видно. Там была стрельба, дым. Иногда редко доносилось недружное "ура", которое почти сразу глушилось нарастающей стрельбой. Так выглядела война, если на нее глядеть сверху с командного пункта дивизии. Внутри же землянки впечатление о ходе боя не было к лучшему. В полумраке возле аппаратуры спят сменившиеся от работы связисты. Кого-то по радио безнадежно вызывает радист. Полудремлет телеграфист. И только коммутаторник в беспрерывном движении. Он соединяет и разъединяет по проводам соседние части. Я сидел рядом с полковником Яковлевым у телефонов и без конца поднимал гудевшие трубки телефонов. Отвечал на вопросы или передавал трубку полковнику. Из полков шли нам посредственные, неутешительные новости. В полки от нас всякие грозные приказы. Первые часы боя мы с Мишкой себя чувствовали как в настоящем деле. Наше настроение было приподнятым. Наши движения были быстры и профессионально точны. В наших голосах чувствовалась энергия и молодцеватость. Однако на вторые сутки сидения у аппаратов наша энергия сменилась пассивной скукой и безразличием ко всему. Отоспавшихся сменных связистов куда-то послали. Обратно они не вернулись. Отдыха в перспективе не предвиделось. Хотелось кушать. С передовой из полков шли нерадостные и безрезультатные сообщения. Зато из штаба армии пришло страшное слово - мы окружены. А нашим спасением было пробиться через Михайловку, которую мы штурмуем безрезультатно уже трое суток.
Под конец несменяющейся смены у меня стал ломаться голос. Я то басил, то переходил на визг. Наконец перешел на шепот. Пришел старший лейтенант Лереинов, привел с собой еще связиста. Нас заменили. Мы вышли из землянки наверх. Там у села шел непрекращающийся уже несколько суток бой. Смерть и страх боя меня касались отдаленно, относительно. Я имел достаточно времени, чтобы наблюдать чужие смерти, поразмыслить о превратностях человеческой судьбы. Я как древний римлянин в театре, со своего возвышающегося пригорка имел возможность наблюдать за обоими сражающимися сторонами. Разница была в том, что исход боя здесь решал и мою судьбу.
Вот впереди меня метрах в двухстах из оврага длинной лентой движется к передовой большая воинская часть красноармейцев. Их тысяча, а может быть, больше. Идут они уже не в цепи, как прежде, а просто неровным и негустым строем. До села еще далеко, пулей не достанешь. К снарядам и бомбам как-то уже попривыкли. Да и немцы, пока не подойдешь близко к селу, не очень обстреливают. Идут не прячась, немцы не обстреливают. Их наблюдатель видит нас. Он спокойно расхаживает на пригорке метрах в восмистах от нас. Только левее наших частей. Наши артиллеристы пытались снять его. Стрельнули из пушки раза три, мимо. Снарядов больше не было. Так он и остался стоя наблюдать за нашими частями. Стоило нашим солдатам пройти с полпути к деревне, как вялый немецкий артобстрел сразу превратился в очень сильный. Куда им, немцам, было торопиться? Снарядов у них было много. Видят они нас еще лучше чем мы сами себя. Ответить им тем же самым мы не можем. Ну и били нас на выбор. Увидев, что колонна уже вся вышла из оврага, немцы ударили по ней по-настоящему из пушек. В центре колонны почти сразу длинной цепочкой взорвалось пятнадцать-двадцать снарядов. Красноармейцы потеряли строй, начали бежать вправо, в лесочек. Немецкие снаряды следовали несколько позади бегущих солдат. Казалось, они подгоняют красноармейцев. Наши солдаты пытались оторваться от арт-огня. Они бежали все более вправо к лесочку. Там в мелколесье стоят замаскированные наши танки. Солдаты бегут туда. Танкисты не пускают их. "Куда вы бежите!" - кричат они, - "бегите быстрее к селу". Однако никто никого не слушает. Сюда, на край поля пред лесочком, немецкие артиллеристы согнали большую часть нашей колонны. Здесь, согнав солдат в кучу, немцы открыли по ним беглый огонь. Наверное ни один снаряд не пропал даром. Вверх летят человеческие тела, земля, дым. Такое избиение людей можно назвать не войной, а преступлением. Появляется желание спросить у кого-то из своего начальства "Чему же вы учили своих солдат? Или почему вы, начальники, не научили наших солдат войне?". Появляется стыд за все виденное. Стараешься уговорить себя, что это не ты виноват в этом. Что произошло что-то гадкое и непредвиденное. Или же успокаиваешь себя тем, что это же война. А на войне так и бывает. Беглый огонь длился минут пять. За это время уцелевшие красноармейцы успели разбежаться и укрыться. Артобстрел прекратился. В тыл мимо нас идет множество раненых. Одни идут сами. Других несут. Очень много было сопровождающих. День был сырой и холодный. Чтобы согреться в окопе с помощью писем из дома развели небольшой костер. Мы с Мишкой сидели возле окопчика. Грелись у костра, грызли сухари, еду солдатскую и наблюдали за происходившем вокруг. Идущие в тыл раненые были в хорошем настроении. Конечно, легко раненые. Тяжелые остались на поле боя. Для них, раненых, казалось, война окончена. Однако винтовок никто не бросал. Некоторые подходили ближе. Они спрашивали, где находится госпиталь. Некоторые предлагали патроны. Вынимали из кармана 3-4 патрона и отдавали нам. У некоторых было по целой обойме, а то иногда и по две. Все это мы брали. Патронов не хватало.
Подошли двое солдат. У одного перебита нога. Другой - сопровождающий. Тот, кто был ранен, морщился, охал, но было видно, что он доволен. Сопровождающий был угрюм, зато помочь раненому старался очень.
- Здорово, братишки! - Заговорил сопровождающий.
- Здорово. - Ответили мы.
- Не скажете нам, где находится госпиталь?
Госпиталь мы не знали где находится. Оба солдата присели отдохнуть возле нашего огонька. Мишка подбросил в огонь мокрого хворосту. К небу потянулся густой столб дыма. Пришедшие солдаты попросили было поубавить дыму.
- Стрельнет, - сказал раненый, - и до госпиталя не дойдешь.
Однако Мишка был упрям и сумел доказать, что снаряд не может попасть в узкий окоп. Кроме всего, немцы нами не интересуются и в нас не стреляют. Солдаты рассказали, что им дали по 30 патронов на солдата из которых им так и не пришлось ни разу выстрелить. Немцев они не видели. Оставшиеся патроны солдаты отдали нам.
- Берите, вам они еще могут понадобиться. Нам они уже не нужны больше.
- Для меня война уже кончилась, - сказал раненый и засмеялся. Хотя мы уже набрали достаточное количество патронов, от предложения солдат не отказались. Нам, связистам, выдали по 15 патронов на человека. Да и то, их пересчитывали у нас в день по два раза. За каждый недостающий патрон строго спрашивали.
Я сидел на краю окопчика. Слушал рассказы солдат и поглядывал за овраг, где почему-то снова начали рваться снаряды. "Как бы в нас не попали" - подумал я.
- Потуши огонь, - сказал я Мишке. Тот же вместо того, чтобы потушить, назло всем, стал раздувать его. В этот момент послышался короткий свист, на землю что-то упало тяжелое. Взрыва не последовало. Меня как ветром сдуло вниз в окопчик. Я упал прямо на Мишку, который в это время дул на огонь.
- Чтобы вы подохли все! - ругался Мишка. Ушибленные мной при падении солдаты пытались приподняться, они тоже ругались. Стал вопить раненый солдат. "Ой! ногу, ногу!" - кричал он. Я приподнял вверх голову и напугался еще больше, чем сначала. Неразорвавшийся большой снаряд с белой головкой, прополз несколько метров по мокрой траве, поднялся на насыпь возле окопчика и, не упав в окоп, смотрел на нас, готовый взорваться в любую минуту.
В первый момент я как бы потерял способность думать и двигаться. Но уже в следующий миг быстро вскочил на ноги, выпрыгнул из окопчика и, отбежав несколько метров подальше от снаряда, упал на землю. Следом за мной из окопчика выскочили и другие. Даже раненый в ногу. Снаряд килограммов на 30-35 не разорвался. Мы отделались испугом. После такого сюрприза греться уже не хотелось. Нам и без огня стало жарко. В овражке в кустах стояла чья-то кухня. Кушать она отпускала всем, кто бы ни попросил. Закусили и мы. На душе стало тепло и мир стал казаться удобнее.
Решили посмотреть на поле убиения наших солдат поближе. Там еще рвались снаряды. Спустились в лощину. На склоне оврага без всякой маскировки лежало много наших раненых. Их белые повязки из бинтов резко выделялись на темном фоне оврага и были видны далеко на расстоянии. Между раненых ходили молоденькие медсестры. Раненых было много. Не хватало бинтов. Раненые стонали, ругались. Медсестры делали все, что было в их силах и, как мне показалось, переживали за раненых еще больше, чем они сами. Ведь у них профессия такая. Чтобы забыв про все и про себя также, оказывать помощь пострадавшим. Подчас такие действия медсестер бывали связаны с большим риском. Оценивали ли это самопожертвование молоденьких медсестер сами раненые? Наврядли. Чаще ругали, обзывали медперсонал помощниками смерти или же обидным словом "коновалы". Груб еще наш народ. Ему жизнь спасают, а он с откровением плюет тебе в лицо. В овраге немного побеседовали с ранеными, с медсестрами. Все жаловались на нехватку бинтов.
Сразу за оврагом начиналось само поле боя. Оно было гораздо большим, чем казалось издали. Повсюду в изобилии валялось разное оружие, солдатское обмундирование, убитые и растерзанные солдаты. Сразу стало как-то обидно и грустно. Убитых никто не подбирал. Да и подбирать-то было некому. Медленно ходили мы между убитых. Одни лежали вниз лицом. Другие на спине. Лицом вверх лежало больше. Лица у всех спокойные, ничего не выражающие. У многих запачканные кровью. Я поинтересовался, кому принадлежало тело небритого мертвеца лет сорока. Ранений у него нигде не было видно. Наверное, контузия. В нагрудном кармане, где должны были лежать его документы, ничего не оказалось. Дольше возиться с убитым было как-то неприятно и я отошел дальше.
Сколько здесь было загублено людских жизней. Сколько живых людей в тылу будет с надеждой ждать своих отцов, мужей и больше никогда не дождется их. Они даже не будут знать, что случилось с ними, с их близкими. А ведь убитые до этого тоже были живыми людьми. Они, как и все живые люди, жили, радовались успехам и огорчались неудачам. Для них теперь все это исчезло, как и они сами. Они закончили свои дела на земле. Они умерли смирно, покорно, без ропота и даже без сопротивления. Такова их судьба. Им было положено умереть здесь. Их убили как муху хлопушкой на столе. Они своего врага даже близко не видели. Почему все это так? Кого это радует? Кому нужна здесь смерть простых людей, стоящих далеко от всякой политики? В этот момент было много почему и зачем. Раньше, когда я еще не видел живого поля боя (хотя это поле не было полем боя: его лучше назвать полем расстрела или полем преступления), оно мне представлялось иным, полным героизма и вдохновения к подвигам. Однако, как я понял позже, этот героизм смерти на войне описывается людьми, которые либо не видели эту смерть на войне либо восхваляют ее по заказу.
Первое время было даже интересно рассматривать скорченные в разных позах тела убитых. Однако этот непонятный интерес первого времени, быстро переходит в протест души. Организм вырабатывает иммунитет от лишней чувствительности против всего этого. Убитые уже не интригуют, а вызывают чувство некоторой печали и большого безразличия. Чувство закономерной необходимости. Ведь все равно никому не поможешь и ничего не изменишь. Становится серо и скучно. Так и мы. Походив среди убитых быстро и, наверное, на всю свою жизнь, удовлетворили острое чувство любопытства и убитых на поле боя. Грустные мы возвращались обратно к себе. Вот уже и овраг с нашими ранеными, которые стонут, просят помощи и ругаются на все и всех. Будто договорившись, круто повернули влево. Никому не хотелось видеть этих раненых, которые производили тяжелое впечатление. Однако мы не успели обогнуть этот самодеятельный госпиталь. Из разрывов низких облаков вылетели три одномоторных немецких самолета. Они вначале было пролетели мимо. Но сделав круг, самолеты вернулись и мы увидели еще более печальное, чем только что виденное, поле боя.
Летая цепочкой по кругу над ранеными, самолеты, неглубоко пикируя, сбросили бомбы. Вверх полетели черно-красный дым, земля и куски человеческих тел вместе с белыми бинтами. Эти белые бинты на раненых были отлично видны сверху. Было бы стыдно не попасть в такую хорошую мишень даже плохому летчику. И немецкие летчики не стыдились. Опустившись еще ниже, они полили землю из пулеметов. Белые повязки раненых стали расползаться в стороны. Кто-то из медсестер махал летчикам белым платком. По-видимому, пытался указать летчикам на их ошибку.
Самолеты летали совсем низко и нам с земли хорошо было видно летчиков. Настоящий огненный дождь трассирующих пуль лился из самолетов на раненых красноармейцев. Ничто не могло остановить их. Было страшно и обидно. Все-таки всегда считалось что человек не зверь. Понимать же такие дикие развлечения летчиков было трудно. Сделав еще несколько таких же звериных заходов, самолеты внезапно скрылись в низких и густых облаках. Мы не стали рассматривать следы преступления. Предвидя, что хулиганы могут вернуться снова, выскочили из своего укрытия и быстро перебежали овраг. От всего виденного было тяжело на душе. Мы шли молча, ни о чем не разговаривали. Было и без разговоров все ясно и понятно.
Впереди показалась кухня. Решили покушать еще раз, про запас.
Не дойдя до кухни, услышали, как сзади, в овраге, где только что бомбили наших раненых, послышалось урчание моторов. Решили, что это наши танки хотят занять выгодные позиции для атаки. Желание увидеть нашу танковую атаку было большим. Вернулись назад в овраг. Из-за кустарника было хорошо видно, как по лощине, маскируясь в кустах, шла колонна танков. Откуда они идут? Что такое? На наших танках черных крестов не бывает. И форма танков не наша. Я посмотрел на Мишку. Лицо его сделалось серым, черты лица заострились. Тихо, не говоря друг другу ни слова, будто увидели самую смерть, ушли в кусты. Потом бегом, что было силы, выбежали к кухням, рядом с которыми проходила наша связь. Связь шла от штаба дивизии на противотанковую батарею, что стояла невдалеке от кухни. Батарея прикрывала дорогу в сторону штаба дивизии и дальше. Мы прибежали первые. С собой у нас были лишь старые телефоны, вмонтированные в телефонную трубку. Пока танки огибали кустарники и по оврагу пытались выйти на дорогу, мы включились в телефонную сеть нашей дивизии. Говорили мы быстро, отчаянно и, по-видимому, убедительно. Во всяком случае, артиллеристы зарядили свои пушки, прильнули к прицелам и стали ждать. Стоило первому немецкому танку подняться из оврага вверх на дорогу, как он сразу же остановился. Через несколько секунд из танка показался черный дым, огонь. Стало понятно, танк загорелся.
Выстрела из пушки мы не слышали то ли от того, что был не сильный и мы его за общим шумом не расслышали. То ли мы сильно волновались и не заметили его. Второй танк свернул с дороги, стал обходить своего горящего собрата сбоку. Танки по одиночке выходили из оврага и, не видя своего противника, сразу же загорались, не поняв даже, кто стрелял в них. В некоторых танках открывались люки и из них выпрыгивали танкисты. Другие танкисты сгорели в танках - из них никто не появлялся. Так, на дороге, почти возле самого штаба 103 дивизии, сильно дымя черным дымом, горело четыре немецких танка. Остальные, не решаясь выглянуть из оврага, по дну оврага ушли к себе. По-видимому и немецкие танкисты удивлялись и не могли понять, почему это так сразу без героики, даже не видя, кто в них стрелял, они погибли. Такова война. Убивать приходится человека, которого ты никогда не знал. В свою землянку возвратились довольными. Все нас хвалили и мы гордились. Полковник обещал правительственную награду. Однако, несмотря на все кажущиеся наши усилился, дела шли все хуже и хуже. У солдат закончились продукты питания. Почти полностью вышли боеприпасы. В штабе армии без конца шли какие-то совещания. На них присутствовал Тимошенко, наш комдив Ганышев и еще много разных больших чинов. Своего комдива Ганышева здесь я видел второй раз. Первый раз это было в Сватове. Там Ганышев выходил из штаба дивизии и садился в эмку. Вид у него в то время был по-настоящему генеральский, бравый и внушал к себе почтительное преклонение. Мы, кто его в тот раз видел, еще долго обсуждали детали увиденного. Боевые и человеческие качества нашего комдива и чего можно было от него ждать. В Сватове, как нам показалось, наш комдив выглядел превосходно. Внешне мы все остались довольны им. Теперь же, когда он, как и мы, не спал несколько ночей, Ганышев выглядел иначе. Это был высокий, крепкого сложения мужчина. После трудных дней и бессонных ночей вид у него был обычного пожилого человека, на которого одели генеральскую форму. Я не был в землянке штаба армии, не слышал, о чем там говорили высокие чины. Однако, судя по виду входивших и выходивших из нее, можно было судить, что дела наши плохи. Все были молчаливы, задумчивы и походили на школьников, которым предстоит серьезный разговор с учителем. Из очередного совещания в штабе армии вернулся полковник Яковлев. Он сказал: пробиваться будем через эту же Михайловку. По телефону артиллеристам полков приказали собрать все наличные снаряды и по команде из штаба дивизии все до единого снаряда выпустить по селу. После артподготовки, по замыслу полковника Яковлева, в атаку должны будут пойти наши танки и одновременно - пехота. Захватив Михайловку, мы дадим возможность нашим окруженным частям выйти из окружения. Весь наличный состав людей приказали стянуть в злополучный лесистый овраг, из которого уже несколько суток наши части ходили штурмовать Михайловку. Штабники начали жечь какие-то штабные бумаги. Некоторые ломали имущество, лишнее оружие, чтобы не досталось врагу. Всем приказали получше вооружиться и выбросить все, что мешало бы пробиться из окружения. День клонился к вечеру. Небо затянуло густыми тучами. Немецких самолетов не было. Единственный самолет, который появился в это время и сел на поле - это был У-2. Наш советский кукурузник, как их называли тогда, на котором вечером улетели Маршал Тимошенко и наш комдив Ганышев. Потом говорили, что линию фронта они перелетели удачно.
Может быть и не все было так, как тогда говорили, тем не менее, из окружения они вышли. В плен не попали.
Из полков артиллеристы начали докладывать: "Поросята" все собраны. Так они называли снаряды. И что они сами готовы и ждут приказаний.
В это время полковника снова вызвали в землянку штаба армии. Уходя, он сказал:
- Если меня не будет через полчаса, отдай приказ в артполки, чтобы выпустили все до единого снаряда.
- Есть! - ответил я. Полковник вышел. В узле связи стало просторнее. Ушел радист со своей рацией. Телеграфист разбил телеграф и тоже куда-то ушел. Остались Мишка на коммутаторе и я. Я в силу сложившихся обстоятельств командовал боем дивизии, а он связывал меня то с одним, то с другим полком.
Прошло, как нам показалось, полчаса. Полковник не возвращался.
- Ну что? Начнем? - Спросил я Мишку.
- Давай, - ответил тот.
Я отдал распоряжение полковника артиллеристам.
Начался сильный грохот. Била вся оставшаяся артиллерия нашей дивизии. А может быть, еще и другие дивизии тоже били в это же село, чтобы прорваться. Во всяком случае, стрельба была столь мощной, что до этого еще ни разу не приходилось слышать подобного. Чтобы посмотреть на плоды трудов своих я вылез из землянки. Вся Михайловка была густо одета дымом. Не было видно ни отдельных горящих домов, ни взрывов. Один сплошной черный дым. Наверное, было много пожаров. Я подумал: "вот если бы так было с самого начала, наверное, давно бы взяли село". Артиллерийский обстрел продолжался минуты три-четыре. Начался он мощным потоком, который кончился тоненьким ручейком и иссяк на капли отдельными выстрелами. К этому времени пришел из штаба армии полковник. Он сказал, что необходимо, чтобы наши танки уже сейчас вышли к селу из ущелий. Попробовали отдать приказание по телефону. Связь уже не работала.
- Что же нам делать нам? - задумчиво пробормотал полковник. Потом он почему-то перешел на строго официальный тон. Как мне даже показалось, встал по стойке смирно и четко, раздельно выговаривая слова, произнес:
- Немедленно, бегом, направляйтесь к танкистам! Передайте мой приказ: Всем, немедленно, обгоняя пехоту, войти в Михайловку. Все! Действуйте!
- Есть! - Ответил я. Козырнул как положено по уставу. Повесил за плечи свою СВТ и бегом (по крайней мере вначале) побежал по оврагу в лесочек. Там стояли наши танки. Бежать надо было около километра, и я, по мере своих сил, старался это сделать быстрее.
В овраге росло много травы. Трава была примята солдатскими сапогами, скользила. Я падал, вставал и снова бежал. На полпути к танкистам в овраге сидела мирная старушка. На спицах она вязала чулок и поглядывала на корову, которая паслась рядом. Корова мирно щипала траву и они обе ни на какую стрельбу не обращали внимание. Перейдя от бега на шаг, я спросил старушку:
- Бабуся, а вам не страшно, что убьют?
- Нет, - подслеповато глянула на меня бабуся. - Я не воюю. Я мирный житель.
Уже в конце оврага, метрах в ста от танкистов, я решил передохнуть, отдышаться, чтобы не производить на них впечатления спешащего паникера. Я хотел, чтобы вид мой произвел на танкистов хорошее воинственное настроение. Здесь начинался лесок, стояли нетронутыми штабеля чьих-то артснарядов. В разных местах валялись убитые красноармейцы, из огороженного родника вытекал ручеек чистой, прозрачной воды. Сразу захотелось пить. Я лег на живот и потянул вкусную, холодную родниковую воду. Сделав несколько шагов, подумал, почему сейчас война, а не мир. В это время с меня сорвало с головы пилотку, а лицо обдало брызгами воды и грязи. Выстрела поблизости не было слышно. Я поднял голову, огляделся. Никого не видно. Решил не испытывать своего счастья. Быстрым шагом пошел от родника. На тропинке лежал раненый красноармеец.
- Что? Напугался? - шепотом спросил красноармеец. Я промолчал. - Это из леса балуются. Кукушка сидит там.
Я прибавил шаг и почти бегом добежал до танкистов. С десяток танков Т-34 стояли замаскированные в мелколесье. Люки танков были открыты, из них выглядывали шлемы танкистов. Между танками спокойно расхаживал их командир. Мужчина средних лет. За застегнутым комбинезоном не смог различить его звание. Лицо его было до безразличия ко всему спокойно. "Специально притворяется" - подумал я. Я подошел к нему, по форме доложил. Точь-в-точь так, как приказал полковник.
- Ну что ж, - сказал комбат, как его называли сами танкисты, - Мы готовы. Только вот укажите, какую пехоту обгонять? Если нашу, то она сама бежит сюда. Вот, смотри, они все уже здесь.
Действительно, обгонять было некого. Огромная масса красноармейцев, по-видимому, никем не управляемая, тесными толпами бежала в сторону танкистов, в лесок. Немецкая артиллерия медленно и не спеша следовала в лес за бегущими. Вот уже первые солдаты достигли нас. Еще минута и вся эта лавина захлестнет позиции танкистов. Начнется то же самое, что уже было много раз. Солдаты собьются в кустарнике вокруг танков, а немцы, согнав их в кучу, будут бить частым, беглым огнем.
- Да, положеньице, - проворчал комбат.
В следующий момент он отдал какое-то распоряжение. Зарычали моторы танков. Я отошел в сторонку, чтобы было лучше наблюдать. Масса людей уже достигла позиции танкистов. Они густо обтекали людским потоком танки и кустарник. Немецкие снаряды начали рваться вокруг. Спереди, сзади, по бокам. Было непонятно, куда же бежать от них, от снарядов. Рвались они повсюду. Вверх летели ветки от деревьев, земля. Вокруг дым, запах гари. Вопли сраженных людей и грохот снарядов.
Я спрятался в воронку. Там уже сидело трое. Один, обхватив голову руками, уткнулся лицом в землю, не двигался. Вслед за мной спрыгнуло в воронку еще несколько человек. "Вот дает" - сказал один из спрыгнувших. Потом разрывы стали отдаляться в сторону. Я выглянул из воронки. В сторону Михайловки, широко рассредоточившись, двигались наши танки. Вслед за ними, прячась за их силуэтами, следовала пехота. На некоторых танках сидели самодеятельные десантники. Вся немецкая артиллерия сосредоточила свой огонь на них. Артиллерия была весьма активна. Однако, танки как двигались своей дорогой, так и не свернули, пока их можно было видеть. Потерь среди них было не видно.
Я вернулся в свою часть. Там, где раньше находился узел связи штаба дивизии и штаб армии, все выглядело иначе. Не так, как в тот момент, когда я уходил к танкистам. Если до этого простые солдаты вообще не подходили близко к этим штабным землянкам, обходили их стороной, то сейчас здесь царило шумное солдатское оживление. Повсюду было очень много солдат. Большие армейские чины куда-то исчезли. Не было видно ни одного командира выше старшего лейтенанта. Настроение у солдат было какое-то приподнятое. Шутили. Залезали в землянки, проверяя, не забыли ли чего. Из землянок со смехом выносили какую-нибудь вещичку, били ее тут же, при всех. Некоторые приговаривали: "Ни нам, так и не вам". Били, жгли и ломали все, что хоть чуточку представляло какую-то ценность. Некоторые обменивались адресами. Впечатление было такое, будто все эти люди только что кончили гуляние на пикнике за городом и теперь, собираясь домой, среди оставленного мусора выискивают, не осталось ли чего нужного. Несмотря на кажущийся беспорядок, всей этой массой людей кто-то распоряжался. Перед тем, как окончательно стемнело, откуда-то последовала команда "Не расходиться. Проверьте еще раз. Чтобы ни у кого не было никаких лишних бумаг или документов". Стемнело.
Построились в колонну по четыре человека. Если еще несколько часов назад казалось, что этот штабной бугор пустынен, то теперь на нем, насколько можно было видеть, густо стояли люди. При построении старались строиться так, чтобы рядом с тобой шел твой друг или надежный и честный человек. Наша дивизия была набрана в республиках средней Азии. Поэтому солдаты старались построиться так, чтобы люди из одного кишлака или даже из одного района или области были вместе. Ночь была темная, небо закрывали густые тучи. Изредка моросил дождь. Наконец, двинулись. Под Михайловкой все еще шел бой. Кто-то в кого-то даже в темноте стрелял. Само село светилось догорающими огнями пожарищ. Михайловку обошли стороной слева. Идти старались молча, чтобы ничто не выдавало нашего присутствия. Курить запрещено, да и сами мы боялись. Куда мы шли, кто нас вел, было неизвестно. Знали одно - мы идем на прорыв.
Рядом с нашей колонной шел молодой лейтенант со своей юной женой. Им обоим было лет по 20-22. Жену лейтенанта звали Валя. Она была у нас санинспектором и носила соответствующие знаки воинского различия. Они старались идти рядом, чтобы в суматохе прорыва не растеряться. Валя была красивой женщиной. Она была преданным, самоотверженным солдатом и женой нашего офицера. По-видимому, трудно ей было. Однако есть у нас такие героические женщины. Мы часто не умеем ценить своих бесценных женщин. Они же ради любви к своему мужу, к своей Родине без колебаний отдают жизнь свою. Для этого нужно иметь мужество.
Стрельбы как-то не было слышно. Может быть, после грохота последних дней нам казалось, что кругом тихо. В кромешной темноте небо освещали огненные веера трассирующих пуль. Зрелище необыкновенное. Настоящий огненный веер из светящихся пуль, где один конец веера держит в своих руках пулеметчик, а другой стремительно несется вверх к небу. Немецкие пулеметчики стреляли наугад. В такой темноте даже в десяти шагах от себя не было видно ни зги.
По- видимому, они стреляли больше для храбрости, от страха. Иногда бывало и так, что веер огненных пуль впивался в самую середину колонны. Кто-то охнет. Почти все низко пригнутся, а иногда и упадут на землю. Как мне показалось, мы и не пытались ввязываться в ссору со сторожевыми немецкими постами. Мы их обходили по полю, по бездорожью. Эти стреляющие и светящиеся пулями посты были для нас как бы маяками, указывающими, где находятся немцы и куда не следует идти. Огненные веера появлялись слева и справа, образовывая коридор, по которому мы куда-то шли, надеясь выйти из окружения. Кое-где немцы пускали осветительные ракеты, указывая нам свое присутствие.
Возле одного такого стреляющего из пулемета поста колонна остановилась. Светящиеся пули пролетали всего в метре над головой. Пулеметчик, разумеется, стрелял наугад. Иногда он бил над нами и пули летели куда-то в пространство, а иногда светлячки пуль впиявливались впереди нас в землю и рикошетом с визгом поднимались прямо вверх, к небу. Кто-то застонал, кого-то зацепило. Мы стояли в темноте, ожидая чего-то.
Пулемет, который стрелял справа от нас изредка, больше для порядка, вдруг всполошился и стал бить часто, захлебываясь. По-видимому, пулеметчик еще не видел цели, потому огненные строчки пуль метались вверх-вниз, или же широкими веерами шли справа налево и обратно. Немцы пустили осветительные ракеты. Все пространство вокруг осветилось ярко-голубым, мертвым светом ракет. Увидели нас не только немцы, но и мы сами увидели себя, немцев и окружающую местность. Сразу начало стрелять несколько немецких пулеметов. Их пули уже не метались, как прежде. Повсюду теперь пулеметчики видели цель. С нашей стороны ответили разрозненной ружейной стрельбой. Послышалось громкое "ура" и мы все без команды, громко крича, что есть силы бросились на деревню, на пулеметы.
Передние пулеметы как будто перестали стрелять. Зато из самой деревни стало бить сразу много пулеметов и автоматов. Загорелись соломенные крыши домов. Начал гореть стог сена перед деревней. В какие-то 2-3 минуты густая тьма ночи превратилась в яркий день. До деревни было еще метров сто и было хорошо видно, как немцы бегали от дома к дому. Мы еще бежали, но русское "УРА" как-то заглохло. Из деревни до нас стали бить минометы. Наши солдаты залегли. Некоторые, чтобы поддержать общий тонус армии, лежа на земле, продолжали кричать "ура". Кто-то из наших бегал между залегшими солдатами, ругался самыми доходчивыми ругательствами и кричал: "вперед, скоты! Погибнете все!". Я поддержал храброго товарища: с винтовкой наперевес, пригнувшись, я побежал к деревне и кричал "вперед! вперед!". Некоторые поднимались и, сделав несколько шагов, снова падали на землю. Впереди меня упал солдат. Мне хорошо было видно, как он уткнул свою голову в землю, а спереди, чтобы защититься от пуль, поперек положил свою винтовку. Как мне показалось, факт был возмутительным. Я принял начальствующий тон и как можно громче крикнул "Вперед!". Солдат не реагировал на мой приказной тон. Я ударил солдата ботинком по заднему месту и снова крикнул: "вперед!". Солдат притворился мертвым. "Аферист!" - подумал я. И побежал дальше.
Немцы стреляли в нас очень энергично и удачно. Кроме ружейно-пулеметного огня, очень сильного, они били в нас из минометов. Звенело в ушах от разрывов мин. Пахло сладковатым дымом пороха. При взрывах мин комья земли и камешки сильно били в лицо. В одном месте земля попала в глаза, их сильно резало, текли слезы. Однако сам уцелел. Лежа на земле и пытаясь протереть глаза, я внезапно увидел, как метрах в пятнадцати от меня из кустов в нашу сторону кто-то стреляет из автомата. За поясом у меня была трофейная немецкая граната. Я открутил колпачок, потянул за колечко, бросил. Взрыв. Лежа на земле прислушался. Наши отвечали немцам редким ружейным огнем. Стрелять-то было нечем. Солдаты, боясь подняться, лежали на земле и изредка то там, то здесь недружно пугали немцев криком "ура". Многие, ползком или пригнувшись, пытались уйти из освещенного пространства. Глядя на них, это же делали и другие. Однако, немцы, заметив усиленное движение, переносили туда огонь и многие оставались лежать там уже навсегда. Впереди меня, куда я бросил гранату, больше никто не стрелял. Я решил подползти и посмотреть, кто там был. Только прополз метра два, как заметил, что кто-то снова движется в кустах.
При неровном свете пожара было видно, как согнувшиеся фигуры спрыгнули вниз. "Наверное, в окоп" - подумал я. Подождал. Стрельбы из окопа не было. Подполз ближе. Никого нет. Яркая вспышка соломенной крыши осветила погреб и отверстие в нем. Догадался - в погребе спрятались немцы. Гранаты у меня больше не было и я решил, что советская СВТ - оружие достаточно хорошее. Оно мне нравилось. Наставил винтовку в погреб и что было силы крикнул "Raus". Тишина. Я еще раз крикнул - "Raus". Как можно строже. Из погреба послышался детский плач, а напуганный женский голос произнес: "Мы цивильные, пан. Мы цивильные". В погребе прятались жители деревни.
После этого одному бежать в атаку на деревню было не сподручно и я решил, что теперь лучше всего добраться до своих. Сделав несколько шагов от погреба, увидел лежащего человека. Это был немец. Лежал он на животе. Железная каска накрывала голову, а из-под нее торчало дуло автомата. Человек не двигался. Кто он? Убитый, живой или притворяется? Наставил винтовку на немца и крикнул: "Halt!". Ни ответа, ни движения. Не сводя винтовки с немца, подошел ближе, стукнул его ногой по сапогам. Человек не двигался. Быстро выдернул из-под головы автомат. Немец вроде бы зашевелился. "Теперь-то я тебя не боюсь" - подумал я и что было силы побежал от села.
Пробежав метров пятьдесят, спрыгнул в большой, огромный овраг. Дальше бежать было нельзя. Часто рвавшиеся мины прижали к земле. На зубах скрипел песок, обдавало падающей сверху землей и ветками. Слышались страшные крики раненых. Подо мной было что-то теплое и мягкое. Разобрался. По телу пошли мурашки. Я лежал на разорванном человеке. Грудь и спина с головой лежали рядом отдельно, а я, пытаясь укрыться от мин, уткнулся в выпущенные из живота внутренности. Впечатление самое неприятное.
Сентябрь 68
Разрывы мин перешагнули овраг и стали удаляться. Сверху искорками прочерчивая тьму, пролетали пули. Немцы, отбив нашу неуправляемую никем атаку, атаку безоружных и отчаявшихся людей, злорадно обстреливали темноту, нанося нам определенный урон и внося еще большую неразбериху. Я отполз подальше от разорванного солдата. Положил рядом свою СВТ и немецкий автомат, начал вытирать мокрые руки и отплевывать всякую попавшую в рот грязь. Рядом сидел солдат. Он вытряхивал карманы и что-то недовольно бормотал. Голос мне показался знакомым. Я подался вперед, чтобы разглядеть его. Солдату не понравилось мое внимание. Не глядя на меня, он грубо сказал:
- Чего уставился? Сволочи все. Все до одного. Сволочи от последнего солдата и до самого верха.
- Мишка! Ты чего это здесь ругаешься?! - удивился я встрече.
- Колька! - послышалось еще большее удивление. - Вот это да!
- Как ты попал сюда? - снова спросил я.
- Воюю! - Ответил тот. - Патронов вот нет. Все карманы обшарил. Ни одного. Теперь винтовка, что палка. Собак ей только пугать. - Мишка, демонстративно отшвырнув винтовку, сказал: - Надо найти немецкую. Патронов для них хоть отбавляй. Безобразие.
Потом Мишка разглядел мой трофейный автомат.
- Эх ты! Ну, ты, буржуй! - Обидчиво заныл он. - Конечно, если бы ты меня уважал, то не поступил бы так. Я всегда делюсь с тобой. Вот и сейчас, видишь? - Мишка быстро отстегнул немецкий ремень, на котором висели алюминиевая фляга со стаканчиком, сумка, плоский штык и патронташ. - Ничего еще сам не трогал. Вот смотри! - И он начал вытаскивать из сумки разные вкусные вещи.
Масло в круглой коробочке, банку консервов, шоколад, хлеб, сигареты и еще что-то.
- На, ешь! - И, не дожидаясь моего ответа, сам принялся за еду. - Ох и есть хочется, уже трое суток ничего не ел, - немного погодя сказал Мишка, - Хорошо хоть немец богатый попался.
- А может быть, - усомнился я, - отравленное?
- Не ешь. - Пожал плечами тот, - Скажешь тоже, отравленное. Это нам про немцев там в тылу болтали всякое. Чего ему травить нас? Он и без отравы всегда может убить тебя.
Во рту на зубах что-то скрипело и я все еще плевался.
- Чего ты все плюешься? На вот, прополощи рот. - Мишка протянул в войлочном чехле аккуратную флягу.
Взяв у него флягу, налил в алюминиевый стаканчик. Вместо воды там оказалось вино.
- Это же вино! - Сказал я. - Да, живут они лучше нас. Если вино, то неплохо и выпить. Выпьем.
И мы по очереди выпили крепкого немецкого шнапса.
- Это я его в деревне хлопнул. - Хвалился Мишка. - смотрю, бежит фриц. Впереди горит хата. На огонь его хорошо было видно. Я прицелился, бац и готово. Смазал так, что даже и не пошевелился. Вот жалко, я у него винтовку не взял. Теперь бы пригодилась. Видал, сколько у них патронов? - И Мишка потряс немецкий патронаж на ремне.
Потом он взял у меня мой автомат и стал примерять к себе. После такого Мишкиного упрека и угощения было неудобно жадничать. Автомат я отдал ему. Мишка остался больше чем доволен. По оврагу вышли в безопасное место и слились с движущейся массой солдат. Люди шли плотной колонной по дороге. В сторону от колонны повсюду шли одиночные, отбившиеся солдаты или целые группы. Шли они по бездорожью прямо по полю, боясь отойти далеко и отбиться. Трудно сказать, где шла вся эта армия, куда она шла и кто ее вел. Шли потому что все идут. На вопрос "куда?" каждый ответил бы "пробиваться из окружения". Кто ведет колонну? В каком месте будем пробиваться и во сколько? Из нас никто ничего этого не знал. Спрашивать было неудобно, да и не у кого спрашивать. Солдаты все равно ничего не знали. Нами больше руководило стадное чувство. Не отбиться от всех и не попасть в беду. Инстинкт подсказывал, что у каждого стада есть вожак, который знает, что делать. Мы верили, что этот вожак был также и у нас. Наше солдатское дело было только подчиняться, ради нашего общего успеха. Однако, так ли все это было на самом деле. Скорее всего, вся эта многотысячная масса людей была никем не управляема. Двигалась она инстинктивно, без головы, а управляли ей немецкие сторожевые посты. Эти посты светились огневыми веерами трассирующих пуль слева и справа от нас. Отгоняли нас, безоружных, от правильного направления и направляли в темный коридор неизвестности, где, как нам казалось, нет немцев и нас ждет желаемая удача прорыва.
Всю ночь шли, не останавливаясь на привалы. Уставшие сами определяли место своего привала. Те же, кто мог идти, шли, шли нескончаемой вереницей огромного войска, без остановок и не обращая внимания на отставших. Войска перемешались. Из команд чаще всего слышалось "стой!", "пошли" и "назад!". Шли через пшеничные поля, через овраги. По бездорожью и по дороге. Там, где проходила эта многокилометровая колонна войска, всякое бездорожье превращалось в хорошо утоптанную дорогу. Колонна много раз натыкалась на немецкие посты, обстреливалась из минометов и орудий, однако, обойдя пост, колонна снова шла дальше, стараясь в темноте еще до утра прорваться из окружения. Туловище колонны, как магнит, притягивало со всех сторон к себе солдат. Оно было огромно. И если бы у нее было оружие и направляла ее железная рука настоящего воина, колонна непременно пробилась бы. Мы же в тот момент представляли большой корабль, у которого нет руля и нет рулевого. Грозные волны, в данном случае - немцы, могли легко забросить нас куда угодно и делать с нами что угодно. В одной из таких суматох прорыва мы с Мишкой Ивановским, который раньше жил в Немидове, снова расстались и больше я его уже никогда не видел. Жив ли он?
Рассвет застал нас в движении. Боясь налетов авиации, колонна медленно стала рассыпаться. То, что еще час назад казалось единым и целеустремленным, сейчас выглядело разбредшимся по полю стадом. Теперь снова собрать все это в единое целое уже было невозможно. Каждый, потеряв веру в возможности организованного прорыва, действовал по своему собственному плану. Конечно, ни у кого никакого плана не существовало. Наш план была цель. Цель прорваться из окружения. Теперь уже как-нибудь поодиночке, между кустов, незаметно. Однако думать об этом, чтобы быть незаметным в данной обстановке, было по-детски смешно. Огромное пространство поля, насколько можно было видеть, было буквально забито движущимися людьми. Нашими солдатами. Теперь они шли уже не в одном направлении, как ночью, а в совершенно противоположные и разные стороны. Каждый хотел оторваться от общей массы, очень заметной и превратиться в маленькое и незаметное существо. Этого никому не удалось.
Шел дождь. Было сыро и холодно. О прорыве в дневное время я перестал думать. Чтобы спрятаться от дождя и хоть немного передохнуть, решил забраться в землянку. Я не спал уже трое суток. Землянка находилась в незаметном месте в поле и я надеялся, что это как раз то, что мне нужно в данный момент. Влез внутрь. К моему огорчению, там уже находился человек. Он спал. Землянка была маленькой. Для двоих она была тесноватой. Но, несмотря на это, я подумал, что вдвоем нам будет теплее. Потеснил красноармейца и улегся рядом. Тот не возражал и продолжал лежать. Минуты через две из-под шинели, которой укрывался солдат, послышался голос:
- Ну, что там? Рассказывай.
- Ничего, - ответ, - дождик идет.
- Дождик! - повторил красноармеец, - Ладно, спи.
Стало тепло и я начал дремать. Прошло некоторое время, минут этак с десяток, как вблизи раздался частый и резкий грохот. С потолка, сделанного из палок и веток и засыпанного чем-то, посыпались листья, земля. На зубах, как обычно, стала хрустеть мелкая пыль. Подождав, когда взрывы прекратились, вылезли из землянки. Пролетавший самолет выбросил неподалеку от нас в поле серию небольших бомб. Поле было усеяно множеством наших солдат. Все они куда-то спешили. Я посмотрел на своего солдата из землянки и оно мне показалось очень знакомым. В следующий момент я радостно, но с удивлением сказал:
- Товарищ комиссар! Вы ли это?
- Да, это я, товарищ Узбеков. - Воин, в старой солдатской гимнастерке и такой же грязной и ободранной шинели, был наш комиссар Шевченко. До этого в петлицах у него было две шпалы. Это был высокий и красивый мужчина. На мой взгляд, он был очень образован, эрудирован и, когда он проводил с солдатами беседу, все мы были в восторге от него. Это был человек умница. Разговор Шевченко продолжил сам.
- Не удивляйся виденному. Обстановка такая. Пробиться к своим мы не пробьемся. В плен сдаваться я не намерен. Уйду в партизаны, буду партизанить. Не удастся - умру. Здесь, на Украине. Я здесь родился и здесь умру. Здесь моя Родина.
Мы медленно куда-то шли, разговаривая о нашем окружении. Потом Шевченко сказал:
- Ты иди, я тебя догоню. Мне нужно вернуться в землянку.
Зачем, я не стал спрашивать. Медленно пошел туда, куда меньше шло людей. Нашего комиссара я больше никогда не встречал. Это был очень умный и симпатичный человек.
Через несколько минут я вышел на возвышенное место, заросшее кустарником. Наших солдат здесь как-то не было видно. В утреннем небе послышалось гудение самолетов. На низкой высоте летели два немецких самолета. Из обоих самолетов стали падать какие-то предметы. "Бомбят" - подумал я. Через секунду-две эти неизвестные предметы превратились в немецкий парашютный десант. На черных квадратных парашютах они довольно быстро приближались к земле. Ближайший от меня парашютист, раскачиваясь в стороны, опускался метрах в сорока. Я быстро снял с плеча свою СВТ, присел на колено и, не торопясь, стал посылать в него пулю за пулей. На фоне утреннего рассветного неба было хорошо видно, как пролетают мои трассирующие пули. Впереди, сзади. Наконец, одна из них, наверное, попала в цель. Парашютист неестественно поджал ноги к животу, потом мотнулся в сторону и, дергаясь в разные стороны, плашмя упал на землю. Сверху на него опустился черный парашют. Я приподнялся, чтобы разглядеть, встанет он или не встанет. Парашютист не встал. Что делать? Может быть, отобрать у него автомат. Говорят, что они все с автоматами. А сколько патронов у него будет? Пока я размышлял, что мне делать, над головой воздух прошила автоматная очередь. Вниз полетели срезанные пулями ветки, листья. Не интересуясь, кто в меня стрелял, я пригнулся и между кустарником убежал с пригорка вниз в долину.
В обширной низине было полно солдат. Это был настоящий муравейник. Основная масса солдат все еще куда-то шла. Другие сидели, спали прямо на голой земле. Или же чем-то закусывали. Взошло солнце. Начала бомбить немецкая авиация. Казалось бы, что ни одна бомба не упадет мимо, такое было скопление людей повсюду. Но, несмотря на все это, потери от бомб были по-прежнему невелики. Бомбы, страшно завывая, летели вниз на людей, те прятались. Бомбы взрывались наверху и на земле, люди же прятались в щелях в земле. Если не бывало прямого попадания, то перепуганные грохотом и завыванием бомбы, солдаты вставали из своего укрытия, озирались, нет ли самолета и снова, как ни в чем ни бывало, занимались своим делом.
Самолеты и бомбы сильно действовали на психику. И это было главное и основное зло, причиняемое ими. В одном месте от бомбежки мне пришлось спрыгнуть в небольшой окопчик. В нем сидел парнишка лет 16-17 в красноармейской форме. Не обращая внимания на рвавшиеся вблизи бомбы, он словно прирос к своему разбитому карабину. Водил им вслед за самолетом и часто стрелял. Карабин очень резко хлопал над ухом, оглушая больше, чем разрывы бомб. Я едва не оглох от резких хлопков, которые часто приходились возле самого моего уха.
- Брось стрелять, все равно не попадешь! - Сказал я и потянул было за карабин.
- Смотри, смотри, боится! - И парнишка еще чаще начал стрелять в выходящий из пике самолет. - Видал? Напугался! Улетел!
- Только не тебя, - буркнул я.
- Почему не меня?! - Начал тот возражать. - Знаешь, уже сколько раз так было? Один фриц прямо на меня пикировал. Вот смотри. - И он показал на разбитый карабин, местами буквально в клочья изодранную осколками шинель и бинтовые повязки в разных местах, которыми он сам перевязал себе раны.
- А чего ты не возьмешь себе хорошей винтовки? - Спросил я, - Смотри, сколько их везде валяется.
- Нет, винтовка не годится. - Ответил тот. - Слыхал, как карабин громко стреляет? Летчик-то слышит. Он тоже боится. Ему кажется, что стреляют в него из противотанкового ружья. Тоже психология. Понимать надо! - И он засмеялся.
Потом солдат снял с плеча вещмешок, развязал его и начал доставать оттуда горстями патроны. Зарядил свой карабин, набил ими полные карманы и с гордостью похвалился: "видал, сколько?". Действительно, патронов было много.
- А где ты их набрал столько? - полюбопытствовал я.
- Это солдатская находчивость. Едет дядька на бричке. Везет целый склад патронов в ящиках. Я у него попросил, он не дает. Говорит, это казенное имущество, что все это выдано начальством и без приказа разбазаривать государственное добро он не может. Говорю ему: "дай! все равно скоро бросишь все, вместе с конягой своей". "Не брошу" - отвечает, - "потому, как оно казенное, добро! Не дам! Не приставай!". В это время налетели самолеты. Дядька побежал прятаться, а я схватил с телеги цинковый ящик и вот. Видел сколько теперь патронов? Чудак тот дядька. Вряд ли он теперь найдет свое начальство. Наши начальники сами боятся, чтобы их никто не узнал. Все переоделись! - грустно заметил паренек.
Мне и раньше приходилось слышать, что люди выходили из окружения переодетыми. Однако для чего было нужно это переодевание я не представлял себе явно. И теперь не понимал. Неужели попасть в плен со знаками отличия советского офицера страшно или позорно? Ведь невинным и ничем не запятнанным людям незачем переодеваться, чтобы тебя не опознали. "Прячутся, преступники!". Я больше был склонен думать, что наши офицеры люди не гордые и трусы. Страх за свою жизнь перед пропагандируемой жестокостью немцев заставил потерять наших офицеров стыд человека, гордость перед своей великой родиной, оплевать честь своей фамилии. С другой стороны мне казалось, может быть, они правы? Унизив себя теперь, они сохранят себе жизнь для будущей борьбы? Война-то еще не кончена. Они готовятся к борьбе в других условиях?!
А еще закрадывалась одна страшная и принижающая волю человека мысль. Вдруг ничего этого не было и нет. Все то, ради чего мы сюда все собрались и чего собирались защищать. Просто ничего. Фикция. Екатерининские, потемкинские деревни. Что стоила жизнь в нашей стране? Ничего. В любой момент, по глупой случайности, ее могло оборвать страшное и всесильное НКВД. Никто и никакая конституция не смогут тебя защитить. Погибнешь без суда и следствия, как самое омерзительное ничтожество. Твои же друзья и даже родственники отрекутся от тебя в первый же час, как только узнают об этом. По-другому было нельзя. Было много страшных годин в нашей стране. Может быть, наши офицеры понимали это и втайне, размышляя, считали себя соучастниками всех этих печальных и непонятных недоразумений. За преступления ждут наказания. Чем докажешь, что не ты виноват во всем этом. Разве среди нас было мало солдат, невинно репрессированных НКВД? Кого они боятся больше, немцев или же своих солдат? Скорее всего обоих. Нет, все это не так! В такой трудный час испытаний наши офицеры и солдаты не могли забыть или предать свою родину, отвернуться от нее только за то, что в ней у власти стоят деспоты или психически нездоровые люди! Ведь немцы-то идут умирать не для того, чтобы нас кормить пряниками, а порабощать. Россия за свою историю много пережила черных дней. Цари и деспоты уйдут, как и все уходит из жизни со временем. Россия останется Великой Россией, в которой будут и лучшие времена. Я сам россиянин и не хочу немцев. Наши офицеры не предатели. Они просто не гордые люди. Самой большой родословной гордостью в нашей стране теперь считалось вести свой род от пастуха или кого-нибудь пониже. А где ее взять, эту гордость, у людей приниженных? Поэтому выходцы из простолюдья, наши переодевшиеся офицеры, не смогут похвалиться перед своими потомками своим гордым и непреклонным перед врагом, именем. У них нет традиций. А можно было бы не переодеваться и не прятаться. В это трудное и непонятное время мысли в голове носились самые непредвиденные. Самые страшные, самые глупые и самые умные. Этих мыслей, здесь, в окружении, было очень много. У каждого солдата имеется своя голова, в каждой голове носятся подобные же, или, может быть, более дикие мысли. Однако были ли тогда там люди, у кого было правильное решение вопросов? Были ли эти мысли результативными? Или их действия оправдательны? Вопрос, по-видимому, решит время.
В одном открытом окопчике, под небом, пировали офицеры в больших чинах. Эти не переодевались и были одеты по форме, как положено.
- Вот обжираются! - сказал идущий рядом солдатик.
Офицеры громко разговаривали, шумели. О чем - было непонятно. Потом раздался выстрел, другой. Один из пировавших офицеров упал. Другие отнимали у одного из офицеров пистолет.
- Видал? - сказал солдат, юноша. - Прямо себе в висок! Наверное, комиссар был. Их немцы все равно расстреливают. А у этого отобрали. Не успел. Не застрелился. Я бы не застрелился!
- А чего бы ты сделал? - Спросил я. - Сам же сказал, что немцы расстреливают комиссаров!
- Ну и пускай! Что, нельзя переодеться, что ли? - Возразил он. - Даже из плена убегают. Лишь бы сам хотел. Я вот, например, ни за что не сдамся немцам!
- А если они силой тебя возьмут?
- Ну и пускай. Убегу. Я еще навоюю. Я не из этих! - И рукой он указал на кого-то.
Кто знает, был ли прав юноша в своих суждениях. Конечно, прав со своей точки зрения. Суждений было столько, сколько было людей. У каждого свое суждение, своя точка зрения. Не было только одного суждения. Того, которое было бы для всех одним. Которое было бы всем понятно, без сомнений и внутренне обязательно, потребно как воздух. Не было также сильного человека, который объединил бы все эти разные настроения. Сплотил бы всю эту разрозненную солдатскую массу. Не было такого человека ни теперь, в окружении, ни тогда, до него. Люди наши много-много лет подряд перед войной только и заняты были тем, что вылавливали придуманных кем-то шпионов, врагов народа и т.п. Люди подглядывали одни за другими, боялись друг друга. В трудный момент эти идеи недоверия к своим же людям не объединили нас в беде, а еще больше перепугали. Мы стали не сплачиваться, не объединяться, а разбегаться, прятаться. Где-то в подсознании таилось, что понятие, которое нам внушали, что якобы человек человеку друг и брат - ничто иное, как фарисейство. Слова красивые. Пропаганда, которая рассчитана больше для экспорта. Чтобы иметь красивое лицо на международном рынке. В противовес всей красоте непонятных фраз пропаганды на деле мы видели Колыму, Соловки, НКВД, голод. Где же они эти свои? Кто они, как их узнать? По каким признакам? Были ли все эти издевательства над людьми экспериментами построения социализма или же просто пренебрежение к человеку, когда он стоил наиболее дешево?
В голову лезли самые противоречивые, самые дикие мысли. Чепуха всякая, но в тот трудный час она, эта чепуха существовала и влияла на настроение и поведение наших солдат. Многие были ко всему безразличны. Они ждали. Что будет, то и будет. На это есть власть свыше. Пусть они и думают. Молодежь жаждала подвигов и мысль о плене считала неприемлемой. Люди в возрасте говорили, что плен - это конец мучений на войне. Это конец войны для них. Некоторые, не находя выхода из положения, стрелялись. Но в общем-то, безусловно, каждый предпочитал возможность прорваться к своим, чем плен. И, не находя этих возможностей, оправдывали свое безвыходное положение разными неутешительными и не всегда правильными рассуждениями и поступками.
Утомительные многочасовые и многокилометровые блуждания привели меня к разрушенному мосту через заболоченную речку. Мост был разрушен. По отдельным уцелевшим бревнам солдаты, лавируя как гимнасты, перебирались на другую сторону. В пролетах моста висели люди и лошади. Одни были живые, другие уже мертвы. Те, кто был еще жив - двигались, стонали. Они висели в разных изломах моста и не могли из них выбраться. Жалобно смотрели на проходящих мимо солдат, не прося ни помощи, ни сожаления. Все было так, как положено быть на войне. Положено ли так быть?! В болоте, под мостом, жалобно ржали лошади. Их туловища засосало под воду. Лошади, напрягаясь, вытягивали свои шеи, чтобы не захлебнуться, ржали, взывая о помощи. Точно так же, как и лошади, в речке плавали обессиленные борьбой, тонущие солдаты. Они были сознательными существами. Они знали, что на помощь им никто не придет. Потому они тонули молча, никого не прося о помощи. Их головы еще возвышались над водой. Глаза их жалобно и устало смотрели на проходивших мимо своих же солдат. О чем они сожалели в эти последние свои минуты? О своем бесславном конце и никому не нужной жизни? Или же больше с обидой об обманутых надеждах, фарисействе и красивой лжи. Почему же все эти люди в военной форме бегут мимо и никто не попытается хоть чем-то помочь своим же утопающим солдатам, братьям по оружию? Где же оно, это пропагандируемое в печати равенство и братство, где оно, это красивое - человек человеку друг и брат? На поверку в трудную минуту оказалось, что все люди волки и враги и поговорка "человек человеку волк" как раз вмещалась в картину истины, происходившей на глазах. Наверное, с такими мыслями умирали в болоте наши красноармейцы. И, по-видимому, у них на то была причина. Болотистая речка была не широкой. Однако вдоль обоих берегов было много утопленников. Особенно вокруг взорванного моста. Из воды торчали башни танков, брички, стволы пушек, плавали кони, люди. Ящики, шинели, доски. Когда поблизости падали снаряды или бомбы, то вверх высоко поднималась грязь, вода. Вокруг распространялся сыроватый запах гнилого болота.
Я легко и быстро пробежал по оставшимся бревнышкам моста. Неожиданно для себя очутился на широкой дороге в центре какого-то села (наверное, хутор Лозовой). Воронок от бомб повсюду было много, но все же много домов еще уцелело. Некоторые дома горели. Возле одного уже сгоревшего дома на тлеющих углях солдаты жарили мясо. Я приостановился. Было интересно смотреть, как на штыках вместо вертела шипит и жарится мясо. Вид у меня был замученный и, наверное, поэтому один из солдат спросил:
- Ты чего, парень, раненый?
Я ответил, что нет, я не ранен.
- Ладно, не стесняйся. - Солдат протянул мне штык с жареным мясом. - Бери кушай, подкрепись. Мяса у нас много.
Мяса я не взял и прошел мимо.
Возле самой речки в крепком погребе сидело человек 10-12 небритых красноармейцев. Они прятались там от бомб. В этот момент пролетала партия самолетов и с диким воем сирен на землю сбросила много бомб. Определив, что бомбы упадут не на нас, я не стал прятаться в погребе. Небритые солдаты начали кричать мне, чтобы я спрятался.
- Маскируйся! - Крикнул один.
Я продолжал стоять и наблюдал за паникой в погребе и удаляющимися самолетами.
- Ты чего это, хочешь, чтобы немцы на нас сбросили бомбы? - грозно сказал бородач. Другой щелкнул затвором винтовки и сказал: "вот я его сейчас". В этот момент неподалеку стали рваться бомбы, бородачи прижались к полу. Я отошел от погреба. За улетевшей партией самолетов появилась новая. Еще издали, не долетев до меня, самолеты выбросили целую серию бомб. "Ну, теперь держись. Прячься, пока жив".
Рядом находился подвал от сгоревшего дома. Не раздумывая ни секунды, я бросился в погреб. В погребе стояла бочка с пшеницей и, за бочкой в углу, небольшой окопчик для одного человека. Спрятался в него. Едва я успел укрыться, как вокруг загрохотало. От тяжких разрывов содрогалась земля. Казалось, что окопчик, где я прятался, ожил и его стенки движутся. Тонко зазвенело в ушах. Мелкая пыль набивалась в рот, в легкие. Щекотало в носу. Перед страшной, грохочущей стихией, я казался себе маленьким и беззащитным существом. Еще мгновение и в сплошном грохоте разрывов раздался еще более страшный взрыв, где-то рядом. Потемнело в глазах, стало трудно дышать. Сверху на меня что-то давило. Попробовал пошевелиться - не могу. Что-то не пускает. "Наверное, меня убило" - мелькнула мысль, - "Но ведь мертвые не размышляют и ничего не чувствуют!".
Я напряг свои мышцы и попробовал подняться. Мне удалось. Встал на четвереньки. Со спины и головы вниз на землю сыпалась пшеница. Упавшая в погреб бомба перевернула бочку с пшеницей и засыпала в окопчике меня. Посмотрел вверх. Оттуда сыпалась земля. Надо мной на самом краю подвала в судорогах билась убитая лошадь. Голова ее свисала в погреб и она сама медленно сползала вниз, собираясь каждую минуту упасть на мое убежище. Я отполз в сторону. В следующий момент лошадь попыталась поднять свисающую вниз голову. Начала биться, как-то почти сразу сползла вниз, упала в погреб и накрыла своим телом мой окопчик и пшеницу. "Вот это удача" - подумал я. Пожалуй, из-под лошади было бы труднее выбраться, чем из пшеницы. Самолеты улетели, я вылез из подвала. Было как-то тихо. Изредка, кое-где в разных местах села рвались снаряды. Отдельные места деревни были тесно забиты разного рода техникой и оружием. Впритирку стояли немецкие легковые автомашины и советские повозки. Повсюду валялось советское и немецкое оружие, боеприпасы в ящиках, в упаковках и просто в кучах.
В одном месте на глаза попался целый склад стрелкового советского оружия. В ящиках, смазанные маслом, в порядке, находились карабины. В других лежали кавалерийские клинки. Неподалеку целая гора противотанковых мин и рядом, в упаковках, капсюля к ним. Чье все это оружие и для кого оно предназначалось? Известно одно. Оружие это советское и оно еще неопробованное в деле, достанется врагам нашим. Было жалко, что оно осталось неиспользованным, а еще больше было обидно оставлять это оружие немцам. Настроение у меня было патриотическое. Устав наш военный предусматривал действия, благодаря которым наши враги не смогли бы воспользоваться нашим оружием. Под кучу противотанковых мин положил доски, сверху досок положил взрыватели. Принес охапку соломы.
Шагах в пятнадцати от меня в погребе прятались от бомб пожилые красноармейцы. Лица у них были уставшие, бороды не бритые. "По-видимому, из крестьян" - подумал я. Они выглядывали из погреба и молча наблюдали за моими действиями. Стоило мне принести солому и я еще не успел подложить ее под доски, как из погреба угрожающе послышалось:
- Эй ты, парень! Ты чего это там придумал?
Я, не обращая внимания на их окрик, продолжал свое дело.
- Смотрите, братцы! Эдак он и нас взорвет! А что подумают немцы потом? Они же за это перебьют нас всех!
Я считал, что поступаю правильно, и на разговоры солдат не обращал внимания. Из погреба донеслось: "Дивись вин одурел". После недолгих пререканий оттуда вылезло двое дюжих мужиков в солдатской форме, взяли меня за руки и за ноги, оттащили к речке и бросили в воду. Из погреба слышался злорадный смех. Вылез я из речки мокрый и продрогший. Было обидно за все. Обидно за себя, за них и все происходящее. Хотелось кушать. Отойдя подальше от речки и злых мужиков-красноармейцев, залез в глубокую воронку. В воронке разделся, выжал мокрую одежду, развел огонек. В вещмешке у меня были концентраты разных супов и каш. Поставил варить кашу. С пригорка метрах в 900 от меня ходили солдаты противника. Они смотрели на село, наблюдали, как нас бомбят и иногда, изредка постреливали сами.
Такое близкое соседство с противником мне показалось опасным. "Так и кашу можно не доварить" - подумал я. Неподалеку валялось два ручных пулемета Дегтярева. Рядом коробки с заряженными дисками. "Кто-то бросил из наших" - подумал я. Принес эти два пулемета к воронке, поставил их рядом. Зарядил и направил в сторону противника. Как знать, может быть и пригодятся. Сам спустился вниз к огоньку, подложил в огонь таблетки немецкого сухого спирта. Прилег рядом и уснул.
По- видимому, спал я недолго. Когда же внезапно проснулся, то даже испугался от неожиданности. Как могло случиться, что я заснул? Первым моим стремлением было вылезти из воронки и осмотреться. Где я и что происходит вокруг. Вылез наверх. На краю воронки по-прежнему стояли мои пулеметы. Мимо преспокойно проходил красноармеец. Зато метрах в 100-150 от меня с пригорка вниз спускалась нестройная колонна каких-то чужих солдат. Шли они неспеша, строем. Другие по бокам от колонны. "Что это за колонна?" -спросил я солдата. "Это румыны" - ответил солдат и пошел дальше. Я быстро скатился вниз, схватил за ручку котелок и тут же бросил его на землю. Ручка была горячая, обжигала. От каши пахло гарью.
Что же делать? В плен попадать, да еще голодным, не хотелось. Снова поднялся на верх воронки, приложился к пулемету и почти в упор в колонну выпустил весь диск. Стрелял, не отрываясь, пока пулемет не замолчал. Колонна рассыпалась, залегла. Когда перестал стрелять первый пулемет, сразу же взял второй. Пока длилась короткая пауза в стрельбе, некоторые из колонны побежали назад. Другие, по-видимому, поднялись для атаки. Однако длинная очередь из второго пулемета снова пригвоздила всех к земле. Когда перестал стрелять и второй пулемет, я не пытался перезарядить его. Быстро скатился вниз, снял с головы пилотку, схватил ей котелок и как можно скорее забежал за хату. В меня, наверное, никто не стрелял, а может быть, стреляли, да я не расслышал. Румынская колонна, так неожиданно нарвавшаяся на пулеметы, вряд ли могла сразу опомниться. Они знали, что наши войска в деревне деморализованы и сопротивления они никакого не могли оказать. Пока я спал, многие из деревни попали к ним в плен.
Вначале, с пригорка в деревню спускалось 2-3 румына. Они останавливались неподалеку от наших солдат. Махали руками и что-то кричали. Нами же никто не руководил, поэтому в румын никто не стрелял. Многие наши офицеры переоделись в солдатскую или гражданскую одежду. Из немецких листовок, которыми была усеяна вся земля, мы знали, что выхода у нас никакого нет. Всех нас ждет плен. Поэтому наши деморализованные солдаты, потеряв собственную волю, подчинялись любому, кто бы ни приказывал им. В данном случае это были румыны. Все подробности, которые произошли за время моего сна, я узнал от наших солдат позже. Уже далеко от злополучного места в воронке. В деревне, по крайней мере в той части, которая была ближе к противнику, наши солдаты ходили рядом с румынами и не было заметно конфликтов. Румынские солдаты были вооружены плохо, у них не у каждого были даже винтовки. Поэтому их смельчаки спускались с пригорка вниз к нам в деревню и, нагрузившись нашим оружием, снова бежали к себе на гору.
Встретившись с нашими присмиревшими красноармейцами, румыны объясняли им, что для красноармейцев война кончилась. Потому рукой показывали в свою сторону и говорили: "там хорошо, идите туда". Наши солдаты, уже и до этого успевшие побросать свое оружие, смиренно, опустив голову, шли, куда указывали румыны. В плен сдаваться я не собирался, пока еще не навоевался и жаждал подвигов. Теперь же, после случая, когда я так здорово угостил румын из пулемета, вообще мысли стали далеки от этого. Забежав в дальний конец села, прежде всего покушал своей пригорелой каши. Эту часть села еще бомбили. Наши солдаты и здесь были подавлены, никем не управляемы и деморализованы. Многие ходили без оружия. Лазили по брошенным машинам, заглядывали в мешки и в ящики. У многих в вещмешках что-то в изобилии лежало. Их распирало в стороны и они даже плохо завязывались. В одной брошенной машине я тоже набрал себе концентрата. Это была лапша. Подумал, пригодится. Побродив некоторое время на этой стороне речки по селу, решил уйти из него на другой берег вплавь через речку. Здесь, на этом берегу, дольше оставаться было нельзя. Попадешь к румынам.
Медленно шел я по дороге, поглядывая на речку, где бы она была поуже. Слева от меня ехала запряженная лошадью повозка. Сверху, невысоко, пролетали немецкие самолеты. Они то здесь, то там сбрасывали бомбы, к которым мы привыкли и почти не обращали на них внимания. Вскоре внезапно рядом что-то грохнуло, будто разверзлась земля. Тело мое сделалось легким, как пушинка. Куда-то полетело в пространство и все погрузилось в небытие. Когда я снова открыл глаза, то никак не мог понять случившегося. Где я нахожусь и почему нахожусь. В ушах тоненько звенело, было такое впечатление, будто они заложены ватой. Тишина была, как в глубоком погребе. Болела голова, хотелось спать. Ноги мои выше колен находились в воде. Уходя одним концом в воду, лежала глыба земли, которая упиралась мне в грудь и живот, не давая скатиться ниже в воронку. Так, лежа на боку в старой воронке от тяжелой бомбы, я пытался понять суть произошедшего со мной и сориентироваться. Попробовал приподняться - все хорошо, все в порядке. Мои руки и ноги двигались. Опираясь на винтовку, вылез из воронки. В голове шумело. Красный диск солнца уже садился за горизонт. Вечерело. Шагах в десяти от меня валялась перевернутся повозка, еще запряженная в убитую лошадь. Вокруг лошади на земле валялись ее внутренности. Наверное, ей осколком распороло живот и она потом еще долго билась.
Пока я раздумывал над случившимся, ко мне подбежали двое солдат, в форме, похожей на красноармейскую. Один наставил на меня пистолет. Другой отобрал винтовку. Снял с меня пояс с патронажем, обыскал карманы, заглянул в вещмешок. Потом он начал мне что-то говорить и указал в сторону, где находились позиции румын. Сразу я не мог понять всего произошедшего. Глядел на форму румын и не мог понять, в чем дело. В петлицах одного из них были прикреплены красные крестики. Сбоку висела большая сумка с красным крестом. "Наверное, медики" - подумал я. Потом румын подтолкнул меня, махнул рукой в сторону своих позиций и мои ноги медленно понесли меня в неизвестность. Идти пришлось, может быть, с полкилометра. Пока я медленно шел и приводил свои мысли в порядок, незаметно дошел до окопов, в которых сидели румынские солдаты. Вид у них был жалкий. Выглядели они еще хуже, чем наши совершенно деморализованные поражением войска. Одеты они были в белые подштанники, босые и без шинелей. У многих не было винтовок. Они сидели на краю своих окопов, смотрели в нашу сторону и с нетерпением кого-то ждали. Кого румыны ждали, скоро прояснилось. Их молодые и смелые солдаты, чтобы получше вооружиться самим и вооружить своих товарищей, уходили на наши необороняемые позиции. Там они собирали наши винтовки и, нагрузив их на себя по несколько штук, радостные, бегом бежали обратно к себе. Их-то, с нашими пустыми винтовками так с нетерпением ожидали румыны в своих окопах. В их сторону непрерывно, по одиночке или группами, тянулись наши солдаты. Шли они безоружные, голодные, небритые. Многие раненные и полураздетые.
Возле многих румынских окопчиков виднелись кучки разного имущества. Решил поближе посмотреть, что это такое. Однако рассматривать не пришлось. Почти сразу прояснилось все само. Откуда-то подбежал полуодетый румын и начал вытряхивать из моего вещмешка концентраты. Потом он обшарил мои карманы. В записной книжке лежало 3 рубля денег. Деньги румын забрал себе, книжечку великодушно отдал обратно. По мере того, как подходили наши солдаты, кучки трофеев возле румын росли все выше. Румыны были довольны, веселы. Вспотевшие, они бегали от одного нашего солдата к другому. Те, которые имели уже довольно высокие кучки трофеев, больше не брали концентратов или сухари. Они выискивали что-либо посолиднее. На румынских позициях стояли пушки. Вид у них был очень старомодный и мне показалось даже, что румыны стреляют из них с помощью фитиля. Разочарование было очень тяжелым, очень горьким. Неужели эти нищие румыны смогли нас победить и взять в плен? Лучше бы было бы умереть, чем видеть такой позор. Ведь мы были сила в сравнении с ними. В этот момент я, еще не совсем их пленник, почувствовал себя высшим существом, чем эти мои враги, победившие меня.
По некоторым причинам гордость моя за себя продолжалась недолго. Низко над нами пролетела партия немецких самолетов с крестами на крыльях, они сбросили серию бомб. Вверх вместе с землей полетели румыны и их побежденные красноармейцы. Про себя я отметил: "если бы не эти черти с крестами на крыльях, румыны и сейчас бы сидели в окопах в своих белых кальсонах и без наших винтовок".
За позициями румын отдельные ручейки бывших советских солдат и еще пока не совсем военнопленных, сливались в огромные людские потоки, которые с передовой конвоировались одним или двумя полунищими румынскими солдатами в тыл. Было обидно видеть эту унизительную картину. Необозримая колонна советских солдат, полураздетая мародерами-победителями, опустив вниз головы, медленно движется в плен. Рядом идет победитель. Вид у него бодрый. На лице написана радость. На одном плече у него болтается советский автомат, на другом, связанные веревочкой, советские сапоги, которые он с кого-то успел снять. Сапоги радовали конвоира. Он без конца смотрел на них, щупал руками. Иногда ему казалось, что сапоги его недостаточно хороши. Тогда он приближался к колонне и сравнивал их с сапогами пленных. Наши сапоги были пыльные, грязные и румын, убедившись, что его сапоги выглядят лучше наших, по-прежнему довольный, отходил в сторону.
Через дорогу к передовой шел телефонный провод. Солдаты, не видя его, цеплялись ногами, падали. Вставали и, чтобы не упал солдат, идущий сзади, передние безразлично выкрикивали: "провод". Наряду с безразличным выкриком, предупреждающим пешехода об опасности споткнуться, послышалось также заботливо-хозяйское предупреждение. Впереди кто-то сказал: "Провод, братцы. Осторожно, не порвите. Все-таки на передовую идет". Никто ничего не ответил. Ухо чутко ловило настроение колонны. Все молчали. Когда дошла очередь до меня перешагнуть через провод, я назло всем ногой зацепился за провод и попытался было оборвать его. Он оказался крепким и самортизировал, а я сам едва не был отброшен проводом назад. Через полчаса ходьбы пришли в какую-то низину. Там уже находилось тысяч двадцать-тридцать наших солдат, а они все шли и шли нескончаемым потоком.
Перед пришедшими выступил с речью переводчик. Он сказал, что для нас война уже кончилась, с чем он нас и поздравляет. После войны мы все возвратимся к своим семьям на Родину. Завтра нас всех отправят в лагеря для воспитания. Сегодня ночью мы будем ночевать здесь, под открытым небом. Он предупредил нас, чтобы мы вели себя правильно и не пытались бежать. Лагерь оцеплен солдатами. Все молчали.
Внезапно из среды наших пленных кто-то громко прокричал:
- Нет, не убежим! Спасибо вам. Идите освобождайте других от большевиков. Ура!
Никто не ответил. Все стояли молча, опустив головы. "Это предатель. Враг народа" - подумал я про себя. Потом, тот же переводчик сказал:
- Евреи, комиссары и партийцы - три шага вперед марш!
Молчание. Переводчик снова повторил сказанное. Из наших рядов кое-где робко вперед вышло несколько человек. По-видимому, это были евреи.
- Ну-ну, смелее! - Приглашал переводчик. Из заднего ряда вперед робко пробирался парень. По виду это был еврей.
- Куда ты, дурак, стой, если жить хочешь! - Кто-то удержал парня и он остался стоять на своем месте. Потом, когда на небе уже появились звезды, где-то недалеко послышалась пулеметная стрельба. Потом были слышны также и одиночные выстрелы. Пленный, лежавший рядом со мной на земле, начал креститься.
- Что, верующий, что ли? - спросил я.
- А как же, сынок. Грех ведь невинных людей убивать. Слышишь, стреляют. Это ведь, должно, наших комиссаров да евреев стреляют. Вот до чего мы дожили. Не зря ведь сказано в Божьем писании… - и пленный начал рассуждать о Божьем писании. Я сказал, что я не верующий и отвернулся от него.
- Ну что же. - Продолжал тот без обиды. - Вот за наше неверие-то и наказывает нас всех бог. Сейчас все такие пошли. Может быть, ты и комсомолец даже.
Я продолжал молчать.
Ночью спалось плохо, неспокойно. Кто-то рядом стрелял в кого-то. Кто-то кричал. Утром проснулся с головной болью и плохим настроением. Вокруг, насколько было можно видеть, лежали наши солдаты. Теперь уже военнопленные Второй Мировой Войны. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, чтобы как-то сохранить в своем теле тепло. Такого видеть мне еще не приходилось. На необозримом поле на земле лежали тысячи и тысячи людей. Некоторые, согнувшись и опустив вниз головы, ходили между лежащими, отыскивали кого-то или чего-то. На ум живо приходили впечатляющие картинки Верещагина. Передо мной был один из трагических эпизодов нашего тяжелого поражения под Харьковом. В мае 1943 года наши газеты и историография не писали и не пишут теперь о подробностях и причинах этого страшного поражения. По немецким газетам того времени было известно, что советские войска под Харьковом потеряли тогда только пленными 275 тысяч человек. А какая огромная техника была утеряна нами! С кого наш народ должен будет спросить за все это? У нас это сделали по-своему и оригинально спросили с тех же как-то уцелевших пленных солдат. Разгромив огромную советскую группировку под Харьковом, немцы сразу получили легкую возможность выйти на Кавказ и к Сталинграду. Это было несколько позже, а пока румыны выстроили нас по десять человек в ряд и огромная колонна двинулась в путь. К моему удивлению, на земле осталось много наших пленных. Они были мертвы. Почему? Так я и не понял, почему они умерли за ночь. Может быть, были ранены.
Шли напрямик по бездорожью, но ползли через села. Когда поднимались на возвышенное место, то не было видно ни конца, ни начала нашей колонны. На много километров вперед и назад шли в колонне по десять человек наши пленные. Многих поддерживали на руках. Тех, кто не мог идти дальше - отводили в сторону и здесь же на месте расстреливали. Там, где проходила наша колонна, после оставалась хорошо утрамбованная и гладкая дорога. Иногда подавали команду на привал. После привала многие пленные уже не могли идти дальше. Таких пристреливали. Румынские конвоиры, чтобы им было легче идти, подзывали из строя пленного, нагружали на него свой автомат или винтовку и так шли дальше. Было и удивительно, и смешно. Румыны-конвоиры, как казалось, были настроены мирно. Однако, когда появлялись немцы, конвоиры проявляли шумную суетливость и строгость.
В одном месте немецкий самолет спустился очень низко над нашей колонной и колесами пытался проехать по головам. Мы пригнулись. Никто не пострадал. Когда проходили через села, то нам навстречу выходили почти все, кто мог выйти. Это были женщины, дети, старики. Они стояли возле дороги и кричали: нет ли здесь кого из Барвейнова, Петровки и т.п. В руках они держали хлеб, картошку, молоко. Видя, что тех, кого они ищут, нет, всю еду отдавали нам. В некоторых селах на дорогу крестьяне выносили бидоны с молоком ли бочки с водой. Все это было нам очень кстати. В одном селе во время привала местная жительница среди пленных встретила своего сына. Парнишке было лет 15-16. Мать схватила его за руку и, не обращая внимания на румын, увела домой. Румыны смеялись и не возражали. Видя, что они настроены добродушно, другая, молодая женщина, решила также увести молодого солдата лет 20-22. Румыны не отпустили его. Она им доказывала, что "это муж мой, муж". Не помогло. Тогда она быстро сбегала домой, принесла в платке яйца, еще чего-то, завернутое в газету и все это отдала румыну. Конвоир взял у женщины подарок, женщина у конвоира военнопленного и обе стороны остались довольны. Молодая женщина схватила за рукав пленного парня, быстро потащила его подальше от колонны, за хаты. Конвоир-румын, усевшись на землю, стал делить яйца с другим сотоварищем.
Так шли весь день, иногда делая привалы. Охрана была не слишком бдительна, поэтому много пленных сбежало. Конечно, бежали те, кто имел куда бежать.
Вечером, когда уже стемнело, пришли на станцию Лозовая. Ту самую станцию, которую наши войска еще зимой освобождали в 42 году. Станция была сильно разбита. Кругом валялось разбитое и сожженное имущество. Особенно много лежало в куче обгорелых сапог. Все это было ново и впечатляло. До Лозовой мы еще толком не познакомились с немцами. Наши конвоиры были румыны. В Лозовой пленных приняли немцы. Это были рослые, стройные и хорошо одетые воины. На многих были одеты черные плащи. Голоса у них были звонкие, команды четкие, сразу чувствовалось, что это воины, не похожие на румын. В сравнении с ними, с немцами, мы выглядели бледно. Было до слез обидно и стыдно за себя. Перед румынами мы выглядели лучше. Мне даже было стыдно самому перед собой, что меня взяли в плен нищие босяки, румыны. Теперь же, глядя на немцев и сравнивая себя с ними, я сам себе казался пойманным бродяжкой, которого хотят изолировать от нормального общества. Немцы звонкими выкриками, и с помощью подзатыльников загнали нас в какие-то сараи. Ночь спали крепко. Утром, при выходе в путь, у ворот всем нам выдали по горсти подсолнечных семечек. День был очень жаркий, шли быстро, почти не делая остановок. Хотелось пить. Воды нигде не было. Некоторые падали без сознания. Другие пробовали пить собственную мочу. Конвой был смешанный. Пешком шли румынские конвоиры. На машинах вдоль колонны курсировали немцы. Немцы были строги и непреклонны. Румыны же при приближении немцев тоже зверели. Шумно и на деле демонстрировали свою ненависть к нам.
Очень хотелось пить. Многие воды не пили уже двое суток. В одном месте возле дороги была лужа воды, оставшаяся после дождей. Я было прицелился на эту лужу. Подумал, упаду в лужу, сделаю несколько глотков и мне будет достаточно. Мне не удалось напиться. Опередил впереди идущий пленный: он сделал то же самое, что намеревался сделать я. Он быстро упал на землю, припал губами к луже и здесь же окончил свою жизнь. Идущий сзади конвоир румын выстрелил ему в спину. Когда я проходил мимо, парень был еще жив. Он перевернулся на спину, зажал кровоточащую рану рукой и широко раскрытыми глазами смотрел вслед проходящим мимо пленным.
На ночь остановились возле речки. Огромная территория была обнесена колючей проволокой и вдоль проволоки ходили часовые. К речке подойти было нельзя. Не пускали. Стреляли. Посреди площади был единственный колодец с ведром. Предполагалось, что мы все напьемся из него. Однако все это было тщетно. Все страшно мучила жажда и потому, все как один, пытаясь первыми напиться, бросились к колодцу. Многотысячная толпа умирающих от жажды пленных плотной массой прилипла к колодцу. Задние не могли пробиться к центру. Те, которые были у колодца, не могли выйти. Многие, обессилев, падали и были тут же слепо и безжалостно затоптаны. Я был физически слаб, еще не отошел от контузии, и не испытывал своего счастья у колодца.
Подойдя ближе к речке, я с тоской смотрел через проволоку на нее. Было жалко, что так зря пропадает вся эта вода. Возле проволоки стоял молодой солдат, немец лет 20. Он курил сигарету и спокойно наблюдал за происходящим у колодца. На плохом немецком языке я попросил его, чтобы он мне зачерпнул воды из речки. К моему удивлению, немец понял меня и протянул руку, показывая на мой котелок. Быстро дал его немцу. Тот, не раздумывая и ничего не спрашивая, набрал в речке воды и подал мне.
"Bitte" - сказал он. Я с удовольствием пил воду и мне казалось, что я все еще хочу пить. Когда я пил воду, другие пленные заметили меня. Подбежали тоже за водой. Вода не вся попадала в рот, часть ее разливалась. Подбежавшие пленные подставляли вниз свои котелки. Кто-то просил: "Братишка, оставь глоток". Немного недопив, оставшуюся воду отдал пленному, ее было мало и никто из подошедших не напился. Тогда один из смелых протянул через проволоку котелок и начал немцу показывать внутрь котелка пальцем. Он говорил: "вода. Понимаешь, вода, пить. Пан, дай воду". Немцу не понравилось что-то, он одним движением снял с плеча винтовку, щелкнул затвором и закричал: "Weg". Все отошли от проволоки.
Несколько позже, два филантропа-немца вошли к нам в загородку и из корзиночек начали бросать в кучу пленных ломтики хлеба. Нас было всех много тысяч и на всех нас 5-6 кило хлеба было разделить невозможно. Мы голодной стаей бросались на каждый кусочек. Давили себя и крошили нарезанные ломтики хлеба. Вряд ли хоть один кусочек кому-нибудь смог достаться. Немцам не понравился наш способ завладеть кусочком хлеба. Был он слишком неделикатным и рассердил их. Они откуда-то вытащили палки и начали бить по куче людей. По-видимому, некоторым было больно, так как они отбегали в сторону. Другие же, думая, что палкой человека не убьешь, пытались пробиться через кучу к центру, к кусочку хлеба. Немцы бегали с палками от одной кучи людей к другой. Старались навести порядок. Однако устали и они. Немцы, размахнувшись, бросили в кучу пленных свои палки, плюнули вслед и, громко ругаясь, ушли из загородки.
Ночь спали на голой земле, под небом. Было холодно. Чтобы скрасить неудобства ночлега, я пытался представить себя в загородной прогулке, на пикнике с ночевкой на свежем воздухе. Фантазер я хоть и был отличный, однако представить себе желаемое не смог. Ночью начался дождь, который поневоле заставил перенести мысли от лирики к прозе. Утром выглянуло солнце. От наших мокрых шинелей к нему вверх поднимался пар. Пленные, тесно прижавшись друг к другу, лежали, боясь пошевелиться и выпустить тепло. Пустые желудки напомнили, что следует позаботиться также и о еде. Проснувшиеся, полезли в свои вещь-мешки.
Не глядя на них, решил и я проверить свои возможности. Но, что это такое? Вещмешок, на котором я спал вместо подушки, оказался наполовину пустым. Через весь мешок проходила длинная полоса разреза. Из дыры выглядывало полотенце, белье и еще что-то. Сухари мои исчезли. Кто-то проявил инициативу и не дал им залежаться. Но я не очень огорчился. У других было еще хуже. У них пропали не только сухари из мешка, но и сами вещмешки куда-то исчезли. По-видимому, ночными похождениями занимался не один дегенерат. В разных местах лагеря во множестве валялись солдатское белье, пустые вещмешки и т.д. Одному мошеннику всего этого было бы много. Я поднял с земли чей-то пустой вещмешок и переложил в него остатки своего богатства.
Спустя час-два времени нас снова выстроили по десять человек в ряд. Последовала команда и необозримая колонна невинных узников продолжила свой путь в неизвестность, в плен, от которого мы ничего хорошего не ждали.
Прошел еще один трудный день пути. День, для многих ставший последним. По пути нашего следования осталось навсегда лежать на дороге много тех, кто был ранен, болен или обессилен. Еще одну ночь провели в Павлограде. Там, за все трое суток нам впервые выдали по двести грамм хлеба. Хлеб был сухой, заплесневелый, зеленый. Многие, боясь заболеть, выбросили его.
На другой день в послеобеденное время мы пришли на станцию Синельниково. Там нас ждали товарные вагоны красного цвета. В каждый вагон поместили по сорок человек. Без привычки расположиться на полу стольким людям было трудновато. Негде было повернуться. Потом утряслись.
На станции стояли долго. Через окно сверху вагона по очереди смотрели, что происходит на станции. Там в щеголеватой военной форме ходили немецкие офицеры, солдаты, летчики. Вид у них всех был опрятный. Ходили они спокойно и мирно о чем-то разговаривали и много смеялись. Нам вначале они показались людьми совсем милыми, чем все мы сами. К вагонам подходили местные женщины и громко через дверь выкрикивали: "Кто есть из Синельникова?". В вагоне повторяли: "Кто из Синельникова?". Таких у нас никого не было. Одна женщина, не найдя никого из своих, передала в наш вагон через окно хлеб, картошку вареную и еще чего-то. Заросший и ободранный пленный, на вид крестьянского образца, взял передачу и не хотел ни с кем делиться. Ему кто-то сказал:
- Ты что же, забрал все один! Поделись. Вот Куркуль выискался!
Пленный возмутился за то, что его назвали Куркулем, да еще оскорбительно.
- А ну повтори, какой я Куркуль! - Угрожающе произнес Куркуль. - Да ты знаешь, чья теперь власть пришла? Наша, куркулячья. Вот я сейчас гукну немцу, он тебе покажет за такие слова. Ишь мне, комиссар какой нашелся! А может быть, он и в самом деле комиссар? Вот выйдем в лагерях, потом его надо будет проверить, кто он такой!
Все молчали, не возражал и тот, кто назвал крестьянина Куркулем.
Потом из середины вагона один здоровый молодой солдат сказал медленно и внушительно:
- Ты, борода! Я не разбираюсь, кто ты такой. Куркуль ты или просто грабитель. Если ты сегодня ночью умрешь нечаянно, то знай, это я тебя придавлю, гада!
Говорящий солдат был хорошо сложен и сомневаться в его силе и намерениях не приходилось. Возражений по поводу сказанного не послышалось, а сам Куркуль забормотал:
- А, что ты мне сделаешь! Братцы, слыхали, как он мне грозит? Слыхали?
Куркуля никто не поддержал. Потом здоровый солдат сказал:
- Если ты, падла, еще будешь бормотать, я это сделаю сейчас же. Кидай сюда жратву!
Борода опять начал оправдываться:
- Я же по закону. Ни у кого ничего я не взял! А эту передачу! Так ее же мне дали, она моя.
Парень медленно, молча начал подниматься со своего места. Куркуль все еще придерживал своей узелок и, наверное, решил: чем связываться со здоровым парнем, лучше побороть его дипломатией:
- Ну вот, гляди, и здесь тоже комиссары над нами верховодят, - начал было Куркуль. Однако, взглянув на здорового солдата, начал вдруг улыбаться, отбросил от себя узелок и сказал, - Берите. Что мне, жалко, что ли. Я хотел как по закону, по правде. Мне же дали.
После этого случая все как-то притихли, приуныли. Молчал и Куркуль в своем углу. Поезд со станции отъехал поздно вечером. В запечатанных теплушках путешествие выглядит мало приятным. Слишком много неудобств. Хотя бы то, что в такой теплушке не предусмотрены уборные. Рано утром, без особых приключений, приехали в Днепропетровск. Снова построились в колонну по десять человек и по чистеньким, уютным улицам двинулись к своему лагерю. Ночью здесь прошел дождь и все нам казалось свежим, умытым. Произвело впечатление то обстоятельство, что никто не обращал ни малейшего внимания на нашу разнесчастную колонну. Деловито проходили мимо аккуратные и чистенькие немцы. Рядом с ними шли наши нарядные девушки, о чем-то мирно беседовали и ни малейшего взгляда в нашу сторону. "Наверное, такие, как мы, здесь проходят часто и уже надоели всем" - подумал я.
Мы же шли, измученные голодом, жаждой, многодневными боями и бессонными ночами. Многие в колонне не могли идти. Их вели под руки товарищи. Да и все остальные, которые смогли как-то мало-мальски сохраниться, выглядели весьма уныло. Одежда на всех грязная, изодранная в боях. На многих идущих белеют марлевые повязки с грязными пятнами запекшейся крови. У моего соседа было обожженное лицо. Оно распухло, по щекам текли струйки жидкости из образовавшихся трещин. Глаза затекли, из-за этого он походил на монгола.
Конечно, в том сравнении с немцами, которые они делали в своих цветных журналах, мы, безусловно для них были хуже скота. Унтерменши, как они нас называли. Хотя, если бы можно было поменяться обстоятельствами и местами, то вряд ли мы смогли бы себя чувствовать высшей расой. Было обидно за свое унижение. Хотелось спросить кого-то: "За что? Кто виноват в нашем позоре? Разве мы сами хотели этого?". С кого спросить за наше унижение? Кто должен нам ответить за все это?
Это печальное шествие босых и раздетых людей было своего рода парадом нашего позорного поражения. Нас, как побежденных рабов в картинках из учебника, вели по улицам красивого и чистого города. Мы же, в контраст городу, были грязны, измучены и окровавлены. В древних картинках были изображены толпы народа, которые разглядывали своих побежденных врагов. Наше же шествие слегка рассматривали только старушки и то наспех. Взглянет на это шагающее по городу чудище, перекрестится и убежит куда-то.
Наконец, подошли к большим железным воротам. "Днепропетровская тюрьма Чичерина 101" - пронеслось по рядам. Видимо, кто-то еще раньше успел познакомиться с ней. Через двое железных ворот, охраняемых немецкими солдатами, прошли внутрь. Это оказалась старая, добротная и большая тюрьма с множеством многоэтажных корпусов. На корпусах белой краской большими буквами было написано: "Block A", "Block B" и т.д. Все окна закрыты деревянными щитами. В некоторых щитах отсутствовали доски или были проломы. Через них из камер смотрели на нас люди в такой же красноармейской форме. Двор выглядел опрятно и по нему деловито сновали люди в немецкой одежде и в советской.
Все мы в подобном положении были впервые и все нами виденное производило на нас определенное впечатление. Высокие каменные заборы с колючей проволокой по верху. Часовые на вышках с пулеметами. И особенно - люди, которых мы встречали. По всему виденному пытались определить, куда мы попали и что ждет нас впереди. Немцы выглядели аккуратно. Они были красиво одеты, чисто выбриты, на голове у них были красивые прически и блестящие на солнце сапоги. Они были сыты и высокомерны. Шутили между собой и звонкими голосами отдавали распоряжения.
Мимо прошло несколько пленных. На носилках они несли пустые бочки. Одежда рваная и засаленная. Лица бледные, худые и заросшие. Носилки они несли быстро, пугливо озираясь. Сбоку от них шел полицай с белой повязкой на рукаве. Он иногда покрикивал на пленных. В руках у полицая был длинный резиновый шланг. Возле подвала многоэтажного здания стояла телега, запряженная лошадью. Издали было видно, как что-то выносили из подвала и бросали на эту телегу. Подойдя ближе, я до деталей разглядел худых, посиневших мертвецов, которых вывозили из лагеря. Их вывозили в овраг за тюрьмой, где и сбрасывали. Для начала это было страшно.
Ввели нас на большой двор, ввиду площади, выстроили. Всех оказалось не более тысячи человек. По-видимому, остальных распределили в другие лагеря. Перед вновь прибывшими выступил усатый мужчина. Говорил он по-русски хорошо, но с акцентом.
Вначале усатый поздравил нас с окончанием войны для нас. Потом еще что-то говорил - я не расслышал. В конце сказал, чтобы мы вели себя смирно и не пытались бежать. Для подкрепления своих слов рукой показал на вышку с пулеметом. Пленные стояли молча. После своего немногословного обращения к пленным усатый скомандовал: евреи, коммунисты и комиссары - три шага вперед марш. Никто не сделал эти страшные три шага.
Немного подождав и повторив свою команду несколько раз, пленных начали сортировать по национальной принадлежности. Русские и украинцы в одну группу, узбеки, кавказцы и прочие - в другие. Вначале мы не поняли, чего от нас хотят и продолжали стоять. Кто-то спросил из пленных:
- Зачем нас делить? Мы хотим быть все вместе.
Переводчик нравоучительно произнес:
- А как по-вашему, что будет, если вместо лошади в конюшню поставить воробья?
Переводчик проявил терпение и был не груб. Это производило хорошее впечатление. Зато не мешкали и с чувством превосходства над нами действовали наши русские парни в красноармейской форме. Мы тогда еще не знали, что это были лагерные полицаи. Они хватали нас за воротник за шею, спрашивали: "кто?" и грубо швыряли туда, где тебе положено быть. В придачу пинок под зад, для лучшего понимания. В основном попало самым первым, которые сразу не знали, куда им следует идти. Позже мы сами сумели разобраться в нашей национальной принадлежности. Больше всех оказалось русских с украинцами. Один узбек или же таджик решил остаться с русскими. Ему никто ничего не сказал. Потом он долго жил вместе с русскими в одной камере. Было трудно понять смысл его поступка. Может быть своим действием он проявлял патриотизм и демонстрировал межнациональную солидарность. А может быть, думал, что для русских плен бывает слаще, чем для других.
Распределив пленных по национальности, переводчик ушел. Остались одни полицаи. Их мало интересовали высокие материи. У полицаев были свои заботы, сугубо лагерно-профессиональные. Они приказали всем раздеться и сдать все теплое белье и шинели. Кроме всего, к сдаче подлежало все, что имело ценность. Часы, бритвы, деньги и т.п. Полицаев было немало. Все они ходили между рядами пленных и наблюдали, чтобы их распоряжение выполнялось пунктуально. Они не смотрели, чего ты сдал. Казалось, их больше интересует, чтобы ты чего-либо не оставил себе. Если кто пытался припрятать вещичку, то немедленно получал оплеуху, а то и две. Сами полицаи были одеты во все новое и у каждого на руке были часы, кольца. Несмотря на все, многие пленные сумели кое-что спрятать. Даже ножи и бритвы.
Я смотрел на полицаев и пытался понять, кто они, эти бывшие советские ребята. Где они росли. А может быть, они были даже комсомольцами. Почему они вдруг так быстро одичали. Ведь, казалось, в нашей стране никому не прививали бандитские повадки. Их с детства воспитывали в духе человечности, много лет подряд. А в какие-то несколько месяцев они превратились в сознательных преступников. А может быть, нас неправильно воспитывали. Ждут от нас одного, а получают другое. Где корень зла этого?
Полицаи свое дело знали хорошо. Они ничего не стыдились и ничего не боялись. За их спиной стояла сила и малейшее неповиновение приводило к мгновенной расправе. Можно было сразу остаться без зубов или получить по спине удары резиновым шлангом с песком внутри. Поэтому почти каждый про себя думал: возьми все. Все это так дешево стоит. Мне же оставь жизнь. Она мне еще пригодится. Полицаи, у которых в это время вид был похожий на цепных зверей, забрав у нас наше имущество, с криком и пинками разместили пленных по камерам. Все мы были как в бреду. В душе у нас было полное смятение, все вокруг воспринимали как должное. Мы тогда еще не умели по достоинству ценить зло, добро и все происходящее с нами и вокруг нас. Мы чего-то ждали. Пытались всему придать какой-то определенный смысл. Найти себя и свое место в случившемся.
Все попытки ориентации в обстановке приводили к мысли, что ты сам и все мы, пленные, являемся чем-то неодушевленным, не имеющим никакой ценности. Мы себя чувствовали даже не вещью, которую можно хранить и переставлять, а каким-то злом, которое почему-то существует и с которым у кого-то пока нет времени, чтобы расправиться. Мы машинально осматривали камеру, людей, с которыми находились. Никто ничего не говорил. Все молчали и чего-то ждали.
В камерах легли на цементный пол. Едва успели разместиться, как двое пленных под присмотром полицая внесли бочку с едой. Это была довольно густая каша, приготовленная из гнилой кукурузы. В каше иногда попадались черви. Еду выдавали по поллитра на человека. Меркой служила банка из-под консервов. Наверное, тогда мы были очень голодны, так как каша показалась очень вкусной и ели мы ее с удовольствием. Если бы еще давали добавочное. У одного паренька не оказалось ни котелка, ни консервной банки, ни каски. Положить кашу ему было не во что. Тогда он снял свою пилотку, подставил под ковш и пришлось парню пообедать из своей пилотки.
Потом сразу появилась усталость, потянуло ко сну. Вся камера, уснув еще днем под вечер, проснулась только утром. Пробуждение наше было безрадостным. Явь была горькой и не было снов. Через зарешеченные окна было видно, что на дворе взошло солнце. Однако в нашей камере все лежали и никто не желал вставать. Может быть, лежали потому, что не знали, для чего нужно вставать. Каждый лежал и думал свою грустную думу. Пытался размышлять над случившимся и как-то сориентироваться в обстановке. Что же произошло? Почему такой страшный и непонятный конец. Разве нас было мало? Или, может быть, мы все трусы или предатели? А может быть, произошло что-то страшное, о чем мы не знаем. Ничего не понять.
Нет, все сразу мы не могли быть ни трусами, ни предателями. Ведь когда у нас были патроны и снаряды, немцы бежали от нас, да еще как бежали! Даже тогда, когда у каждого из нас было по 1-2 патрона, когда мы знали, что идем в атаку, неизвестно на что надеясь. Даже тогда, чтобы помочь как-то делу, мы своими глотками пытались запугать врага. Хотели победить, не думая о своей жизни. Разве этого мало для воина? Нет, у нас была воля к победе. Мы были по-настоящему хорошими солдатами. И не нас следует винить за поражение!
Вот так вот, молча лежали мы на цементном полу, про себя размышляли о прошедших событиях. Цемент вначале казался холодным. Окно было без стекол и лежать без шинели в одной гимнастерке на холодном полу сразу было непривычно. Потом он согрелся от наших тел и стало не так холодно, как вначале. Наконец, молчание было нарушено. Один из пленных сказал:
- Братцы, говорят, здесь кормят каждый день!
- Кто это тебе успел доложить? - Послышалось в ответ. - Подумаешь, птица какая! Будут здесь заботиться о тебе. Нате вот вам, товарищ пленный, откушайте котлетку, а то вы в дороге проголодались…
Все промолчали.
- Да, братцы! Как же мы теперь будем называть друг друга. Ведь товарищами здесь называться нельзя, это будет по-советски.
- Вот когда я сидел в тюрьме, - послышалось от окна, - так там мы назывались гражданином. К примеру: гражданин Иванов, сегодня ваша очередь выносить парашу. Будьте любезны!
- А я слышал из вагона, как бабы кричали немцам - "пан, пан".
- Зачем пан? - возразил кто-то, - пан - это по-польски. У нас у русских есть собственное русское обращение. Раньше называли господин. Вот так, наверное, и останется.
- Господин! Выходит, теперь мы господами стали! Вот здорово!
Было страшно и неловко. Будто куда за границу уехал. Или живешь в царское время. Все это не вязалось в нашем положении и в сознании. Живем на территории Советского Союза. Окружают тебя люди в красноармейской форме и вдруг "господин". Чудеса! Первое время у нас как-то не было того душевного равновесия, которое позволяет правильно ориентироваться в обстановке или осмыслить произошедшее. Мы все походили на корабль в море, который потерпел крушение, остался без руля и кормчего, хотя жизнь на нем еще билась. Жизнь билась горячо, все хотели жить. Но не было среди нас того человека, который знал бы как управлять кораблем и, всматриваясь во все, даже малозаметные признаки, которые могли бы указать на решение нашей участи. В таком положении все воспринималось обостренно, а потому наши реакции на события были не всегда разумны.
Тогда мы никого не винили в нашей беде. Нам чаще казалось, что мы сами виноваты во всем. Позже хвалили себя и кого-то, неизвестно кого, ругали, обвиняли за наше поражение. Так, один молодой и стройный юноша со смуглым лицом, по виду кавказец, обижался, что все так быстро кончилось, да еще так непонятно. Он говорил, что все это произошло потому, что мы воевали плохо. Что если бы все воевали храбро, никогда бы этого не произошло. По его словам получалось, что вся наша армия состояла из трусов или предателей.
- А ты сам-то хорошо воевал? - спросил кто-то.
- Да, я воевал хорошо. - Ответил смуглый юноша. - Я стрелял из орудия, пока оно само не взлетело на воздух. Мое орудие из всей батареи держалось дольше всех, хотя снарядов на нее падало тоже больше, чем на другие. Уже давно не стреляло ни одно орудие, а я все бил да бил. Из строя вышел весь наш расчет. Живым на всей батарее остался я один. Чтобы выстрелить из орудия, мне нужно было бежать в укрытие за снарядом. Принести снаряд, зарядить орудие, навести, потом стрельнуть. Много так не навоюешь. Загорелись ящики со снарядами. Пока я лопатой засыпал огонь, возле орудия разорвался снаряд, разбило приборы. Немцы решили, что с нашей батареей все покончено, перестали стрелять. Гляжу, недалеко от орудия прямо на меня едет немецкий танк. Кое-как через ствол прицелился, быстро зарядил и выстрелил. Танк разворотило по всем правилам.
Рассказчик умолк.
- А дальше? - спросил кто-то.
- Потом меня засыпало землей. Очнулся, когда уже не было стрельбы. Я вылез из-под земли, огляделся. Орудие лежало на боку. Вокруг валялись убитые. Поодаль дымился танк. Шумело в голове. Я уже мало чего понимал. Мне было все равно, какой будет конец. Я пришел в деревню. Там были немцы. Теперь вот здесь, с вами.
- А чего же ты не убежал? Ведь надо было бы бежать!
- Легко спросить, почему не убежал. Я это же самое хотел тебя самого спросить. Почему ты не убежал? - Смуглый продолжал. - Я любил читать книги. В них русский солдат всегда бывал храбрый и непобедимый. Мне казалось, что и на деле тоже так.
- А что, не так, что ли?! Точно, храбрый. И не победили бы. Не от нас это зависело. - С цемента поднялся веснушчатый блондин лет двадцати, - Мы вот не хуже тебя воевали. Да что толку. Если по правде сказать, то вот нам с Витькой надо бы было орденищи какие привесить. Посмотрел бы ты, сколько мы их там положили.
- Точно! - Подхватил Витька. - Мы вон с ним с Петькой сидели на крыше с пулеметом. Патронов у нас было до черта. Нас самих прикрывала кирпичная надстройка на крыше. Дом был старинный, крепкий. Ох мы и побили там! Дом выдавался как-то вперед и с крыши нам далеко было видно. Впереди, километра два от нас был хуторок какой-то. Его немцы заняли сходу, без стрельбы. Там никого не было из наших. Немцы подумали, что и здесь никого нет.
- Точно, никого не было. - Вставил Петька. - Все куда-то разбежались. Мы тоже хотели уйти. Послали одного из товарищей узнать, что нам делать дальше, а он не вернулся. Ждали мы, ждали. Глядим - немцы нагрянули. Они шли смело, в открытую, строем. Думали, что и здесь никого нет. Подпустили мы их поближе, да как вдарили на всю ленту. Нам видно их как на блюдце. Спрятаться им было негде. Когда кончились все патроны, мы спрыгнули с крыши и убежали. А немцы что? А немцы тоже, наверное, были рады удрать, если только кто-нибудь остался в живых. Было у нас пять коробок лент - все в них выпустили.
Лежа на боку, о многом успели переговорить. Разговоры были разные. Одни хвалили свою страну и высказывались за социализм, за советскую власть. Другие, если и не ругали власть, то хвалили немцев. Хвалили их расторопность, аккуратность. В споры вступали чаще всего молодежь и простые солдаты. Плешивые с лицами интеллигентов или же бывшие ответственные лица в стране больше молчали и в споры не вступали. Своих мнений они также не высказывали. Они вели себя так, как будто все происходящее вокруг касалось кого-то другого, а не их. Может быть, это было правильно. В камерах могли быть провокаторы и зря рисковать не следовало.
Прошло некоторое время нашей совместной жизни в одной камере. За это время мы все перезнакомились. Нашлись земляки, однополчане. Вскоре со своим положением как-то сумели освоиться. Через несколько дней мы уже не были так растерянными и перепуганными новичками. У нас появились свои камерные интересы. Мы стали привыкать к лагерным порядкам. Снова появился интерес к событиям, некоторые стали проявлять определенную инициативу. Тюрьма в Днепропетровске стала нашим домом родным, а ее обитатели - нашим обществом.
От ничегонеделания и скуки пленные досконально изучили все блоки, двери, лестницы, двор и камеры. Мы наизусть знали распорядок дня и особенно часы раздачи баланды. Немцы кормили нас вовремя, без опозданий и спешки. В этом они были мастера. Но, в общем-то, все было скучно и монотонно и, самое главное, сильно хотелось кушать.
За несколько дней нашего пребывания в неволе мы успели разглядеть своих друзей и врагов. Врагов у пленных оказалось больше. Одними из них были вши. Когда их нет, то как-то не замечаешь, что вши могут беспокоить. Однако, когда их бывает очень много, то это выглядит весьма печально. Борьбу со вшами вели мы - сами пленные, а также и лагерные власти. Но все было напрасно. Несмотря на то, что против этих маленьких насекомых выступали все и вся, сами насекомые не очень-то пугались и не старались исчезать. Каждые десять дней нас сверху сгоняли вниз, чтобы мы в бане могли принять очистительный душ. В баню сверху вниз шли мы бодро с законным желанием отомстить нашим врагам насекомым. Но после принятого горячего душа снова подниматься вверх на третий этаж было трудно. Не было силы. Не менее трудно было снова ложиться на холодный цемент.
После бани и обработки нашего имущества дня два жили спокойно. Но уже на третий день все население камеры начинало скоблиться. И откуда они могли браться? Чем ближе к новой бане, тем больше и озлобленней мы чесались. Начинались бесполезные споры о способах выведения вшей. Солдатик у противоположной стены уверял, что если хочешь по-настоящему вывести вшей, то белье завшивленное следует закопать в землю. Вши исчезнут через 1 сутки. Способ остался неиспользованным. Не было земли в камере. Хотя предлагавший этот способ пленный уверял, будто бы подобным образом вшей выводят целые народы. Какие народы - он не упомянул. Другой пленный, лежавший в левом углу, предложил более выполнимый способ. Он раскладывал свое вшивое белье на цементном полу и сверху по швам одежды бил кирпичом. Товарищ уверял, что его способ исторический и им пользовались еще наши деды. Он же предложил и другой способ. Способ более надежный. Когда нет под рукой кирпича, чтобы бить им по швам. Этот способ бывает хорош тогда, когда вшей много и они еще злые. Товарищ рекомендовал взять рубашку, раскрыть рот, а затем между зубов пропустить швы. Если под зубами слышится частый хруст, то дело идет хорошо. Однако общим мнением масс осталось то, что смена грязного белья на чистое все-таки лучше. Способов уничтожения вшей было предложено много. Лучшим оказался обычный. Тот, которым пользовались мы. Снимали рубашки и вшей давили двумя ногтями. Некоторые делали рекорды, убивая на 200-250 вшей за один прием.
Я же лично мог вести счет своих побед только до сотни. Дальше сбивался со счета и продолжал действовать без фиксирования подвигов. Часто, почти каждую неделю, всех пленных выводили во двор. На чистый воздух и яркое солнышко. Во дворе мы были предоставлены сами себе. Пленные снимали верхнюю одежду, расстилали ее на земле и устроившись поудобнее загорали на солнышке. Некоторые читали книги или газеты. Большинство же вели разговор о еде, о старом добром мирном времени и продолжали истребление насекомых.
Возле колючей проволоки у вышки, где сидел часовой, копали какую-то большую яму. Яму копали немецкие солдаты. Они были не молоды и работали не спеша. Наши ребята, которые были покрепче, наблюдали за медленной работой немецких солдат тыловиков и удивлялись. Почему это они работают так медленно? Некоторые спускались вниз брали у немцев лопаты и показывали как надо работать. Наши пленные работали быстро. Потом отдавали немцам лопаты и говорили: вот так надо, пан. Наблюдавшие за состязанием наши пленные были довольны. Они говорили, наша взяла. Вот так вот, пан, надо работать. Немцы не смущались. Они смеялись вместе с нами. Хлопали пленного по плечу рукой и говорили "гут-гут". Потом на каком-то русско-немецком жаргоне объясняли, что эта яма не нужна никому. Она немцам нужна столько же, сколько и русским. Некоторые немцы со смехом говорили: "Если бы их отпустили домой, то яму они закопали бы снова и побыстрее". Про себя мы решили, что немцы - спокойный и рассудительный народ. У них нет ни спешек, ни авралов, как бывает у нас. Работают они от и до, без эмоций и настроения. Однако работают упорно и систематически. Взгляды пленных на способы работы разошлись. Одни говорили, что наш стахановский метод прогрессивный, что это движение вперед. А немцы консерваторы. Другие стояли за то, что немцы работают без истерики, по плану. Что план работы, есть закон, который составляет здравомыслящие люди. Они утверждали, будто немцы и побеждают потому. Что все у них расписано по плану. Мы же планируем на передовиков, которых единицы и забываем основную массу и их возможности, поэтому так и планы всегда трясет - а это уже не план.
Большинство стояло на том, что мы тоже работаем по плану, но относимся к ним несерьезно. Наши планы преследуют больше политическую показуху, чем рассчитаны на добросовестных и квалифицированных рабочих.
Во время таких прогулок можно было походить по территории почти всего лагеря. Нам как-то никто в этом не препятствовал. Порядки в лагере были довольно либеральные. Один пленный говорил, что он много сидел в тюрьмах, где порядки бывали всегда строгие. Здесь же можно всю жизнь прожить, если бы только кормили получше. Этому пленному ответили, что мы не преступники, а военнопленные. Мы советские граждане и после войны мы вернемся домой полноправными гражданами. После этого начался обычный долгий спор. Кто мы есть для нашего государства? Военнопленные, которые попали в беду и нам наша страна должна оказать внимание или же преступники и будем наказаны. Такие споры ни к чему не приводили, разногласия только усугублялись.
Однажды мне пришлось работать на немецкой кухне. Кухня находилась за лагерем и располагалась в каком-то бывшем советском артучилище. Во дворе столовой стояли советские пушки. Они стояли как памятник на постаменте. Во дворе кухни всех пленных выстроили по росту. Я оказался самым маленьким и стоял в хвосте. Наверное, самым худым и истощенным пленным был тоже я. К строю подошел толстый и старый немец. Он был в белом колпаке на голове и белом халате. За поясом у него висело полотенце, а в руках был топор. Немец подошел ко мне и спросил по-немецки, сколько мне лет. Вопрос я хорошо понял, так как в школе его задавали на уроках немецкого языка. Точно как в школе ответил по-немецки.
- Шестнадцать. - Соврал я. Немец удивился. Он спросил мою национальность.
- Русский.
- Gut. - Ответил тот. - Значит, ты знаешь немецкий язык?
- Да, немножко.
Немец похлопал меня по плечу, удивился, что у большевиков в армии воюют дети и за руку привел на кухню. Мне в обязанность вменилось колоть топором очень толстые поленья и подкладывать в печь.
С обязанностью я справлялся хорошо. Когда немец кричал "Feuer" - я подкидывал дрова или же поливал водой по команде.
Через окошко, шедшее в зал и на кухню мне было хорошо видно самих немцев и пищу, которую им подавали. А подавали им очень вкусные вещи - румяных зажаренных курей, пиво, кофе. Глядя на все это у меня усиливался аппетит и я невольно удивлялся. Откуда это они могут так хорошо питаться?
Невольно приходило сравнение со своей солдатской кухней, где основным и почти постоянным блюдом был суп, щи с капустой, каша пшенная и сухари. Было ли это всегда так или это было в период трудностей? Как бы ни было, мир в то время я воспринимал так, как он мне представлялся. Тогда я был зол на всех. Я завидовал немцам и жалел своих за их бедность. Мне хотелось, чтобы и мой народ был одет и накормлен не хуже врагов наших. Я успел заметить, что немцы все без исключения, невзирая на чины, питались все из одной кухни. Офицеры и солдаты получали обед из одного котла. В ресторане вино, пиво и жареные куры подавались отдельно за деньги.
На кухне из наших пленных было двое. Я и еще парень лет шестнадцати. Он был тоже маленького роста и сильно истощен. Откуда он взялся в лагерях и как попал на войну, парень ничего не рассказывал. Тон у парня был властный. Немца он слушал не слишком внимательно. Зато все время пытался командовать. Немец-повар часто появлялся возле нас и всегда чем-нибудь угощал. То хлеба принесет, то суп нальет в наши котелки. Мы были рады. К концу работы немец спросил, хотим ли мы кофе. Мы подумали, что немецкое кофе вкусное - с молоком и с сахаром. Однако когда немец-повар принес нам целый эмалированный таз черного горького кофе без молока и сахара, мы его не стали пить. Все равно вода. Немец, по-видимому, догадался и вместо кофе принес тоже целый таз супа. Суп мы поели, а оставшуюся часть разлили в котелки и взяли с собой в лагерь. Когда пред уходом с работы нас стали считать, недосчитали двух человек. Они незаметно сбежали. Немцы-конвоиры, по-видимому, не слишком о них печалились. Искать беглецов не стали и мы без этих двух сбежавших вернулись в лагерь.
Потом после разговоров стало известно, что сбежать дело не трудное и все, кто желал убежать, легко это делали. На лагерном базарчике свой котелок с супом я обменял на два свежих огурца. По лагерным понятиям я стал превращаться в купца. Два огурца и кусок макухи было тогда богатейством. Некоторые предприимчивые пленные такое огромное состояние пускали в оборот. Начинали свое торговое дело. Я же в подобных вещах был несмышленым и все, что заимел, с удовольствием скушал сам. В общем-то на работу ходить было интереснее, чем сидеть в камере. На работе можно было покушать чего-нибудь. Узнать свежие новости, а кто хотел сбежать из лагеря, то это всего удобнее можно было сделать на работе. Только на работу не каждому удавалось попасть. Желающих было очень много. Попадали же не многие.
Сразу же за воротами пленных встречала толпа женщин. Они на разные голоса выкрикивали названия сел или городов. "Из Полтавы есть? Белоцерковские есть?". Иногда случалось так, что кто-нибудь да встречал своих родственников или земляков. Тогда у пленного бывало много радости. Кроме приятной неожиданности, пленный получал еще много продуктов. Конвоиры не препятствовали передавать передачи. Однако были и такие, которые отгоняли от строя женщин и проверяли содержимое передач. Наиболее часто получалось так, что женщины никого не встречали. Ни родных, ни земляков. Постояв у ворот безрезультатно дня три-четыре, они вынимали из мешков их содержимое и раздавали пленным. Это было: хлеб, сухари, картофель, соль, иногда яйца или сало, но реже.
Один раз меня взял на работу молодой солдат немец. Повесил мне через плечо черную сумку как у почтальона и почти весь день я ходил вместе с ним из дома в дом по всему городу. В сумке были какие-то пакеты, которые мы разносили по адресам. В каждом доме жили наши советские люди. Они тоже голодали. Но, увидев советского пленного, они находили чего-то и делились со мной. Так было всегда. Пленные чувствовали, что, несмотря ни на что, у нас все-таки была своя родина. Что наш народ считает нас, пленных, за своих и понимает наши трудности. Это согревало нам наши оплеванные души. Поднимало в нас дух. Мы забывали, что мы отверженные. Снова хотелось жить, действовать, совершать подвиги во славу себя и родины, которая отвернулась от нас. Наше гражданское население сочувствовало нам, пленным, но что оно могло сделать? Они сами жили впроголодь и в страхе. Они тоже ждали неприятностей с двух сторон. От немцев как от врагов. От своих ждали неприятностей по причине того, что не смогли эвакуироваться. Может быть, это и роднило нас. Все это размышления психологического характера. Как будто не имеющие отношение к плену. Однако психология людей определяла их дальнейшее поведение, их судьбу, их будущее.
Мне не было заметно благоприятных психологических моментов для наших людей. Каждый жил сегодняшним днем, чувствуя себя песчинкой в огромном круговороте войны, не имея возможности быть индивидуумом, человеком, который имел бы собственное лицо. Если кто и пытался приобрести это свое собственное лицо, то на это было весьма мало шансов. Объективные факты ограничивали возможности.
***
Камеры были разной величины: на 10-20-25 человек. Однако, несмотря на различную вместимость все они были похожими. Серые стены, исписанные тюремной лирикой. Вверху зарешеченное окно и снаружи козырек, пропускавший свет только сверху и через который можно было видеть небо. Некоторые козырьки были сломаны. Через проломы досок виднелся город, тюремный двор и прилежащая территория. Крепкие старинные двери с зарешеченным окном в середине, соединяли нас с миром. Много людей прошло через эти двери. Раньше они впускали в камеры преступников, теперь же впустили и нас - советских военнопленных. Многим ли удастся выйти за них на волю?
Пол был везде цементным. Поскольку постелей никому не выдавали, то и спали мы прямо на полу, на голом цементе. Так мы почти все время лежали, поднимаясь лишь на обед или в уборную. Надоест лежать на левом боку - перевернемся на правый. Разумеется, когда вносили в камеру бочку с баландой, мы все вставали и кушали, как и все полноценные люди, так же, сидя. Только не за столом, а здесь же, на цементном полу, сидя калачиком, по-восточному, поджав под себя ноги.
Мисок или тарелок, разумеется, ни у кого не было. Котелки также были редкостью. Все то, что имело хоть какую-нибудь ценность, отбиралось. Баланду нам наливали в солдатские каски и консервные банки. Это было основным видом столовой посуды и главной ценностью каждого военнопленного. Неизвестно, откуда они только брались здесь, в лагерях. Ведь каски терялись еще на поле боя. Здесь же они были почти у всех и отлично служили в качестве столовой посуды. Нам, новичкам, все казалось здесь неудобным. Зато те, которые находились здесь уже давно и прошли соответствующую закалку, считали, что жить еще можно. У этих старых доходяг на бедрах образовались крепкие как подошва мозоли от бесконечного лежания на цементном полу. Они уверяли нас, новичков, что эти мозоли хороши, когда приходится спать на голом и холодном полу. Не ощущаешь отсутствия постели и не так холодно от цемента. Впоследствии я сам убедился в правоте пленных со стажем. Кожа на руках также сильно огрубела, а грязь въелась так глубоко, что ни мыло, ни кирпич не могли оттереть наших рук. А может быть, это была вовсе не грязь, а особое превращение кожи в трудных условиях жизни. Все это потом сходило само через много месяцев при хорошей жизни. Грязная кожа на руках сходила потом ленточками или шелушилась. Из-под старой черной кожи появлялась нежная и розовая.
Никакого распорядка дня у нас не было. Весь распорядок заключался в ожидании завтрака, обеда и ужина. Примерно часа через два после рассвета начиналась беготня по коридору. Это в деревянных бочках носили для нас баланду. Всякая еда здесь называлась баландой, независимо от ее содержания и вкуса. Так, утренняя баланда, которую немцы называли "кафе", состояла из поллитрового половника белой жидкости. Это был обыкновенный кипяток, но, чтобы мы не обижались, в кипяток в качестве заварки сыпали отрубей. От этого кофе и в самом деле становилось вкуснее воды. На пять человек давали одну солдатскую буханку хлеба, т.е. грамм по 150-200 на весь день. Буханку резали на пять равных частей. Потом один из пленных садился спиной к хлебу, а другой пальцем указывал на кусок хлеба и спрашивал - "кому?". Сидящий задом к хлебу называл имя. Тот, чье имя называлось, быстро хватал свою "пайку". Прежде чем съесть этот хлеб, пленный основательно изучал его. Взвесит на ладони, потом на другой. Понюхает несколько раз, изучит ноздреватость мякиша, сравнит с пайкой соседа, еще раз прикинет на ладони и, обсудив все важнейшие обстоятельства, связанные с этим куском, медленно, смакуя, принимается за трапезу.
Некоторые по утрам пили только кофе-баланду, оставляя хлеб как неприкосновенный запас и связывая с ним многое. Другие пили кофе с хлебом. Хлеб был главной ценностью, за который выменивали табак, одежду, макуху. Староста камеры мог пить баланду без нормы, ему разрешалось это. Набив желудок эрзац-едой, некоторое время мы сидели и разговаривали. Кушать, вроде бы, хотелось не так сильно. Потом брала усталость, глаза сами как-то смыкались и вся камера погружалась в глубокий сон. Сонная одурь длилась часа 1,5-2. После чего жители камеры пробуждались почти одновременно. Снова начинались вчерашние неоконченные разговоры. Почти всегда они сводились к еде. Вспоминали, когда и что приходилось кушать. Каким способом лучше всего зажарить курицу или куропатку. Кто, где и как готовит сало.
Почти все были согласны с тем, что курица, обернутая в бумагу, обмазанная глиной и в таком виде запеченная в золе, бывает очень вкусна. Так ли это? А может быть, это был просто плод голодной фантазии? Только в то время такая вкусная курица так глубоко впечатляла, что и теперь, когда с тех пор прошло уже добрых три десятка лет, я иногда вспоминаю про нее и подыскиваю случай, чтобы испробовать на практике. Потом единогласно было признано: старое сало, закопанное в землю, бывает вкуснее всех других сал, приготовленных иными способами. Во время таких разговоров мой сосед справа всегда вспоминал маневры под Ленинградом, когда полевая кухня готовила такую густую лапшу с мясом, что ложка, вставленная в середину лапши, не падала. Один вояка утверждал, что на всем свете нет блюда вкуснее, чем свежая булочка, обмакнутая в холодное молоко.
Я лично считал, что излишняя фантазия только расстраивает желудок. Мои желания были более скромными: мне на память пришли сухари в углу нашей плиты. Их моя бабушка туда клала после обеда в виде кусков хлеба, оставшихся от стола. Потом, когда их становилось много, делали квас или отдавали курам. Наверное, их теперь там скопилось много. Вот бы добраться до них. Вспомнились разные корочки хлеба, которые где-либо случайно валялись по дому. Ах, какая жалость! Ведь пропадут.
Иногда с видом знатоков рассуждали о Сталине, о Гитлере. О существующих порядках у себя и у немцев. Крестьяне вели разговор о земле. Они ждали, что после войны, если победят немцы, они крестьянам дадут землю. Только никто не мог понять, почему они, немцы, уже теперь не распускают колхозы. Ужина не бывало. Кушали то, что смогли оставить после обеда. Если ничего не оставались, то были довольны и тем, что на полный желудок будет хуже спаться. На голодный желудок сон всегда бывает крепче. Так утверждали и это успокаивало. Вечером долго не засиживались. Света в камерах не было и наступавшая темнота почти сразу всех и убаюкивала. Спали всегда хорошо и крепко, без сновидений. Иногда какой-нибудь шутник утром рассказывал, как он во сне был на званном вечере и какие кушанья ему повезло кушать. Вскоре его начинали осаживать.
- Хватит баланду травить, и без тебя сыты!
Иногда сновидец рассказывал подробно и долго. Но на него потом смотрели как на болтуна и несерьезного человека. Новым утром начинался новый день со старой скукой и еще большим желанием наестся досыта. Иногда, по разным причинам, пленным удавалось попасть на тюремный двор. Выскочившему из камеры двор казался радостным и парадным. Человек чувствовал себя птичкой, вырвавшейся из клетки на свободу. Хотелось бегать, петь, всем говорить хорошие слова. Новизна обстановки радовала. Двор казался полон жизни и неиспытанных радостей. Хотелось жить.
У края тюремной площади, ближе к кухне, в которой готовили баланду, толпились люди. Это был наш базар. Здесь бывало человек до пятидесяти и больше. Вид и одежда у всех была весьма разной: от советской военной формы разного срока носки до гражданской мужской и женской. В этой толпе разношерстных одежд люди двигались медленно, как на обычных толкучках мирного времени. Разговаривали, приглядывались, торговались, делали покупки. Худые, небритые и полуодетые доходяги с видом обреченных еще питали какие-то надежды. Они здесь же наравне с другими чего-то выторговывали и тоже имели свои радости. Более элегантно выглядела лагерная элита. Писаря, полицаи, работники кухни и еще какие-то. Все что-то держали в руках, вели торг. Продавали и покупали. Товаром служил хлеб, баланда, зелень, махорка, белье, ботинки. Торговались не шумно. Здесь, на лагерном базарчике, зарождались свои лагерные капиталисты, буржуйчики. Одни удачно богатели, другие, вконец распродав всю свою одежду, гибли. Несколько в стороне от толкучки, отдельно, стояли и сидели на тумбочках, сложенных из кирпичей, парикмахеры. Это были своего рода местные предприниматели. Жили они вроде сытно. Особенно сильно процветала торговля махоркой. Она была очень нужным товаром и пользовалась огромным спросом. Заядлые курильщики за махорку отдавали свою пайку хлеба.
В нашей камере на торговых манипуляциях родился и вырос настоящий купчишка. Лицом он был точь-в-точь такой, каких рисуют на картинках или показывают в кино. От него всего веяло чем-то прошлым, старинным и не совсем нам понятным. Был он низенький, толстенький, с круглой красной физиономией и голову держал как-то набок, будто присматривался к чему-то. Каким-то образом у него оказалась целая пачка махорки. Для пленного это было огромное состояние. Продавал он ее за хлеб, за деньги и за одежду. Давал некоторым также в долг. Появились несостоятельные должники, которые повиновались ему как рабы. У него был матерчатый кисет. Кисет был наполнен махоркой и носил он его на веревочке вокруг шеи. Кисет, таким образом, покоился под рубашкой на груди. Для продажи махорки существовала своя мерка. Пробка-колпачек, который снимали с противониритного флакона. К такому колпачку приделывали из проволочки ручку и мерка готова. В нее шло столько махорки, сколько хватало на 1 небольшую закрутку. Насыпав махорку в колпачок, сверху, для точности, проводили листом бумаги. Лишняя махорка ровно сдвигалась бумажкой. Колпачок подносили к глазам покупателя и тот, убедившись, что порция без обмана, брал ее, боясь уронить на пол хоть крупинку.
Находились также и рационализаторы. Один затягивается, который хозяин папиросы, другой широко раскрывает рот и ждет, когда курящий выдохнет дым. Одной папиросой накуривались двое. Ближе к наружной стене, за базарчиком, находились огромные под навесом уборные. Туда сливали параши из камер. В уборных было чисто. Убирали их какие-то бледные парни в гражданской одежде и синих беретах. По виду они были иностранцы и разговаривали на непонятном языке.
В центре двора стояла водопроводная колонна, над которой висела табличка с немецкой надписью "nicht trinket geufcengefarlich" ( прим. Почерк у отца плохой, а немецкий я не знаю, так что может быть написано неправильно ). Вода в колонке была теплая и чем-то пахла. Сколько бы ни пил эту воду, а жажды не утолишь. Тот, кто пил эту воду, потом все мучались животом. Я тоже решил испробовать воды из крана. Все-таки приятно пить воду не из бочки для баланды. Прошли сутки после этого и я надолго подружился с камерной парашей, которую я в день навещал по десять-пятнадцать раз. У меня открылся понос с кровью.
Пища в лагере была отвратительная. Это я говорю потому, что я понимаю, что она отвратительна. Однако истощенный организм требовал пищи и мы ели все, что только могло перевариться в желудке. Может быть, кое-кому мои уверения покажутся вздором. Ведь вкус и привычка к пище дело индивидуальное. Может кому и понравится. Для этого приведу каждодневное меню на обед. Обед состоял из пол-литрового ковша баланды. Ковш железный сделан из консервной банки. Кому не понравится баланда, может получить добавку по лбу ковшом. Баланда варилась из гнилой кукурузы или пшеницы. Сверху плавали проблески жира в виде червей из червивой кукурузы. Воды в баланде было вполне достаточно, а также и соли, если вдруг ее решили добавить. Для того, чтобы никто не жаловался, что обед без мяса - клали и мясо. Откуда-то привозили дохлых лошадей, сдирали с них шкуру, которая шла на укрепление и нужды германской империи, а мясо шло нам. Лошадиная шкура - это материальная ценность. А мясо от дохлых лошадей, хоть оно и было мясо, однако имперской армией в пищу не употреблялось. Этот ценный питательный продукт вместе с кишками варили нам, низшей расе. Хоть мы и были унтерменшами, великодушный фюрер в мясе нам не отказывал. Мы были людьми не гордыми, ели и это. Ел это и я, хотя у себя дома плохо смотрел даже на зажаренную курицу и копченые окорока. Я вообще плохо ел мясные блюда.
Справа от меня лежал усатый сосед из-под Одессы. Он был старый, ел все без разбора и ни на что не жаловался. Когда он замечал, что я начинал морщиться и раздумывать о способе употребления в пищу баланды с дохлятиной, то мягко советовал:
- А ты не думай ни о чем. Ешь это как лекарство. Ведь когда человек больной, он пьет лекарства. А они, эти лекарства, все же горькие. Однако человек пьет их. Так и ты. Представь себе, что ты пьешь лекарство, а не то, что тебя кормят плохими продуктами. Принимай еду как невкусное лекарство, не думай и не смакуй. Это еще ничего. А мне приходилось похуже.
И старый одессит рассказал, как осенью 1941 года их держали в лагере под открытым небом. Пленных в то время было много, разместить их было негде. Так они и находились на улице под дождем и снегом, да еще без еды. Ели сырую гнилую картошку. Мокли под дождем, мерзли при морозах, голодали и медленно умирали. Однако не все же умерли. Вот и ему тоже повело. И он остался в живых. Потом стало получше. Начали привозить в лагерь дохлых либо убитых лошадей. Порядка не было. Неприятностей из-за них было много. Привезут лошадь, бросят посреди лагеря. Рядом с лошадью - топор. Поодаль стоят немцы и кричат: "Рус, кушай". Огромная толпа голодных людей набрасывалась на дохлятину. Над головами мелькал топор, под который вместе с лошадью попадали и люди. Счастливчики уносили кусок дохлятины, менее удачливые выбирались из толпы с разрубленной рукой или головой, а третьих постигала участь дохлой лошади. Тот, кто рубил топором в тесноте, не мог видеть, куда он опускает топор, пленные толкались, некоторые пытались сами завладеть топором. Он машинально поднимал топор вверх, опускал его на тушу. Снова поднимал и опускал, до тех пор, пока была сила и он сам не успевал отрубить себе кусок мяса. Если в тесноте и сутолоке под топор попадало человеческое тело, рубили и его. Тут же, не глядя ни на что, прямо из-под топора хватали, что попадет в руки и кто как мог, на четвереньках между ног и живых тел выбирался из свалки. Рассказчик-одессит помолчал, потом добавил:
- Сколько людей так зарубили и съели. А все от голода. Жить-то охота. Умирать так, зазря, никому нет охоты.
- А что же немцы? - кто-то спросил. - Они-то чего смотрели?
- А что немцы? Они смотрели, смеялись, фотографировали. Потом для развлечения стреляли по куче людей из автомата. Спускали овчарок, снова смотрели, смеялись и фотографировали. Мы для них были вроде диких зверей. А может быть и хуже.
- Это чего, а вот у нас было в Кременчуге, вот это голодали. - Сказал худой человек в полувоенной-полугражданской одежде. - Мне как-то всю жизнь приходилось сидеть по тюрьмам. Тюрьма вроде бы мне дом родной. Вот и сейчас тоже сижу в тюрьме. Вам здесь плохо, а мне ничего, хорошо. Здесь лучше, чем в тюрьме. Здесь я пленный, а не преступник. Нам можно спать сколько хочешь, петь песни. Кушать тебе приносят. Хорошо! Как на курорте! А вот в Кременчуге! Вот это было да! Никогда не забуду. Хоть я и сижу всю жизнь по тюрьмам. Жрать почти ничего не давали. Как мы жили и сейчас не пойму. Полицаи ходили злые. Били что надо. В руках резиновый шланг, а в середине песок насыпан. Как даст меж ребер, так и душа из тебя вон. Мы и сами-то без их помощи умирали, а уже как всыплет полицай резиновым шлангом, так тот бедняга умрет обязательно. Обыкновенно они умирали ночью, к утру почему-то.
- А откуда тебе известно, что они умирали к утру? Что, ты им нянька был что ли? - Возразил кто-то.
- Да точно к утру умирали. А что мне врать? Польза мне что ли есть от этого? Ты же мне не дашь своей пайки за это. Когда такой доходяга вот-вот отдаст концы, ему не давали умереть самому. Кто-нибудь потихоньку придушит его и точка.
- Но зачем же душить его? - Опять кто-то спросил.
- Как зачем? - рассказчик пожал плечами, - Ведь мертвечину жрать противно. А тут получается как будто и не мертвечина. Раздерут его на части прямо ногтями или зубами и сожрут до утра. Удобнее всего было жрать печенку и сердце. Они мягкие и много мяса на низ. А мясо у доходяг жесткое. Кроме того мяса-то на них не бывает. Обгладывать голые кости опасно. Можно засыпаться. Если утром полицаи дознаются, что завелся людоед в камере, дознаются - насмерть прибьют. Тут же, в камере, шлангами и забьют. За людоедство там здорово прибивали.
- И ты тоже ел человеческое мясо? - Начали спрашивать слушатели.
- Брешет он все! Делать ему нечего, вот он и треплется!
- Хотите, братцы, верьте, хотите нет, я говорю, что было.
- Ну а как же тебя не сожрали?.
- Да потому, что он сам был вместо людоеда, наверное, и он тоже людоед. Жрал людей.
- Э-э, братцы, - ответил рассказчик, - чего только не было. Лагерь этот этапировали, а я попал сюда. Вот. Что я, буду врать вам что ли? Зачем вы мне нужны?
- Верно он говорит. Я тоже знаю такие лагеря, где пленные с голоду ели мертвечину. Сорок первый год был трудный для пленных. Немногие уцелели из того времени пленных. Сейчас совсем другое. Сейчас жить можно. Что вы знаете о том страшном времени? Все вы новички. Ничего вы не знаете. Расскажи вам - не поверите.
Запись от 05.06.68
- Нет, товарищи-господа. Послушайте, что я вам скажу! - У противоположной стены приподнялся солдат лет сорока в неопределенной одежде, устроился поудобнее и без предисловий начал: - Все это правда и ничего он не брешет. То, что я видел в сорок первом году, сейчас мне тоже кажется страшным. А вам, неженкам и обжорам, тем более. У нас тоже закусывали жмуриками. Только у нас их жарили. Они действительно сухие и тощие. И жрать-то там в них по сути дела ни черта. Чтобы развести огонь и зажарить их, нужны дрова. А где их в лагере взять? И все равно находили выход. Ногтями и зубами расщепляли телеграфные столбы, двери, окна, подоконники. Ну, прямо звери, а не люди. На мелких лучинках за одну ночь все обжарят и сожрут. К утру на земле оставались одни обглоданные кости человеческие.
- А как же охрана? - Cпросил кто-то. - Разве она не видела огня, да еще ночью?.
- Почему не видела? Видела! Жили-то мы под открытым небом, бараков не хватало. Холодно было. Чтобы за ночь не замерзнуть, некоторые, кто мог, разводили огонек. Это разрешалось, охрана не мешала нам. У нас за людоедство тоже строго было. Убивали на месте за это. Если дознаются, сразу капут. Только кто тогда боялся смерти? Что так умрешь с голоду, что полицаи добьют. Все равно всем один конец.
- А вообще рассказывают, что человеческое мясо вкусное? Ведь человек кушает все хорошее, - кто-то робко спросил.
- Только не пленный доходяга. - Засмеялись из угла.
Мнения о вкусе человеческого мяса разошлись. Большинство стояло на том, что людей никто в пищу не употребляет. А те случаи, которые здесь рассказывали, в счет брать не следует. Это мнение голодных людей, которых в лагере так здорово довели, что это уже были не люди. Потом слово взял еще один оратор. Он полусидел у дверей, в разговор не вмешивался и как будто ждал момента, когда все наговорятся и умолкнут сами. Он начал так:
- А вот у нас в лагерях еще в мирное время, когда я отбывал срок на севере, тоже рассказывали. Были такие отчаянные. Пешком пытались уйти с Колымы на материк. Через леса и тундру. Много жратвы с собой не унесешь - заметят. Да и нести ее на себе тяжело. Договорятся человека 2-3 из отчаянных. Подкопят сухарей. Потом подговорят еще 1-2х зеков и убегут. Пока имеются продукты, идут все вместе. Когда же становится кушать нечего, они убивают этих подговоренных к побегу и потом питаются их мясом.
- Вот это здорово! - Зашумели в камере. - Значит, они захватывали с собой живое мясо. Ну и что же? Кто-нибудь выходил на большую землю?
- Нет. Говорят, с Колымы еще никто не уходил. Далеко очень. Дороги нет. Выбьются из сил, в тайге погибнут. Другие возвращались обратно сами. Или ловила охрана. А еще говорят, что некоторые пытались бежать даже в Америку. Там она где-то близко. Всякое было, да разве оттуда убежишь? Наше НКВД не то, что простофили немцы. От немцев очень легко убежать. Взял, да убежал. Ведь столько пленных бегает из лагерей. Эге! Это только мы ничего не знаем. Сидим здесь, в лагере и сами, добровольно, подыхаем от страха и голода.
- Конечно, можно убежать. - Кто-то подтвердил. - Только куда убежишь? Если бы был дом где-нибудь рядом. А так, куда бежать?
- К фронту! - Сразу высказалось несколько голосов.
- Далеко очень, поймают. Потом еще фронт надо суметь перейти. Хлопот много будет. Перейти фронт может быть и перейдешь, только догони его, этот фронт. Вон он как, этот фронт, сам бежит на восток. Скоро до Волги докатится. Может быть, и догонишь его, а война в это время кончится.
- Нет, братишки. Война в этом году не кончится. Говорят, что наши союзники скоро откроют второй фронт.
- Хоть бы скорее они открывали его, этот свой второй фронт. Вот тогда немцев припечет. Тогда им самим будет капут! Так им и надо! Хотел бы я видеть, как они побегут. Вот будут драпать!
- Конечно, да еще, наверное, побыстрее нас! Ведь они все на машинах, не догонишь его.
- Да, босиком или в обмотках трудно гнаться за машиной.
- Ничего, я согласен. Хоть в обмотках, хоть босиком. Куда угодно, как угодно! Только бы не отступать. Отступать хуже всего. Уж лучше сразу умереть, чем переживать такой позор, как довелось видеть. Бежишь как идиот по дороге километров 50-60 в сутки. На тебя смотрят крестьяне, дети, женщины, старики. Плачут, спрашивают "Куда же вы, родимые, бежите. А мы-то куда без вас. Что же теперь будет с нами?". Что им скажешь?! Мы и сами-то не знали, куда бежали тогда. Вообще никто ничего не знал. Много в том году погибло нашего брата. Наверное, вся наша кадровая армия погибла. Интересно, откуда наши еще силы берут? Казалось, что мы гибнем последними. Армия была вооружена плохо. Боеприпасов не хватало. Да и сами солдаты-то были старики да дети. Как будто бы уже все, больше неоткуда скрести. А смотри же - фронт-то еще существует. Держится. Что ни говорят, а чудеса существуют. Нам бы теперь до зимы продержаться. А там, зимой, наверстаем. У наших сил еще много. Только наше командование одни дураки да предатели. Говорят, какой-то русский генерал несколько армий сдал немцам. А сам тоже перешел на их сторону.
Пленные помолчали.
- В эту войну много было предателей. Если бы нас не предали, немцу нас никогда бы не взять.
- А что предатели?! Кто их видел?! Болтают больше. Пусть даже их в десять раз было бы больше. И тогда бы немцы с нами не справились. Тех, кто хотел дезертировать или сдаться немцам добровольно было мало. Я лично не встречал таких. Вот, давайте проверим для интереса. Нас здесь, в камере, двадцать пять человек. Кто из вас сам сдался в плен? Подымите руку. Эй, ты, каторжник, ты чего молчишь? Ты же всю жизнь сидел в тюрьмах. Ты, наверное, сам сдался?!
- Заткнись, сука. Я тебе дам сейчас по морде, сразу научишься отличать, где предатель, а где пленный. Я был в тюрьме как грабитель. Вор был я. Вот меня и сажали в тюрьму. А сюда я попал, наверное, по твоей вине. Я по глазам тебя вижу. Ты сука самая первая. Ты спрятавшийся партиец. Предал нас, а теперь всю вину за это хочешь опять на нас свалить. Я тебе покажу, какой я каторжник!
- Хватит вам! Еще вас здесь не хватало! - Начали было урезонивать спорщиков.
- А чего он обзывается? Что я, трогал его, что ли? Знаю я, кто и зачем в партию вступал. Был дурак дураком, да и остался им. Раз уж не смыслишь ничего, не лезь, куда не можешь. Я сижу здесь не по своей воле. Меня сюда впихали мои дураки командиры. Вот, вроде этого. Не зря говорят: "что будет, если пироги начнет печь сапожник, а сапоги шить пирожник".
Спорщиков успокоили.
- Не по нашей вине мы стали пленниками. Не по нашей вине лопнул фронт и немцы топчут нашу землю и жгут наши города. Развязку случившегося где-то в другом месте ищите. Солдаты наши хорошие. Будто еще при Екатерине немцы говорили: "Если бы им, немцам, дали русского солдата, да ихнего немецкого офицера, они бы весь мир завоевали". Вот какие солдаты у нас в армии. А что там какие-то предатели? Наверное, это такая пропаганда есть. Только чья это пропаганда, наша или немецкая, сразу не понять. Умишки наши слабоваты для этого, да и сами-то мы все взаперти. Может быть, это немцы нарочно придумали такое, будто вся наша армия сама добровольно сдается им. Может быть, это немцам выгодно, чтобы и другие им сдавались без боя. Все-таки это может повлиять на дух армии. Нашу армию унизит, а немецкую возвысит, поднимет дух в немецкой армии. А может быть, это наша собственная пропаганда. Наши начальники пустили такой слух, чтобы оправдать себя в глазах своего народа. Оправдать свою неспособность. Смотрите, мол. Мы вот, начальники, в стране хорошие, а они, эти плохие солдаты, сами сдались в плен. Ведь мы с вами теперь тоже народ неблагонадежный. Для нашей страны мы стали предателями и изменниками родины.
- Почему это предатели? Я никого не предавал! Наоборот - нас кто-то предал! - Заворчали некоторые.
- Так-то оно так. Только вспомните устав. Не забыли, что там написано? Вот! Написано там то, что каждый боец должен драться до последней капли крови! А про присягу тоже забыли? Вот теперь думайте, кто мы такие. Еще говорят, что где-то Сталин сказал, будто у него не может быть пленных и их нет. Есть изменники Родины. Наверное, немцы поэтому нас и кормят так плохо. Если у нас теперь нет Родины и за нас некому заступиться, то зачем же нас кормить немцам? Все равно отвечать не перед кем. Мы для немцев враги. Сталин от нас отказался. Мы теперь хуже скота любого. Чего скот. Скот - это ценность. Может быть, и война ведется из-за скота. Он у нас в колхозе, этот скот, на учете стоит и против каждой скотины цены имеется, в книжечке у бухгалтера записана. А ты где записан на учете? И знаешь, какая тебе цена? Ну, ответь, кто может! Не знаете? А я знаю. Записаны и мы также на учете. Только в НКВД. И цена тебе есть тоже - изменник Родины. Поняли теперь кто мы есть?! Будь она проклята, эдакая война. Говорят, что раньше, при царе, немцы с русскими пленными лучше обращались.
- Да, но то было раньше, а это теперь. Раньше ты был русский и воевал за русского царя, русскую веру и свое русское отечество. И разве кто-нибудь посмел бы тебе предложить вступить в немецкую армию и идти воевать против своих же, русских? Да никогда. Даже если бы и предложили. Все равно никто не пошел бы. А теперь слышали, что говорят? Будто бы немцы набирают из русских пленных себе армию, чтобы воевать ими же против русских. Кто знает. Теперь удивляться не приходится. Чего только не видывали. Немцы тоже не дураки. Они приглашают воевать не против русских, а против большевиков, которые будто поработили нашу Родину и наш народ. Они говорят, вы будете освобождать из большевистской неволи свой народ, своих угнетенных матерей, жен и детей. Когда немцы так говорят, они напоминают про коллективизацию в 30х годах, репрессии в 37-38 годах. Будто большевики убили нашего царя и теперь тиранят над народом.
- Ну, уж это они загнули. Про царя у нас давно забыли все. Есть, конечно, старухи. Когда они вспоминают молодость свою, разумеется, и царя вспомнят. Вот, мол, при царе, когда я была еще молодой, как сейчас помню… И пойдут бабкины воспоминания о ее молодости.
- Да, это верно. Сразу чувствуется, что они царя кладут как приманку. Верно. Царя мы не знаем.
- Не знаю, братцы, как дело с царем и политикой, а я лично предпочитаю жить дома, кушать сало с хлебом и пить молоко. - Неожиданно заявил мой сосед.
Разговор сразу перешел на еду и свободу. Говорят, что один чудак сумел убежать из лагеря в канализационной бочке. Кто-то сказал:
- Вот чудеса! Будто не мог по-другому сбежать.
- Говорят, что возчик налил бочку не полную, а внутрь посадил пленного. Наверное, такие вонючие бочки ни одна охрана не осматривает.
- А кому охота! Ты сам вот полез бы смотреть?.
- А чего особенного?! Давай пайку хлеба - хоть сейчас полезу.
- Ты-то не то, чтобы бочку осмотреть, за пайку и в самою бочку влезешь! Сравнил тоже, себя и немца. Ты доходяга, пленник. А немец видал какой красивый стоит у ворот? Наверное, когда бочку везут мимо него, так он еще за километр свой нос зажимает. Говорят, что они чистоплотные.
- А как же этот пленный потом вылез? Ведь он вонючий. Кто бы его принял такого к себе в дом? Брехня это! В такой бочке не убежишь! Задохнешься. Вот если бы в бочке с водой. Так это можно.
- Сказал! С водой и каждый дурак убежит. А все-таки сбежать не плохо! В деревнях население хорошо принимает пленных. Кормят! Вот бы нам!
- Конечно, принимают хорошо. Теперь ведь у каждого кто-нибудь на войне. В деревнях сейчас так рассуждают: Я покормлю чужого, а чужие моего накормят.
- Точно! Особенно женщины хорошо принимают. Они добрее мужчины.
- Э-э, говоришь, женщины хорошо принимают. А где возьмешь теперь в деревне мужчину? Одни только бабы и остались в домах. Им ведь тоже не сладко одним. Вечно в страхе живут. Им похуже, чем тебе. Бабы знаешь как переживают! Им, пожалуй, в сто раз труднее, чем нам.
- Все равно! Плохо им без нас или неплохо - сбежишь не пропадешь с голоду.
- Да, точно. Один вчера рассказывал, будто бабы пленных кормят галушками со сметаной. Подают прямо в мантре. А она здоровеная, мантра. Сколько в нее галушек войдет?! Сто?! Нет, 150!.
- Наверное, одной мантры много, сразу нельзя, умрешь. Надо помаленьку.
- А я что, тебя заставляю, что ли?! Не хочешь, не ешь, сам все съем!
Смех.
- Не дразните, братцы. Без вас тошно. Бежать надо! Сдохнешь здесь и не то, что галушек не попробуешь, а и мантры близко не побачишь. Моя жинка наверное на сковороде сейчас сало жарит.
- Тебе это с голоду снится сало жаренное!
- Нет, жарит, говорю. Говорю, значит, знаю.
- Вот колдун попался! Смотрите на него! Он знает, что у него дома делается.
- Что дома делается, я не знаю, а сало есть. Прежде чем мне уйти в армию, знаешь какого кабана заколол?!
- Не хвались, то было давно. А может быть, и в самом деле твоя жинка жарит этого твоего кабанчика, ставит на стол и говорит: "Кушайте, пан немец. Уж такой у нас был хороший кабанчик. Не пропадать же ему. Моего Василя все равно убили на войне. Теперь хоть вы, пан немец, кушайте. Уж я так рада. А немец кушает и говорит: Гут. Гут матка хорош твой кабанчик. А может быть, немец окажется добрым. Скажет: Тебе, Катюша, страшно одной. Мужа нет. Война кругом. Так и быть. Чтобы тебе не так страшно было - я уж останусь у тебя. Поживу.
- Моя жена не такая! Если уж суждено чему быть, так от судьбы не уйдешь. На то и война.
- Виноваты ли мы с вами, а по советским законам нас теперь причислят к преступникам? Так и бабам нашим. Куда же им деться теперь? Хорошо, если живыми останутся. Что бы с кем не произошло, если останемся живыми, все равно домой вернемся. А бабы наши тоже ждут нас. Много женщин не дождется своих мужиков. Обиднее всего то, что даже кости твои никто не будет знать, где похоронены.
- Похоронены, чего захотел! Бросят тебя, как собаку, в овраг. Хорошо, если еще закопают.
***
В животе у меня не болело. Однако частые позывы на стул так выматывали силы, что снова идти на свою цементную постель было уже не под силу. Я не боялся, что умру. Чувства как-то притупились и все было безразличным. По утрам, через окно, было видно, как вывозят на телегах умерших в лагере. Но я почему-то перестал на это реагировать. Казалось, что все это далеко и меня не касается.
Толстый сосед справа от меня был добрым человеком. Он любил рассказывать о хороших вещах, помечтать о хорошем будущем. Так и в этот раз. Лежа на цементе, он вслух составлял хорошие планы на будущее для меня. Он говорил:
- Ничего, Николушка, крепись. Ведь не все же умирают, кто болеет. Есть и те, кто поправляется. Может, бог пошлет и тебе исцеление. Кончится война, по домам разойдемся. У нас в Котовске такие места хорошие! В гости к нам приедешь. Какие там арбузы растут, сливы! А сколько вина делаем! У меня дома дочка растет. По годам тебе ровесницей будет. Понравится - останешься у нас. Жизнь - она долгая. Пока ее проживешь, всякое бывает. Вот если бы фельдшера позвать. Может, и помог бы. Вызвать бы надо.
На следующий день вызванный фельдшер объяснял:
- Пленному нет смысла идти в санчасть. Лекарств там не дают. Баланда такая же, что и здесь. Только умирают там не при свидетелях. Уж если придется умирать, то лучше среди своих. Может быть, кто чем и поддержит. Здесь многих гоняют на работу, имеют связь с миром.
Русский фельдшер пленным не рекомендовал ложиться в санчасть и вообще посоветовал молчать для собственных удобств.
Когда фельдшер закрыл за собой дверь, я в этот день уже девятый раз пристраивался на парашу. Вроде бы и ничего нет. Немного слизи, да столько же крови. Один плевок. А как сильно слабеет человек от этого.
Один пленный из камеры рассказал, что его отец однажды тоже болел такой же болезнью, как и я. Он лечился у всех лекарей в округе и ничто ему не помогало.
- Тогда одна бабка на селе посоветовала отцу кушать макуху. И что же вы думаете? Отец ел макуху два дня, а на третий день всю болезнь как рукой сняло. Честное слово! Так мне моя мать рассказывала, а она врать не будет. - Божился рассказчик. - А что доктора? Бывало и так, что доктор лечит, лечит, а потом отказывается. Безнадежный, говорит. После доктора этот больной идет к бабке. Она, эта бабка, поколдует немного - глядишь, и выздоровел человек.
- А ты, парень, и впрямь, попробуй макухи. Может, поможет. - Посоветовали другие. - Сходи на базар, обменяй хлеб на макуху. Вот и болезнь твоя пройдет.
Вечером этого дня я направился к параше четырнадцатый раз. Не дойдя шага два до нее, почувствовал, как закружилась голова. Потемнело в глазах, сделалось удивительно легко и я куда-то полетел. От недоедания и дизентерии организма сильно ослаб и резкие движения приводили к потере сознания.
На другой день, после утренней баланды толстый сосед из Котовска взял мою пайку хлеба и пошел во двор на базарчик. Там как всегда шумела, торговалась и делала свой бизнес пленного многонациональная толпа доходяг. В ходу были советские рубли, ровненские вартованцы, но больше-то обмен шел натурой. Меняли хлеб на макуху. Макуху на баланду, махорку и т.п.
На базаре местные лагерные капиталисты позволяли себе также и роскошь. Они важно сидели на кирпичах, а предприимчивые брадобреи натирали им мокрыми ладонями бороды и брили. Для некоторых находили также и мыло, но это для особо богатых, которые ходили на работу. Мой пожилой приятель на этот раз сделал удачную вылазку из камеры. Полицая в дверях не было, хлеб он обменял быстро, а потому и возвратился довольно быстро. Сосед принес светлой и вкусно пахнущей макухи, размером с полпайки хлеба. По цене макуха была дороже хлеба, т.к. в ней содержалось масло. Мой вразумительный товарищ посоветовал скушать макуху за два раза. Он считал, что желудок мой болен, а в макухе попадается шелуха от семечек, которая может повредить. Этого же мнения были и другие.
***
После полудня, вставая с цементного пола на очередное свидание с парашей, я потерял сознание и упал. Знатоки медицины в нашей камере пытались было привести меня в чувство. Однако после безрезультатных попыток они поставили заключительный диагноз: смерть. Итак, я умер. От трупа исходили не весьма благовонные ароматы. Палата была в растерянности. Пришел полицай. Он важно посмотрел на мертвеца, прошелся по камере и весьма глубокомысленно изрек:
- Умер ваш доходяга. Если еще не совсем, то все равно будет лучше, если его вынести в коридор. Утром будут выносить умерших из других камер, заберут и его.
Ухватив меня поудобнее за ноги вытащили в коридор. Положили у стенки возле дверей камеры. Камера притихла. Ее жители разрешали трудный вопрос. Как поступить с моим имуществом. Ведь на мне были почти новые ботинки. Если полицай еще не успел их снять с меня, то было бы не плохо ботинки продать самим на пользу всей камеры. Камеру полицай закрыл на задвижку и это служило препятствием к невинному мародерству. Мои приятели были в большой печали. Ведь я пропал вместе с хорошими ботинками. Какая оплошность!
Прошел час или больше. Лежать на холодном цементе мне надоело, я открыл глаза. Удивление мое было велико. Я не понимал, за какие заслуги мне предоставили целый коридор на одного. Поднялся с цемента, отыскал свою камеру и, отодвинув задвижку, вошел внутрь. Камера встретила меня радостным удивлением. Я занял свое прежнее место на полу.
На другой день мою пайку хлеба снова обменяли на кусок макухи. Прошло два-три дня и моя болезнь пошла на убыль. Помогла ли мне макуха или самой болезни надоело сидеть во мне, как бы то ни было, я почти совсем перестал подходить к параше. Несколько дней спустя мой Котовский товарищ сказал:
- Кто знает, что будет с нами. Нас могут перевести в другой, худший, лагерь, могут угнать в Германию. Ты, Николай, слаб еще. Было бы не плохо подкрепиться тебе питанием. Вот если бы ты продал чего-нибудь из своей одежды. Ну, ботинки, к примеру. На выручку купить еду. Иначе тебе не осилить плена. Для нас каждый прожитый день - это уже победа, выигрыш.
Так я и сделал - продал ботинки. На вырученные деньги покупал макуху, картофель и стал набираться сил. Вскоре появились слухи, что лагерь наш будут переводить. "Куда?!" - никто ничего не знал. Вначале отобрали интеллигентов. Их одели в крепкую одежду и куда-то увезли. Я же, будучи всего-навсего школьником, остался среди прочего многочисленного плебса. Камеры все пересортировали и я очутился совсем в другом блоке, с другими незнакомыми людьми, на третьем этаже. Сверху был виден огромный город, Днепр и поля вдали. Все было в какой-то синеватой дымке и манило на свободу. В камерах все настойчивее утверждались слухи, что этими днями нас всех увезут в Германию. Одни к этому отнеслись совершенно равнодушно. Другие стали уединяться, таинственно шептаться и готовиться к побегу. Я был столь слаб, что ни для кого не представлял никакого интереса. Ни для побега, ни для компании в камере. Да и вообще-то, кому бывают нужны слабые обессилившие люди? Даже родные отворачиваются от таких. Так и я, один, без друзей и товарищей, ходил по коридору, приглядывался к приготовлениям других и все виденное наматывал себе на ус. Авось мне тоже пригодится. Кроме всего, секреты и тайны других всегда интригуют.
Однажды утром я сидел в дальнем углу коридора, ел вареную картошку, которую еще тогда выменял за ботинки на базарчике и наблюдал за таинственной суетней пленных. В этот момент ко мне подошел мужчина в гражданской одежде. Вместо гимнастерки, какие были на всех нас, на нем был одет поношенный брезентовый плащ.
- Здравствуй. - Сказал он. Я поздоровался. Было интересно, кому это вдруг понадобился доходяга. - Ты меня не узнаешь? - Спросил он. Я вглядывался в знакомое лицо и не мог вспомнить. Кто это такой, где я его мог видеть раньше. Знакомый незнакомец отрекомендовался сам: - Я Сорока. Мы с тобой служили в одном батальоне. Я был в особом отделе. Только теперь я уже не старший лейтенант Сорока. Фамилию пришлось сменить. Называй меня Шевченко, понял?.
Встреча была радостной. Сорока-Шевченко рассказал, что он уже три раза бегал из лагерей и что на воле лучше. Население встречает беглых хорошо. Кормит их и помогает чем может.
Потом он сказал:
- Ты, Коля, был хорошим солдатом. А теперь посмотри на себя. На кого ты стал похож? Зря умрешь здесь. Ни за что погибнешь. Тебе надо что-нибудь предпринять.
- А что сделаешь? - сказал я.
- Мало ли чего можно сделать! Посмотри вокруг - все собираются что-нибудь делать. Я лично не собираюсь умереть здесь с голоду. Снова убегу. Вот подыщу себе напарника и обязательно сбегу. Говорят, скоро нас повезут в Германию. Вот и случай готов для побега.
Раньше я как-то не думал о побеге и не представлял себе, как это делается. Если и думал об этом, то смущал меня не сам процесс побега, а другое. Я был достаточно смел и решителен для таких действий, убежать я мог в любое время. Пугала неопределенность. Куда бежать, к кому, если кругом все враги. Если даже далекие свои стали тебе чужими и будут смотреть на тебя подозрительно. Теперь же мне представился такой редкий случай и нужный человек. Человек, который знает куда бежать, который сам бегал и имеет в этом деле опыт. Этот случай поднял настроение. Хотя я все еще сомневался. Может быть, он просто болтун и набивает себе цену. Я был в растерянности. Как быть, кому верить, как поступить? Ведь по сути дела нет ничего такого, ради чего стоило бы волноваться и думать.
Все же с этого момента мысль о побеге не оставляла меня. Я и Сорока почти всегда были вместе и идея сбежать сделала нас неразлучными. Несколько дней спустя Сорока показал мне двух крепких парней в гражданской одежде. Он сказал, что это те парни, с которыми его поймали при облаве. Они тоже пленные, но успели переодеться в гражданское. Парни решительные и долго в лагере не задержатся. Это будет наша компания. Мы познакомились. Имена их как-то выветрились из памяти, так как знакомство наше было непродолжительным.
Оба напарника выглядели ребятами крепкими и хорошо упитанными. На них еще не было той бледности и худобы, с которой были знакомы пленные со стажем. Кожа на руках не успела покрыться неотмываемой черной коростой. Их руки и бедра были еще нежны и белы. Они никого не ругали и никого не хвалили. В разговоры о политике не вступали. Тот, что был пониже ростом и потолще, рассказал, как он попал в окружение, как успел переодеться в гражданскую одежду и пришел к себе домой. Когда немцы делали прочесывание окруженного района, забрали и его. Он жаловался на порядки в красной армии, при которых солдатам стригут волосы на голове. Он сказал, что, если бы у него голова не была пострижена, то его никогда бы немцы не забрали сюда. Они отличали гражданских от красноармейцев по волосам на голове. Снимут головной убор. Если голова пострижена, то считают, что это переодевшийся красноармеец. Иди в плен. Если на голове шевелюра, то не трогали. Другой напарник попал в плен тоже потому, что на голове не было волос. Он рассказал, что его дядя оставлен нашими специально в тылу врага и он служит у немцев старостой. При необходимости он помогает всем советским людям. Он предлагал добраться до его дома, что находится в середине буда (???) возле Харькова. Там этот дядя поможет раздобыть всем нам документы и добраться до своих. Он очень красиво рассказывал, как в окружении ему удалось закопать в землю бочонок сала и целую бочку спирта. Все это было очень заманчиво, а главное, появилась цель в жизни, интерес к ней. Даже маленькая цель в жизни, пробуждает интерес. Делает ее живой, как бы освежает человека и подталкивает к действию.
Начались тайные совещания и подготовка к побегу. Бежать решили всем вместе. Передвигаться ночью, а днем где-нибудь отсыпаться.
С документами бежать, конечно, было бы лучше. Только где их взять? С ними можно было бы двигаться и днем, не рискуя быть задержанным.
В первое время пытались даже собственными силами изготовить себе документы. Нашелся художник, который умело рисовал немецкие круглые печати с орлом и немецким шрифтом. Я составил текст прошения на немецком языке. В отдельности как будто все получалось. На черновиках. Однако, когда соединяли все вместе, получалось плохо. Не было нужной бумаги, чернил. От затеи с фальшивыми прошениями пришлось отказаться. О возможностях сбежать в это время думали многие. Особенно - молодежь. Повсюду, по углам и в укромных местах, сидели небольшие группы пленных и о чем-то таинственно шептались. Разговоры сразу же замолкали, если появлялся кто-либо посторонний.
Блоковые полицаи видели все это, однако никому не противодействовали. Для них наши приготовления были либо безразличны, либо они заранее знали, что нам бежать некуда и поэтому были спокойны. Было ясно одно, что при отправке в Германию многие убегут. Перед самой отправкой всех пленных вывели во двор и возле комендатуры составили наш пофамильный список и наши профессии. Это было важным признаком, предпосылкой к отправке. Вечером в камеры принесли хлеб и каждому выдали по одному кирпичику солдатского хлеба. Судя по количеству выданного хлеба, дорога предполагалась дальняя. Утром, выстроив в колонну по пять человек, нас привели на вокзал. Мы трое стояли в одном ряду, а Сорока в ряду впереди нас.
Мы собирались попасть в вагон всем вместе. На вокзале стоял длинный товарный эшелон. Возле каждого вагона колонну останавливали, отсчитывали по сорок человек и загоняли внутрь. Дошла очередь до нас. Отсчитали. Последним из них оказался Сорока. Мы трое оказались в другом вагоне. Группа наша разбилась и попала в разные вагоны. Вагоны были вымытые, чистые. Размещались на полу. Было тесно, ходить было трудно и лежали мы впритирку друг к другу.
Несколько освоившись в вагоне, пленные стали размещаться поудобнее, стараясь расположиться поближе к своим товарищам, с которыми договорились бежать. Я со своими друзьями устроился в углу возле самого окна, забитое колючей проволокой. Настроение у всех было приподнятое. Новизна положения ободряет и тонизирует весь организм. Начались разговоры. Говорили о Германии, о хлебе, который некоторые уже успели наполовину съесть. Им хотелось пить, но не было нигде воды. И их мучила жажда еще большая, чем голод. Другие, видя их муки, беззлобно злословили. Они поучительно говорили, что хлеб надо было есть экономно, небольшими кусочками, оставляя еще и на черный день. Вынимали свою буханку хлеба и показывали, как она сохранилась. Слышались шутки. Все они имели отношение к нашему бедственному положению и носили поучительный характер. Когда же поезд отошел со станции, а это было к вечеру, население вагона снова стало о чем-то таинственно перешептываться. Начались рассказы о побегах из плена и из тюрем. Рассказывались всякие варианты побегов. Один солидный бас говорил, как где-то пленные взломали пол вагона и все по очереди выпрыгнули под поезд между рельсами.
- И никто не погиб? - Cпросил кто-то.
- Да, никто не погиб. Прыгать надо умеючи. И на не слишком большой скорости.
Я смотрел в окно вагона и слушал разговоры соседей. Вагон мерно постукивал на стыках. В зарешеченное окно было видно, как мимо проплывают разноцветные поля подсолнечника, пшеницы и просто незаселенные пустыри, заросшие всяким разнотравьем. Из заколоченного вагона было радостно видеть настоящий живой мир, свободу. Стоящий рядом со мной у окна пленный с чувством произнес:
- Красота-то какая!
Другой, лежавший на полу, в ответ заметил:
- Красота-то она красота, да кому она достанется, эта красота? Ни на что глаза бы не смотрели. Все теперь немцам пойдет. Вот им, красота! А тебе что до нее? Ты пленный, раб.
- Ну и что же, что я пленный? Разве пленным запрещено любоваться? Мне все равно, кому все это достанется. Родины теперь у меня нет. Свои от меня отказались. А немцы для нас оказались лучше, они хоть к себе в Германию везут нас, значит, еще мы нужны кому-то. Свои не то что постарались забыть нас, да еще и прогнали как самую паршивую собаку. Вот попробуй, попади к своим, узнаешь, где очутишься! Это такая политика у нас, это сделано для того, чтобы никто не сдавался. Иначе, пожалуй, все разбегутся, если не наказывать.
- Это верно. Ведь еще не было такого строя, как наш. Это же первый опыт построения социализма. А опыты не все бывают удачными.
Из середины вагона кто-то засмеялся:
- Вот это здорово! Я и не знал, что всю жизнь жил подопытным человеком.
Кто- то возразил:
- Не то, братцы! Ни один строй не предусматривает в политическом устройстве зверства над своим народом. Наш строй тоже был не плохой. Только вот где-то были перегибы разные, да такие, что и жить не хотелось. Было у нас всего в достатке. Никто не умер с голоду, а вот за завтрашний день никто не был спокоен.
Вот он правильно сказал. Каждый из нас в любой момент мог оказаться в роли подопытного. Тюрьма, север, расстрел. А за что? Ничего не понять, для чего это и за что? Получалось так: газеты, кино и радио - это одно государство, неизвестно чье и для чего существующее. Кому они служили, тоже непонятно. Настоящая же жизнь была совсем другой, страшной и убогой. Несмотря на то, что каждый дрожал за себя, за свою семью, родню, разносились звуки радостной песни: "Эх, хорошо в стране советской жить". То же самое театр, кино, книги и газеты. Все улыбались от счастья и взахлеб рукоплескали.
Была у нас Сталинская конституция. Тоже Сталинская, а не наша. Все вроде бы в ней написано хорошо, правильно. Только практического значения она не имела. Скорее всего она походила на сентиментальные вымыслы из будущего мечтателя-фантаста. Ей никто не руководствовался. И защитить она никого не могла. Кроме всего, права на защиту не существовало. Убьют тебя без суда и следствия и ничего. Будто так и надо. Причем все это как-то по-особенному смаковалось. Убийц и палачей денно и нощно восхваляют, а пострадавших еще больше оскорбляют. Как можно было в таких условиях приспособиться человеку, выжить? Мы сделались безвольными и пассивными. Зачем нам чем-то интересоваться? Все равно нашим мнением никто не интересуется. И не дай бог если это мнение будет иным, нестандартным. Никто из нас не понимал, что это за страна, в которой мы живем. Чего ей нужно от ее народа. И что нам, людям, следует делать, чтобы быть гражданином своей страны. Вот и сейчас все мы здесь находимся в очень трудном положении. Мало того, что мы страдаем физически. Еще больше страдаем мы морально. Каково же наше юридическое положение? Ведь для своих мы стали предателями. В своей стране мы вне закона, отверженные. Немцы с нами заигрывают, пытаются сделать из нас своих. И у немцев есть на то основания. Что же остается делать нам? Дураки все-таки наши. Наверное, это опять очередной перегиб. Когда лопнет он, будут каяться. Козла отпущения найдут для этого случая. Ведь сейчас война, а в каждой войне бывают убитые, раненные и пленные. Никто себе не желает быть убитым, раненым или пленным. Тогда за что же обижать людей, уже пострадавших и обиженных?
- Эх! Всякое было, есть и еще будет. В истории было много примеров, когда человека обвинят, казнят, а потом, через много лет, оправдают. Наверное, то же самое происходит и с нами.
- Вот попробуй разберись теперь, где здесь тот критерий, та истина, на которую нам следует ориентироваться. Из каких соображений вся эта неразбериха происходит.
- А зачем тебе сейчас думать об этом? Подожди немного, - Возразили ему. - Сталин уже старый стал, скоро он умрет. Вот тогда, после него, задним числом, история тебе все расскажет. Да, братишечки, в дурацкое положение попали мы. Хватит вам болтать. Надоело уже! Каждый день одно и то же. Давайте о жратве поговорим.
- А что о ней говорить? Дали тебе краюху. Вот жри ее, да помалкивай.
- Нет, братцы-товарищи-господа! Немцы хороший и предусмотрительный народ. Они же знали, что я должен буду бежать от них. Голодным как бы я сбежал? Ведь мне до фронта далеко идти. Вот они и выдали мне на дорогу хлеба. Сердечный народ эти немцы. Я даже прослезился, увидев их доброту.
- А как ты убежишь?! Пол, что ли, выломаешь? Да под колеса?
- Зачем под колеса? Если под колеса, то тогда я и до своих не дойду. Колеса могут отрезать мои ноженьки, а мне мои ноги могут очень пригодиться. Немцы таким как я транспорт не дают. Своим ходом придется.
- Ну и иди к своему родному - вождю и учителю. Он тебя уже ждет. Только в Сибири или в штрафной.
- А что?! Может, и ждет. Мне к Иосифу необязательно. Много чести для меня. Я иду к своим. Плохого я ничего не сделал! Что они мне сделают? И за что?
- Ты думаешь, что немцы здесь проливают свою кровь для того, чтобы тебе было хорошо? Не будь дураком. Они воюют за себя и против тебя. Ты им не очень-то нужен. Ты враг их. Запомни!
- А что? Ты серьезно думаешь бежать что ли?
- Мое дело! Может, в шутку, а может и всерьез!
- А кто тебе даст бежать? Ты знаешь, что если один ты сбежишь, то нас потом всех до одного немцы расстреляют!
- Подумаешь, беда большая! Беги и ты. А какая от тебя польза, если ты живым останешься? Расстреляют - то хоть удобрение от тебя будет. Тоже немцам польза! Я говорю, что немцы народ умный! У них ничего зря не пропадет.
Назревал скандал.
- А мы тебя будем караулить, чтобы ты не убежал. Понял?
- Конечно, понял. Я и раньше знал, что бежать надо, когда ты будешь спать. Только ты не бойся, я это нарочно. Я пошутил. Спи спокойно.
- Эй вы, бабы. Хватит вам! Разорались! Пусть бежит, если хочет!
- Как так - пусть бежит?! Ведь других-то за это не погладят по головке. Нужно смотреть, чтобы никто не сбежал!
Вскоре спорщики устали. Спор никто не поддержал и они замолчали, оставшись каждый при своем мнении. Солнце стало садиться за горизонт, наступили сумерки. Вскоре и разговоры прекратились. И только слышно было, как монотонно постукивают колеса под вагоном. В вагоне было тихо. Казалось, что все население его, уставшее за день, уснуло. Однако все это только казалось. Тот, кто в эту ночь собирался бежать, чутко улавливал все шумы в вагоне и за вагоном. Спали не все. Было заметно какое-то таинственное движение, перешептывание. Еще днем я заметил вязанную кофту, которую кто-то повесил на гвоздь над моей головой. Когда совсем стемнело, я снял с себя солдатскую гимнастерку и повесил ее на гвоздь, а сам надел на себя вязанку. Мои двое напарников по очереди, стараясь не шуметь, расшатали гвозди на решетке. Хоть она и была сделала из колючей проволоки, выламывать пришлось ее долго. Наконец, в решетке сделали дыру, через которую мог пролезть человек. По уговору первым должен был выпрыгивать я. Все трое присели у окна, притихли. Не видел ли кто из вагона наши проделки? Мозг работал напряженно. Уши и лицо сделались горячими. Внимание улавливало каждый шорох, каждое движение в вагоне. Все было спокойно.
- Ну что? - прошептал Слюсарь. - Начали?
У одного из беглецов была такая фамилия.
- Давай! - Сказал другой мне на ухо. Я подтянулся на руках к решетке, высунул в пролом голову. На небе светила луна и только изредка ее прикрывали редкие облака.
Бежать при луне было хуже, опаснее. Осмотрелся - кругом пшеничное поле, тихо. Только я высунулся до половины, как впереди поезда замелькали огни семафора и станции. Еще минута-две и мы въедем на станцию. Быстро влез обратно в вагон, заделал проволокой пролом в решетке. В вагоне мои товарищи встретили меня недружелюбно:
- Вот все и пропало. Надо же было первым посылать труса. Теперь увидят пролом в решетке и все пропало!
Я молча указал в окно. Поезд сбавлял ход, было слышно характерное перестукивание колес на стрелках. Станция была хорошо освещена. По перрону ходили люди в гражданской одежде. Через решетку спросил:
- Какая станция?
По- русски ответили:
- Пятихатки.
Мы со страхом ожидали, что кто-нибудь обнаружит наши приготовления. За вагоном слышалась русская речь. Кто-то ходил возле вагонов и постукивал молотком по колесам. На крыше перекликалась по-немецки охрана. Кто-то из пленных нашего вагона попробовал подойти к окну, поглядеть на станцию. Мы его не пустили:
- Куда ты лезешь на людей! Что ты, станции, что ли, никогда не видел? - Начали ругаться мы. Пленный что-то пробурчал и снова улегся на свое место. Казалось, что время движется очень медленно. Ожидание расшатало нервы. Толстый напарник дрожал как в лихорадке. Вскоре поезд неожиданно, без звонков и сигналов, медленно тронулся с места. Застучали колеса, огни станции поплыли в сторону. Мы перестали переживать, немного успокоились. Когда огни станции удалились, я поднялся с полу и решительно подошел к окну. За окном бежали телеграфные столбы, пшеничные поля и незаселенные пустыри.
- Ну что же, я готов! - Сказал я. Молча, Слюсарь и толстый, как по команде, раздвинули колючую проволоку.
- Ну, смотри, не подведи. - Шепотом сказал Слюсарь.
Я на руках подтянулся к окну, просунул голову в пролом, лег на грудь и осмотрелся. При луне все вокруг было хорошо видно. Из переднего вагона показалась голова. Потом грудь. И на землю рядом с колесами из окна вроде нашего выпал человек. "Тоже пленный" - подумал я про себя. В эту ночь многие сбегут. Это приободрило меня. Подождал, пока луна несколько спрячется за тучку. Руками уцепился за какой-то выступ на вагоне, быстро вылез из окна. Оттолкнулся от вагона по ходу поезда и полетел вниз. Вначале несильный удар о землю, затем, кувыркаясь, скатился под откос, зацепился за кустарник и замер. Прижался к земле, чтобы быть менее заметным. Когда поезд отошел далеко, грянул выстрел. Кто-то еще сбежал! Удачно ли? Стих стук колес поезда, рядом мирно трещал кузнечик. Кругом тихо. Я встал с земли. Осторожно осмотрелся. На небе тускло горели звезды. Отыскал полярную звезду. Определил направление на восток. И осторожно, пригибаясь в пшенице, двинулся по полю к своим.
Непонятная вставка. Возможно, из третьей части… Как третья часть будет готова, посмотрю куда вставить…
Харьковская область от Белгородской отличалась незначительно. Почти тот же климат. Очень мало разницы в разговорной речи людей. И все же люди в Харьковской области жили богаче. Сам Белгород и его область прошел без заметных приключений, где-то возле Курской области стала заметна разница в климате, людях. Природа и люди здесь стали беднее и скупее.
Там, где больше бедноты, больше и грязи. По пути приходилось переходить какие-то железнодорожные полустанки или же мелкие станции из малоприметных уголков. Из них выглядывали люди. Это были больные крестьяне, женщины. Они в корзинах везли куда-то продукты, садились на открытые платформы и делано смеялись. А если немцы были не слишком строги, садились и на военные эшелоны. Глядя на них, осмелел и я. Иногда поездом проезжал по несколько пролетов. Сопровождавшие эшелон немцы не обращали на меня никакого внимания. Благополучно проехав 2-3 остановки, смотря по обстоятельствам, сходил с поезда. Перед Курском проехал поездом часа 3-4 до станции Соличево. Там появилась полиция и я вынужден был уйти со станции.
Страшны были не немцы-солдаты, а немецкие жандармы и русская полиция. Встреча с ними была опасна. Немецкие солдаты, сопровождавшие эшелоны с военным грузом, считали, что функция полиции их не касается. Они солдаты и их дело - фронт. Остальное-де не их дело. На одной станции стоял военный эшелон. На открытых платформах везли автомашины. Внутри них находились сопровождающие их солдаты-немцы по 2-3 человека. Вид у них был мирный. Но, когда на эти платформы взбирались русские женщины, то сопровождавшие вагоны немцы с платформы протягивали им руки и помогали взобраться на поезд, особенно если это были молоденькие женщины. Взобрался и я с женщинами на платформу. Когда поезд без звонков и сигналов двинулся, молодой немец снял пилотку и стал обходить пассажиров. Поднося к лицу сидящей женщины пилотку, он говорил "Матка яйка". Женщина клала в пилотку яйцо, а немец, что-то пробормотав вроде благодарности, подходил к другой. Ко мне не подошел. Наверное, посчитал, что яйца удобнее просить у женщин. Потом, обойдя всех, солдат влез в кузов машины. Через некоторое время из кузова появилось сразу три солдата. Один стал играть на губной гармошке, а другие смеялись и говорили "матка гут". Немец играл довольно хорошо и долго. Когда закончил, то те двое аплодировали в ладоши и жестами заставляли аплодировать пассажиров. Все аплодировали, приговаривая: "гут, пан, гут". После аплодисментов немец спрыгнул с машины. Снял пилотку и, как и первый, стал обходить женщин. "Матка яйка" - говорил он, и женщины снова клали в пилотку по яйцу. Подошел ко мне и тоже сказал: "Матка яйца". Я развел руками. Тот немец выругался и ушел к себе в машину. Все трое солдат смеялись и говорили "гут, матка, гут". До следующей станции из машин никто не вылезал. Я, когда поезд остановился, увидав полицаев, слез с поезда и ушел со станции.
Мой путь шел, по-видимому, параллельно железной дороге, потому что приходилось часто заходить на мелкие станции и полустанки. Вокруг них толпился разный люд, желающий ехать поездом. Те, кто имел разрешение на проезд, гордо, напоказ всем, находились на самых видных местах станции. Те, кто не имел таковых, выглядывали из малозаметных уголков, из кустов или просто ходили непринужденно поодаль и при случае быстро цеплялись за поезд, когда никто не видел.
Конец II части.

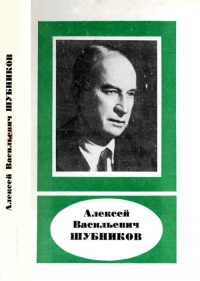


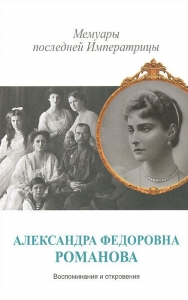


Комментарии к книге «Воспоминания участника В.О.В. Часть 2», Анджей Ясинский
Всего 0 комментариев