Воспоминания участника Второй Мировой Войны
Берясь за написание своих воспоминаний, я хотел бы в своем написанном вновь увидеть некоторые ушедшие дни моей жизни. Осмыслить, через много лет, события тех дней и, честно, без оглядки на все обстоятельства увидеть себя в событиях того времени. Увидеть как человека живого, способного размышлять и действовать сообразно обстановке. Хочу разглядеть самого себя, задать себе вопросы.
Попробую, может быть, найти природу поступков людей и моих собственных.
И если я честно, пусть не очень художественно, без заигрывания с модой времени и без позирования перед самим собой, сумею правильно подойти к делу, получится то, ради чего я взялся за него.
Пишу я это для самого себя и надеюсь, для самого себя-то я смогу написать все именно так, как мне казалось тогда.
Дело конечно трудное. Истина, как известно, вещь относительная. Одна и та же вещь - истина, для разных людей будет выглядеть по-разному. Так для кошки, возня с мышкой это радостная забава. Для мышки - смертельная опасность.
А пока, я сам являюсь сугубо советским человеком. Я впитал в себя все то, что в течение многих лет вкладывали в меня сначала в октябрятах, позже в пионерах и комсомоле. И, уже едучи на фронт, записали в кандидаты в партию. В воспитании моем и образовании также не малую роль играла десятилетка.
Моего прадеда по отцу, барин крепостник променял другому барину на собаку из села Тювяево в село Пургасово в Рязанской обл. Дед был бедным рыбаком без земли и без лошади. По матери я происхожу из богатой, но к революции обедневшей семьи. Мой дед по матери был учитель. Мой отец товаровед. Мать математик в школе. Я сам врач. Ну вот пока все.
(запись от 04.01.1967)
В теплый июльский вечер 21 числа 1941 года вокруг Ферганской средней школы N2 царило праздничное оживление. Это выпускники 10х классов собирались отпраздновать свое окончание школы. Бывшие еще вчера школьниками, они, здорово принаряженные своими мамашами, преисполненные гордостью, собирались последний раз, чтобы поставить точку на своих посещениях школы, собирались на свой выпускной вечер. Лица у приходящих были умные и торжественные. Как раз такие, как подобает быть выпускникам 10х классов. Ведь все они теперь не какие-то школьники или дети, а уже взрослые, выпускники все-таки. Всем им исполнилось по 17-18 лет, а некоторым даже 19 и 20 (наверное второгодникам и лодырям).
В общем-то все выглядели соответственно своего школьного престижа.
Те, кто были поделовитей и учились получше, пришли скромно одетыми и в то же время выглядели приятно и солидно. Другие же, кто были трудными школьниками, пришли и на вечер в затруднительном состоянии. Чтобы до конца сходить за ребят отчаянных и бесшабашных, ребятки слегка подвыпили. Некоторые даже с собой незаметно принесли горячительного зелья в бутылках. Это парни. Зато девочки обязательно были трезвыми и благоразумными, а их наряды, которые мы мальчишки, на них никогда еще не видели, и их премудрости в косметике, делали девочек совсем другими, чем мы их знали до этого. Они походили на цветные фотографии красавиц из журналов (вот что делает искусство наряжаться и нравиться).
Девочки как-то сразу повзрослели. И, мы, мальчики, их сверстники глядели на них и чувствовали, что они оказались сразу как бы взрослее нас. Мамаши девушек в честь такого торжества, понадевали на своих дочек все имеющиеся у них драгоценности и украшения. Девочки, разумеется, этим гордились очень. Лица девушек и их манера держаться стали царственными. Раньше, когда мы с ними встречались в классе, никак нельзя было представить, что наши девочки смогут в один вечер так здорово преобразиться. И все это было наверное потому, что мы, мальчики, раньше обращали на них внимание чаще с другой стороны, а именно с той, с которой было легче сдувать у них домашние задания и контрольные. Все-таки, как ни рассуждай, а уроки можно было учить не каждый день. Теперь же, как нам казалось, девочки в своих взрослых нарядах смотрят на нас свысока. Как взрослый на маленького. Это было некоторым из нас немного обидно.
Организаторами вечера стали наши учителя и мамаши. Все они, хоть и не молоды, но организаторскую прыть выказывали необыкновенную. Особенно старались те, у кого репутация была мамаш из солидных семей, да еще если у них дочки были хорошенькие.
Во всяком случае к нашему приходу на вечер, уже было все готово.
Составлены столы человек на семьдесят-восемьдесят, которые заняли всю нашу длинную залу. На столах стояли всякие вкусные кушанья. Самое же главное и производящее впечатление на столах - вино. Официальное разрешение на вино вселяло в нас гордость, а мы сами старались казаться солиднее. Вино, как нам казалось, отделяло наше школьное детство от еще неизвестного нам наступающего мира взрослых, нашего взрослого будущего.
Вечер был назначен на девять часов вечера. Те из ребят, кто на этот раз перестарались и пришли несколько раньше времени, скучающе прохаживались по залу и будто нечаянно мельком поглядывали на столы. Некоторые придумывали способы где и с кем сесть. У них для этого были свои тайные причины. Ровно в девять часов директор школы пригласил садиться за столы.
Было нас два класса - десятый 'А' и 'Б'. Я учился в 'А' классе. Присутствовало всего около пятидесяти школьников. Много пришло и родителей.
После того, как мы все уселись, стих шум и стало возможно говорить, директор школы в удивительной тишине произнес речь.
Вначале нас поздравили с окончанием школы. Директор школы сказал нам, что мы теперь уже не школьники и это нас сильно обрадовало. Он сказал, что мы сегодня вечером последний раз собрались в школе все вместе и больше уже никогда в жизни, вместе, как сегодня, не соберемся. Он сказал, что мы разлетимся как птички из родного гнезда. У всех нас будут свои дороги со своими разными судьбами. Всем нам впереди предстоит много жить и много трудиться. У каждого впереди будет много радостей и в достатке огорчений. Директор пожелал нам успехов на будущее и просил помнить нашу школу, своих учителей. Помнить все то хорошее, чему нас здесь учили и это хорошее должно быть нашим путеводителем на всю жизнь. Директору долго аплодировали. Некоторые же из чувствительных, даже прослезились. Но это были мамаши, а не мы.
После директора ораторство взяла наша классная руководительница. Звали ее Лидия Васильевна Ягушинская, а по-нашему, по-простому, величали 'Лидушка'. Она назвала лучших учеников среди которых, к своему удивлению, я услышал свое фамилию. 'Лидушка' безнадежно, как и прежде, пыталась напоследок начинить нас всякими умными напутствиями на будущее. Поскольку мы всю жизнь привыкли не слушать ее умные наставления, то и сейчас, сработавший рефлекс позволил застрять в наших ушах только часть ее речи. А поскольку это было так, то и речь ее не оказалась столь торжественной. Однако мы все-таки поняли, что и она чего-то желает нам хорошего.
Народ облегченно вздохнул лишь тогда, когда снова взял слово директор. Он пригласил нас налить в стаканы вина и выпить за успешное окончание школы. На душе сразу стало легче.
Лица у всех повеселели. Сначала всем налили шампанского. В то время оно было редкостью. Выпили, робко закусили. Потом нам, мальчикам, налили русской водки. Выпили, снова закусили. На этот раз уже смело и по-настоящему. За столами зашумели бодрее, народ воспрянул духом, послышались шутки и пошел пир на весь мир. На сцене заиграл наш школьный духовой оркестр. Девушки, как наиболее активные и смелые среди нас, вышли из-за стола и закрутились по залу. Парни пока еще робели. Они молча сидели за столом, исподлобья бросали робкие взгляды на окружающее и чего-то выжидали. Несколько позже, когда девушки уже натанцевались сами с собой, а мальчики все еще молча раздумывали о чем-то, девушки начали вытаскивать своих робких кавалеров из-за столов и чуть ли не силой кружить их в танце по залу. Некоторые мальчики отчаянно сопротивлялись. Что делать, таковы были тогда юноши в школах. Некоторые парни сами приглашали девушек на танец, однако их было меньшинство. Вскоре и мальчики вошли во вкус. Конечно, как и настоящие рыцари, мальчики предпочтение имели к дамам своего сердца. Если у кого не было таковой, то такие успешно танцевали с дамами чужого сердца. У меня также была девушка сердца. Темная черноглазая с темными и вьющимися волосами. Ресницы у нее были длинные-длинные. И она мне казалась самой красивой девушкой на земле. Я часто, вроде нечаянно, поглядывал на нее. Она же не особенно. Это доставляло мне тяжелые огорчения однако танцевал с ней я почти весь вечер, хотя я отчего-то побаивался ее. Вино сделало нас смелыми, непринужденными, особенно девушек.
Все много танцевали, хором пели песни. Сольных номеров не было. Может быть потому, что мы стеснялись, а может быть в стране коллективизма и массовости во всем мы просто не знали ничего другого. Пели только хором, а некоторые еще и плясали. Плясали что-то похожее на народный танец. Однако к музыке еще с раннего детства мы знали нужные слова. Эти слова звучали примерно так: 'Николай давай станцуем, Николай давай'. По-видимому и все. Еще танцевали 'Лезгинку'. В общем-то, нам всем было очень хорошо. Только мне иногда казалось, что я сам не знаю себя. Было ли мне весело или грустно. Было весело потому, что мы пили вино и веселились. Было грустно потому, что этот вечер был последним нашим вечером в нашей школе. И было не совсем понятно, как себя вести. То ли ты уже стал взрослый и тебе позволено все. Если это так, то почему же я ничего не чувствую другого, чего должен ощущать взрослый человек. Мне все время казалось, что я еще маленький. И еще казалось, что и другие парни чувствовали какую-то раздвоенность чувств. А некоторые, как я отмечал про себя, чтобы сгладить это чувство между землей и небом, демонстративно при всех, уже не прячась, курили папиросы. Смело разговаривали с учителями как с равными и были развязны. Трудно было сориентироваться в один взгляд. Тем более что взрослые, т.е. наши родители тогда нам во всем непротиводействовали и смотрели на нас глазами, в которых видна была гордость за нас.
Вдруг, вместо смеха, в уголке за столиком, послышался девичий плач. К столику начали подходить люди. Подошел и я. За столом сидели две женщины. Одна, та, что плакала, была Рая Решегерова. Она обнимала Изькину мать, плакала и чего-то иногда говорила. Мать же Изькина тоже обнимала Райку, гладила ее по голове и тоже чего-то ей говорила. Было не интересно узнавать подробностей и я отошел. Позже, к концу вечера стало известно, что Райка перепила спиртного. Был у ней неудачный роман с Изькой Шавинским и вот, окосев от выпитого, в избытке чувств, решила всю свою сердечную боль высказать Изькиной матери.
Рая была красивой девушкой и пользовалась у мальчишек большим успехом. В нее до предела был влюблен мой лучший друг Шурик Захаров. Если бы Рая попросила его прыгнуть с крыши, то он непременно бы сделал это. Только Рая от него ничего не просила, а Шурик все ждал.
Узнав о случившемся, Шурик упал духом, стал курить папиросы, чего он раньше никогда не делал и с горечью обо всем рассказал мне. У Изьки тоже был испорчен вечер. На вечер с ним пришла хорошенькая Клара Коваленко, она училась на год младше нас и была сестрой его друга Дмитрия. Трудно было понять его отношение к Рае. Раньше нам казалось, что он тоже был влюблен в Раю, но безуспешно. Теперь же, после Раиной выходки, Изька напился пьяным, упал во дворе на парту, страшно мучался и тоже плакал. Клара стояла рядом с ним, поливала ему голову холодной водой и говорила Изьке нежные и ласковые слова. Клара была нежной и любящей девушкой.
Потом долго еще шумели кандидаты во взрослые. Вечер был единственным выпускным вечером в нашей жизни. Он запомнился каждому по-своему, и также на всю жизнь. Только под утро, уставшие и довольные мы разошлись по домам.
Спал я крепко и, может быть, проспал бы еще до обеда. Утром, когда уже взошло солнце, моя соседка Зоя Карпова меня разбудила. Она сказала: 'Вставай, началась война с Германией'.
Вначале казалось, что война еще не настоящая. Что такие войны уже были, все они были победоносные и непродолжительные. Мы быстро победили в Монголии, на Озере Хасан, Финляндии, Польше, Бессарабии. Казалось, что и эта война будет похожа на предыдущие. Зоя сказала, что немцы бомбили Киев, Одессу, Минск, Севостополь, Кронштадт. Было непонятно и очень интересно. Я вначале подумал, что Зойка - девчонка, и в войнах ничего не понимает и все перепутала. (Эта тогдашняя девочка Зойка, которая училась на 2 года младше меня, сегодня в Москве строит космические ракеты и работает инженером-конструктором на номерном заводе. Имеет за это правительственные награды).
Быстро одевшись, я побежал в город. На улицах повсюду стояли группы людей. Разговоры были только о войне. Лица у людей были встревоженные. Радио на углах беспрерывно играло военные марши. Знакомые, встречаясь, вместо обычных приветствий, говорили - 'Слыхали? Да, дела! И что же это будет?!'. Разводили руками.
Пожилые люди были угрюмы и молчаливы. Они как-то все смотрели вниз и о чем-то думали. Молодежь, наоборот, ходила с высоко поднятыми головами и чувствовала себя героями. Весь их вид будто говорил, что они попали в свою стихию и этот страшный для всех день, был для них давно желанным. На улице никто ничего толком не знал. Я решил зайти в школу. Уж в школе-то я надеялся узнать все подробности. Мне казалось, что там нас выпускников уже кто-то ждет. Будет важное собрание и нас взрослых ребят, наверное попросят стать на защиту Родины. Мне тогда казалось, что наше правительство самое (очень) мудрое и поэтому для такого случая уже все давным давно готово. Ведь недаром мы все с детства пели песни 'что, если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов'. А наш любимый Маршал Ворошилов, говорил нам 'Воевать будем малой кровью и на территории врага'. Я твердо знал, что ни пяди своей земли никому не отдадим. А сколько танков и самолетов нам показывали в кино!
По моим подсчетам, пока я шел в школу, наши войска должны были находиться уже где-то под Варшавой.
Я был дисциплинированным комсомольцем, не пропускал ни единого собрания. Меня приучили к тому, что каждое, даже пустяковое событие в стране или в школе обязательно обсуждалось на комсомольском или школьном собрании. И я спешил, я был небрит, я боялся, что опоздаю и не увижу главного. Я боялся, что явлюсь в школу не один из первых и это будет выглядеть непатриотичным, а может быть кто-то из наших школьников уже отличился и к примеру поймал шпиона. Сколько их было в те предвоенные годы! Даже в нашем правительстве и в армии их ловили сотнями! А шпионы были все хитроумные. Они пробирались в народные комиссары, то в генералы и даже в депутаты, за которых мы голосовали. Правда, наши зоркие гении потом их всех разоблачали и, как положено поступать с врагами народа, всех расстреляли. Но теперь война. А вообще-то наше правительство все-таки очень хитрое и мудрое. До самого последнего момента притворялось, будто ничего не знает. Будто и не видело, как немцы сосредотачивали свои войска на нашей границы. Пусть себе немцы думают, что мы ничего не знаем, а мы их как трахнем! Даже в газетах было опровержение ТАСС. Ну и правильно сделали! Это чтобы наш народ не волновался. Ведь вчера на выпускном вечере кто знал о войне? Никто! Вечер отпраздновали преотлично, а сегодня - война. Пожалуйста. Будем воевать. А может быть в школе уже и винтовки раздают. И я прибавил шаг. Я был твердо убежден, что в школе мое присутствие будет необходимо. А чтобы никто не видел, что я засоня и опаздывальщик злостный, пришлось прийти в школу не через парадный вход с Ленинской улицы, а через задние ворота. В школе, как мне показалось, стояла торжественная тишина. Через длинный коридор я пробрался в залу и от неожиданности замер. В зале, как и вчера вечером, стояли неубранные столы после выпускного пиршества, только посуды на них не было. Оставшиеся после нас недоеденные кушанья унесли к себе домой сторожа и уборщики. Кругом мусор и беспорядок. Разбросаны стулья. Некоторые столы перевернуты. Среди всего этого преспокойно ходили какие-то малыши и один из них собирал на полу этикетки от конфет. Потом появилось еще несколько выпускников и учителя. Они тоже имели ввиду узнать новостей. Однако все только задавали вопросы, разводили руками и потихоньку, ни с чем уходили. Походив некоторое время по школе, так ничего не узнав, я направился к своему школьному другу к Шурику Захарову.
Шурика дома не оказалось. Семья их жила трудно. Отца у них не было, он трагически погиб в 37 г. Мать шила шубы, и они кое-как сводили концы с концами. Детей у них было трое и самый старший - Шурик. Две младшие сестры еще учились в школе. Когда я вошел в комнату мать Шурика чего-то делала на кухне. Увидев меня, она бросила свои дела, всплеснула руками и с возгласом 'ну что же это такое' на миг как бы замерла у стола. Потом мы уселись за стол и я беседовал со взрослым человеком как равный. Мать Шурика спрашивала меня, что же теперь будет.
- Ну чего это людям не хватает? Зачем эта война? Ведь погибнут-то не они, кто начал эту войну. Погибнет молодежь. Вам придется воевать. А вы же совсем еще дети! Вы еще и не жили на свете, ничего вы не видели! Сколько погибнет молодых и ни в чем не повинных людей!? Когда все это кончится? Когда люди перестанут воевать?
Я сидел за столом напротив и делал умное лицо соответствующее обстановке. И тоже что-то говорил умное про войну. Вскоре пришел Шурик. Он купался на озере. В ухо ему налилась вода и он чтобы ее вытряхнуть, к уху прижимал руку и прыгал на одной ноге.
Матери он чем-то не понравился и она на него закричала:
- Когда ты наконец повзрослеешь? Одно баловство на уме!
- А что мне делать прикажешь? - огрызнулся Шурик.
Вскоре мать подобрела, усадила нас за стол и мы все вместе пообедали. Во время обеда мать рассказывала нам как было плохо в прошлую войну. Не было соли, хлеба, одежды. Сколько пережили разных страхов.
За войну и революцию столько пришло и ушло разных властей. Были белые, немцы, разные банды. С каждым приходом новой власти приходили новые жертвы. Смерть, пожары, голод, холод, страх.
- Не дай бог никому такое, - закончила мать.
- Ничего, - сказал Шурик. - Это было тогда так. Сейчас война будет короткая. Война моторов долго не продлится, говорят, что наши уже заняли Варшаву.
- Дай бог, дай бог, - сказала мать.
Потом мы с Шуриком пошли в город. Народу на улицах стало еще больше. Было как в большой праздник. Многие были пьяные, пели песни. Все были как в бреду, в угаре. Возле пивных киосков и у забегаловок стояли очереди мужчин и женщин. Люди пили много, угощали других. Встречались и те, которые не желали пить. Таким говорили 'Пей, все равно война. Война все спишет'. И так весь город. Городской парк к вечеру был переполнен жителями города. Все ждали чего-то. То ли митинга, то ли новостей. Встречаясь, люди спрашивали:
- Ну что, чего-нибудь слышно?
- Нет, ничего.
Казалось, что весь город вечером вылез в парк. Молодые, старые, мужчины и женщины. Все были встревожены и все ждали хоть каких-нибудь известий. Все переживали и все по-разному. Молодежь держалась героически. Пели песни, шутили, танцевали. Та часть населения, которых коснулась действительность нашего времени, выглядели построже, были дисциплинированней. Меньше было пьяных. Эта часть людей концентрировалась вокруг штолен, репродукторов и возле танцплощадки. Обсуждали события дня. Если пели песни, то это были наши, советские песни. Было слышно как юноши пели 'Шагай вперед комсомольское племя', 'Широка страна моя Родная' и 'Три танкиста'. Люди были подтянутые. Другая часто людей, хотя и была одета в одежды нашего времени, внутри рядилась в очень древние традиции. Может быть более старые, чем времена Ивана Грозного. Они ходили пьяными толпами с гармошкой. Отплясывали на ходу барыню и пели 'последний потешный денечек гуляю я с вами, друзья'. Пели еще много душеволнующих песен из репертуара рекрутов времен прошлой Рассеи.
Они часто ссорились и превосходно сквернословили. Чтобы показать свою доброту и великодушие, тут же демонстративно мирились и затем громко целовались. Встречаться с такой великодушной толпой было страшно. Наши ферганские девушки такие веселья обходили стороной. Другие же наоборот радовались и говорили 'Глянь-ка, с гармошкой гуляют'.
Когда же возникал конфликт, то представитель этой части населения начинал шататься еще больше, рвал на груди рубашку и кричал 'Ну, что же ты, бей если можешь! Что, не можешь!? А я могу! Я рабочий человек, а ты сопля! Ты интеллигенция гнилая! Надумал мешать мне веселиться? Да где это есть такой закон, чтобы запретить веселиться, где?' Такие конфликты и веселья иногда заканчивались в милиции. (Тогда, почему-то, некоторые думали, что так проходят веселья у простого народа или вообще у народа).
Юноши, кто вслух себя величали словом 'рабочий народ', развязно прижимали девушек, а те на этот раз молчали и делали вид, что сейчас это так положено. Город не затихал до поздней ночи. Вдоволь находившись и наговорившись, в то же время не узнав ничего нового и определенного, люди с тяжелыми думами расходились по домам.
Радио, как и утром, играло марши, повторяло утренние сообщения и ничего нового и определенного. На душе у каждого было тяжело. Разговоры велись вокруг тягот войны, которые могут возникнуть в будущем. Люди пытались ставить прогнозы на будущее и наконец, не придя ни к чему, чтобы скрыть свою растерянность и плохое настроение, начинали неестественно громко, с шутками и прибаутками показывать свою смелость и бесшабашность. Показывали как мы дадим по заду Гитлеру. Придя домой, каждый, прежде всего, спрашивал: 'Ну что? Что слышно?'. И снова начиналось пересказывание всяких слухов, выдумок и сообщений радио, спать ложились поздно, предварительно выслушав по радио последние известия. Так закончился в нашем городе первый день войны.
Спали все тревожно. На следующее утро все встали раньше обычного, с тревожными мыслями. Каждый, прежде всего, включал радио и ждал хороших сообщений. Ждали побед для армии и успокоения для себя. На другой день войны люди уже не метались по городу, как в первый день. В каждом доме с утра происходили стихийные деловые семейные совещания.
Прежде всего определяли, кого могут взять на войну и кто останется дома. Обсуждали вопрос, как придется жить и на какие средства. Люди подсчитывали свои возможности, решали, что купить и сколько купить.
Моя бабушка говорила, что надо закупить побольше соли, муки и спичек. Отец же сказал, что все равно на всю войну не закупишь, поэтому и выдумывать нечего. В магазинах по-прежнему, как и вчера было еще много разных товаров. Народ с покупками пока еще не торопился. Вместо растерянности вчерашнего дня к людям возвращалась самоуверенность и надежда. Мнения на войну были у всех примерно одинаковы. Многолетняя государственная пропаганда воспитала в населении веру в свое мудрое правительство, в силу советской армии, а кино, газеты и радио сделали наше население самоуверенным.
Мы еще ничего не знали о бывшей действительности, но, как мне кажется, не было ни одного человека в стране, кто бы сомневался в близкой победе. Потому, на второй день войны, были только уверенные и оптимистические настроения. Это настроение можно передать словами моего отца, который был типичным советским гражданином. Вечером, придя с работы и, по-видимому, уже наговорившись на тему войны он выражал как свое, так и общее мнение:
- Чего это вы все приуныли? Думаете, что мы не готовились к войне? Как бы ни так! Пусть война будет хоть сто лет, у нас всего хватит. По-вашему, мы жили трудно потому, что у нас в самом деле ничего не было? Нет, голубчики! Все откладывалось на черный день, на случай войны. Ведь недаром Ворошилов сказал: 'что, если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов'!
На самом деле отец и не знал, откуда эти слова. Он не знал, что это слова только из песни. Ему казалось, что все сказанное про армию и про войну исходило из уст Ворошилова. Про себя он думал, что Ворошилов самый главный и опытный наш советский генерал и полководец. Он считал, что главнее его в армии не бывает людей.
- Вы отстали в своих мыслях! - Поучал отец. - Вы думаете старыми мерками. Думаете, как было при царе, что ли? Есть у нас все: есть у нас чем воевать, есть кому воевать, а уж кушать что будем, так об этом и разговор не стоит вести. Ничего не надо запасать! В огромных складах, которые никому неизвестны, хранятся запасы лет на десять. Вот увидите!
Верил ли он сам в это и поверили ли мы отцу, трудно сказать. Только наша бабушка сказала 'дай бог!'. Ей вроде бы стало стыдно за свои предложения о закупке соли, спичек и муки. Она сказала:
- Я-то что? Я ничего. Я хочу чтобы было, как лучше. Только вот, соли бы надо, - опять попросила бабушка.
- Брось ты! Пустое свое заладила. Соли, да соли, - недовольно возразил отец. Ему казалось, что он умнее всех нас.
Да и мы тоже ему верили.
- Вон, сколько ее, этой соли, на складе лежит, - сердился отец. Отец работал в торговле и мы под конец согласились на том, что пока волноваться не следует, а потом будет видно. Все мы еще склонны были думать, что это будет короткая война и не настоящая.
На второй день войны, в понедельник, в школе собралось много школьников. Из нашего класса - больше половины. У мальчиков было повышенное воинственное настроение, все себя чувствовали уже героями. Мы понимали, что нас заберут в армию, а поскольку сейчас идет война, следовательно и на войну. Мы бодро шутили и очень старались не выглядеть вчерашними школьниками. Нам хотелось выглядеть взаправдашними воинами и героями. Казалось по причине войны, не только мы сами себя уважаем и гордимся собой, но и наши девушки смотрят на нас как на будущих героев и ждут от нас воинских подвигов. Мы не пытались разуверять девушек в этом. Нам было приятно сознавать себя героями.
Шурик не сводил глаз с Раи, ждал от нее ласкового взгляда или теплых слов. Однако она не особенно спешила его порадовать и он ходил мрачный с опущенной головой. Кто-то предложил всем классом идти добровольцами на фронт. В то время патриотические начинания были очень в моде.
Более трезвые из нас возразили на это:
- Куда добровольцами всем классом? Еще не берут даже тех, кого должны были забрать.
Кто-то из старших сказал:
- Не спешите, навоюетесь. Всем хватит. Глупыши вы все.
А может быть и в самом деле мы рассуждаем как дети? И мне даже показалось, что мы все говорим фальшивые слова. Было немного стыдно. Однако, несмотря ни на что, мы все же понимали, что нам, мальчикам, воевать придется.
В школе и на второй день в нас никто не нуждался. Никто не заметил нашего юношеского патриотизма и мы потолкавшись по пустым классам разошлись незамеченными.
Рабочий день в понедельник начался как обычно. На работу вышли все. И если раньше некоторые могли слегка запоздать на работу или, заболев, пойти к доктору, в этот день все было строго по-деловому, точно и с энтузиазмом. Каждый сознавал серьезность происходящего момента и все старались показать свою дисциплинированность, свою ответственность за судьбу своей страны и личную причастность к происходящему. Если в первый день войны люди были как бы оглушены и шокированы происшедшим. Кроме того, бездеятельность в выходной день еще больше усиливала растерянность и неопределенность, то уже понедельник народ встретил, как тогда говорили, во всеоружии и со стальной волей к победе. Преданность своей стране и своему правительству граничила с фанатизмом и самопожертвованием. Возможно, начало войны в каждой стране проходит одинаково. На второй день войны уже никто не шутил и не балагурил, как вчера. Уже никто не подшучивал насчет дружбы с немцами.
Внешний вид каждого гражданина нашего города, а может быть и всей страны, был суров, деловит и выражал собой ту решительную волю, с которой он готов хоть сейчас идти в любое место, куда прикажут. Было даже приятно видеть такие лица и сознавать, что не смотря ни на что, вокруг все в порядке и ничего плохого не случится. Это успокаивало и еще больше поднимало дух и уверенность в себе. Мы тогда гордились своим народом, своей страной. Мы верили, что победим мы и, только мы! Радио толком ничего не сообщало о событиях на фронте, но мы верили, что эти сообщения будут только о победе. Ведь столько было побед до этого! Как можно было думать о другом? Хасан, Халкин Гол, Финляндия, Польша, Бессарабия. Подряд много лет - только победы. Наши летчики летали через полюс в Америку, разве этого было мало для новых побед? Пропаганда в кино, радио, книги сделали нас духовно непобедимыми. Даже думать о другом считалось за предательство. Были иногда сомнения, но они были смутными и глушились официальными сообщениями. Мы, советская молодежь, безусловно были 100% патриотами. Время поработало для этого. Вначале октябрята, потом пионеры, комсомольцы и уже некоторые готовились в партию. Это была молодежь наша, советская. Дай ей умного руководителя, вождя полководца и она сметет все трудности на своем пути! Сметет не как темная сила, а во имя лучшего на земле! Таково было наше сознание. Так мы думали, а время шло. На фронте шли бои.
Мы, выпускники десятилетки, в те страшные дни ходили по городу без всяких дел. Прислушивались и приглядывались к происходящему. Про себя и по-своему реагировали на все события и с нетерпением рвались на фронт. Ждали, что скоро нас вызовут в военкомат. Однако военкомат нами не интересовался. Если некоторые ходили в туда сами и спрашивали о себе, то им отвечали - ждите. Придет время - вызовем. Отлучаться от города далеко не разрешали. Неопределенность и бездеятельность расхолаживали воинственное настроение. Некоторые соответственно обстановке совершенно ничем не занимались. Спали, если, ходили в парк и ждали повестки в военкомат. Другие же, не надеясь что их возьмут в армию, готовились к поступлению в институт. Шурик собирался поступить в Кронштадское артиллерийское училище. Я подал заявление в Новосибирский институт военных инженеров транспорта - НИВИТ. В Новосибирске жила моя тетка, которую я никогда не видел и даже не подозревал об ее существовании. Тогда казалось, что у родных в войну, будет легче жить и учиться. Из института мне прислали вызов на учебу. Однако обстановка на фронте менялась так быстро, что я не знал как мне быть. Ехать или не стоит. Если война будет продолжаться долго, то есть ли смысл ехать на учебу? Все равно бы взяли на войну из института. Уж лучше пойти в армию из дома. Так рассуждали мои родители, так решил и я сам. Решил остаться дома и идти на войну. Время, в ожидании, тянется медленно и тяжело. С фронта шли неутешительные сводки. Наше радио сообщало, что на границе наши пограничники сражаются с регулярными отмобилизованными немецкими воинскими частями. И что сейчас к фронту движется вся наша регулярная армия, оснащенная тысячами танков и самолетов. После этих сообщений настроение снова у всех приподнялось.
Мы ждали, что скоро все изменится к лучшему и наша армия возьмет инициативу в свои руки. Мы ждали побед. Ждали, а побед все не было. Немцы по-прежнему продвигались вперед по нашей территории. А наши отходили все дальше вглубь России. Народ стал волноваться, появились сомнения. Когда же остановят немца? И почему это наши хваленые победоносные войска не могут остановить и немцы продвигаются очень быстро? Еще ни одна иноземная армия никогда не продвигалась по нашей земле так быстро, как немцы. А, может быть, у нас и армии-то не было? И все это было ложью? А может быть нас предали? А может быть наша страна и наша армия не так уж сильны, как нам писали в газетах и передавало радио? Тяжело и страшно смотреть на свою гибель издали. А мы, ее, эту гибель свою, видели и ощущали каждый день, регулярно. Слушая радио и сообщения, как наши войска все отходят и сдают все новые города. Вскоре стали появляться первые эвакуированные. Вид у них был потрепанный, лица усталые. Одежда от нарядной по тому времени (надо думать, что в спешке схватили самое лучшее в дорогу. Не оставлять же) до разных лохмотьев. Некоторые ухитрялись привозить с собой много хороших вещей.
'Первые беженцы' - так их называли старые люди или же 'эвакуированные', так звали их официально, смогли сразу же хорошо устроиться. Они без особых трудностей все получили работу и квартиры. Местное население отнеслось к ним с пониманием случившегося и принимало в них весьма активное и сердечное участие.
Первые эвакуированные не слишком заметили все тяготы эвакуации. Все они рассказывали страшные истории о зверствах гитлеровцев (хотя вряд ли кто из них взаправду видел живого немца). Люди, слушая их, от души возмущались поведением немцев, а некоторые слушатели даже сомневались в добросовестности рассказчиков. Они потом говорили, что такие страшные рассказы эвакуированные рассказывают, чтобы попозировать в роли героев и чтобы удивить слушателей. Все эвакуированные преимущественно были из евреев. Гитлер к ним питал какую-то особую, необъяснимую ненависть, и поступал крайне жестоко и несправедливо. Газетные сводки, так же сообщали о страшных жестокостях немцев к нашему населению. Не хотелось верить во все это, так были страшны эти рассказы. С каждым днем, этих беженцев прибывало все больше и больше. Стала ощущаться нехватка квартир, хотя работу находили для всех. Страх, голод и переживания сделали беженцев непохожими на всех других, то есть на нас, не эвакуированных. Кроме того, попав в чужие края в незнакомую для них обстановку, где живет другой народ с иными национальными и бытовыми особенностями, эвакуированные совершали поступки, которые не нравились местному населению. Начали появляться первые конфликты. Про эвакуированных стали распространяться некрасивые слухи, истории. У местного населения появилось предубеждение против них. Стали считать, что все мужчины воры или аферисты, а женщины-эвакуированные все легкого поведения. Среди них часто встречались очень красивые юноши и девушки. Лично я ничего дурного в эвакуированных не заметил. Они мне даже нравились. Многие из них нашли своих родственников. Так, недалеко от нашего дома жил мой друг Матвей Бродский. К ним из Украины также приехали родственники. У них стали жить мать и двое ребят. Одному лет 12 другому 17. Ребята были скромные, красивые и мы с ними сразу очень подружились. Старшего, моего ровесника, звали Борисом. Мы часто всей компанией ходили на прогулки. Ребята, глядя на наш гладкий климат, всему сильно удивлялись. Особенно ранним фруктам и овощам. Помидоры, дыни, арбузы, урюк, персики росли в изобилии и никем не охранялись. Ребята этому тоже были удивлены. У них все фруктовые деревья и огороды были огорожены и охранялись. У нас же урюк рос вдоль дорог. Однажды мы ходили на прогулку. Они бегали по посадке помидор, рвали их и ели без хлеба и без соли, хотя и не были голодными. Мы этому тоже молча удивлялись. Помидоры у нас не считались за лакомство или овощ достойный внимания. На привалах и в дороге Борис умел здорово рассказывать про войну и про немцев. Было интересно узнать о своих врагах из уст живого человека, который был чуть ли не на фронте. Хотя я не всему и верил и даже сомневался в том, что он видел живых немцев, рассказы были удивительнейшие. Особенно подробно и страшно Борис рассказывал о зверствах над нашими пленными. Мы возмущались. Борис сказал, что он ни за что не дастся им в плен. В подтверждение сказанного он вынул из кармана винтовочный патрон и сказал:
- Лучше застрелюсь. Вот, видали?
Мы все трогали этот патрон руками, а Васька даже понюхал. Потом с интересом и восторгом глядели то на Бориса, то на патрон. Этот патрон я выпросил у Бориса. Я ему сказал, что тебе он все равно не пригодится. Ведь винтовки-то у тебя нет. Да и фронт отсюда далеко. А мне, он может пригодиться. Ведь меня должны скоро забрать в армию. Мне тогда уже исполнилось 18 лет. Борис отдал мне патрон и я его спрятал как что-то очень ценное. В свободное время я стал усиленно изучать немецкий язык. Многие ребята из нашего класса также занялись зубрежкой немецкого. Авось пригодится.
На фронте шла грозная и неудачная для нас война. Здесь же, в Узбекистане, в тылу огромной страны слышались лишь ее косвенные отзвуки. Мужчины в большинстве ушли в армию на фронт и их, наших мужчин - ферганцев в городе как-то не стало видно. Зато появилось огромное количество мужчин эвакуированных. Всех возрастов, молодых и старых. Дети, старики, женщины. Город стал как чужой. Создавалось такое впечатление, что из города выехали все его старые жители и приехали новые, эвакуированные.
Стала остро ощущаться нехватка квартир. Люди стали вселяться в кладовки, курятники разные, коридоры, лишь бы была крыша над головой. Зато в магазинах как и до войны было все. Было в изобилии и, пока еще без очереди: хлеб, сахар, масло. Кроме того, южные базары, т.е. наши ферганские, осенью всегда завалены горами дынь, арбузов, яблок, персиков и винограда. Все это было тогда не дорого. Казалось, прогнозы стариков о нехватке продуктов в войну были напрасными. Особенно гордился мой отец. Он говорил:
- Ну что, видали? Я же говорил вам, что хватит у нас хлеба на сто лет! А то бабаня боялась, что соли не хватит! Эх вы! Пророки-предсказатели!
Однако в армии, по-видимому, была нехватка в одежде. Люди сдавали в фонд армии все, что могло быть полезным для солдат на войне. На приемные пункты приносили валенки, телогрейки, шапки, носки, белье, деньги. Население было настроено патриотически. Для победы готовы были отдать все, хотя и сами-то были не богаты и во многом нуждались. Это был настоящий, не фальшивый, патриотизм. А может быть это закон природы. Что все небогатые люди добры сердцем и готовы к самопожертвованию больше, чем обеспеченные. Ведь бедному человеку нечего терять, все равно у него ничего нет. Богатому же жалко расставаться с добром, счастьем, уютом.
Свои вещи люди несли на сборные пункты с гордостью. Так, чтобы всем было видно. Смотрите мол, какой я сознательный. В общем-то сдавали без особой жалости. Зато потом, когда возвращались домой, удивлялись. Куда же все это деваеться? Вся амуниция и солдатское снаряжение? Все то, что готовилось много лет подряд, и ради чего наш народ сознательно отрывал от себя многое. После такого патриотизма, в душе возникала горечь, досада, стыд, неверие. Некоторые жители брали к себе на воспитание отбившихся от своих родителей детей.
Однажды, моя мать была на базаре и привела оттуда девочку лет 2-2,5. Девочка была пухленькая, хорошенькая. О себе она знала только то, что ее зовут Дорой. Ее маму звали 'мамой', а папу 'папой'. Девочка на вокзале отбилась от своих родителей. Стояла на улице и плакала. Ее взял к себе местный житель из узбеков. Однако, позже она ему что-то разонравилась и он на базаре отдал ее моей матери. Девочка, увидев мою мать, сама потянулась к ней, по-видимому та кого-то ей напоминала. Мать была тронута этим и охотно взяла ее. Для нас всех девочка была вроде какой-то находки, как в сказке. Нам она сразу всем понравилась и мы без конца нянчились с ней, угощали вкусными вещами. Каждый старался как можно больше поиграть с ней. Мы все полюбили ее. Однако, наша радость была непродолжительной. Девочка играла на улице и случайно проходящая эвакуированная молодая женщина узнала в Доре свою сестру. Девочку пришлось отдать. Нам было очень жалко ее и мы некоторое время были все очень расстроены.
Таких, отбившихся от родителей детей тогда было немало. Все они нашли свой дом в детских домах. Государство о них хорошо заботилось. Некоторые, после войны, нашли своих родителей. Это одна из больших заслуг нашей страны, о которой не следует забывать.
С фронта по-прежнему поступали дурные сведения. Немцы со страшной быстротой продвигались к Москве. Они заняли Смоленск. Это было так страшно и ошеломляюще, что люди не хотели верить. Слушали передачи молча, не поднимая глаз, и, не разговаривая, расходились. Было стыдно, было обидно. Дома же только произносили: 'слышали? опять - Смоленск, Днепропетровск, Одесса'. Всем казалось, что бои будут идти на нашей старой границе, которую мы считали укрепленной. Думали бои будут за Смоленск, Бородино. Это же были исторические места, которыми наш народ гордился. Мы все ждали у этих мест поворотных моментов, а на поверку вышло пусто. Ничего. Люди боялись говорить между собой на эту тему. Было стыдно. Каждый хотел что-то сделать хорошее для облегчения наших фронтовых дел. Но что? Никто не знал, что нужно делать. И несмотря на наши переживания, война быстро неслась на восток. В сентябре 42г. бои шли уже под Москвой. Страшно. Необъяснимо.
В армию меня забрали десятого октября сорок первого года. Ждал я повестку в армию с самого начала войны. Долгие ожидания притупили первые горячие чувства военного психоза и на повестку военкомата все домашние и я сам реагировали как на что-то обычное и скучное дело. Было даже лень вытаскивать уже давно приготовленные для этого дела вещи. В военкомат пошел без особого подъема. Казалось, что и в этот раз не возьмут, а только посмотрят на тебя, чтобы ты не скучал и снова отправят домой. Такие случаи в то время были часты. Однако в военкомате сказали, что повестка окончательная и отправят обязательно. Куда не сказали.
Дома сразу все переменилось. Забегали родители и родственники. Приходили соседи и знакомые. Все говорили хорошие слова и давали умные советы. На дорогу бабушка зажарила курицу и приготовила блины со сметаной. Я их очень любил. Однако все были так сильно заняты сборами, что на торжественные проводы совсем не оказалось времени. До 3х часов я ходил по городу, в 4 надо явиться в военкомат и когда пришел домой, то успел только на ходу схватить блин. Скушал его без сметаны, чтобы бабушка не обижалась. Бабушка провожала меня до калитки дома. У нее болели ноги и она дальше идти не могла. Крепко меня обняв, она поцеловала меня трижды в губы и заплакала. Бабушка была не особенно верующей в бога, но напоследок перекрестила меня. Мне было жалко чего-то, и я едва не заплакал. Но чтобы не выдать себя, я что-то сказал шутливое по поводу религии. Было тяжело расставаться с домом. Провожать меня пошли мать с отцом. Когда я несколько отошел от дома, обернулся. Бабушка сидела на лавочке и вытирала фартуком слезы. Увидев меня, она энергично стала посылать рукой прощальные знаки. Чтобы не расплакаться, я отвернулся.
В военкомате царило оживление. Скучно стояли провожающие и весьма активно шумели призывники, отъезжающие. Нам мальчишкам тогда казалось, что поездка на войну должна выглядеть торжественно и солидно. Вроде посвящения мальчиков во взрослые. Почти все мы курили, а некоторые были выпившими. Многих ребят пришли провожать даже девочки. Девушка моего сердца также пришла в военкомат. Но она благоразумно распрощалась со всеми сразу. Помахала ручкой и ушла. Я не знал, что мне и думать. Хотелось, чтобы она меня немножечко выделила ото всех. Но увы, она ушла без сантиментов. Машин в военкомате не было. Сказали, что все на фронте, а нам предложили до вокзала добираться своими средствами. Дали нам запечатанный пакет. Билеты до Алма-Аты. Чтобы мы прибыли в двадцать вторую Алма-Атинскую авиашколу. Как только нам вручили пакет с сургучными печатями, сомнений больше ни у кого не осталось. Мы уже взрослые и воины. Едем на войну. Решили до Горчаново ехать на лошади, фаэтоном. Сели по четыре человека в фаэтон. Извозчика попросили ехать мимо нашей второй школы, где мы учились. Последние напутствия и вразумления родителей мы уже не слышали. Нам было не до них, у нас дух захватывало от того, что едем воевать.
Когда двинулись в путь, громко запели, чтобы всем было слышно. А чтобы нас также и видели, руками весьма энергично посылали прощальные жесты. Они предназначались как для родственников, а также и для всех тех, кто мог нас видеть.
Когда проезжали мимо школы, там шел урок. Школьники сидели за партами и чем-то занимались, некоторые смотрели в окна и разглядывали прохожих. Нам хотелось чтобы вся школа видела нас, чтобы все сразу заговорили о нас. Поэтому подъехав к школе мы завопили столь отчаянно, что многие невольно высунули головы в окна и удивлялись, что бы это могло значить. Наверное, некоторые все же догадались, так как мы не только кричали, но и прощально махали руками. Нас было человек восемь юношей. Все из разных школ. Из нашей были только двое - я и Дмитрий Коваленко. Мы были из одного класса, жили по соседству и были до некоторой степени друзьями. Другие же парни нам были знакомы мало и мы к ним приглядывались, а их шумное поведение заставляло обращать на них внимание. Были они самоуверенны. Держались смело и вызывающе. Те парни, которых пришли провожать девушки, открыто и пожалуй даже демонстративно с особым шиком у всех на виду обнимали девушек и вульгарно шутили. Потом, когда мы уже отъехали от Горчаново, парни пренебрежительно хвалились своими победами и про девушек говорили, что они все швабры, бабье.
Другие парни приставали к прохожим и особенно к эвакуированным. Говорили, что все это евреи, якобы они трусы сбежали от фронта и теперь прячутся здесь в тылу. Наши парни не щадили ни старость, ни женщин, ни детей. Всем доставалось. Может быть это даже приятно бывает. Ведь ни один старик или женщина, даже словесно, не пытались защититься. По-видимому, они действительно были перепуганы событиями более страшными, чем приставание к ним каких-то мальчишек. Мы с Дмитрием не разделяли мнения наших воинствующих сотоварищей, а некоторых пытались даже урезонить. Однако и мы получали отпор. Воители нас обзывали словом интеллигенция. Мамашины сынки. А иногда спрашивали нас - может быть мы сами евреи? Что было делать? Разве усовестишь такого словом? Они любят и признают только физическое превосходство. Они гордились своими поступками. Это им придавало еще большую силу. Нас было только двое, да еще мы стыдились, нам было стыдно за товарищей наших. Себя мы тоже проклинали за свое бессилие. Поздно вечером, с шумом и бравыми выкриками мы отъехали от Горчаково. Наблюдая за всем происходившем вокруг, я отметил про себя, что люди культурные и интеллигентные почти плакали при расставании. В дорогу давались разумные советы и пожелания быстрейшего возвращения. Те, которые были из людей попроще и которые демонстративно шумели, пили водку, приставали к людям и дрались. При проводах почти все громко плакали, много и слезно целовались. А некоторые даже как-то по-старинному, со слезами нараспев что-то причитали. Создавалось впечатление, что все эти люди не то чтобы были душевные или сильно чувствительные, а просто отвратительные. Люди показухи. Пусть мол все видят. Что и в нас тоже нуждаются.
( запись от 15.10.67)
Ехали мы в переполненных вагонах. Станции также переполнены. Больше эвакуированными. Все сидят на своих узлах и чего-то ждут. На станциях, как и в мирное время, продают жареных курей, холодец. Цены на продукты еще не поднялись. У кого есть деньги берут все, что можно купить. Большинство пассажиров продукты берут с собой из дома и покупают мало. Наши чемоданы тоже полны всякой едой. Едем буржуями, у нас почти у каждого жареная курица, колбаса, фрукты, пирожки, булочки. Когда мы кушаем, то стараемся, чтобы нас все видели. Все-таки мы были богаче других и у нас появлялось некоторое чувство превосходства. Недоеденное мы заворачивали в газету потом демонстративно бросали в окно или в угол вагона. Против нас, на верхней полке, ехал эвакуированный парень. Вещей у него не было. Денег и продуктов также не было. Когда мы кушали он смотрел на нас не отрывая глаз. Однако спросить покушать стеснялся. Потом, когда мы покушали, а недоеденное хотели выбросить, юноша робко попросил чтобы объедки не выбрасывали, а отдали ему. Один наш товарищ демонстративно пожадничал и все выбросил в окно. Он сказал: много вас здесь шляется. Воевать надо. Эвакуированный юноша промолчал. Мне было жаль юношу, а может быть мне хотелось исправить поступок товарища. Я взобрался на верхнюю полку, раскрыл свой чемодан и постарался насытить эвакуированного. Может быть так устроена молодость, но мне было стыдно своей жалости. И я угощал юношу весьма небрежно. Хотя я очень хотел чем-нибудь помочь пареньку. Видя, что я человек не злой и не жадный, она рассказал мне как бежал из Латвии. Родителей убили немцы, а сам он сумел убежать. Куда он едет, сам не знает. Лишь бы подальше. Нет ни денег, ни вещей, ни знакомых. На вопрос чего он кушает, парень не ответил. Только рукой махнул. Он был голоден. Эвакуированных было очень много. Ехали мужчины, женщины, дети. Ехали семьями и одиночки. В основном это были евреи. Были эвакуированные и русские, но их было меньше. Русские будучи похожими на других европейцев сливались с общей массой, были не заметны. Их принимали их за своих, местных.
Природа человека устроена интересно, а порой и трудно объяснима. Нам казалось, что мы все патриоты своего государства. Ради своей Родины мы готовы были пойти на любые трудности. Однако, столкнувшись с эвакуационными затруднениями, народ стал роптать. Если первые партии эвакуированных вызывали интерес и их принимали хорошо, то уже последующие встречались почти враждебно. Их обвиняли в том, что они не желают защищать Родину. Вместо того, чтобы идти на фронт, все евреи в страхе бегут и прячутся в тылу. Якобы они страшные трусы, жулики и предатели. По-видимому, люди не понимали или делали вид, что не понимают логики вещей. Ведь тот, кто бежал от немцев не мог быть их другом и нашим врагом. Они бежали потому, что были врагами немцам. Немцы убивали всех евреев. Сохранив свою жизнь и здесь в тылу собравшись с силой, позже, они смогут нанести ответный удар возмездия. Так оно и было.
Те же люди, которые остались на оккупированной территории, наверное, не боялись немцев, а может быть были их друзьями. Не могли они наверное принести и нам пользы, а мы их очень жалели. Эти грубые размышления, мои собственные размышления к частному случаю. Они ни в какой мере не отвечают жизни и действительности. Размышления, которыми могли пользоваться недостаточно честные и солидные люди, или обыватели. Однако не смотря на всю неправильность моих рассуждений, наше правительство нашло в них истину. Все те, кто не смогли или не захотел эвакуироваться, после войны долгое время носили клеймо позора. Был в плену, проживал на оккупированной территории и т.д.
В Алма-Аты мы приехали утром. Отличный современный вокзал был полон народа. В основном это были эвакуированные. В привокзальной военной комендатуре нам объяснили как добраться до нашей авиашколы. Город имел резкие контрасты в архитектуре. Низенькие, старые деревянные домишки стояли рядом с шикарными современными, советской постройки зданиями. По улицам на волах ездили усатые возчики. Они сидели на длинной телеге, били волов палкой и покрикивали 'чоб-чобе'. На базаре в арбах было много очень больших красивых яблок. Под арбами сидели старого украинского вида дядьки и курили люльки.
Климат в Алма-Аты прохладнее, чем в Фергане. Воздух чист. По обочинам дороги и у домов растет крапива. Для нас это было удивительным. В Фергане мы не знали, что это такое крапива. Там она не растет.
В авиашколе мы встретили много наших школьных товарищей. Тех, кого призвали несколько раньше нас. Они уже самостоятельно летали на самолетах У-2.
Когда мы хотели зайти в казармы, где жили наши товарищи, нас не пустили. Строгий дневальный страшным голосом заорал на нас.
- А ну назад, лапотники! Не хватало еще от вас грязи! - и весьма решительно выпроводил нас обратно на улицу. Это было наше первое впечатляющее знакомство с воинской дисциплиной.
В авиашколе мы пробыли около двух месяцев. После чего нас всех, то есть тех, кто прибыл позже, перевели в связь. Наша казарма находилась в помещении какого-то бывшего техникума у головного адыка.
Порядки здесь были истинно военные. Если в авиашколе с нами обращались хоть отдаленно похоже как с людьми, то здесь разговор к нами был короток. Муштра была первым и главным нашим занятием. Команды резкие, выполнения четкие. Малейшее замешательство или нечестное выполнение команды сулило наряд вне очереди. Дни потянулись однообразные, скучные и трудные. Подъем в 6 часов и отбой в 11 часов. Солдатский труд по 14 часов без привычки был труден. Было так трудно, что некоторые желали бы родиться лошадью или ишаком. Все-таки скотину жалеют. Дают ей пищу, отдых, кров. А что солдат? Никто его не жалеет. Хуже скотины у плохого хозяина. Бесконечная перегрузка физических сил, окрики, наказания в виде добавочных работ за счет сокращения сна. Было трудно. Чтобы избавиться от всего этого, солдаты говорили: скорее бы на фронт. На фронте нет муштры, по крайней мере. Начальники становятся добрее. И кормят тоже получше. Жизнь свою мы ценили не слишком высоко, а потому не боялись фронта. Бывалые солдаты говорили, что самое трудное время в армии - это первый год службы. Солдаты от усилий и непривычки худеют, зато на второй год службы бывает даже приятно. Солдаты набирают в весе, сильно мужают и привычка к армейскому режиму становится необходимостью.
Из нашей казармы можно было любоваться отличнейшими видами окрестностей Алма-Аты. Город расположен в окружении высоких снежных гор, которые зимой и летом светятся своими белыми, нетающими снегами. Поближе к городу находятся более низкие горы без вечных снежных вершин. Зато эти ближние горы покрыты лесами и многим множеством ярких альпийских цветов. В летнее время в горах совсем не жарко. А причудливо изгибающиеся горные деревья придают окружающему миру то впечатление, которое получаешь при рассматривании открыток с видами Японских пейзажей. Отличные там места. При каждом удобном случае я всегда любовался этими красотами. От окружающих окрестностей веяло чем-то родным и уютным, вселяющим в тебя тишину и душевный покой. Можно было бесконечно любоваться богато одаренными красотами окрестностей. И я любовался. Я мечтал о том дне, когда смогу по собственному усмотрению сколько угодно и как угодно проводить свое время на этих красотах природы. Сейчас же забор казармы невысокий и смотреть поверх его никому не возбраняется.
Однажды меня назначили в наряд на кухню. С первого взгляда работа на кухне вроде бы и не трудная. Там можно покушать досыта, а главное, будешь избавлен от муштры и окриков. Так я думал. Думал так потому, что никогда раньше с кухней не сталкивался. На нашей кухне всеми делами распоряжался молодой солдат лет двадцати на вид. Вид у него был неказистый. Рост маленький, сам худенький. Голос резкий и визгливый. Он производил впечатление какого-то недоделанного и что он по непонятной случайности как-то попал в армию. Видно этот парень и сам понимал, что до грозного воителя он не дорос и потому, чтобы все-таки быть этим всамделишним воином, он компенсировал все недостатки твердым характером и голосовыми связками. По всякому случаю повар говорил:
- Что? К теще в гости на блины приехал? Вот я скажу про тебя старшине, он тебе даст! Пусть только обед не сварится во время! Ты у меня потом будешь знать, где раки зимуют!
Труд на кухне оказался адский. Только непонятно, почему начальство думает, что всякий солдат, непригодный к строю, бывает хорош на кухне? Так и этот паренек. С постели вставал раньше всех. Ложился спать позже всех. А чаще всего и спал-то здесь на кухне. Весь день на ногах и бесконечно в работе. Единственно, чего он выгадывал, так это то, что ел досыта. В те трудные времена этот момент был важным мотивом и не смешным, как кажется теперь. Были и у него отрадные моменты. В жизни как-то так устроено, что самому старшему начальнику не приходится много трудиться. Он есть руководитель. И действительно. Некоторые умеют очень здорово рукой водить, да чаще все в свою сторону, к себе в пользу. Так и здесь на кухне. Был шеф повар которого мы не видели. Он давал указания поваренку и уходил. Поваренок же, его заместитель, разрывался на части, чтобы угодить шеф-повару и не оказаться вне кухни. Он думал, что на кухне ему вся война пройдет. И он старался. Нам тогда казалось, что повар не замечал безделья шеф-повара специально чтобы быть хорошим. А шеф-повар по этой причине не вмешивался в дела помощника. Это так нам только казалось тогда. Внешне. Если мы, солдаты, дежурившие на кухне, почти не видели шеф-повара, то уж его помощника чувствовали здорово. Это нравилось ему.
Почти всю ночь до утра мы чистили картошку, а ее было мешков двенадцать. Резали лук, мясо. Без привычки на руках сразу же к середине ночи появились кровяные мозоли. Каждому дали норму. Чуть отстанешь от других, так сразу появится повар. Крик шум, брань. Чтобы ты не ленился, тебе за это добавят еще картошечки. Повар при этом говорил:
- Вот тебе еще, не стесняйся! Труд воспитывает человека. Мы здесь в армии делаем из вас понятливых ребят. Потом благодарить будете!
К утру сильно хотелось спать. Спасало то, что была бесконечная работа. Все время были в движении и потому не валились где попало. Утром завтрак. Мытье посуды и снова работа по приготовлению обеда. 3 часа дня. Обед. Обед разливал в миски повар самолично. Время было трудное. Посуды не хватало и недостаток ее компенсировали чем попало. У нас тарелки заменяли банными тазами. В цинковый таз наливали первое или второе на 6-8 человек. Солдаты становились с ложками вокруг таза и кушали. Ложки носили всегда при себе в голенище сапога. Суп в тазу был горячий, а мы всегда голодны. Ожидать пока остынет суп было невозможно. Были люди которые могли кушать еду любой температуры. Потому, чтобы не остаться голодными мы жглись, но кушали. В общем-то до некоторой степени старались соблюдать корректность друг к другу. Кушали так, чтобы и голодным не остаться и замечания от товарищей не получить по причине твоей спешки. Бывало и так, что некоторые заметно увлекались едой. Они сразу же осаживались сотоварищами по тазу. Ему кто-нибудь говорил:
- Смотри как старается! Был бы ты на работе такой! Вот жрет!
И увлекшийся, затаив обиду, урежал священнодействия ложкой. Со временем тазы заменили тарелками и это было облегчением. Облегчением как физическим так и моральным для нас.
Сегодня первые порции обеда повар начал разливать сам. Потом, внимательно осмотрев нас, подозвал меня.
- Смотри, - сказал он, - вот столько будешь наливать в тарелку на одного человека, а вот столько в таз на шесть человек. Будешь раздавать обед.
Я вначале не поверил. Чтобы мне, ничем не заметному солдату, да еще такому молодому, на кухне доверили разливать обед? Ведь еще сегодня ночью у кухонной печи старшие по возрасту солдаты смеялись надо мной. Один сказал: 'Расскажи-ка, сынок, как ты плакал по мамке своей когда тебя брали на службу?' И вот вдруг такое доверие. Мне пришлось разливать обед также и тем солдатам, которые сегодня ночью вместе со мной работали здесь на кухне. Им это доверие повара ко мне сначала не понравилось. Посыпались злые шутки. Но стоило мне, только опустить большой половник в котел, как лица моих сотоварищей сразу озарились лаской. Вместо злых шуток в мой адрес, кухню огласили приятные изречения подхалимажа. Что делает с людьми голод! И какова его непобедимая сила! Я, конечно, старался казаться парнем своим и понимающе зачерпывал из котла для друзей самое вкусное. Так с помощью половника супа установилась между нами молчаливая, глубокомысленная дружба. Сегодня уже никто не смеялся надо мной. Над моей молодостью. Солдаты, что пришли с полевых учений прямо на дворе, под открытым небом, повзводно усаживались за грубые, наспех сколоченные длинные столы. Если на дворе был дождь или снег, то все это падало прямо на столы, на солдат, в миски с едой.
Наше начальство говорило нам, что такая плохая погода очень полезна для солдата. Солдат при плохой погоде хорошо закаляется. На войне бывает много хуже. И чтобы можно было все это вынести в будущем, надо закаляться в настоящем. 'Тяжело в учении, легко в бою' - говорил Суворов. И действительно, солдаты здорово привыкали к подобным трудностям и позже на них уже реагировали мало. Вот и сейчас они пришли уставшие. На спинах гимнастерок выделялись беловатые налеты соли от пота. Солдаты, действительно уставали сильно. Однако здоровый организм и молодость делали нас только более энергичными. От нас исходила сила, здоровье, молодость, задор кипучей жизни. Попробуй, сравни с солдатом штатского человека. Различие будет. В день солдату приходилось вышагивать километров по двадцать. Спали по шесть часов в сутки. Ели умеренно, чтобы не ожиреть. И никогда ни с кем ничего не случалось. Даже прежние больные чувствовали себя здоровыми.
Обед длился тридцать минут после чего подавали команду встать и солдаты, снова выстроившись, шли с песнями домаршировывать оставшуюся часть дня и недохоженные километры. Мы же, дежурные по кухне, собрали после обеда посуду. Мыли ее и готовились к ужину.
Я был доволен собой. Внимание повара благоприятно подействовало на меня. Я ходил по кухне красный от удовольствия и жары. Лицо мое сияло. Мне казалось, что я сделал что-то хорошее, похожее на подвиг и меня обязательно заметят, как хорошего солдата. Ведь на кухне было переработано несколько бараньих туш много мешков картофеля, риса и лука. Ведь это что-нибудь да значит. Живя дома, я видел, как моя мать готовила обед в небольшой кастрюле. На обед уходило несколько картофелин, горсточку крупы и немного мяса. Но чтобы можно было одновременно варить несколько баранов или сразу целиком корову, а картофель и крупа измерялись мешками - этого я раньше никогда не видал. Когда ужин был готов я уже так устал, что едва держался на ногах. Сильно хотелось спать. Думал, что после ужина нас сразу отпустят в казарму отдыхать. Однако ничего подобного не последовало. Откуда-то появился сам шеф-повар. Он начальственным голосом прорычал:
- Это вы чего здесь прохлаждаетесь? А кто за вас будет посуду убирать? Может быть я? Скажите! А ну живо, лодыри!
Солдаты встали со своих мест и виновато понурив головы, пошли собирать оставшуюся на столах после ужина посуду. Нехотя пошел и я. Лицо мое больше не выражало оптимизма. Собирать со столов грязную посуду, а потом мыть ее в теплой воде совсем было не героическим. Посуды же было несколько сот тарелок и много оцинкованных тазов. Благо не было ложек. Ложку солдат носит с собой и никогда с ней не расстается. Наконец наше дежурство на кухне закончилось. Когда мы выходили с кухни, то у каждого в кармане или где-то вдали от кухни в укромном местечке были спрятаны про запас на черный день сахар, мясо или, что-нибудь другое из съестного. Я же, будучи человеком неопытным и непредусмотрительным ничего с собой с кухни не взял. Я был рад концу работы и предвкушал сон. Здорово хотелось спать.
До отбоя оставалось еще часа два и в это время солдаты занимались так называемыми личными делами. Однако часов в восемь заиграл 'горн'.
Мы повзводно выстроились. Комвзвода сделал перекличку, а потом сказал, что ночью будет поход. Это называлось - 'сквозная ночь'. Для меня же это будет вторая бессонная ночь. Предполагалось, что поход будет на двадцать пять километров. Я еще не знал, что это за такая 'сквозная ночь'. Однако предчувствуя, что вместо сна придется маршировать, начал доказывать свою правоту, свое право на заслуженный сон. Из этого ничего не вышло. Начальство приказало стоять в строю молча и разговаривать тогда, когда тебя спросят. Поскольку никто со мной не собирался разговаривать, то мне пришлось оставаться в строю и выполнять дальнейшие предписания сквозной ночи. Вскоре последовала команда шагом марш. Вся казарма с песнями отправилась в поход, пыля дорогу и звонко отстукивая сапогами в такт песни. Повзводно выходили за черту города. Стемнело. Хотелось спать. Колонна вскоре длинно растянулась. Появились отстающие. Я все время шел в строю, стараясь держаться своего места. Однако спать хотелось очень сильно. Я ничего не мог поделать с собой. Глаза сами закрывались. Я пытался вспомнить все прочитанные книги, где описывались способы, с помощью которых можно было бы без последствий спать на ходу и ничего не мог вспомнить. Я начинал то отставать и на меня наталкивались идущие сзади, то шел быстрее других и сам сбивал идущих впереди себя. В каждом случае получал либо по спине от идущего сзади или что-либо похожее спереди. Мне помогали проснуться как словом так и делом. Однако все старания соседей были малоэффективны. Сон одолевал, глаза закрывались сами.
Конечно, кавалеристам проще в этом случае. Сиди себе в седле и похрапывай. Лошадь-то не уснет в строю! Все-таки должен быть способ и для пехоты. Только я его не мог вспомнить. Я спросил об этом соседа слева, тот, немного подумав, сказал: есть такой способ. Ему еще его дед рассказывал, как он спал в старину, в турецкую войну. Только сам сосед тогда был маленьким и сейчас не вспомнит как его дед спал в строю. Значит способ такой есть, - подумал я. Только как это? Чтобы идти в строю и спать? Неожиданно перед глазами появились сладкие видения. Исчез строй, исчезла 'сквозная ночь'. Я заснул. Спал я или нет, было непонятно. То, что я лежал на земле и меня кто-то ругал и кто-то смеялся, было ясно. Подвела обмотка. Она размоталась. Кто-то наступил на нее и я шлепнулся. Делать было нечего. Обмотку надо подмотать.
Пока я сидел на обочине дороги и расправлялся со злополучной обмоткой, строй успел отойти на некоторое расстояние. Его в темноте было уже не видно. Было слышно как колонна повернула куда-то влево. Я тогда подумал: зачем это я буду догонять их. Будет ближе если срежу угол напрямик, по полю. Ночь была темная. В десяти шагах уже было нельзя различить предметы. Я пошел не по дороге, срезал угол и двинул по полю. Прошел неровности небольшого перепаханного поля, обошел какие-то кусты и внезапно очутился перед невысокой деревянной оградой. Ограда была деревянная, обходить ее было лень. Было непонятно, что это такое. Где ее начало и где конец. Недолго думая, я ухватился руками за верхнюю доску и быстро очутился на самом верху. Ограда была невысокая и я без риска ушибиться спрыгнул на землю. И в этот самый момент раздался душераздирающий сверлящий уши визг. Что-то мягкое вскочило с земли и начало носиться вокруг меня.
Я сразу сообразил, что спрыгнул-то я не на землю, а на живое существо. Попробовал встать на ноги и прыгнуть обратно через ограду. Однако мгновенно был сбит с ног, во множестве ушиблен и оцарапан. Конечно сразу всего этого я не почувствовал и по-прежнему продолжал попытки выскочить из загородки. Сон исчез мгновенно. Лежа на земле, определил свое положение. По не слишком большой загородке с визгом и хлюпаньем носилась еще в большем страхе, чем я, перепуганная, свинья. Переждав когда свинья отбежала в дальний угол, я в одно мгновенье перескочил через загородку и очутился во дворе какого-то дома. Откуда-то с лаем выскочила собаченка. Близко она не подходила. Зато издали лаяла с таким остервенением, что разбудила хозяев. В доме зажгли свет. Дело мое осложнялось. Меня могли принять за вора и последствия встречи с хозяином были бы не в мою пользу. Очутившись вне свинарника, я с определенным достоинством бросился со двора. Дверь в доме открылась и в раскрытую дверь, насмерть перепуганный ворами, кричал хозяин:
- Возьми его, возьми! Сейчас я его!
По-видимому, дальше раскрытой двери хозяин выходить тоже боялся. Его голос слышался достаточно громко, хотя и звучал он со страхом как будто из бочки. Я успел отдалиться от злополучного дома настолько, что собака дальнейшее преследование сочла нецелесообразным. Она лаяла уже где-то издали. Хозяйский же голос звучал более уверенно. Он звал к себе собаку, которая никак не хотела расставаться с нарушителем спокойствия. Мне слышно было как передними лапами, а может быть и задними собака храбро гребла землю. Прошло еще некоторое время и все стихло. Наверное, в эту ночь в доме свет больше не гасили. Я же отбежав от злополучного дома оказался совсем в незнакомой местности. Вокруг была плотная тьма и совсем не было никаких признаков дороги.
Километрах в пятнадцати ярко мерцали огни незатемненного, большого, тылового города. Но как к нему добраться, где дорога? Куда идти? Я стоял, как сказочный богатырь, на распутье дорог. Пойдешь направо - заблудишься, пойдешь назад - попадешь в дом с перепуганной свиньей, злой собакой и бодрствующем хозяином. Пойдешь на огни - попадешь в город, в свою казарму. Я пошел на огни.
Немного полазив по пашне кустам и каким-то неровностям поля я вышел на обычную уезженную и пыльную дорогу. Дорога была той самой, по который мы шли в поход. Ее можно было узнать по дорожной пыли, не дававшей нам дышать. Правда? пыль уже успела улечься и если я ее сейчас не чувствовал своим носом, то мои ноги сигналили мне о ней, когда утопали в пыли выше солдатских ботинок. Домой было идти веселее. И еще до рассвета, совсем незаметно для себя, я вошел в город. Конечно, я боялся, но не воров и не разбойников, а свое начальство. Город был хорошо освещен. Изредка встречались одинокие пешеходы. Кое-где у магазинов, стояли сторожа. В центре города, в самом освещенном его месте, ко мне подошли ldf парня. Я было хотел вежливо уступить им но они загородили мне дорогу.
- Стой? Куда идешь? - спросили парни.
- Домой, - ответил я.
- Откуда идешь?
- Из похода.
Парни быстро и ловко обыскали меня. Я не мог понять, кто они такие. Вор - не воры. Милиция, не милиция. Убежать мне от них или ждать дальнейших событий? Я решил ожидать. Спросили документы. Я сказал, что их у меня нет.
- Где живешь?
- В казарме, - сказал я.
- А! Значит ты военный?
- Да, военный.
- Почему одет не по форме? Почему бродишь один среди ночи?
Посыпались вопросы. Потом неожиданно для меня, парни одним махом выкрутили мои руки за спину и я даже сообразить ничего не успел, как меня куда-то потащили. Я не шел, а почти летел по воздуху на их руках. Так они здорово в меня вцепились. Я считал себя ловким и спортивным парнем. Я всегда удачно отбивался в играх от своих товарищей. Мне казалось, что и на войне и от разбойников я сумею отбиться. Однако, в данном случае, моя воля была парализована. Я даже не пытался сопротивляться. По-видимому все это было потому, что я не знал, кто это были такие, а потому инстинкт самосохранения работал в сторону инстинктивного подсознания, что смирных, да сговорчивых не обижают, т.е. лежачих не бьют. По-видимому это было древнее биологическое чувство самосохранения всех живых существ. Я это часто наблюдал среди животных, в частности собак. Когда одна из собак сочтет себя слабой и ляжет на спину вверх ногами, то другая, победительница, ее не кусает. Наверное и со мной это же произошло. К моему счастью, навстречу нам шел наш батальон, который уже возвращался из похода.
Переговорив с нашим комбатом и посоветовав дать мне пару нарядов вне очереди, парни отпустили меня. Я благополучно вернулся домой в казарму. Наше начальство видимо само хотело спать. Никто ни о чем меня не стал спрашивать. Я же, спрятавшись под двухэтажные нары, сумел до рассвета никем не замеченный около часа поспать. Утром начался новый трудный солдатский день.
Все в жизни бывает относительным и все познается в сравнении. Солдатская тяжелая служба тоже явление непостоянное. Трудно вначале, пока не привыкнешь. Потом же, со временем, когда втянешься в ритм жизни, станет легче и все то, что раньше казалось непосильным, становится обыденным, заурядным. Так и мы, молодые юноши, солдаты. Первое время уставали, осунулись и погрустнели. Наши мамы наверное не узнали бы нас и пролили бы много слез глядя на своих вымученных сынов. Однако ничего ни с кем не случилось. Мы вошли в ритм жизни. Бывшие трудности сами перестали замечать, а наше начальство нас перестало судить так строго, как вначале. Жизнь пошла веселее. Появились свои радости. Служба постепенно стала становиться даже интересной. Солдат редко кончает службу там, где ее начал. Чаще пока окончит ее побывает во многих городах страны. Новые места, новые люди, новые впечатления.
И к концу службы все взгляды и понятия на вещи меняются. Начав службу со слезами и муками, кончишь ее бодрым и жизнерадостным. Служба в армии заключается не только в муштре налево и направо. Мы также ходили в кино, в театр и даже в оперу. Оказалось, большинство из нас никогда не бывало в опере. Однажды мы слушали 'Евгений Онегин'. Солдаты были молоды, по образованию разношерстны, а потому ничего не поняв, потом ругались. Зачем повели смотреть такую плохую оперу. Половина солдат были восточного происхождения и им естественно опера казалась явлением чужеродным. В большей мере мы справились с оперой 'Кармен'. На этот раз уже никто не ругался.
Наша воинская часть называлась 146 ОБС. Это означало: Отдельный батальон связи. Были в нем радисты, телеграфисты и телефонисты. Кто из нас был важнее на войне, трудно понять. По идее, да и нам самим казалось, что радио должно было быть главным, как наиболее современное, и автономное средство связи. Однако, на деле было все иначе. Почти во всех случаях телефон был незаменим. Наши радиостанции находились в специальных автомашинах, это более мощные радиостанции. Другие же, поменьше и послабее носились солдатами за плечами. На занятиях и на учениях мы ими пользовались умело и пожалуй даже безотказно. Телеграф служил для связи с Москвой и крупными штабами. Работать на нем было спокойно, а иногда и скучновато. Зато телефон был универсален и почти незаменим. Работа на коммутаторе в штабе дивизии была адом. Рассказать трудно, чтобы хорошо понять. Надо поработать самому. Особенно это сказывалось на фронте. Там телеграф и радио существовали почти только для проформы. Ими почти никогда не пользовались. Поэтому вся связь ложилась на телефон. Связисты в батальоне были в основном советской молодежью. Образованные, патриотически настроенные, энергичные. В большинстве нам было по 17-18 лет. У многих ребят родственники остались на западе, где были немцы. Они трудно переживали свою разлуку. Боялись за судьбу своих близких и рвались на фронт. Эти солдаты были мобилизованы на рытье окопов, но по мере приближения фронта их эвакуировали в тыл и они очутились в армии. Наш климат, местный народ, наши порядки и все с чем они сталкивались им не нравилось. Другая часть солдат были людьми взрослыми, т.е. уже пожилыми. Были они злобны, ленивы и малообразованны. Нам молодежи, от них часто незаслуженно попадало. Эти старые солдаты разговаривали каким-то старым несовременным языком. Многие говорили: Телехвон, порхвель, чаво, куды. Однако, несмотря на всю нашу разношерстность, работа шла дружно.
В части не было скандалов, не было видимой неприязни между солдатами, или недоразумений на национальной почве. Говорят, что когда в одном доме, в школе или в казарме объединяются люди одной нации то они живут дружнее. Мне подобное не встречалось. Приходилось наблюдать как раз обратное. Люди одной нации, находясь в тесных житейских отношениях, имеют много общих интересов и потому столкновения этих интересов приводят к недоразумениям. Эти же расхождения во взглядах на вещи среди разных национальностей редко приводят к столкновениям. Люди как-то сами по себе проявляют определенное понимание вещей и терпимость. Мы как-то не замечали недостатков у солдат других национальностей и солдат пожилого возраста. Нам казалось, что все это так должно и быть. Зато когда сходились солдаты одногодки по возрасту и равные по образованию, когда между ними намечались разногласия во мнениях, спор проходил весьма остро. Подчас, чтобы его прекратить требовалось более авторитетное вмешательство. Спор внешне прекращался, но внутри каждого еще долго тлели горячие угли, готовые в любой момент разгореться в еще больший пожар.
Пожалуй в нас в каждом горел огонь молодости и силы. Огонь, который ждал момента чтобы столкнуться с горючим материалом и попробовать свои силы. Этот огонь приглушался негорючим материалом, т.е. людьми пожилыми и другими национальностями. Это не значит, что между собой старики не находили интересов, чтобы не разгореться и не поспорить. Бывало, да еще как! Чаще всего они (т.е. старики) сходились в том, что молодежь теперь пошла не та. Вот бывало, раньше, когда они были сами молодые, вот это да, тогда молодежь была стоящая! А что теперь? Куда они годны? Некоторые даже плевались, чтобы было убедительнее, какая теперь пошла молодежь. Однако, мы на них самих и на их разговоры почти никак не реагировали. Это звучало еще больше чем подтверждением сказанных ими заключений. Мы их, стариков, наверное боялись и потому с ними не спорили. Иногда, когда бывало хорошее настроение, кто-нибудь из 'плохой' молодежи им отвечал:
- Эх ты телехвон!
У ребят других национальностей, у юношей востока, видимо, не было острых моментов для споров и рассуждений. Они как-то беседовали всегда спокойно. Речь у них лилась монотонно без повышения голоса и возражений. Их беседы напоминали старые добрые времена мирного времени. Сидит бабка на печи с внучатами и тихо, весь вечер, при ночнике, монотонно рассказывает что-то своим внучатам. В споры с русскими они не вступали. Они как-то мирно обходили все острые моменты, и было нельзя обижаться на них. Восточные ребята были людьми воспитанными и услужливыми. Особенно предупредительны со старшими по возрасту. Однако, если восточных ребят было больше европейских, то они бывали тверды в своих действиях и непреклонны. Они были очень дружны между собой и всегда поддерживали один другого. Среди нас же европейцев всегда бывала какая-то недружелюбность. Иногда бывало трудно сразу понять мотивы тех или других поступков. Также было трудно без рассуждений понять, что хорошо и что плохо. Было ли хорошо, что мы горячо спорили на разные темы и иногда по этой причине ссорились? И было ли хорошо то, что восточные ребята не находили причин для споров и жили мирно? По-видимому на наше поведение влияло различие интеллектуальных качеств, а может быть, на нас влияли наши национальные особенности. Об этом можно много говорить. Но в общем-то, европейские юноши были более развиты, обладали большим общеобразовательными познаниями и держались более непринужденно и независимо. Однако, все это сказанное не означает того, что азиатские ребята были менее сообразительны. Говорят, что ученых много, да умных мало. В решении индивидуальных задач они были изобретательны, инициативны и к решению вопросов иногда подходили весьма оригинально. В отношении храбрости вся молодежь была достаточно решительна. Старички же подчас плошали. Их многое связывало с жизнью. У каждого, дома осталась семья, дети, нажитое трудом имущество. Трудно было расставаться со всем этим и с жизнью. У молодежи ничего этого не было им нечего было терять, кроме своей жизни. Цены своей жизни мы не знали, ибо и жизнь-то свою мы только начинали.
Армейская жизнь и все ее порядки заметно отличаются от гражданских. Молодому человеку, привыкшему к свободе своих действий и мнений в гражданке, в армии сразу как бы подрезали крылья. Больше того, создается впечатление, что тебя посадили в клетку. Тебя одевают, кормят, дают возможность выспаться. Но за всем этим каждый твой шаг предупреждает железная дисциплина. Без разрешения начальства ты не можешь сходить в город, лечь отдохнуть, почитать книгу и даже сходить в уборную. Может быть это даже очень хорошо для армии. Ведь вся сила армии кроется в ее дисциплине и единоначалии. Чтобы было с армией и государством если бы каждый военнослужащий позволял себе действия какие он сам пожелает? Единоначалие и твердая дисциплина для всех, вот эта сила, которая способна побеждать. Плох или хорош начальник, но он - хозяин. Это голова многотысячных людских объединений. Голова, цементирующая туловище, состоящее из множества живых людей. А эти живые люди, видя на своих плечах голову, уже существуют как армия. Если существует армия, то уже можно воевать.
У нас в то время было сразу по две головы. Какая из них старше, мы толком не знали. Был один командир части и еще один политрук. Кто был из них старше, я и до сих пор не знаю. Для нас, солдат, самым грозным начальником был какой-нибудь сержант или старшина. Они всегда были рядом с нами и всегда все видели. Все взыскания мы получали от них. Твердость решений начальника есть половина победы. Если начальство начинает колебаться и это замечает солдат - победы не будет. Нам тогда казалось, что наши командиры не особенно решительны. В их действиях проглядывали двусмысленная нерешительность и подчас непонятная жестокость. По-видимому, это было потому, что две головы редко могли прийти к одному мнению, не соперничая. Если же и приходили к согласию, то всегда кто-то брал верх, кто-то уступал. Оставалось нездоровое чувство реванша. Всегда было удобно любую неудачу свалить на кого-то, на своего соперника.
Солдату в армии рассуждать не положено. Солдат должен выполнять приказы. Но мы иногда все-таки размышляли про себя. То, что ежедневно с нами проводили беседы политруки, казалось нам каким-то недоверием к нам, нас пытались уговорить стать патриотами, в то время как мы сами горели желанием проявить на деле свой патриотизм. Нам от всего этого становилось скучно, жизнь становилась серой и постылой. Появлялось непонятное чувство неудовлетворенного оскорбления и поруганного (чувства) патриотизма. Все это происходило, по-видимому, от того, что наши политруки были людьми малограмотными, и все их усилия вызывали в нас чувства подвоха. Мы себя чувствовали учениками десятых классов, которым пытается преподавать учитель с семиклассным образованием или, еще лучше - колхозник. Политбеседы проходили скучно и многие на них, особенно старики-солдаты, дремали. Наши старшие командиры так же при себе имели политруков. Мы размышляли по этому поводу, что наверное и им, нашим командирам, не доверяют. Потому к ним приставили политических руководителей.
Я же сам лично к ним относился равнодушно. Мне они даже нравились. Все-таки командир всегда был строг. Он не любил разговаривать с солдатами. Комиссар же, наоборот. Был мягок, всегда старался пояснить, что к чему и это смягчало суровость армейского быта. Я думал так: в старой армии были попы, для душевного успокоения. У нас есть комиссары и политруки. Какая разница? Лишь бы убеждали. Разве это плохо? Я тогда был молод и все воспринимал по-своему. Может быть даже по-детски. Я не берусь обобщать некоторые факты. Они - лишь отдельное мнение одного единственного человека. Мое собственное. Человека, песчинки в океане человеческих настроений, мнений, судеб. Но раз такой человек был, если он что-то подмечал и как-то реагировал на бывшие факты, значит это действительно было.
Был у меня друг. Мишка Ивановский. Высокий, красивый блондин на полметра выше меня ростом родом из Немирова. Был он бесхитростным, веселым и откровенным другом. Часто мы с ним делились своими наблюдениями. И удивительно, наши мнения почти всегда сходились. Где он теперь и жив ли этот хороший человек и хороший товарищ?
Настроен он был весьма патриотически, честен как ребенок, а это уже почти верный ориентир для суждений. Думаю, что ориентируясь на него, смогу правильно понять моменты прошлого и отношение самого себя к этим событиям.
Экипированы мы были весьма бедно. Наверное по причине трудности момента. Рваные, засаленные и залатанные бушлаты были выданы не по размеру. Потому сидели они на нас самым живописным образом. На ногах рваные ботинки и обмотки. Обмотки доставляли много хлопот. Особенно по утрам и во время учебных тревог.
Однажды меня взяли в штаб нашей части писать какие-то бумаги. Я считался солдатом грамотным и для писарской работы подходил. Бумаги пришлось писать далеко заполночь. Когда работа кончилась и нам разрешили идти в казарму спать, то предупредили, что сегодня ночью будет учебная тревога. Но сразу же успокоили: они обещали доложить моему начальству, чтобы меня не тревожили. Я поверил. Придя в казарму, спокойно улегся спать. На этот раз наша казарма находилась в Самарканде. В помещении какого-то бывшего склада. Спали мы на соломе, на земляном полу. Уставали мы здорово, а потому никаких неудобств не замечали. Только я заснул, как раздался горн. Играли тревогу. Солдаты быстро повскакивали. Оделись, стали строиться. Я же будучи уверенным, что мне разрешено спать, продолжал спокойно лежать. Вдруг, как гром с ясного неба, посыпалась брань нашего комвзвода.
- Ты что это? Вздумал издеваться? А ну встать! Три наряда вне очереди! Бегом марш! Вот я тебе покажу, маменькин ты сыночек! - кричал он.
Я быстро схватил свой вещмешок, на ходу надел бушлат и встал в строй позади всех. Через некоторое время, собралось все наше большое и малое начальство. Начали проверять кто одет по форме, а кто собрался наспех. У некоторых ботинки были одеты без портянок. У других гимнастерка была в вещмешке, а бушлат одет на нижнее белье. Разыскали в задних рядах и меня. Без расспросов и предварительного осмотра вывели из задней шеренги, и поставили перед строем. Приказали снять бушлат. Я снял. Гимнастерка была на мне одета.
- А ну расшнуруй ботинки!
Я расшнуровал. Ботинки были одеты по форме, на портянки. Ком взвода удивился:
- Когда же это ты успел так быстро собраться, - недоумевал он? Он не знал, что я здорово устал и лег спать не раздеваясь. Неудачный случай мне сошел с рук. Потом солдаты-кадровики рассказывали: с приходом к власти маршала Тимошенко ученья проводили приближенно к боевой обстановке. Был лозунг: на ученьи, как в бою. Они приводили случай, когда во время тревоги командир застрелил своего больного солдата. Потом им объяснили поступок командира. Что если было это была настоящая тревога, если бы была война, то этот солдат попал бы в плен и он мог бы выдать военную тайну. Офицера оправдали. Другой кадровик, тоже рассказывал подобный случай. Малосильного солдата заставили нести станковый пулемет. Солдат упал, ушибся и уже не смог поднять пулемет. Подошел командир и застрелил солдата из пистолета. Объяснения были те же. Пулемет и солдат могли бы достаться врагу.
Я слушал, верил и не верил таким рассказам. Однако обилие подобных случаев, которые потом рассказывали кадровики, наводили на размышления. Почему это так? Чем определяется цена солдатской, красноармейской жизни? И стоит ли вообще чего-нибудь жизнь отдельного солдата? Казалось, что ценится красноармеец в массе, в целом. Масса может совершить видимые подвиги. Солдат же, как составная часть массы, в отдельности не представлял ценности. Это только песчинка в людском океане. Пропадет один, взамен появится десяток. Поэтому излишние материальные затраты на солдата или внимание к нему, как к человеку были необязательны. Почти ежедневно приходилось наблюдать весьма трогательную заботу о тягловом скоте. Если бы нам солдатам в то трудное время уделяли хоть часть той скотской заботы, наверное на душе было бы теплее. А может быть тогда мы потребовали бы большего. Мы бы требовали кровать, постель, нормальное питание и отношение к себе еще большее, чем к скоту. А как это сделать, если ничего не было? Ведь скот, он всего-навсего безгласное животное. Если он устанет, то ляжет и ничего с ним не сделаешь. Для скота не были придуманы трибуналы, НКВД, патриотические чувства, понятия чести и слово Родина. Все эти понятия нас сильно подхлестывали, мы напрягали свои усилия сверх возможности и проявляли активность на износ.
В этот трудный период неудачного начала войны, очень заметно определялись характеры людей, солдат. Наряду с кипучей деятельностью наших лучших товарищей на благо нашей Родины на верх выплывала всякая муть и отбросы человечества. Если деятельность обычных нормальных людей воспринималась как что-то должное, поступки прохвостов всяких сильно ранили душу. Я иногда тяжело переживал сознательные проступки моих товарищей. Я возмущался, придумывал им наказания. В виде поучения на будущее вписывал в свой дневник наиболее яркие их проступки. Однако, со временем трудных моментов было так много, что я сам перестал на них реагировать. Выработался иммунитет, невосприимчивости. Я их перестал замечать. Воры, пьяницы, насильники, лгуны, воспринимались как что-то меня не касающееся. Перед самой отправкой на фронт, нам объявили, что 146 ОБС будет обслуживать штаб дивизии. Каждого распределили по местам и номерам.
(запись от 16.12.1967)
Я попал непосредственно в штаб дивизии на коммутатор, в узел связи дивизии. Если раньше много времени уделяли муштре и различным другим армейским занятиям, приучающим к дисциплине, то теперь, больше внимания уделяли специальным занятиям по связи и сработанности связистов. Мне казалось, что подготовлены мы были вполне достаточно. Позже, на фронте, я смог вполне оценить нашу подготовленность. Если немецкие связисты работали на заводском оборудовании, отличном и вполне современном, то мы справлялись не хуже их на самодельном. Наши телефоны, коммутаторы и провод были старых образцов. Были они большей частью немецкого производства и морально устаревшие. Позже, вся эта рухлядь была заменена хорошей, отечественной аппаратурой. Но несмотря на все трудности, мы ни на что не жаловались и работали четко. Правда, на фронте немцам мы завидовали. Их цветной кабель был превосходен и еще кое-что. А пока находясь в тылу и, не видя ничего другого, мы сами себе казались героями. Наше оборудование также нас удовлетворяло. Когда мало знаешь, а сравнивать бывает не с чем, то душа бывает спокойна, а ты сам удовлетворен. И только стоит увидеть лучшее, а особенно у своего противника, как сразу появляется зависть и в душу заползают сомнения. Что-то нарушается внутри. Позже, на фронте, такое случилось и с нами. А пока мы были в тылу. Жили газетными сводками, радовались первым нашим победам и рвались на фронт, чтобы скрестить с врагом наши знания, нашу технику и умение. Мы были безусловно уверены в нашей правоте, в нашей силе и в нашей конечной победе. Как немцы могли нас победить, если на всех заборах и стенах домов были сделаны рисунки изображающие голодных, холодных и вшивых немцев? Рисунки изображали немецких солдат в рваных шинелях, без сапог. В руках они держали крысу, были голодны и не знали как ее поделить между собой. А здоровые вши ползали по немцам и ели их. Газеты писали, что у немцев нет бензина и они свои танки закапывают в землю. Всему мы верили, все принимали за правду. Мы рады были, что скоро едем воевать. И радовались тому, что мы были сильнее нашего противника. Это тоже своего рода гордость и патриотизм. То, что мы терпели неудачи в первое время войны, нами понималось как предательство. Нам зачитывали приказы, где назывались фамилии предателей генералов. Среди них запомнилась фамилия Павлова. Фамилий было много. В те времена предательства были явлением обычным и мы им не удивлялись. Некоторые рассуждали так: что все предатели уже предали, а теперь остались только честные генералы. Теперь дело пойдет веселее и мы уже начали побеждать немцев.
Что мы знали тогда? Да и вообще, кто чего мог знать? Если у кого и возникали какие-либо сомнения по поводу настоящего положения вещей, то это были личные мнения. Эти мнения держались только для себя и может быть, для некоторых самых близких родственников. Наше личное мнение должно было соответствовать официальному общественному мнению. Всякое другое мнение, которое не укладывалось в прокрустово ложе газетных писаний, решительно урезалось вместе с языком или головой вольнодумца. Потому мы все старались казаться радостными, всему и всегда довольными, невзирая на то, нравится нам или нет. Иногда я рассуждал сам с собой на подобные темы и неожиданно приходил к выводу, что ты сам никто иной, как двуличный человек. Что ты сам думаешь одно, а делаешь другое. Причем, делаешь это с таким радостным воодушевлением, что и другим кажется будто тебе только этого и не хватало. Когда же ты своим поведением введешь в заблуждение окружающих, тебе становится даже радостно от этого. Однако позже, когда проанализируешь действительность, становится стыдно и страшно. А вдруг все другие тоже такие же мошенники и артисты как ты сам? Кому же тогда верить? Где правда и кому рассказать об этом, когда все равнодушны, лица их радостно-перепуганы, и каждый в свою очередь видит в тебе врага или предателя? Попробуй, поделись своим сомнением с такими. Можешь сразу оказаться в числе врагов народа и Родины.
По-видимому, подобные фальшивые и неопределенные настроения огромного числа людей в государстве представляли определенную и большую опасность для страны, ибо однажды, попав в другую обстановку, люди перестанут бояться своих начальников. Они увидят, что их во многом обманывали и они из друзей превратятся в недругов. Страх, всегда порождал ложь и ненависть. Мы же жили в страхе. В те страшные времена 37-38 годов я был еще ребенком. Мне самому не пришлось пережить этих страшных недоразумений. Однако слушая разговоры старших и видя, как исчезали родители моих школьных товарищей и соседей, приходилось призадумываться. Будучи горячим патриотом своей родины, я приветствовал действия НКВД. Было радостно сознавать, что наши органы госбезопасности так сильны и умелы. С другой же стороны было обидно за себя. Почему это в нашем государстве столько врагов и за что это они так нас не любят? Кроме всего, врагами-то оказывались самые советские люди. Начиная от рабочего, который и читать-то научился в советское время, до генералов и депутатов в верховный совет. Я стал бояться. Стал искать тот ориентир, чтобы не попасть в число врагов своего народа. А как это сделать? Никто ничего не знал. Я ведь сам был патриот, а другие, попавшие в тюрьму, тоже до этого были патриотами! Но почему же их арестовали? В таком случае и меня могут так же арестовать? Но за что?
Я стал потихоньку хитрить, в разговорах быть осторожным. Перестал высказывать свои мнения. Делать безразличное лицо и вилять хвостом как та бездомная собака, которая не имеет хозяина и ждет пинка от любого встречного. Мы стали бояться друг друга. Появился всеобщий страх и подозрение. Жить стало страшно. Никто не знал уходя на работу, вернется ли снова домой. Мой сосед, в подкладку пиджака, на всякий случай, зашил деньги. Что-то делали и другие, на всякий случай. Логика же подсказывает, если человек так делает, значит он чувствует за собой вину. Зачем же ему зашивать деньги на всякий случай, если он ни в чем не виноват? Хорошо, что в то время об этом никто не знал. Не миновать бы моему соседу тюрьмы. Все факты были не за него. Не зашивай деньги в подкладку пиджака! Ты же советский человек!
Мои настоящие рассуждения отличались от официальной печати - это своего рода психологические рассуждения. Подобные суждения должны бы существовать в органах госпропаганды или бюро по изучению общественного мнения, если оно только существует. Однако, я думаю, что это получился мой собственный анализ общественного настроения в предвоенные годы. В определенной мере соответствующий действительности. Он может оказаться и другим. Это только мое собственное мнение. Я соприкасался с небольшим числом людей. Ведь на любую вещь существует много точек зрения. Есть мнение генерала, который выиграл войну. У него будет свое генеральское мнение. Мнение победителя. Я же был только солдат, руководимый другими генералами. И всю войну, все события, видел с точки зрения солдата. Каждый в своих претензиях защищает свои точки зрения, свои интересы. Все мы были патриотами и ими остались. Цель у нас была одна - победа над фашизмом. Но наши действия к этому и наши впечатления могли оказаться разными. Все объективное воспринимается субъективно, а субъекты, как правило, бывают не одинаковыми.
Итак, зимой 1942 г. в феврале, мы отправились на фронт воевать. Нам выдали новые шинели, теплое белье, крепкие ботинки. Всему этому мы несказанно радовались. Только наше хозяйство по связи было стареньким и многажды реставрированным. Мы глядели на него, печалились, но что делать? Нет другого и не надо. Повоюем и с этим! Начальник связи дивизии, майор Коратин, тоже видимо размышлял над нашим оборудованием. Он предупредил нас:
- Товарищи красноармейцы! - Сказал он, как бы по-отечески. - Имущество наше старое, нового не будет. То, что было в запасе погибло. Все, что есть, берегите! Теперь от нас с вами будет зависеть одолеем мы немца или он нас. Все вы молоды, здоровы, своими средствами связи вы пользуетесь хорошо. Не подкачайте! Положение трудное. Родина не забудет вас!
С нами еще никто так раньше не разговаривал. Мы были сильно тронуты таким обращением старшего товарища. В душе мы еще раз поклялись умереть, но не подвести. Наши лица по-видимому выражали убедительную решимость и майор, как мне казалось, остался нами доволен.
На вокзал пришли поздно вечером. Где-то в конце вокзала стояли красные товарные вагоны или попросту теплушки. В них мы нагрузили наше имущество, а себе в вагонах оборудовали двухъярусные палаты. Работа заняла часа три, не больше. Машин у нас не было. Были повозки, кони да сено для них. Быстро по команде погрузились и сами. В первых пассажирских вагонах удобно ехали наши командиры. На заднем вагоне был установлен пулемет. Наверное, на всякий случай, от вражеских самолетов. А в центре эшелона на двухэтажных нарах по десять или двенадцать человек - мы, солдаты. В каждом вагоне человек по сорок солдат. В центре вагона, негаснущим вечным огнем, горела буржуйка.
Поезд тронулся. Когда под полом застучали колеса вагона, наши души переполнил тот возвышенный подъем, который бывает в редкие, отдельные, запоминающиеся на всю жизнь моменты. И я старался запомнить этот момент. Почти все мы столпились у раскрытых дверей теплушек и смотрели как медленно, потом все быстрее, проплывали мимо нас дома, поля и бесконечные телеграфные столбы. Потом как бы простившись с городом и мирной жизнью, каждый со своими думами, медленно не торопясь, стал укладываться на ночь. В этот вечер никто не хотел разговаривать. Все делали молча, неторопливо. Под вагоном монотонно стучали колеса и, под этот мирный и давно всем знакомый перестук солдаты как бы встряхивались, отбрасывали от себя мирные настроения и настраивались на военный лад.
Почти у всех людей пред посадкой в вагон бывают специфические вокзальные 'переживания' и суетливость. Все стараются поскорее попасть в вагон и занять свое место. Дети, переживают, чтобы не отстать от своих родителей. Взрослые боятся потерять детей, багаж.
Напряжение нарастает к моменту подхода поезда. Почти всегда в этот момент все как по команде встают со своих мест. Одни берут в руки свои вещи, другие достают билеты, кладут их поближе, чтобы можно было достать сразу. Кричат на детей, чтобы те не отставали. И в силу своих физических возможностей стараются поскорее попасть в вагон. Перрон оглашается радостными выкриками встречающе-приезжающих и слезливо-напуганными возгласами уезжающе-провожающих. Все это длится минут десять не более и почти сразу вся эта сумятица исчезает, как только поезд начинает двигаться с места и застучат колеса. У всех будто тяжелый груз сваливается с плеч. Наступает то блаженное успокоение, в котором исчезают волнения посадки, печаль расставания и все то, с чем были знакомы все пассажиры тех далеких предвоенных и послевоенных времен. Теперь поездка поездом много упростилась. У поезда появился сильный конкурент - авиация.
Вот так и мы тогда, лишь только двинулся поезд, все сразу как бы успокоились. Движение поезда на нас действовало успокаивающе. Хотя наши души были полны печали расставания. Мы были рады и спокойны, мы даже чему-то радовались и гордились. Но чему? Не тому ли, что многие из нас едут поездом в последний раз и больше никогда не вернутся? Нет. Может быть мы ждали легких побед над врагом и эти победные предвкушения нас радовали? Тоже нет.
Пожалуй, мы тогда и хотели бы грустить, даже сознательно, но в общем движении мы позабыли печаль. Всякое движение тонизирует, придает бодрость, хорошее настроение. Стояние на одном месте действует в обратном направлении. Мы тогда сразу одновременно грустили и радовались.
Поезд шел быстро. На станциях стояли по много часов, а иногда неожиданно, без остановок проезжали сразу по несколько станций. Куда едем, на какой фронт, никому не было известно. Только после того, как проехали Саратов, появились предположения. Мы едем на южный фронт. Зима стояла холодная. Мы боялись холодов, так как большинство наших солдат были жителями теплой Азии. Зато в наших теплушках было даже слишком тепло. Угля было вдоволь, мы его набирали на любой станции из эшелонов с углем. В вагоне стояла жара. Однако, ночью, когда забывали подкладывать в буржуйку уголь, становилось сразу холодно. В углах вагона выступал белый иней и теснота на нарах становилась даже желанной. Теснота действительно была такова, что называется 'сельди в бочке'. Спали только на одном боку.
На правом или на левом. Если кто желал повернуться на другой бок, то это было совершенно невозможно. Когда же появлялась необходимость встать с нар, то вставший рисковал. Вернувшись на свое старое место, мог не найти его. Ряды спящих плотно смыкались и надо было с силой втискиваться на свое место, расталкивая людей. Первое время ссорились. Позже привыкли. К чему только человек не привыкает! А ведь спали-то на голых досках. И ничего, спали с удовольствием, не страдая бессонницей. Правда, по утрам жаловались: у многих болели бока. Вместо подушки вещмешок, за одеяло - солдатская шинель.
В это время фронт уже стабилизировался. Наши войска стали наступать. Теснили немцев под Москвой. Взяли Ростов и высадили десант в Крыму. На других фронтах также мы имели успех. Ехать на фронт стало веселее. В нас всех появилась самоуверенность. Даже шутки у солдат стали другого характера. Они стали победоносные. Однако, несмотря на то, что фронт двигался уже на запад, а не на восток, в тыл везли огромное количество заводского оборудования. Это оборудование стояло прямо под открытым небом на вагонах. В огромных эшелонах на восток везли: котлы, трансформаторы, станции и др. На многих станциях, насколько можно было видеть вокруг, также стояло заводское оборудование. Оно стояло видимо потому, что его вывезли наспех, лишь бы оно не досталось немцам. Сгрузили в тылу и, по видимому, по мере необходимости, оно рассасывалось в нужные места. Попадались дети, эвакуированные из Ленинграда. Вид их был жалкий и производил на душе тяжелый осадок. Встречались целые эшелоны с маленькими детьми. С ними не было их родителей. У одних родители еще были живы и находились в осажденном Ленинграде у других они умерли. Дети были опухшие от голода. Некоторые из них ходили самостоятельно вокруг эшелона, другие ходить не могли. Они были сильно ослаблены. Дети были ко всему безучастны и на вопросы отвечали неохотно. Чаще всего на вопрос они пожимали плечами, и молчали. Что это за дети и откуда они здесь, узнавали от сопровождающих эшелон женщин. Они рассказали, что детей эвакуировали из Ленинграда по льду Ладожского озера. Многие из них были так слабы, что умерли еще в первые дни по дороге. Сейчас эти дети уже стали самостоятельно ходить на своих ногах. Кормили их хорошо. Все кто видел их потом сильно возмущались злодеянием фашистов. Эти дети озлобили нас против фашистов много больше, чем любые словесные ухищрения наших духовных наставников. Потом еще много ночей подряд солдатские разговоры велись вокруг этих эшелонов с детьми.
Ехали мы долго, около полутора-двух месяцев. Особыми событиями поездка не отмечалась. Где-то ближе к Саратову произошел несчастный случай с сержантом Данченко. Сержант сидел возле буржуйки и смотрел как в котелке кипит вода. В этот момент к эшелону подавали новый паровоз. Толчок паровоза был так силен, что котелок подпрыгнул и перевернулся. Вся кипящая вода попала на лицо сержанту. Когда пришел врач и осмотрел пострадавшего, стало видно, что глаза у сержанта пропали. Там, где были глаза, появились матового цвета складки. Сержант ничего не видел.
Однажды среди снежного поля паровоз внезапно остановился и стал подавать сигналы тревоги. Мы до этого знали, что многие наши эшелоны подвергаются воздушным налетам. На станциях стояло много вагонов, которые были изрешечены пулями так здорово, что даже нарочно так не сделаешь. Вагоны-решето. Такая тревога для нас была впервые и неожиданна.
Многие из нас побледнели. Послышалась команда:
- Вылезай! Воздушная тревога!
Мы быстро выскочили, кто в чем был и начали разбегаться. Самолетов пока нигде не было видно. Выпрыгнул из вагона и наш старшина. Ему показалось, что это не порядок. Ведь раньше-то в тылу по тревоге мы строились. А здесь вдруг испугались и попрятались. Непорядок. Старшина повелительно подал команду строиться. Вначале мы не поверили, что во время налета надо строиться. Однако видя, что самолетов нет, мы нехотя собрались возле старшины и построились. Стояли ждали и никто не знал, что делать. Не знал старшина, не знали и мы.
Через некоторое время подошел кто-то из старших командиров и разъяснил нам. Он сказал, что тревога была учебной и хорошо, что не было самолетов. В строю нас немцы всех бы перестреляли. Нам всем было весело и страх исчез. Оружия у нас никакого не было. Нам обещали выдать его на фронте. Молодые солдаты очень хотели иметь при себе оружие. Было обидно, что едем на войну без оружия. Мы порой про себя смеялись. Зачем оно нам, немцы бросят фронт еще только завидят нас!
Ближе к фронту стали попадаться эшелоны с разбитым вооружением и военной техникой. На открытых платформах везли как металлолом танки, пушки, снаряды и т.п. Однако к нашему возмущению оружие было только советское. Как ни пытались мы увидеть трофейное оружие своего противника, его нигде не было. Было обидно и это действовало на солдатское настроение.
Однажды с моим другом Мишкой Ивановским мы лазали по таким вагонам и нашли совсем целый ящик неповрежденных снарядов от 35мм-противотанковых пушек. Мы были крайней удивлены и даже приятно обрадованы, что нам вот удалось обнаружить, чуть ли не артиллерийский склад. Снаряды были маленькие, аккуратные. На медной поверхности гильз снарядов матово тускнела жировая смазка. Мы подержали снаряды в руках, определили на вес, покрутили в руках остальные снаряды. Потом Мишка сказал:
- Возьмем?!
Я ответил:
- Возьмем!
Для чего они нам были нужны, трудно понять. Однако в тот момент мы себя чувствовали героями и счастливчиками. Снаряды мы спрятали в карманы солдатских галифе. Сверху прикрыли полами шинелей и принесли в вагон. Чтобы на нас не сказали что мы дети, снаряды никому не показали. Мы не знали, что с ними делать и куда их спрятать. Я сказал, что спрячу в вещмешок, Мишка решил носить его в кармане и даже спать с ним вместе. Долго нам не пришлось прятать снаряды в вагоне. Когда я залез под нару и хотел спрятать снаряд в вещмешок, то мне это сразу как-то не удавалось. Снаряд все время выпирал из мешка и мое длительное времяпровождение под нарами кому-то показалось подозрительным. Меня вытащили из-под нар, отобрали снаряд и тоже не знали, что делать с ним, куда девать его. Позвали политрука. Он долго крутил снаряд в руках, потом почесал затылок и сказал:
- Да, ребята, война уже близко.
В тылу за потерянную гильзу получишь наряд вне очереди, а здесь! Целый снаряд валяется где попало и ничего. Нас не наказали. Видя, что никто не ругается, Мишка отдал свой снаряд добровольно. Наше неудачное похищение снарядов сошло нам без последствий, старшему по вагону, приказали следить за нами, 'чтобы эти дураки как-нибудь, весь вагон не взорвали'.
По мере приближения к фронту менялись наши настроения. Наши взгляды на окружающую обстановку становились уже не теоретическим как в тылу, где часто качество солдата определялось политической трескотней на политзанятиях. Теперь же мы стали чаще сталкиваться с настоящей действительностью войны и эта правда войны воспитывала в нас реальное понимание вещей. Мы по-прежнему были уврены в себе, ждали встречи с врагом, чтобы показать себя, но сильно боялись самолетов. Еще больше порождало неуверенность в себе сознание, что мы едем воевать без оружия. В случае десанта или чего-либо подобного, нас могут перебить всех до одного. В других условиях, в условиях частых побед над врагом, мы этого возможно и не заметили бы. Однако теперь, когда немцы захватили полстраны, когда нам известно как силен наш враг, а мы едем воевать в ним совсем безоружными, этот момент незаметно вселял в душу страх, неуверенность, хотя мы ждали встречи с врагом и на что-то надеялись. В душе про себя, боялись, сомневались. На территории, где были немцы, наши солдаты интересовались, какие они эти немцы. Во что одеты, что едят, о чем говорят, как относились к нашему населению. Однако гражданское население, которое было в оккупации, мало чего рассказывало. Отвечали односложно 'да, нет'. В рассуждения не вступали. Мы сами смотрели на них, на этих освобожденных, как на предателей. Мы с ехидством спрашивали их, а почему вы не эвакуировались? Ответы были самые разные. Однако все их ответы нас не удовлетворяли. А сами они нам казались подозрительными. Себя мы считали верными сынами своей родины.
Иногда, нам казалось, что в тылу нас подготовили недостаточно для войны. Как специалисты-воины мы, пожалуй, себя не чувствовали. Мы себя чувствовали большими патриотами. Нам казалось, что мы солдаты хорошо подкованные политически и только. Что мы знаем? За что воюем? Знаем что защищать? А это в то время считалось главным аргументом. Предопределяющим победу над врагом. Как бы враг хорошо не был подготовлен к войне, но если он не знает, за что воюет и что защищает, он не сможет победить. Это мы знали твердо. С другой стороны, представления о войне были весьма приблизительны. Они были на уровне времен Суворова. Командиры нам внушали мысль, что немцы боятся штыкового боя и ночных боев. Что, пуля дура - штык молодец. А против русского солдата в штыковом бою, никто не устоит. В тылу нас много муштровали. Учили ходить строевым шагом, приветствовать начальство, беспрекословно подчиняться начальству. По-видимому, для рядового солдата большего и не требуется. Ибо залог всех побед есть дисциплина. Без дисциплины нет порядка нет армии. Армия тем и сильна, что она дисциплинирована. Даже более слабо вооруженная армия, но с крепкой дисциплиной, добьется победы над врагом более вооруженным. В смысле выполнения приказов наши солдаты отвечали духу времени. Правда если они не выходили из-под контроля. Если же не было контроля или руководства, мы часто превращались в совершенных дикарей. Водка, сквернословие, мародерство было для многих солдат некоторым шиком. Откуда все это бралось трудно объяснимо. Одни говорят, что это пережитки проклятого прошлого. Другие утверждают, что это наше национальное, сугубо славянское качество. По-видимому, наш офицерский корпус также стоял недостаточно высоко. В-основном, будучи выходцами из рабоче-крестьянской среды, они получили в наследство от родителей все те же пороки прошлого, что они наблюдали в своих семьях со дня своего рождения. Все-таки переделать целую нацию в течение короткого срока задача не легкая. Теперь наши дети выгодно отличаются от нас, их родителей, рождения 15-25 годов. Другие времена, другие запросы. После победоносной войны в сорок пятом году наши офицеры привезли домой из Германии огромные материальные ценности. Чем был больше чин, тем больше было возможностей отправить трофеев домой а это все мораль и лицо армии.
Вот это примерно то, с чем мы прибыли на фронт весной сорок второго года под Харьков. Где-то в Ворошиловоградской облости. В Старобелвен.
Однажды в каком-то селе нас решили вымыть в бане. Баня была походная. Состояла из нескольких палаток, куда горячая вода подавалась из специальной авто-машины. Мы благополучно разделись вымылись горячей водой, но к концу нашего мыться, в небе появился немецкий самолет. Послышалась пулеметная стрельба. В кого он стрелял неизвестно. Нам же показалось, что самолет стреляет в нашу баню, в нас. Наши купающиеся воители как по команде выбежали из бани и бросились прятаться. Схватив свое белье в охапку выбежал из бани и я.
Смешно было смотреть как взрослые голые мужчины бегают по снегу, падают и пытаются спрятаться. Бегал и я по огороду. Однако спрятаться не успел самолет пролетел мимо села и скрылся. В кого он стрелял также не известно. Посрамленные воители вымазанные весенней грязью снова приняли очистительный душ. Мне мыться не было необходимости. Однако когда я бегал по огороду из кармана галифе выпал винтовочный патрон который я возил еще из Ферганы и которым я хотел застрелиться в случае угрозы плена. В плен я боялся попадать. По-видимому, я не столько боялся плена или даже смерти, сколько влияло желание попозировать. О таких вещах как смерть или плен я тогда вообще не думал.
В те времена у нас была сильно развита шпиономания. Все наши военные неудачи мы часто объясняли происками шпионов и изменников. Вряд ли все это соответствовало действительности. По-видимому, по непонятным мне причинам все это в народе культивировалось сверху. Цель этих действий нашего правительства нам простым людям не докладывалась. По-видимому, через много лет, что-то и прояснится. Однако к тому времени всякий интерес к событиям прошлого у обычных людей исчезнет.
В одном селе нас поместили на жительство в украинскую хату в которой находилась кухня для освобожденных из немецкого плена бывших советских солдат, т.е. освобожденных из плена красноармейцев. Кормили их плохо. Из разговоров с ними мы узнали, что все эти заключенные находятся на спецпроверке. В сорок первом году при отступлении их части растерялись и они по одиночке пробрались через фронт к своим. У многих не было документов подтверждающих их личность. У других были документы, но им не верили. Все они ходили под конвоем в лес пилить дрова. Власти относились к ним плохо. Их семьи также страдали из-за этого. Глядя на них, мы думали, что если нас убьют или ранят, то это еще хорошо. Но что будешь делать, если как-то попадешь в плен? Ведь это же война! Становилось неприятно. Однажды мы с Мишкой Ивановским патрулировали улицу. Ночь была темная. Небо закрыто густыми тучами. В десяти метрах от себя трудно было различить человека. В это время начало весеннее таяние снега и улицы были залиты водой. Чтобы двигаться вперед, местами нужно было обходить большие и малые лужи. Обходя одну из таких луж мы прошлись по краю возвышавшегося погреба. Погреб был сухим.
Чтобы осмотреться, остановились. Потом сели на крышу погреба, разговорились. Говорили о судьбах солдатских, об еде. Мишка выразил желание с голодухи покушать горячих блинов со сметаной. В конце мы пришли к заключению, что блинов мы в данный момент не получим, а что касается сметаны, то это вполне возможно. Ведь сидим-то мы на самой сметане. Стоит только опуститься в погреб, а кому неизвестно, где крестьяне держат молоко, соления разные и другое? Конечно в погребе. Если даже не будет молока, то все равно что-нибудь найдем перекусить. Чтобы никто нас не заметил, решили слазить в погреб вместе. В погребе было темно, тихо и пахло чем-то вкусным. Пошарили по стенам. Наконец послышалось - есть, нашел. Наши поиски вознаградили нас бочонком соленых огурцов. Закусили, отдохнули.
Начали вылезать из погреба. Первым поднимался по лестнице я, следом шел Мишка. Когда я уже вылез из погреба, прямо передо мной появилась какая-то фигура. В темноте было трудно разглядеть, кто это был. И, надеясь на то, что меня также никто не заметил я бросился обратно в погреб сбил с лестницы Мишку. Тот, не зная в чем дело стал ругаться. В конце, когда мы оба вылезли из погреба, было тихо и никого не видно. Да и вообще, кто мог ходить в такое время по улице? Постояли, поглядели по сторонам. Никого нет. Повесили винтовки за спину пошли дальше.
Шли мы не спеша, бдительно всматриваясь в темноту. Все-таки война и службу солдатскую нужно выполнять с чувством долга. Недалеко от нашего штаба Мишка остановился, снял винтовку, стал прислушиваться. Это же сделал и я. Слышно было, что впереди кто-то идет. Идет большая группа людей. Когда люди приблизились достаточно близко, мы щелкнули затворами, спросили пароль. Пароль был наш. В кромешной темноте к нам подошел политрук и еще человек десять солдат. Политрук таинственно, полушепотом спросил нас:
- Никого не видали?
- Нет, - отвечали мы.
Потом он скомандовал:
- Всем, за мной, шагом марш!
Весь наш небольшой отряд с винтовками на изготовку двинулся за политруком. По дороге он объяснил, что здесь рядом прячутся вражеские лазутчики. Наша задача их окружить и взять в плен. Сердце забилось чаще, исчез сон. Какие лазутчики, где он их видел? Политрук шел уверенно со знанием своего дела. Его уверенность передалась и всем нам. Было интересно участвовать в настоящем деле. Ведь до этого мы о немцах знали только понаслышке. Шли молча, иногда останавливались и политрук к чему-то прислушивался.
Недалеко от погреба, в котором мы с Мишкой закусывали солеными огурцами остановились еще раз. Здесь нас разделили на группы и приказали быстро окружить погреб. Лазутчиков приказано было взять живьем. Стрелять в крайнем случае. Мы быстро окружили погреб. Потом политрук немного приблизился ко входу в погреб и закричал внутрь:
- Выходи, а то брошу гранату!
Тишина. Никто не откликнулся.
- Выходи, говорят! Считаю до трех! Не выйдете - забросаем гранатами! Вы окружены!
Опять никто не отвечает. Потом кто-то посветил фонариком. Никого нет. Окружили вход в погреб, наставили винтовки, еще раз посветили. Внутри тоже никого. Осторожно влезли в погреб. Никого. Возле бочки обнаружили свежие следы от обуви и брошенные недоеденные огурцы.
- Вот, гады! - выругался политрук, - Только что ушли! Собаку бы теперь, а то в темноте где их найдешь? Патруль! - громко произнес политрук.
Мы с Мишкой сделали шаг вперед.
- Вы проходили здесь?
- Да, проходили.
- И ничего подозрительного не заметили?
- Нет.
- Эх вы ротозеи! Вот повоюй с такими! За мной, шагом марш! - последовала команда. Все вылезли из погреба. У меня сердце начало становиться на свое место. Мишка поймал мою руку и крепко надавил. Другой рукой он вытер пот со лба. Меня знобило, я дрожал и не мог разговаривать.
Конец первой части.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


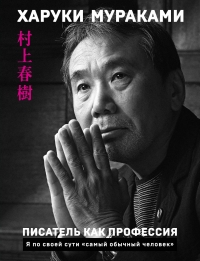

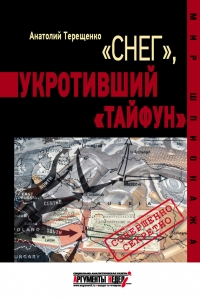
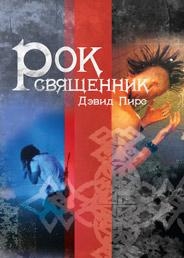
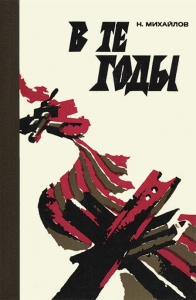

Комментарии к книге «Воспоминания участника В.О.В. Часть 1», Анджей Ясинский
Всего 0 комментариев